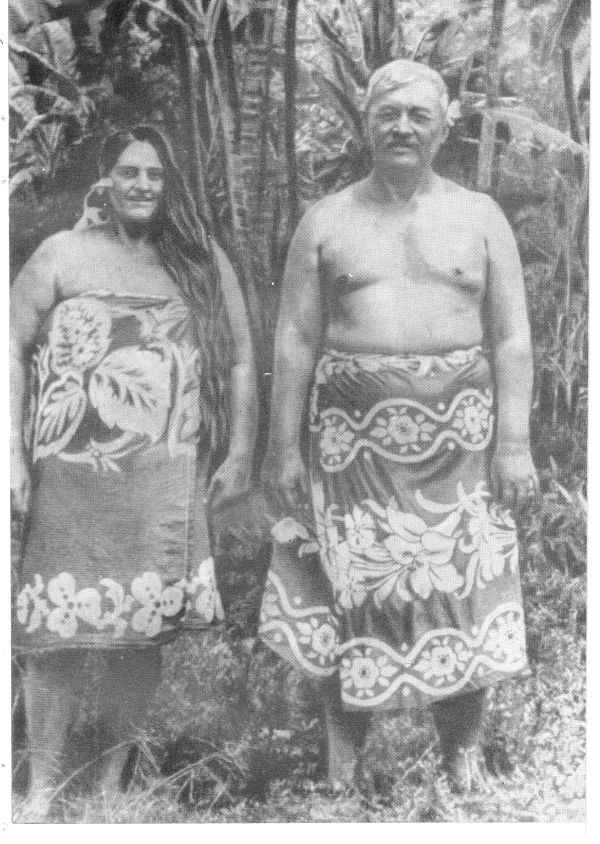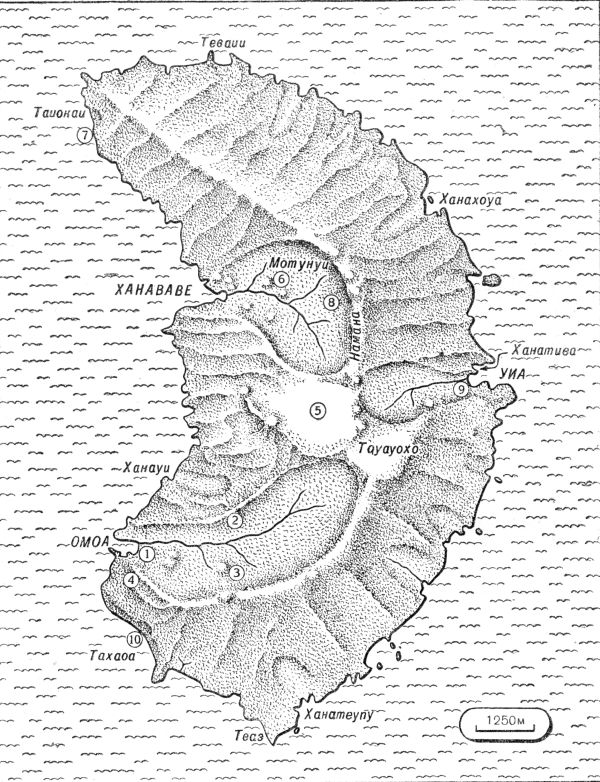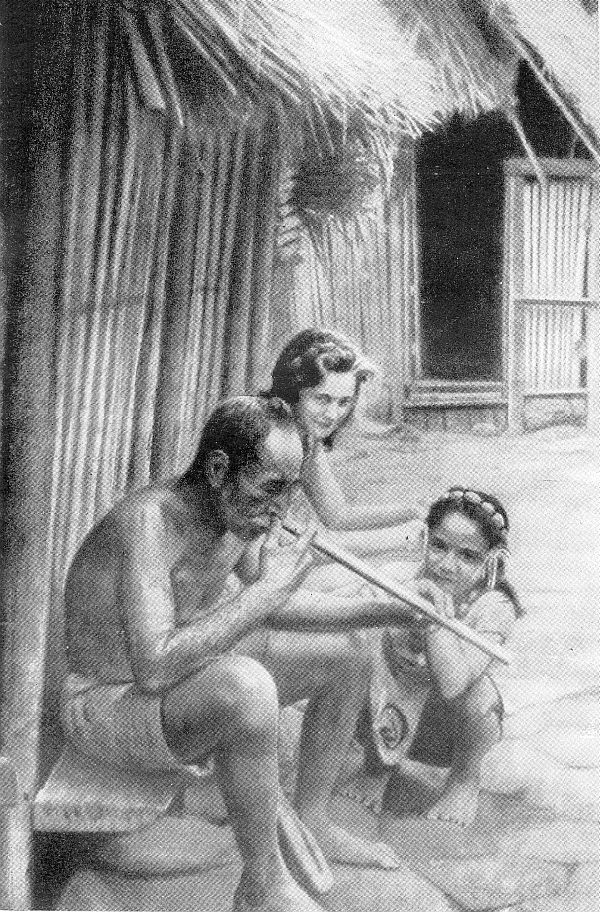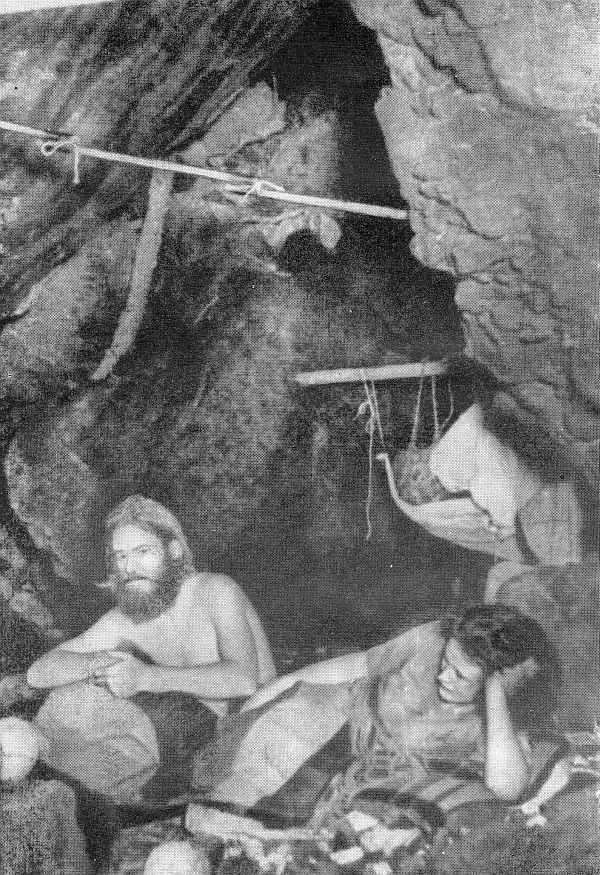Тур Хейердал
Аку-аку
Глава первая. Когда детективы собираются на край света
У меня не было аку-аку.
А если бы и был? Все равно ведь я не знал, что это такое, так что вряд ли смог бы им воспользоваться.
На острове Пасхи у каждого разумного человека есть аку-аку, там и у меня появился свой аку-аку. Но сейчас я еще только готовил путешествие на Пасхи, и у меня его не было. Может быть, поэтому было так сложно собраться. Вернуться домой оказалось гораздо легче.
Во всем мире нет второго обитаемого уголка, такого же уединенного, как остров Пасхи. Ближайшая суша, которую видят его жители, на небе: луна и планеты. Им надо ехать дальше, чем кому-либо, чтобы убедиться, что на самом деле суша есть гораздо ближе. Вот откуда их интерес к звездам, вот почему они знают названия звезд лучше, чем названия городов и стран в нашем собственном мире.
На этом далеком острове, лежащем за тридевять земель, люди когда-то были поглощены одной из своих самых странных затей. Какой народ — никому неведомо. И никто не знает — зачем. Ведь это было еще до того, как Колумб доплыл до Америки и открыл европейским исследователям ворота в огромный неизведанный Тихий океан. Когда наши предки еще думали, что мир кончается у Гибралтара, жили на свете отважные мореплаватели, которые знали истину. Опередив свой век, они бороздили неведомые волны, необозримый океанский простор вдоль иссушенного солнцем западного побережья Южной Америки. Далеко в океане они нашли сушу, самый уединенный островок в мире. Сойдя на берег, они заточили свои каменные рубила и принялись осуществлять один из самых удивительных инженерных замыслов прошлого. Они не строили ни замков, ни дворцов, ни плотин, ни причалов. Они вытесывали из камня исполинские человекоподобные фигуры, высокие, как дом, тяжелые, как вагон, перетаскивали множество их через горы и долины и устанавливали на мощных каменных террасах во всех концах острова.
Как они с этим справлялись задолго до эры техники? Никто не знает. Во всяком случае, статуи заняли свои места, как было задумано, чуть не подпирая головой небосвод, а народ — пал. Жители острова хоронили своих мертвых у ног созданных ими же истуканов. Воздвигали изваяния и погребали себя. Но однажды стук рубил о камень смолк. Смолк внезапно, ведь орудия остались лежать на местах, и многие статуи были готовы только наполовину. Загадочные ваятели канули во мрак забытого прошлого. Что же произошло? Да, что произошло на острове Пасхи?
В тысячный раз, навалившись на письменный стол, я скользил взглядом по огромной карте Тихого океана, обманчивому листу бумаги, где большие буквы обозначают маленькие острова и где с линейкой одинаково легко идешь по течению и против него. Я уже немного познакомился с этим океаном. Вот здесь, южнее экватора, в диких долинах Маркизского архипелага, я прожил год на туземный лад и научился видеть природу глазами полинезийца. Здесь же я впервые услышал рассказы старого Теи Тетуа о человеко-боге Тики. А еще южнее, на островах Общества, под пальмами Таити я слушал уроки великого вождя Терииероо. Он стал моим названым отцом и научил меня почитать его расу, как свою. А вот тут, на коралловом рифе в архипелаге, мы высадились с плота «Кон-Тики», убедившись, что могучий океан прилежно трудится, катит волны от Южной Америки сюда, к этим далеким островам. Ведь как ни далеки эти острова, все они были досягаемы для бальсовых плотов, которые мастерили древние индейцы — инки.
Или взять Галапагосские острова с их сухими кактусовыми лесами. С ними тоже у меня связаны примечательные воспоминания. Наш «Кон-Тики» чуть не отнесло туда, поэтому позже я отправился с экспедицией на Галапагос, чтобы посмотреть, какие тайны есть у этого заброшенного архипелага. В сказочном мире, среди огромных ящериц и самых больших черепах на свете, вместе со своими товарищами я подобрал в куче старого мусора под кактусами осколки лампы Аладдина. Стоило только потереть эти грязные черепки, и на восточном горизонте показались широкие паруса. То плыли могущественные предшественники инков, на своих плотах они от берега Южной Америки вышли в бурный океан. Один, два, много раз выходили они в море и карабкались на безводные утесы Галапагосских островов. Здесь они устраивали лагерь и, случалось, били глиняные кувшины, необычные кувшины, каких не лепил больше никто в мире. Черепки этих самых кувшинов мы и откопали на древних стоянках. Это они играли роль лампы Аладдина. В них отражались подвиги смелых мореходов, они бросали луч света в кромешный мрак прошлого.
До нас на Галапагосе не работали археологи, оттого никто и не находил ничего. Мы первыми поверили, что индейцы так далеко выходили в море, потому и отправились искать. Вместе с археологами Ридом и Шёльсволдом я раскопал больше двух тысяч старинных черепков от ста тридцати кувшинов. В Вашингтоне специалисты изучили эти осколки, как детективы изучают отпечатки пальцев, и определили, что за тысячу лет до того, как Колумб проложил путь в Америку, предшественники инков отворили ворота Тихого океана и много раз ходили на далекий Галапагосский архипелаг.
Это были древнейшие из найденных прежде следов человека на океанических островах Тихого океана. Они показывали, что до заселения Полинезии, до походов викингов в Исландию представители древних культур Южной Америки начали исследовать Тихий океан и осваивали острова, лежащие так же далеко от их родных берегов, как Исландия от Норвегии. Здесь они ловили рыбу, сажали свой южноамериканский хлопок и оставили многочисленные следы на стоянках, прежде чем уйти с негостеприимных островов к неизвестной нам цели.
От Галапагоса все то же могучее океанское течение, быстрее и во сто крат шире, чем Амазонка, устремляется дальше и через несколько недель достигает островов Полинезии.
На карте посреди этого течения была помечена безымянная точка, рядом — вопросительный знак. Земля? Мы прошли на «Кон-Тики» через эту точку и. убедились, что здесь попросту происходит завихрение струй. Зато далеко на юге, куда отклоняются крайние южные ветви течения, на карте показана другая точка, у которой есть имя — остров Пасхи. Там я еще не бывал и туда теперь собирался. Прежде я только дивился, как люди прошлого проникли в этот пустынный уголок. Теперь меня заботило другое — как самому туда попасть. Что толку искать ответа на вопрос, как путешествовали люди каменного века, коли тебе не под силу решить собственные путевые проблемы.
Когда «Кон-Тики» несло течением далеко на север от Пасхи, мы сидели на палубе при луне и говорили о загадках острова. И была у меня заветная мечта когда-нибудь вернуться в эту область и сойти на берег этого уединенного клочка земли. Теперь я пытался осуществить мечту.
Остров Пасхи принадлежит Чили. Только раз в год сюда приходит военный корабль с припасами для островитян, затем он возвращается в Чили, а туда так же далеко, как из Испании до Канады. Других связей с внешним миром у острова нет.
Но военный корабль меня не устраивал. Исследовать остров Пасхи за неделю, пока стоит судно — пустая затея. Оставаться на острове целый год в обществе нетерпеливых ученых мужей, если они уже через месяц заключат, что тут больше делать нечего, мне тоже не улыбалось. Можно, конечно, идти туда по течению из Южной Америки на бальсовом плоту, но удастся ли мне подбить на это археологов? А без них нет смысла изучать остров Пасхи. Значит, нужен собственный корабль, какое-нибудь экспедиционное судно. Но на Пасхи нет ни гавани, ни пристани, ни надежной якорной стоянки, негде запастись горючим и пресной водой. Значит, судно должно быть достаточно большим, чтобы взять горючее и воду на весь путь туда и обратно, да и там не стоять же ему на месте все время. А вдруг археологи через две недели заявят, что искать нечего? Тогда мне будет мало радости от собственного судна, если только мы не воспользуемся им, чтобы посетить другие малоизученные острова. Кстати, на востоке Полинезии таких островов хватает. В той самой части Тихого океана, куда доходит океанское течение со стороны Галапагоса и Южной Америки, археологов ожидало множество интересных островов.
Когда речь идет о далеких плаваниях, я всегда иду за советом к Томасу и Вильгельму. Как-то раз (до тех пор мои замыслы еще были тайной) мы сидели вместе в уютной старой конторе пароходной компании «Фред Ульсен», в портовой части Осло. Томас сразу, едва я вошел, почуял, в чем дело, и поставил на стол между нами огромный глобус. Я повернул земной шар так, что было видно почти сплошную синеву. Это бывает только при одном положении глобуса: когда перед вами южная часть Великого океана, а Америка, Азия и Европа скрыты на обратной стороне. Я показал на остров Пасхи. — Сюда, — сказал я. — Но как?
Два дня спустя мы снова расселись вокруг глобуса, и Вильгельм показал свои расчеты.
— Лучше всего тебе подошел бы теплоход длиной примерно в сто пятьдесят футов, развивающий скорость до двенадцати узлов и способный взять пятьдесят тонн воды и сто тридцать тонн нефти.
Я ни капли не сомневался в его правоте. Жизнь научила меня полагаться на подсчеты Вильгельма, ведь он помог мне рассчитать дрейф «Кон-Тики» с точностью до одного дня; не его вина, что мы не сумели подать конец на берег Ангатау.
Через несколько дней Вильгельм позвонил мне по телефону. Рыбоконсервная фабрика в Ставангере предлагала подходящий траулер. Сейчас он занят на лове рыбы в гренландских водах, но с сентябре я могу его арендовать на год.
Я посмотрел на календарь. Апрель месяц, до сентября меньше полугода. А мне предлагают, так сказать, «голое» судно — без команды, без оборудования.
Мой личный опыт кораблевождения не шел дальше плавания на плоту. Остальные участники экспедиции «Кон-Тики» тоже не могли составить команду настоящего судна, для этого требовались всякие свидетельства и удостоверения, с инкским плотом все было проще.
— Наша контора поможет тебе со всеми морскими проблемами, — сказал Томас.
И вот уже я сижу за большим зеленым столом, совещаюсь с судовым инспектором, уполномоченным по найму, уполномоченным по снабжению, уполномоченным по страхованию и прочими специалистами. Все вышло честь по чести. До отплытия оставалось неполных четыре месяца, и мне казалось, что я уже слышу голодный, нетерпеливый вой большого теплохода, ожидающего на старте в Ставангере без единой искорки жизни в трубе, без людей на мостике, с огромными трюмами, где голые шпангоуты, точно ребра, угрюмо облекают пустое чрево корабля.
Когда собираешься с семьей на дачу, хлопот хватает. Так представьте себе, сколько всего надо помнить, если кроме семьи везешь с собой пятерых археологов, врача, фотографа и пятнадцать моряков, да еще у тебя на руках судно с запасными частями, специальное оборудование и провиант на всю компанию на целый год. Вот когда чувствуешь себя дирижером, который, стоя босиком на муравейнике, уписывает макароны и в то же время штурмует вместе с оркестром Венгерскую рапсодию Листа. На письменном столе и вокруг него царил невероятный сумбур — паспорта, свидетельства, лицензии, фотографии, бандероли, письма… Мебель исчезла под грудой морских карт, таблиц и всевозможных образцов. Постепенно хаос охватил весь дом. Телефон и дверной звонок дребезжали в один голос, поминутно приходилось карабкаться через ящики, свертки и узлы с полевым снаряжением.
В полном отчаянии сидел я на магнитофоне с бутербродом в руках и телефоном на коленях, пытаясь набрать нужный номер. Но сегодня это было почти невозможно, я только что дал объявление, что ищу первого штурмана для плавания в Южные моря, и провод работал без передышки. Капитана я уже подобрал.
Наконец мне удалось дозвониться.
— Мне бы три тонны зубоврачебного гипса, — сказал я.
— Что, зубы болят? — сухо осведомился мой собеседник, один из столичных оптовиков.
Нас прервала междугородная, прежде чем я объяснил, что гипс нужен для слепка пасхальской статуи, а не для новой челюсти.
— Алло, — говорил уже новый голос, из Ставангера, — алло, докладывает Ульсен, ваш машинист, коленчатый вал износился, что будем делать — ремонтировать его или заказывать новый?
— Коленчатый вал?.. — произнес я.
Дрррррррр! Это уже дверной звонок.
— Спросите Реффа, — крикнул я в телефон, — это по его части. В дверь протиснулась Ивон, вся обвешанная свертками. — Я проверила список стюарда, — сообщила она, — и срезала перец и корицу на два кило, а еще доктор Семб сообщил, что мы можем получить в пользование походную аптечку.
— Чудесно, — отозвался я и вспомнил оптовика, который решил, что гипс нужен мне для челюстей.
— Позвони ты туда, — попросил я Ивон и протянул ей трубку. В эту самую минуту к нам кто-то прорвался.
— Это какая-то ошибка, — повернулась она ко мне. — Фирма Мюстад спрашивает, куда доставить восемьдесят четыре килограмма разных рыболовных крючков. Но ведь мы везем с собой две тонны мороженой говядины?!
— Это не для рыбной ловли, — объяснил я. — Крючками мы будем платить островитянам на раскопках. Ты ведь не думаешь, что мы везем километр пестрых тканей себе для нарядов?
Ивон этого не думала. Зато она знала другое; механик только что прислал телеграфный отказ. Его жена решительно воспротивилась, узнав, что речь идет о Южных морях.
В три прыжка я очутился у мусорного ящика, но вернулся обескураженный. Ящик был пуст.
— Что ты там искал? — спросила Ивон.
— Заявления других механиков, — пролепетал я.
— А-а. — Ивон меня понимала.
Телефон и дверной звонок зазвонили разом. Ввалился экспедиционный аквалангист с двумя товарищами и охапкой ластов и дыхательных трубок. Они пришли показать, какая разница между французским и американским легководолазным снаряжением.
Позади них, вертя в руках шляпу, стоял странный человечек. Он хотел сказать мне по секрету что-то очень важное. Я не решился пустить его дальше коридора.
— Вы видели статуи на острове Пасхи? — прошептал он, оглядываясь по сторонам: не подслушивает ли кто-нибудь. — Нет, я как раз собираюсь туда, чтобы посмотреть на них. Он поднял вверх длинный указательный палец и продолжал с хитрой улыбкой: — В них сидит внутри человек. — Человек, в них? — Я ничего не понял. — Вот именно. — Шепот стал еще таинственнее. — Король. — А как же он попал внутрь? — поинтересовался я, медленно, мягко оттесняя гостя к двери.
— Они его туда засунули. Совсем как в пирамидах. Разбейте одну статую, и увидите. — Он кивнул, улыбаясь, и учтиво приподнял шляпу, а я сказал спасибо за совет и с легким замешательством закрыл за ним дверь.
Я уже начал привыкать к тому, что слова «остров Пасхи» привлекают чудаков. Стоило газетам написать про мои планы, как по почте посыпались самые удивительные предложения. Чуть не каждый день с разных концов света мне сообщали, что остров Пасхи — последний остаток затонувшего материка, своего рода тихоокеанская Атлантида. Дескать, ключ к тайне надо искать на дне океана вокруг острова, а не на суше.
Нашелся даже один мудрец, который предложил мне отменить экспедицию. «Ехать в такую даль — только время терять, — писал он. — С помощью вибраций можно решить всю проблему, не выходя из своего кабинета. Пришлите мне снимок пасхальской статуи и древней статуи из Южной Америки, и я по вибрациям определю, изваяны ли они одним и тем же народом». Дальше он писал, что однажды сделал из картона модель пирамиды Хеопса, а изнутри наполнил ее сырым мясом. Вскоре модель начала вибрировать так сильно, что пришлось всю семью отправить в больницу.
Я чувствовал, что вот-вот начну вибрировать сам, если не прекратится этот сумасшедший дом. Я рванулся вдогонку за аквалангистами, которые поднялись по лестнице на второй этаж, но Ивон остановила меня, удрученно протянув телефонную трубку. И пока я говорил по телефону, она осторожно пододвинула шатающуюся гору невскрытых писем. Утренняя почта. Я боялся класть трубку, как бы телефон не зазвонил снова.
— Это из министерства иностранных дел звонили, — сказал я Ивон. — Попроси ребят там наверху подождать, мне придется взять такси, английское министерство колоний прислало запрос по поводу острова Питкэрн, а Коста-Рика разрешила вести раскопки на острове Кокос, но я должен дать письменное обязательство, что не буду искать клад, который, как они считают, там зарыт.
— Захвати почту с собой в машину, — крикнула Ивон мне вслед. — Вдруг окажется запоздалое письмо от какого-нибудь механика.
Я в этом сомневался, но все же подобрал на ходу письма. Чаще всего просились в экспедицию художники, писатели и всякие умельцы. А один немец написал, что хоть он и пекарь по профессии, но последние годы работал могильщиком, самый подходящий человек для раскопок.
— Не забудь, у тебя еще сегодня встреча с парусными мастерами, они разбили палатки на газоне у Бергсландов, — продолжала Ивон, уже поднимаясь по лестнице.
Я выскочил за дверь и чуть не сбил с ног почтальона, который доставил вечернюю почту. Хотел было отдать ему свою пачку, но вовремя спохватился и нырнул в такси с охапкой конвертов. — Майорстювейен, — сказал я шоферу.
— Мы на ней находимся, — ответил он кротко.
— Тогда МИД. — И я принялся за почту.
Нет механика… Правда, какой-то часовщик просился в коки, но кока я уже нашел. Письмо с кафедры археологии университета Осло. От одного из двух археологов, которые записались. Обнаружилась язва желудка, врач не разрешает плыть…
Рухнул один из наших опорных столбов. Много ли толку от экспедиции, если не хватит археологов. А найти так быстро другого, чтобы поехал на год, будет не просто. Надо опять садиться и писать археологам, норвежским и иностранным.
И вот наступил сентябрь. У пирса «Ц» перед ратушей появился белый, как яхта, траулер с плавными обводами, на трубе — кирпично-красная бородатая личина бога солнца Кон-Тики. На высоком, утолщенном для плавания во льдах форштевне синей краской намалевана странная эмблема, понятная только знатокам: два священных птицечеловека, перерисованные с пасхальской деревянной таблицы с нерасшифрованными письменами. Теперь из трубы летели искры, судно лежало сытое и довольное, волны фиорда плескались у голубой ватерлинии. На борту кипела работа, а на пристани столпилось столько народу, что грузовики и тележки с последними грузами с трудом пробивались к пирсу.
Ничего не забыто? Конечно, провиант, лопатки и все прочие необходимые предметы мы запасли. Хуже обстояло с тем, что вообще трудно предусмотреть. Вдруг нам попадется скелет, лежащий в воде. А есть ли у нас химикалии, чтобы уберечь его от разрушения? Или понадобится влезть на неприступную скалу — найдется у нас снаряжение для этого? И как мы будем решать проблему связи и снабжения, если лагерь будет в одном конце острова, а непогода заставит судно уйти к противоположному берегу? Что делать, если кок расплавит котел, если винт будет поврежден о кораллы или кто-нибудь из матросов наступит на ядовитого морского ежа? Как быть с продуктами, если откажет холодильник? Все ли специальные инструменты и запасные части взяты? Все должно быть продумано, все ходы предусмотрены, ведь судно уже стоит под парами, готово идти на остров Пасхи, самый уединенный клочок земли на свете, где нет ни мастерских, ни магазинов.
Капитан полным ходом распоряжался на мостике, люди метались по палубе, задраивая люки и подтягивая концы, а штурман, могучий детина, невозмутимо стоял с плотницким карандашом в руке и ставил крестики в длинном списке. Все, за чем ему поручили проследить, на месте. Даже елка капитана (к рождеству!) втиснута в холодильник. Со списком порядок.
В последний раз зазвонил судовой колокол. Прозвучали команды, передаваясь от капитана к штурману, и над немеркнущей головой бога солнца из трубы вырвались клубы мглы. Через борт в обе стороны летели добрые пожелания и прощальные слова, и два десятка довольных, предвкушающих увлекательное плавание ребят на палубе оторвались от работы, чтобы в последний раз, на целый год наглядеться на своих избранниц, которые стояли в толпе. Сколько лиц — столько оттенков чувств, от радости до печали. Вот безжалостно убраны сходни, с плеском вспороли воду тросы, заворчали лебедки, и механики в машинном отделении сотворили чудо — корабль пошел своим ходом. Над стеной провожающих на пристани взметнулся прощальный гул, закачались руки, словно лес в бурю, капитан заставил сирену издать несколько душераздирающих воплей.
Конец сумбуру. Я стоял на пристани и махал. Нет — нет, я не позабыл впопыхах сесть на корабль, просто мне еще надо было слетать в США, там три археолога согласились участвовать в экспедиции, потом предстоял визит вежливости в Чили, а уже после этого, когда судно пройдет Панамский канал, я поднимусь на борт… Е.К.В. кронпринц Улав любезно согласился быть высочайшим покровителем экспедиции. Королевский норвежский департамент иностранных дел добыл мне разрешение от чилийского правительства вести раскопки на острове Пасхи при условии, что мы не повредим памятников прошлого. Англия и Франция также разрешили раскопки на принадлежащих им островах. Таким образом, нам была открыта «зеленая улица» в восточной части Тихого океана.
Когда судно развернулось к провожающим белой кормой и медленно отошло от пирса, на юте, выбирая грязный швартов, стоял молодой юнга. Душу его распирал восторг, и он сиял не хуже вечернего солнца, а весь класс дружным «ура» провожал Тура-младшего, на целый год избавленного от школьной повинности.
Но вот наше суденышко свернуло за огромный океанский лайнер и исчезло. Ему предстояло обогнуть половину земного шара, идя по следам мореходов, которые на много веков опередили современных детективов.
Глава вторая. Что нас ожидало на пупе вселенной
Как тихо.
Какой совершенный покой. Машина застопорена. Свет выключен. Трепетно-ясное звездное небо вырвалось из-за слепящей завесы и закачалось взад и вперед, описывая плавный круг над мачтой. Я вытянулся в шезлонге, упиваясь чистой гармонией. Будто отключили длинный провод, соединявший нас с материком, оборвался нескончаемый поток импульсов от мешающих станций всего света, остался лишь настоящий миг, обнаженная действительность. Свежий воздух, черная ночь, мерцающие звезды над мачтой. Мало-помалу зрение и слух, как говорится, открылись нараспашку, проветривая всю душу. Никаких впечатлений, которые надо приглушать или отсеивать, ничего похожего на суету большого города с его ослепительными рекламами, конкуренцией и шумными увеселениями — всем, что наперебой врывается в мозг по всем каналам чувств, подавляя нежную человеческую душу. Покой был настолько полный, что самый ток времени остановился и замер в ожидании. Боязно было кашлянуть, чтобы не разбудить задремавшие источники вселенского шума.
Далеко во мраке иногда рождался слабый шорох: то ли ветер, то ли волны гладили скалу. Все на борту примолкли, тишина рождала благоговейное настроение. Только из камбуза доносились обрывки приглушенного разговора под мелодичный плеск ласкающих судно волн да ритмично звучало негромкое «скрип, скрип, скрип…» — наш кораблик удовлетворенно покряхтывал, мирно, мягко покачиваясь в ночи. Мы стояли с подветренной стороны.
Кончился нетерпеливый перестук запыхавшихся поршней, кончился набег океанских волн, которые все эти дни разбивались о нос корабля, качая нас вверх-вниз, вправо-влево, и с шипением катили дальше. Прежде чем над морем и над нами спустился ночной мрак, мы укрылись в объятиях пустынного берега. Там, во тьме — остров Пасхи.
Мы подошли к нему еще засветло, успели рассмотреть серо-зеленые сопки и крутые прибрежные утесы, а вдали, на склоне потухшего вулкана в глубине острова, черными зернышками тмина на фоне багрового вечернего неба выделялись статуи. Тщательно промеряя дно эхолотом и обычным лотом, мы прижались к берегу, сколько позволяла глубина, и капитан велел отдать якорь.
На берегу ни души, заброшенный окаменевший мир с глядящими на нас неподвижными бюстами вдалеке; другие столь же недвижимые истуканы лежали ничком вдоль каменной террасы на лавовых глыбах у самого берега. Словно мы прилетели на межпланетном корабле на вымершую планету, где некогда жили существа, не похожие на обитателей нашего земного шара. На землю легли длинные тени, но ничто не двигалось. Ничто, кроме пламенно-красного солнца, которое медленно ушло в черный океан, окутав нас покровом ночного мрака.
Вообще-то здесь нельзя было останавливаться. По правилам, мы должны были еще несколько часов пахать волны, чтобы доложить о своем прибытии губернатору, живущему вместе со всеми прочими обитателями в маленькой деревушке на другом конце острова. Но ведь на острове Пасхи заход корабля всегда одно из важнейших событий года, а ни губернатору, ни нам, ни пасхальцам не будет никакой радости, если судно явится в предзакатный час. Лучше уж переждем ночь здесь, под прикрытием скал, хотя грунт для стоянки паршивый. А завтра с утра пораньше подойдем к деревне Хангароа, подняв все флаги.
По шлюпочной палубе пробежала полоска света — это приоткрылась дверь нашей каюты, выпуская Ивон. Маленькая Аннет спала мирно, как само ночное небо, обняв одной рукой мишку, а другой — негритенка.
— Надо бы сегодня устроить угощение, — прошептала Ивон, указывая кивком на берег, — хоть мы официально еще и но прибыли.
После двух недель качки она впервые поднялась на ноги и могла думать о еде. Я сказал ей, что стюард уже предупрежден и через несколько минут капитан соберет на шлюпочной палубе всю команду. Стоя у фальшборта, Ивон как завороженная смотрела во мрак. Мы явственно ощущали тихое дыхание матери-земли, когда к соленому ветру примешивалось чудесное благоухание сена или травяного косогора.
Начали собираться ребята. Гладко выбритые, принарядившиеся — не узнать, они занимали места на стульях и скамейках, расставленных в круг между двумя шлюпками на верхней палубе.
Вот идет вразвалку плотный, широкоплечий Уильям Мэллой, он же Билл. Швырнул в море окурок, сел и задумчиво уставился в палубу. За ним показался худой и длинный Карлайл Смит, или попросту Карл. Закурил, взялся рукой за штаг и воззрился на звезды. Оба — доктора наук, профессоры археологии, один в Уайомингском; другой в Канзасском университете. Следующий — наш старый друг Эд, Эдвин Фердон, сотрудник музея Нью-Мексико, единственный из американской тройки, кого я знал раньше. Полный, улыбающийся, он оперся на релинг рядом с Ивон и с видимым удовольствием вдохнул веяние с суши. Сверкая озорными глазами, скатился с мостика маленький, упругий, как мячик, капитан Арне Хартмарк. Вот уже двадцать лет наш шкипер ходил в дальние плавания, но такого острова он еще никогда не видел в свой бинокль. За его спиной занял место штурман Санне, богатырь, ухватился руками за штаги и повис на них, словно добродушная ручная горилла. Вот сверкают в улыбке зубы второго штурмана Ларсена, самого жизнерадостного человека, на свете, он даже на электрическом стуле нашел бы повод посмеяться. А сейчас он к тому же сидит между двумя завзятыми остряками — слева наш первый механик, вечно улыбающийся толстяк Ульсен, справа костлявый второй механик с козлиной бородкой, которая делала его похожим то ли на проповедника-самоучку, то ли на фокусника. Поднялся по трапу наш врач, доктор Ессинг; он приветствовал всех поклоном и сел. Позади него сверкали очки экспедиционного фотографа Эрлинга Шервена, курившего, как всегда в торжественных случаях, тонкую сигару. Тур-младший пристроил свое долговязое мальчишечье тело в шлюпке, между двумя плечистыми матросами. Там же почтительно сидели кок Хапкен и стюард Грёнмюр, которые только что бесшумно расставили на столе изысканные кушанья. Никакая качка не могла помешать этим двум волшебникам творить кулинарные чудеса. Появились боцман, моторист, юнги. Последними пришли Арне Шёльсволд и Гонсало. Арне, археолог, директор нового музея в Эльверуме, побывал со мной и на Галапагосских островах. Гонсало Фигероа, студент университета в Сантьяго, будущий археолог, официально представлял в экспедиции Чили. Я не знал его, когда приглашал, и у нас были свои опасения, но в Панаме на судно поднялся по сходням веселый, жизнерадостный атлет с лицом аристократа, умеющий легко и просто приспосабливаться к самым различным жизненным обстоятельствам.
И вот мы все двадцать три в сборе, отряд специалистов из самых различных областей. За несколько недель, проведенных вместе на борту, общая мечта ступить на берег этого острова, который притаился в ночи рядом с нами, сплотила нас в единый дружный коллектив. Да, все в сборе и машина застопорена, теперь самое время немного рассказать о тех, кто побывал на Пасхи до нас. Будет легче разобраться в том, что предстоит нам самим.
— Настоящее название острова, — начал я свой рассказ, — никому не известно. Сами пасхальцы называют его Рапануи, однако исследователи не уверены, что это исконное название. В древнейших преданиях остров всегда выступает под наименованием Те Пито о те Хенуа, или Пуп Вселенной, но это скорее поэтический образ, чем имя, потому что позднее островитяне называли его также Глаз, видящий Небо и Порог Неба. Мы, живущие за тысячи и тысячи миль отсюда, написали на карте остров Пасхи только потому, что в 1722 году пасха пришлась на тот самый день, когда голландец Роггевен и его спутники первыми из европейцев приплыли сюда и увидели, как какие-то люди жгли сигнальные костры на берегу. Два голландских парусника уже под вечер бросили якорь у берега, однако до наступления ночи мореплаватели успели увидеть много удивительного. На борт поднялись рослые люди прекрасного телосложения, по-видимому светлокожие полинезийцы, известные нам по Таити, Гавайским и другим островам юго-восточной части Тихого океана. Однако местное население явно не было чистокровным, попадались и более темнокожие люди, а также «совсем белые», как европейцы. У некоторых кожа была «розовая, точно они обгорели на солнце». Многие носили бороду. Сойдя на берег, голландцы увидели огромных истуканов высотой до десяти метров. Макушки их были увенчаны, точно коронами, какими-то большими цилиндрами. Роггевен сообщает, что островитяне разожгли перед этими исполинскими богами огромные костры и, сидя на корточках, почтительно склонив голову, поднимали и опускали сложенные ладонями вместе руки. Беренс, который находился на втором корабле, записал, что на заре другого дня они увидели, как островитяне, бросившись ничком на землю, молились восходящему солнцу. А кругом горели сотни костров, очевидно в честь богов. Это единственное описание ритуала поклонения солнцу на острове Пасхи.
Одним из первых на судно поднялся «совершенно белый человек», который держался с особым достоинством. Все его поведение говорило о том, что он занимает видное место среди островитян, и голландцы предположили, что он жрец. Его наголо обритую голову украшала корона из перьев, а проколотые и удлиненные с помощью огромных, с кулак, круглых белых затычек мочки ушей свисали, болтаясь, до самых плеч. Такие же уши голландцы увидели и у других. Если длинные мочки мешали работать, островитяне вынимали затычки и зацепляли мочку за верхний край уха.
Многие пасхальцы ходили нагишом, причем все тело покрывала причудливая татуировка, сплошной узор из птиц и странных символов. Другие кутали тело в плащи из луба, окрашенного в желтый и красный цвета. Головные уборы были либо из перьев, либо из камыша. Островитяне дружелюбно встретили гостей, голландцы ни у кого не увидели оружия. Как ни странно, было очень мало женщин, зато они относились к чужеземцам очень предупредительно, и мужчины их ничуть не ревновали.
Жильем островитянам служили похожие на опрокинутую вверх дном лодку длинные низкие хижины из камыша, без окон, с тесным входом, через который можно было пробраться только ползком. Внутри никакого убранства, если не считать циновок да заменявших подушки каменных плит, а жильцов в каждой хижине было множество. Из домашних животных они знали только кур. Выращивали бананы, сахарный тростник и прежде всего батат, который голландцы называют в своих записках «хлебом насущным» островитян.
Тогдашние жители острова Пасхи вряд ли увлекались мореплаванием, потому что самые большие лодки, виденные голландцами, не превышали в длину двух с половиной метров, а ширина их еле позволяла втиснуть ноги, к тому же лодки эти протекали так сильно, что одной рукой греби, а другой вычерпывай.
Пасхальцы жили еще в каменном веке, металла совсем не знали, пищу готовили в ямах, на раскаленных камнях. Не мудрено, если голландцам показалось, что на всем свете нет такой отсталости, как здесь. Тем сильнее их удивляло, что среди такой скудости высились исполинские изваяния, равных которым они никогда не встречали в Европе. Голландцев больше всего поражало, как могли быть воздвигнуты эти гиганты. Ведь у островитян не было ни бревен, ни канатов. Путешественники исследовали сильно выветренную поверхность изваяний и пришли к выводу, что все очень просто — дескать, фигуры не вытесаны из камня, они вылеплены из глины, в которую понатыкали мелких камешков.
Довольные собственной проницательностью, они вернулись на свои корабли, которые уже сорвали с грунта два якоря, и покинули удивительный остров, пробыв там всего один день. В судовом журнале голландцы записали, что островитян отличает веселый нрав и миролюбие и ведут они себя вполне прилично, но воры высшей марки. По какому-то недоразумению одного пасхальца застрелили на борту корабля, еще с дюжину было убито на берегу. Потери европейцев ограничились скатертью да несколькими шляпами, которые украли у них прямо с головы.
Стоя возле убитых и раненых соплеменников, островитяне провожали взглядом уходящие на запад большие паруса. Прошло почти полвека, прежде чем к ним снова явились гости из внешнего мира.
Это было в 1770 году, когда пришли испанцы на двух кораблях под командой дона Фелипе Гонсалеса. И на этот раз мореплавателей привлек дым сигнальных костров, зажженных островитянами. Сойдя на берег вместе с двумя священниками и отрядом солдат, путешественники торжественно проследовали к вершине трехглавой горы в восточной части острова. Их провожали, приплясывая, ликующие толпы любопытных островитян. Испанцы поставили на каждой из трех макушек по кресту, спели что-то, салютовали ружейными залпами и объявили остров испанским владением. А чтобы подтвердить законность сего акта, они составили на имя короля Испании Карлоса послание, под которым самые смелые из островитян «с неприкрытой радостью и восторгом» начертили птиц и какие-то странные закорючки. Испанцы сочли такие «подписи» вполне достаточными. Так остров обрел хозяина в лице испанского короля и получил новое название — Сан-Карлос.
Испанцы не поддались заблуждению, будто статуи вылеплены из глины. Один из них взял в руки кирку и с такой силой ударил по изваянию, что искры полетели. Так было доказано, что истуканы каменные. Но как воздвигли этих великанов, оставалось загадкой, испанцы даже сомневались, что они вообще изваяны на этом острове.
Хотя на безлесной поверхности острова все просматривалось насквозь, дареное и краденое исчезало бесследно, и испанцы заподозрили, что у островитян есть подземные тайники. И нигде не было видно детей, казалось, все население состоит из множества взрослых мужчин и всего нескольких, но зато чрезвычайно легкомысленных женщин.
Первыми испанцам встретились рослые светлокожие мужчины, двоих самых высоких измерили, оказался рост один метр девяносто девять сантиметров и один метр девяносто пять сантиметров. Много было бородатых, и испанцы заключили, что обитатели острова — вылитые европейцы, они совсем не похожи на обычных туземцев. Путешественники отметили в своих записках, что среди островитян попадаются светлые шатены и даже рыжие. А когда удалось еще и научить местных жителей внятно произносить по-испански «Аве Мария, да здравствует Карлос Третий, король Испании», гости единодушно заключили, что островитяне народ сметливый, способный к науке и легко поддающийся приручению. После чего они распрощались со своими новыми подданными, чтобы больше никогда уже сюда не возвращаться.
Следующими остров посетили англичане, во главе которых стоял не кто иной, как сам капитан Кук, а после него — француз Лаперуз.
Видимо, пасхальцам начали надоедать все эти гости. Когда Кук сошел на берег, его поразила малочисленность встречающих, всего несколько сот человек, да и те производили самое жалкое впечатление. Все они были ниже среднего роста, угрюмые и апатичные. Спутники Кука решили, что после визита испанцев на острове случилась какая-то беда, после которой жители чуть не все вымерли. Куку же показалось, что пасхальцы укрылись под землей. Особенно его удивило, как мало встречалось женщин, хотя он разослал патрули по всему острову. Во многих местах англичане нашли в камнях узкие ходы, они, по-видимому, вели в подземные убежища, однако пасхальцы не пускали туда чужеземцев. Сильно разочарованные, англичане, которых одолевала цинга, покинули остров Пасхи. Им удалось раздобыть лишь немного батата, единственной важной культуры, увиденной ими на острове. Впрочем, и тут их надули: пройдохи-островитяне нагрузили корзины камнями, прикрыв их сверху слоем батата.
Столь же молниеносный визит Лаперуза состоялся уже через двенадцать лет, в 1786 году. На этот раз на Пасхи опять было много людей, снова показались светловолосые, и почти половину островитян составляли женщины. Наконец, как и должно быть в нормальной человеческой общине, появилось множество детей всех возрастов. Казалось, они вышли из чрева самой земли этого загадочного островка с его безлесным лунным ландшафтом. Да так оно, собственно, и было. Пасхальцы вылезали из подземных ходов, и французам удалось проникнуть в некоторые из тесных каменных туннелей, куда англичанам не довелось попасть. Подтвердилась догадка Кука, что местные жители устроили себе убежища в темных подземных тайниках. Здесь пряталась от Кука знать, здесь же, когда голландцы открыли остров, скрывались дети и большинство женщин. Лаперуз заключил, что мирное поведение Кука и его людей успокоило пасхальцев, они теперь осмелели и вышли на поверхность, общим числом около двух тысяч человек.
Но хотя большинство местных жителей и укрылось под землей, когда по ней ходил Кук, и хотя они успели утащить с собой в тайники свое главное имущество, каменных исполинов унести было невозможно, они упорно продолжали стоять на своем посту. И Кук, и Лаперуз считали их памятниками далекого прошлого, уже тогда изваяния казались очень древними. Кук восхищался мастерством безвестных строителей: без всякой техники они установили колоссов на верхней площадке ступенчатых сооружений из камня. Какой бы способ ни был применен, записал Кук, такая работа свидетельствует о редкой одаренности и энергии людей, живших в прошлом на этом пустынном острове. Он не сомневался, что современные пасхальцы тут не при чем, они даже не пытались чинить каменные террасы, которые уже давно начали разваливаться. К тому же многие статуи были повалены и лежали ничком у подножия своих пьедесталов, причем их явно сбросили намеренно.
Кук исследовал некоторые постаменты, и его изумило, что они сложены из громадных каменных блоков, вытесанных и отполированных настолько тщательно, что эти гигантские кубики подходили один к другому с потрясающей точностью и при кладке не потребовалось никакого связующего раствора. Более совершенной кладки Кук никогда не видел, даже в лучших постройках Англии. И однако же, добавляет он в своих записках, все это тщание не смогло противостоять разрушительному действию времени.
На корабле Кука был полинезиец с Таити. Он понимал многие слова из языка тогдашних пасхальцев. И англичане выяснили, что статуи не были кумирами в подлинном смысле слова, а служили памятниками арики — так звали знатных островитян из священного королевского рода. Груды костей свидетельствовали, что платформы, на которых стояли изваяния, продолжают служить местом погребения. Пасхальцы явно верили в загробную жизнь, несколько раз они объясняли путешественникам знаками, что, хотя скелет лежит на земле, хозяин его улетел вверх, на небеса.
В лице Лаперуза наш мир впервые попытался воздействовать на пасхальскую культуру. Он оставил островитянам свиней, коз и овец, успел даже посадить кучу семян за те немногие часы, что находился на Пасхи. Но голодные пасхальцы слопали всех четвероногих, не дав им размножиться, и все осталось по-прежнему.
Лишь в начале следующего столетия на уединенном острове снова появились гости, и опять это были представители нашей расы. Островитяне не стали прятаться под землей, они столпились на скалах вдоль берега. Это было на руку капитану американской шхуны, который собирался колонизовать лежащий в море около Чили необитаемый остров Хуан Фернандес и устроить там базу для боя тюленей. После отчаянной потасовки он захватил двенадцать мужчин и десять женщин и вышел в море. На третий день американец выпустил пленников на палубу. Мужчины немедленно прыгнули за борт и поплыли к исчезнувшему за горизонтом родному острову. Капитан плюнул в сердцах и повернул обратно за новой партией.
После этого островитяне стали встречать мореплавателей градом камней, и несколько судов так и не смогли высадить людей на скалистый берег. В конце концов одной русской экспедиции удалось с помощью огнестрельного оружия пробиться на берег, но уже через несколько часов им пришлось отступить.
Шли годы. Изредка около острова останавливались суда, и постепенно недоверие островитян прошло. Они все реже швыряли камнями в гостей, и все больше женщин выходило полюбезничать с чужеземцами. Но затем случилась беда.
Однажды у берега Пасхи бросил якорь отряд из семи перуанских парусников. Островитяне поплыли к судам, их пригласили на борт и порадовали, разрешив нарисовать каракули на листе бумаги. Сами того не зная, пасхальцы подписали контракт, подрядились работать на богатых гуано островах у побережья Перу. И когда они, ничего не подозревая, собрались вернуться на берег, их связали и бросили в трюмы. Затем восемьдесят охотников за рабами подошли на шлюпках к пляжу и разложили одежду и прочие соблазнительные дары. Прельщенные такой роскошью, любопытные пасхальцы, усеявшие прибрежные скалы, стали подходить поближе. Когда их собралось несколько сот, перуанцы ринулись в атаку. Тех кто, опустившись на колени, собирал дары, схватили и связали, а пытавшихся спастись бегством или вплавь
обстреляли. Последняя шлюпка, набитая пленниками, уже готовилась отчалить, когда один из капитанов вдруг обнаружил двух укрывшихся в пещере островитян. Ему не удалось заставить их плыть с ним, тогда он застрелил обоих.
Так остров Пасхи в сочельник 1862 года разом обезлюдел. Кого не загнали в трюмы и не уложили наповал пулями на берегу залива, те попрятались в подземелье, завалив входы камнями. Гнетущая тишина воцарилась на голом острове, лишь угрожающе ворчал прибой. Огромные истуканы стояли с каменными лицами. А с кораблей доносились песни и пьяные вопли, гости не подняли якорь, пока не отпраздновали рождество.
Обитателям Пупа Вселенной, познавшим и Пасхи, и рождество, предстояло теперь получше познакомиться с внешним миром. Корабли увезли тысячу рабов и высадили их на перуанские острова собирать гуано. Епископ Таити выступил с протестом, тогда власти распорядились, чтобы пленников немедленно вернули на родной остров. Но человек девятьсот успели погибнуть от болезней и непривычных условий, прежде чем за ними пришел корабль, а из ста уцелевших восемьдесят пять умерли по пути домой. Только пятнадцать островитян вернулись живыми на Пасхи. Они привезли оспу, которая мгновенно распространилась по всему острову и прикончила чуть не все население, даже тех, кто скрывался в самых глубоких и тесных пещерах. Нужда и болезни сократили число обитателей до ста одиннадцати человек, считая взрослых и детей.
Тем временем на острове впервые поселился чужеземец, который руководствовался самыми благими намерениями. То был одинокий миссионер, искренне старавшийся помочь местным жителям. Увы, они начисто обокрали его, забрали даже одежду слуги господня. Он бежал с первым же кораблем, однако вернулся с помощниками и учредил маленькую миссионерскую станцию. Оставшиеся в живых пасхальцы позволили окрестить себя, а года через два явился какой-то странствующий француз-авантюрист и натравил их на миссионеров. Они прогнали пастырей, прикончили француза и продолжали петь псалмы без посторонней помощи; все прочие следы миссионерской деятельности быстро изгладились.
В конце прошлого века чужеземцы установили, что на Пасхи отличные пастбища для овец, и остров был аннексирован Чили. Ныне здесь есть губернатор, священник, врач и никто больше не живет в пещерах или камышовых хижинах. На смену древней культуре пришла цивилизация, как это было у эскимосов, индейцев и обитателей других тихоокеанских островов.
— Так что мы прибыли сюда не за тем, чтобы изучать жизнь цивилизованных островитян, — сказал я. — Мы будем вести раскопки. Если сегодня вообще можно найти ответ на загадки острова Пасхи, то только в земле.
— А разве здесь раньше никто не занимался раскопками? — спросил один матрос.
— Считают, что здесь негде рыть, нет почвы. Деревья на острове не растут. А если и раньше тоже не было леса, то ведь одна увядшая трава не образует мощного слоя земли. Поэтому все уверены, что тут нет смысла искать.
В самом деле, на этом удивительном острове побывали только две археологические экспедиции, больше желающих не нашлось. Первая экспедиция носила частный характер, руководила ею англичанка Кэтрин Раутледж. Она приплыла на Пасхи в 1914 году на собственной шхуне, измерила и нанесла на карту все, что видела на поверхности земли, и в первую очередь каменные террасы, старые дороги, а также четыреста с лишним огромных изваяний, разбросанных по всему острову. Работы был непочатый край, и Раутледж просто не хватило времени заниматься систематическими раскопками, удалось лишь расчистить от земли несколько статуй. На беду, научные записи экспедиции пропади, по Кэтрин Раутледж написала о своем кругосветном плавании книгу, в которой говорит, что остров буквально пропитан таинственностью а нерешенная вековая загадка с каждым днем все больше занимала ее мысли. Тени неизвестных ваятелей прошлого витают над островом, писала она. Они напоминают о себе на каждом шагу. Давно умершие каменотесы более активны и реальны, чем ныне живущее население, и безраздельно властвуют над островом, опираясь на своих вассалов — безгласных истуканов. Движимые неведомым для нас стремлением, они иссекли каменными рубилами склон потухшего вулкана, изменили облик целой горы, и все это ради того, чтобы воздвигнуть огромные человекоподобные скульптуры по берегам заливов и у причалов. «Вокруг острова и над ним простираются без конца и края море и небо — безграничное пространство, несравненная тишина. Человек, живущий здесь, всегда прислушивается неведомо к чему, чувствуя подсознательно, что находится в преддверии чего-то еще более великого, лежащего за пределами его восприятия».
Так воспринимала Раутледж остров Пасхи. Она открыто признавала существование тайны, трезво изложила собранные факты и предоставила искать ответ последующим исследователям.
Двадцать лет спустя военный корабль доставил на остров Пасхи франко-бельгийскую экспедицию; потом другой корабль ее забрал. Один из археологов умер в пути, и, пока француз Метро опрашивал островитян, собирая материал для этнографического очерка, бельгиец Лавашери еле поспевал изучать тысячи наскальных изображений и каменные памятники, которые сами бросались в глаза на безлесном острове. До раскопок дело опять не дошло.
Французы и бельгийцы наметили себе в общем-то другие задачи, чем англичане, изваяния не были в центре их внимания. Но Метро заключил, что не так уж тут все и загадочно, на Пасхи могли прибыть самые обыкновенные туземцы с островов, лежащих дальше на запад, им захотелось делать фигуры, а так как деревьев не было, они принялись долбить гору.
И до и после этой экспедиции на Пасхи побывали другие исследователи и множество путешественников. Пока судно несколько дней, а чаще несколько часов стояло на якоре, они записывали со слов нищего населения предания и собирали резные изделия из дерева, либо добывали образцы скудной фауны и флоры. Медленно, но верно крохотный островок на краю света опустошали на потребу музейных витрин и сувенирных полок. Большинство поддающихся переноске предметов увезено. Лишь громадные головы с презрительной окаменелой улыбкой по-прежнему высятся на склонах, встречая и провожая лилипутиков, которые приходят сюда, таращат на них глаза и уходят опять, меж тем как одно столетие сменяется другим. Ореол таинственности легкой дымкой окутывает остров.
Таковы основные черты истории острова Пасхи.
— А может быть так, что у островитян есть еще какие-нибудь предания? — спросил негромко капитан.
— Оптимист, — сказал я. — Завтра ты их увидишь, это такие же цивилизованные люди, как мы с тобой. Первым здесь собирал предания американец Томсон. Это было в 1886 году, до того как пасхальцы подверглись влиянию чужеземцев, которые потом поселились на острове. Они ему рассказали, что их предки приплыли с востока на огромных судах, шестьдесят дней правили на закат. Сначала на острове обитали два различных народа, «длинноухие» и «короткоухие», но затем разразилась война и вторые почти совершенно истребили первых, потом продолжали хозяйничать одни. Все старые предания, какие сохранились, можно сегодня прочесть в книгах. Вообще в Южных морях от старины мало что осталось.
— А на острове Пасхи тем более, — вставил Гонсало. — Тут теперь поселилось много белых, построены даже школа и маленькая больница.
— Так что пасхальцы могут нам помочь только как рабочие на раскопках, — продолжал я. — Еще, может быть, у них найдутся для нас свежие овощи.
— Надеюсь, вахины не откажутся научить нас плясать хюлу, — пробормотал один из механиков, поддержанный смехом и одобрительными возгласами товарищей.
Вдруг чей-то хриплый голос что-то произнес. Но чей? Все смотрели друг на друга. Кто же это был? Штурман осветил фонариком теряющуюся во тьме палубу. Никого. Странно… Наконец механик нарушил молчание, еще что-то сострил насчет хюлы, и опять послышался незнакомый голос. Может быть, из-за борта? Мы подбежали к фальшборту и посветили на черную гладь. Какая там черная гладь — свет фонаря пал на множество сверкающих любопытными глазами лиц, и каких лиц! Подобных пиратских физиономий мы еще никогда не видели. Плотно сгрудившись в тесной лодчонке, на нас снизу смотрели гости.
— Иа-о-рана! — крикнул я. Поймут?
— Иа-о-рана! — ответили они хором.
Значит, полинезийцы, заключил я. Но бог ты мой, сколько же тут еще всяких примесей!
Мы бросили им трап, и один за другим они полезли вверх. Большинство — крепкие, здоровые парни, только одетые в какие-то лохмотья. Вот первый показался над фальшбортом, голова обвязана красным платком, в зубах зажат узел, на теле драная майка и подвернутые до колен остатки штанов. Мелькнули босые ноги, и он ступил на палубу. За ним последовал огромный рябой верзила в старой зеленой шинели, тоже босой. Он нес на плече здоровенную дубинку и связку украшенных резьбой палок. А там уже появилась оскаленная деревянная голова с огромными глазищами и козлиной бородкой и деревянная же фигура с торчащими ребрами. Это изделие нес пасхалец в белой матросской бескозырке. Поднявшись на борт и пожав руку тем, кто стоял поближе, оборванцы принимались извлекать из своих узлов и мешков своеобразные изделия. Из рук в руки переходили замысловатые деревянные скульптуры, которые поразили нас еще больше, чем их владельцы.
У всех резчиков были фигурки, изображающие одного и того же гротескного сутулого человечка. Большой орлиный нос, козлиная бородка, длинные висящие мочки ушей, огромные вставные глаза, рот искажен дьявольской усмешкой, хребет и голые ребра торчат, живот втянут. Все они были выдержаны в одном стиле, отличались только размером. Обращал на себя внимание также крылатый человечек с птичьей головой; попадались изящные палицы и весла, разукрашенные большеглазыми масками, и нагрудные украшения в виде полумесяца, покрытые загадочными письменами, которых никто не может расшифровать. Все было вырезано с величайшим искусством и тщательно отполировано, так что деревянные изделия казались на ощупь фарфоровыми. Гораздо менее удачными показались нам каменные копии знаменитых больших изваяний. Один островитянин привез чудесный головной убор из перьев и искусно сделанный из того же материала наряд. Такого обилия поделок я не видел до сих пор на полинезийских островах; обычно жители этой области предпочитают не обременять себя трудами. Здесь же нас по сути дела встретила целая артель замечательных резчиков по дереву. Непосвященному человеку могло показаться, что авторы этих гротескных фигурок обладают неуемной творческой фантазией. Но если присмотреться, оказывалось, что повторяются одни и те же немногочисленные мотивы. Вариации не выходили за границы строго определенных канонов.
Незадолго перед тем я изучал в Национальном музее Чили собранные Местным образцы современного народного искусства острова Пасхи, и, когда пасхальцы стали показывать нам свои изделия, мне ничего не стоило их удивить тем, что я знал название каждой фигурки. Ведь это были безупречные повторения предметов, которые нашли на Пасхи еще первые европейцы и которые теперь можно увидеть только в музеях. Оригиналы сегодня ценятся страшно дорого, а так как добыть их уже негде, островитяне поддерживают оборот, снабжая рынок хорошими копиями.
Резчики, смущенно улыбаясь, показывали на свои драные штаны и босые ноги, дескать, возьмем в обмен одежду и обувь. И вот уже на палубе полным ходом развернулся торг. Движимые не только жаждой приобретения, но и врожденной добротой, наши люди ринулись в каюты и вынырнули оттуда со всем, что у них было лишнего из одежды. Вдруг появилась маленькая Аннет в своей пижаме. Забравшись в гущу участников обмена, она потянула за ноги поразившего ее птицечеловека, которого держал под мышкой обладатель одной из самых свирепых физиономий. Увидев, что фигурка понравилась ребенку, он немедленно преподнес ее в дар Аннет. Ивон живо сходила за ответным подарком. Подошел фотограф, дернул меня за рукав.
— Послушай, там стоит один тип, у него за пазухой какая-то диковинная штука. Говорит, что-то очень старинное, из поколения в поколение передавалось…
Я улыбнулся, но на всякий случай последовал за фотографом, который подвел меня к опрятно одетому худощавому человеку с лицом араба, только побледнее кожа, и с гитлеровскими усиками.
— Буэнос диас, сеньор, — приветствовал он меня и с таинственным видом вытащил из-под рубахи маленький плоский камень с выгравированным птицечеловеком.
Я сразу увидел, что гравировка недавняя, и, не дожидаясь, когда владелец начнет говорить о предках, воскликнул с нарочитым восхищением: — Как, неужели ты это сам сделал?!
Он на секунду смешался, растерянность боролась на его лице с улыбкой, потом порозовел от гордости и посмотрел на свой шедевр, соображая, что вообще-то обидно уступать кому-либо честь авторства.
— Да, — самодовольно подтвердил он, явно упиваясь собственным мастерством.
Ему не пришлось пожалеть о своем признании: фотографу камень понравился, и он купил его.
Незаметно к борту корабля подошла еще лодка, и мне доложили, что по трапу поднимается белый. Молодой, подтянутый флотский офицер представился помощником губернатора и приветствовал нас от имени своего начальника. Мы пригласили его в салоп выпить стаканчик и объяснили, почему остановились в этом месте. В ответ мы услышали, что сейчас из-за плохой погоды все равно не смогли бы стать на якорь около деревни, но завтра утром не мешало бы нам перейти под прикрытие другого мыса, ближе к селению, тогда они постараются нам помочь высадиться на скалы. Далее мы узнали, что прошло ровно полгода, как их навестило последнее судно — разумеется, чилийский военный корабль. А годом раньше к острову подошел роскошный лайнер. Губернатора запросили, есть ли в местном отеле лифт и подходит ли трамвай к пристани. Когда же он ответил, что на острове нет ни отелей, ни пристаней, пассажиров не стали высаживать на берег. Зато на борт лайнера допустили несколько островитян, которые доставили сувениры и сплясали хюлу на палубе, после чего туристы отправились дальше осматривать Тихий океан.
— Ну, мы-то сойдем на берег, хотя бы нам пришлось добираться вплавь, — рассмеялись мы, не подозревая, что эти слова окажутся почти пророческими.
Возвращаясь к трапу, офицер предложил нам оставить на борту кого-нибудь из островитян лоцманом для завтрашнего перехода.
— Они крадут, как сороки, — добавил он, — так что, пожалуй, лучше всего оставить бургомистра. — Вы уже познакомились с ним?
Нет, я еще не успел. Гордые подданные привели своего бургомистра. Это был тот самый тип с гитлеровскими усиками и поддельным камнем. Рубаха его оттопыривалась, теперь за пазухой лежали вещи, полученные от фотографа.
— Вождей у нас больше нет, но вот вам бургомистр острова Пасхи, — сказал офицер, добродушно похлопывая усатого по плечу. — К тому же он лучший на острове резчик по дереву.
— Си, сеньор, — просиял бургомистр и смущенно опустил глаза.
Его приятели окружили нас тесным кольцом, каждому было лестно, что у них есть свой выборный бургомистр. Я видел много умных лиц в толпе; несколько человек выделялись властным, волевым видом.
— Си, сеньор, — повторил худощавый и выпятил грудь так, что из-под рубахи выглянули старые брюки фотографа. — Я уже двадцать восемь лет бургомистр. Они переизбирают меня каждый раз.
«Странно, почему они выбирают такого чудака, — подумал я. — Как будто нет более подходящих кандидатов».
Офицеру пришлось пустить в ход всю свою власть, чтобы заставить наших гостей сойти в лодки. Остался только бургомистр. Не знал я тогда, что он будет главным действующим лицом самого удивительного приключения, какое я когда-либо переживал.
На другой день рано утром меня разбудил скрежет якорных цепей. Натянув штаны, я вышел на палубу. Солнце уже пробудило краски, стерло ночные тени, и я увидел приветливый желто-зеленый остров. Вдали на склоне стояли нетленные истуканы. Но никто не жег костров, никто не молился божественному восходу, вообще никого не было видно. Остров казался безжизненным, словно жители приняли нас за работорговцев и ушли под землю. — Буэнос диас, сеньор.
Опять этот бургомистр. Приветствуя меня, он приподнял шляпу. Одну из наших шляп, потому что вчера он прибыл без головного убора.
— Буэнос диас, бургомистр, что-то не больно людно на берегу. — Верно, — согласился он. — Но эта земля теперь уже не наша, мы живем в деревне на другом конце острова, а сюда пускают только овец, которые принадлежат военным морякам. Посмотрите, — он указал на круглый пригорок.
В самом деле я отчетливо увидел стадо овец, которое серым одеялом ползло по склону.
Судно уже снялось с якоря, и залив остался позади. Мы скользили вдоль отвесных скал, хищный прибой здесь изгрыз вулканические породы, и получились головокружительные пропасти. Будто в разрезанном торте, чередовались ржаво-красные и желто-серые слои, а на самом верху гребень был оторочен зеленой травой и древними стенами, которые грозили свалиться с обрыва. Километр за километром шли неприступные кручи, потом остров опять сплющился, потянулась каменистая равнина, берущая начало у круглых травянистых конусов и бугров в глубине острова. Но нигде зелень не доходила до бурлящего прибоя, весь остров защитным валом окружало беспорядочное нагромождение черных лавовых глыб. В одном только место степь прорывалась к самому морю, и остров точно улыбался нам приветливой улыбкой, радуя глаз видом широкого солнечного пляжа.
— Анакена. — Бургомистр благоговейно склонил голову. — Здесь жили в старину короли. Вот на этом берегу высадился основатель нашего рода Хоту Матуа.
— А теперь кто тут живет?
— Никто. Только хижина пастухов стоит.
Я окликнул капитана, он согласился, что здесь отличное место для лагеря.
И этот залив скрылся позади, снова потянулся дикий берег с обрывами и глыбами лавы, и только на самом западе мы опять увидели плавно спадающий к морю откос и на нем деревню Хангароа. Белые домики в аккуратных садах, тут и там в окружении одиноких пальм и деревьев; на пригорках поодаль виднелись купы эвкалиптовых насаждений. Длинная ограда обозначала границу деревни, весь остальной остров был овцефермой военно-морских сил.
— Вот моя родина, — горделиво произнес бургомистр. Ничего не скажешь, красиво! Мы не могли оторвать глаз от берега. Даже Аннет притихла на руках у Ивон и как завороженная смотрела на кукольную деревушку под огромным голубым небом. Внезапно повсюду замелькали люди, и все они, кто бегом, кто верхом, мчались в одном направлении — туда, куда шло наше судно.
— До чего здорово! — восхищался Тур-младший. — Совсем как в театре.
Капитан распорядился поднять флаги, и они мелькали над кораблем всеми цветами радуги и всеми символами морского кода, начиная от «чумы» и кончая «почтой»; приветственно ревела судовая сирена. В ответ на берегу кто-то поднял на одиноком флагштоке чилийский флаг. Бургомистр вытер глаза рукавом.
— Сеньор, — заговорил он, — это страна Хоту Матуа. Это моя страна. Двадцать восемь лет я здесь бургомистром. Чем был бы остров Пасхи без меня? Ничем. Остров Пасхи — это я. Я — остров Пасхи, — твердил он с чувством, ударяя себя в грудь.
Полно, уж не Гитлера ли я вижу перед собой? Нет, конечно, нет, ведь этот дурачок бесконечно добрее и безобиднее. Он доволен тем, что у него есть. Даже не помышляет о том, чтобы отнять у овец земли по ту сторону ограды.
— Сеньор, — приступ красноречия продолжался, — мы с вами единственные знаменитые люди на этом острове. Все знают меня. А кто знает губернатора? Люди приезжали даже из Германии, чтобы взять для анализа кровь из моего уха. Из Глазго и Австрии пишут и просят прислать резные работы бургомистра острова Пасхи. Мир знает меня. Так дайте же мне вашу руку, сеньор, как друг!
Мы обменялись рукопожатием, и бургомистр вежливо попросил разрешения называть меня сеньором Кон-Тики.
Новый мыс заслонил деревню, пошли отвесные кручи и разбросанные у их подножия угрюмые лавовые островки, похожие на замки с остроконечными башнями. Бурлил прибой, буйные волны лихо обрушивались на камни и откатывались назад, раскачивая наше судно. Бургомистра укачало, и он побрел к шезлонгу, но все-таки прерывающимся голосом сообщил мне, что как раз здесь развивали свою деятельность птицечеловеки. Он показал на причудливую фигурку, которую Аннет уложила в кукольную кроватку.
За мысом мы вошли в своего рода открытый залив. Правда, берег и здесь был высокий и обрывистый, но все же намного ниже. Конные и пешие двигались более коротким путем, они срезали мыс, и на зеленом косогоре над обрывом уже скопилась тьма людей и коней. В одном месте люди будто струйкой стекали вниз по стенке к штурмуемым прибоем глыбам черной лавы, где кто-то спускал на воду лодку. И вот уже за нами, подпрыгивая на волнах, идет вельбот. Капитан подошел к берегу, насколько это было возможно, и отдал якорь.
Бургомистр сразу ожил.
— На нашем языке «здравствуйте, все» будет Иа-о-рана куруа, — прошептал он мне. — Крикни эти слова, когда сойдешь на берег, нашим это понравится.
Перевоз по буйным волнам доставил немало волнующих минут избранным, которые отправились на берег. Курчавый гребень поднял нас и швырнул за огромный камень; рулевой-островитянин искусно развернул лодку и успел увести ее от очередного вала. Здесь не было ни гавани, ни мола, только творения необузданной природы. За барьером из лавовых глыб на спускающейся вниз узкой полке плотной шеренгой стояли островитяне.
— Иа-о-рана куруа! — крикнул я что было мочи, когда мы пересекли рубеж их царства.
— Иа-о-рана куруа! — прокатилось по стенке ответное приветствие, и разом все зашевелились, чтобы помочь нам сойти на берег.
Кого только тут не было; казалось, нас встречали если не все, то почти все девятьсот жителей острова. Это были полинезийцы, правда далеко не чистокровные, и одежда на них при всей ее пестроте была явно заморского происхождения. Не успел я выбраться из пляшущей лодки, как меня схватила за руку сгорбленная старуха в платке.
— Секрет, сеньор, — хрипло прошептала она. Пододвинула поближе корзину с бататом, подняла один клубень и с таинственным видом дернула угол лежавшей под ним тряпки.
Я сказал спасибо и пошел дальше. Разглядеть я ничего не успел, но вряд ли секрет был такой уж важный, коли его поверяли на глазах толпы. Из тех, кто стоял вдоль полк:? многие держали в руках деревянные фигурки и какие-то узлы, однако больше никто мне ничего не предлагал. Пропуская нас мимо себя, они бормотали: «Иа-о-рана! Иа-о-рана!»
Вдоль гребня наверху чернела шеренга ожидающих, среди которых выделялся белый человек в развевающемся одеянии. Я сразу понял, кто это: самый могущественный человек на всем острове, патер Себастиан Энглерт. Он написал книгу о Пасхи. В Чили его называли некоронованным королем острова. «Если вы с ним подружитесь, — сказали мне там, — вам будут открыты все двери, но горе тому, кого он невзлюбит».
И вот он передо мной. Широкоплечий, осанистый, в длинной белой сутане, перевязанной шпуром в поясе, обут в большие блестящие башмаки, капюшон сутаны откинут. Он стоял на фоне сказочно синего неба с обнаженной головой и пышной бородой, напоминая апостола или пророка.
Глядя на румяное лицо с пытливыми, умными глазами в окружении улыбчивых морщинок, я протянул руку патеру.
— Добро пожаловать на мой остров, — приветствовал он меня. Я отметил про себя притяжательное местоимение.
— Да, я всегда говорю мой остров, — продолжал он, широко улыбаясь, — потому что считаю его своим и не уступлю никому ни за какие миллионы.
Я ответил, что вполне понимаю его и мы готовы во всем ему подчиняться. Патер рассмеялся.
— Вы любите туземцев? — внезапно спросил он, испытующе глядя на меня.
— Люблю тем больше, чем они натуральнее, — сказал я. Патер Себастиан просиял.
— Тогда мы станем хорошими друзьями.
Я представил Гонсало, шкипера, врача и других своих спутников, после чего мы вместе прошли к джипу, который стоял между лавовых глыб и пасущихся коней. Сначала мы ехали зигзагами по ухабам, потом началась колея, она привела нас к деревне. Мы въехали внутрь ограды и вскоре остановились у стоящего особняком домика губернатора.
Вышел невысокий, плотный человек в серо-зеленом мундире, очень сердечно нас встретил и пригласил пройти в кабинет, где быстро были совершены все формальности.
Мы сидели лицом к лицу с двумя важнейшими деятелями на острове — старым мудрецом патером Себастианом и моложавым военным губернатором Арнальдо Курти. Первый прожил здесь уже двадцать лет и собирался до конца своих дней оставаться на Пасхи, второй прибыл на военном корабле, чтобы два года именем правительства управлять островом. Один олицетворял опыт, другой власть, кто же из них верховодит? Мы быстро убедились, что они составляют единое целое, повседневно сотрудничают, разрешая самые неожиданные проблемы, какие могут возникнуть только в своеобразнейшей общине на уединеннейшем из островов.
Капитан предъявил список экипажа, врач экспедиции — медицинское свидетельство, на этом официальная процедура окончилась.
— Желаю успеха в раскопках, — сказал губернатор, пожимая мне руку. Просим соблюдать лишь два запрета: вы не должны давать островитянам оружия, а также спиртных напитков. Нас это вполне устраивало.
— Да, и еще одно дело, — губернатор почесал в затылке. — Понимаете, вы человек довольно известный здесь на острове и причинили нам немало хлопот. Патер рассмеялся и погладил бороду.
— Да уж, теперь пусть ваше судно несет караул, — сказал он. Мы ничего не понимали, но за объяснением дело не стало. Когда пасхальцы узнали, что плот «Кон-Тики» благополучно пересек океан и добрался до полинезийских островов, их это очень заинтересовало. Чем они хуже своих предков, совершавших такие плавания? На безлесном острове бревен для плота не было, но несколько человек сколотили из досок лодчонку и вышли в море ловить рыбу. Течение подхватило их, и — прощай, остров Пасхи! Пять недель спустя, нечаянно повторив дрейф «Кон-Тики», голодные, изможденные путешественники пристали к одному из атоллов архипелага Туамоту, откуда перебрались на Таити. Нашлись желающие последовать их примеру. Другие островитяне смастерили лодку и собрались выйти в море, будто бы за рыбой. Но губернатор обнаружил в лодке канистры с пресной водой и заподозрил неладное. Выпускать людей в дальнее плавание на такой скорлупке было слишком опасно, и он распорядился вытащить лодку на берег. Заговорщики все равно попытались уплыть, тогда он приставил к лодке вооруженную охрану. Кончилось тем, что ночью караульный бежал вместе с остальными. Эту лодку отнесло еще дальше на запад, и мореплаватели, страшно довольные, сошли на берег Атиу, далеко за Таити. После этого охота к перемене мест приобрела характер эпидемии. Две компании смастерили себе по лодке, которые теперь лежат наготове. Вся деревня знает, что за этим кроется, и, хотя на острове живет только горстка белых, приходится выделять из них одного человека, чтобы круглые сутки стеречь лодки.
— Если бы я мог объявить островитянам, что мы все равно догоним новых беглецов на вашем судне, караул можно снять, — заключил губернатор.
Я дал свое согласие.
— Караульщики пригодятся нам в других местах, — сказал он. — Островитяне крадут до двух тысяч овец в год. У нас есть что-то вроде тюрьмы для самых отъявленных воров, да что толку, ведь заключенных приходится отпускать домой, чтобы могли поесть. Если мы будем кормить их в тюрьме, все станут преступниками, лишь бы кормили бесплатно.
— А вообще-то они люди славные, — продолжал губернатор, и патер Себастиан кивнул. — Надо только постараться понять их. Серьезных происшествий или драк не бывает. Дальше воровства дело никогда не заходило, да и то надо помнить, что островитяне дарят так же охотно, как крадут. Здесь свое отношение к собственности, они не придают ей такого значения, как мы.
Патер Себастиан обещал подобрать дельных работников для наших раскопок, определить им дневной заработок и паек. Мы узнали, что наши меновые товары куда дороже для пасхальцев, чем любое золото и деньги, ведь на острове нет ни лавок, ни кино, даже парикмахерской.
Было решено, что залив Анакена в другом конце острова лучше всего подходит для лагеря экспедиции. Причин для такого выбора было много. Это самое красивое место на всем побережье. Там единственный приличный песчаный пляж, можно на плоту свезти наше снаряжение. До деревни оттуда далеко, меньше опасность краж и всяких недоразумений, К тому же это овеянная преданиями королевская долина, где впервые пристал к острову легендарный Хоту Матуа. Что еще могли мы себе пожелать?
После великолепного угощения в домике губернатора мы вернулись на судно. Прибрежные утесы по-прежнему были усеяны островитянами, и мы разрешили всем желающим осмотреть наш корабль, чем порадовали патера Себастиана. На этот раз пасхальцы показались мне с виду более аккуратными, а главное — но такими оборванцами, как при нашей первой встреча. И я сказал об этом бургомистру, который тоже успел побывать дома и надеть целую рубаху. Он хитро улыбнулся.
— Это у нас такая уловка. Наденешь на себя старье, тебе больше платят за деревянные фигурки.
Из-за волнения на море далеко не все смогли попасть на судно, по мы обещали пригласить остальных в другой раз. Только последняя партия собралась возвращаться на берег, как прибежал капитан с книгой для посетителей.
— Пусть наши гости распишутся, — сказал он, подавая книгу самому сметливому с виду туземцу.
Пасхалец взял книгу и ручку и с озабоченным лицом пошел к товарищам; развернулось какое-то оживленное обсуждение. Наконец все тот же туземец вернулся к капитану и хмуро возвратил ему гостевую книгу — без единой подписи.
— Что, из вас никто не умеет расписываться? — спросил капитан.
— Почему, многие умеют. Но они не хотят. Гонсало, который слышал этот разговор, взял книгу и подошел с ней к пасхальцам, дескать, он чилиец и, может быть, им его будет легче понять. Но когда он начал им объяснять, в чем дело, поднялся страшный шум и дело чуть не дошло до потасовки, потому что один из туземцев порывался выбросить книгу за борт. Пришлось мне решительно вмешаться, чтобы выручить Гонсало. Взъерошенный и разгоряченный, он подошел ко мне.
— Это просто невероятно, — воскликнул он, — они отказываются расписываться, говорят, что вот так обманули их предков и увезли в рабство в Перу!
— Не может быть, они не могли сохранить этот случай в памяти, — заметил кто-то.
Но когда мы подсчитали, получилось, что жертвами налета работорговцев были деды нынешних пасхальцев, да и отцы многих 113 них уже родились на свет к тому времени.
Гостевую книгу живо убрали, и я объявил гостям, что пора прощаться, мы снимаемся с якоря. Никто не послушался. Сколько мы ни гудели сиреной и как ни старались механики, пуская машину, произвести побольше шума и грохота, ничто не помогало. Пришлось мне проводить несколько человек до трапа и заставить их спуститься в одну из двух ожидающих лодок. Только я велел привести остальных, как увидел, что первые уже гребут к берегу, ведя на буксире вторую лодку, которая почему-то вдруг наполнилась водой. Я окликнул их, сказал, чтобы взяли своих товарищей, и услышал в ответ, что они вернутся, вот только отвезут пассажиров и вычерпают воду из лодок. Мы издали, ждали, сигналили гудком, но лодки не возвращались. Нам надо было, пока не стемнело, перейти на другую стоянку, и в то же время мы не знали здешних вод и не могли на своей шлюпке высадить на берег гостей. Пришлось поднять якорь и трогаться в путь с полутора десятком новых пассажиров. Сами они ни капли не волновались, словно так и надо. Накормив ужином команду, кок накрыл стол для шестнадцати пасхальцев. Они налегли на угощение, но вскоре ринулись к фальшборту, потому что началась качка. Подойдя опять к берегу, мы отдали якорь под прикрытием той же скалы, что накануне, однако нам и здесь не удалось избавиться от непрошеных пассажиров. Стемнело, начал накрапывать дождь. Впустить этих пиратов на ночь в каюты? А потом считай пропажи… В конце концов я предложил им выбирать: либо они спят на люке на палубе, либо сами гребут к берегу на нашем алюминиевом плоту, в два захода управятся. Они выбрали второе, и мы спустили на воду плот. Но тут вдруг выяснилось, что каждый хочет плыть во второй заход. Видно, сегодня нам их но спровадить.
Веселые и сытые пасхальцы извлекли откуда-то гитару и принялись отплясывать хюлу на фордеке. Получилось здорово! Команда давно не сходила на берег и не знала никаких развлечений, и при звуках зажигательной музыки все оживились. Раз уж гости все равно остались на борту, давайте веселиться. Под аккомпанемент гитары и хлопающих ладоней зазвучала песня, а судовой фонарь создавал полную иллюзию сценического освещения.
— Те тере те вака те Хоту Матуа!..
Веселые пираты заразили своим беспечным настроением и ученых, и моряков, и вот уже все, как могут, подпевают и притопывают ногами.
Внезапно появился бургомистр. Мокрый и продрогший он сидел в маленькой лодке и с ним еще три приятеля. Поторговавшись, мы договорились, что пустим эту четверку на борт, а они за это отвезут шестнадцать пассажиров на берег. А чтобы никому не было обидно, всем разрешили еще час провести на судне. Бургомистр с радостью согласился и поднялся с друзьями на борт. Поблагодарил за то, что мы позволили первому отряду задержаться еще на час, и не мешкая спросил, нельзя ли его четверке тоже получить угощение, какое получили другие?
— Можно, — ответил я дипломатично. — Потом, как только те шестнадцать будут на берегу.
С довольным видом бургомистр пошел к музыкантам и с полминуты помогал отбивать такт. Затем сорвался с места, подбежал ко мне и заявил, что надо немедленно отправлять домой остальных, не то они в пути промокнут и озябнут.
Сколько я за них ни заступался, ни доказывал, что до конца условленного времени еще далеко, ничто не помогало. Бургомистр крикнул музыкантам, чтобы кончали играть. Тогда я изменил тактику.
— Кстати, можете поесть сейчас, если хотите, — предложил я. Он сразу забыл о музыкантах и прямиком отправился в камбуз к коку. И когда он выглянул, чтобы проверить, где остальные трое, его челюсти уже полным ходом работали.
Правда, бургомистр сдержал слово, через час лодка направилась к темному берегу. В ночи разносилась музыка и смех, банкет прошел успешно.
— Охой! Те тере те вака те Хоту Матуа…
Вот как получилось, что на следующее утро, когда мы подошли к долине королей, на столе в нашей кают-компании спал сам бургомистр Пупа Вселенной.
Глава третья. По вулканическим туннелям
В Анакенской долине было безлюдно, когда наш первый маленький отряд начал подыскивать хорошее место для палаток на прибрежной площадке. Однако вскоре на пригорке показался всадник. Он подъехал ближе, это был местный пастух. Соскочив с коня, он подошел к нам и поздоровался. Пастух жил в побеленном каменном домишке в западной части долины, на его попечении были все овцы в этой части острова. Услышав, что мы задумали поселиться в Анакенской долине, он сразу указал на небольшой каньон с просторными пещерами. Дескать, это пещеры Хоту Матуа, в них некогда жил первый король и его спутники, подлинные первооткрыватели острова. Потом они поставили себе большие камышовые хижины.
Островитянин говорил о Хоту Матуа, как англичане говорят о королеве Виктории. Он не допускал и мысли, чтобы кто-то не знал Хоту Матуа, который для пасхальцев является альфой и омегой, чем-то средним между библейским Адамом и Колумбом.
Я объяснил, что нам незачем занимать пещеры, у нас есть с собой готовые хижины из непромокаемого материала. Тогда пастух указал в противоположном направлении.
— Если у вас палатки, можете спать вон там, повыше пляжа, где стояла хижина Хоту Матуа, — сказал он и проводил нас к ровной площадке у подножия куполовидного пригорка.
Здесь всюду сохранились следы былого величия. Посреди береговой излучины и на обоих флангах лицом к морю расположились три алтаря из огромных каменных блоков. Они стояли над самым пляжем, и можно было бы принять их за укрепления, прикрывающие равнину от вторжения с моря, если бы рядом не лежали на песке огромные фигуры из серо-желтого камня, свидетельствуя, что кладка служила опорой для них.
Они лежали ничком, головой внутрь острова — значит, до свержения идолы стояли спиной к морю, лицом к открытой культовой площадке. Вдоль центрального алтаря лежало бок о бок несколько павших богатырей, а по соседству валялись венчавшие их громадные цилиндры из ржаво-красного камня. На высокую мощную кладку в восточной части залива опиралась в прошлом лишь одна статуя, зато она, хоть и уткнулась теперь носом в землю, казалась намного дороднее своих стройных родичей с соседней террасы. Подле этого великана и жил некогда сам Хоту Матуа. Пастух благоговейно показал на мощный фундамент, который еще возвышался над землей. Дальше виднелась своеобразная пятиугольная печь, там прежде находилась королевская кухня.
Уж здесь-то мы, несомненно, будем копать! И мы разметили лагерную площадку по соседству, на культовой площадке возле головы поверженного идола. Пастух внимательно следил за нами и до тех пор твердил, что тут в древности жил король, пока не уверился, что мы все полностью осознали, где находимся. Получил пачку сигарет и весьма довольный отправился по своим делам.
Скоро мы начали свозить на берег снаряжение. Сперва вместе с двумя пасхальцами обследовали залив на алюминиевом плоту. Оказалось, что середина бухты свободна от подводных камней и прибой там несильный. Первым высадили кинооператора с его аппаратурой. Потом пошли обратно к катеру, стоявшему на полпути между берегом и судном. Вдруг мы увидели, как огромный вал вскинул катер на гребне. Его команда тотчас пустила мотор и взяла курс в море, спеша уйти от нового вала, который обещал вырасти еще больше предыдущего. Мы изо всех сил налегли на весла и благополучно перевалили через первую волну, по следом, круто вздымаясь вверх, катила вторая. Плот полез прямо на отвесную водяную стену и опрокинулся. Меня крепко стукнуло по голове, и я живо нырнул, пока понтоны не наподдали мне еще сильнее. Зажмурив глаза, чтобы их не засорило взмученной водой, я плыл вглубь, сколько хватило дыхания. Когда я наконец вынырнул, уже за перевернутым плотом, море опять выглядело нормально.
Хорошо, что этот урок мы получили, прежде чем начали перевозить ценное снаряжение. Правда, столь огромные валы были редкостью, но нам приходилось остерегаться крутых волн, которые совсем некстати врывались в Анакенскую бухту. Чтобы они вам не портили дело, мы перед полосой прибоя поставили на якорь наш самый большой спасательный плот в качестве своего рода плавучего мола. Катер подвозил сюда груз с судна, затем все перегружалось на маленький плот, и, если не было видно опасных валов, он шел с накатом до самого пляжа. Так было налажено сообщение между берегом и судном. Катер вызывали с корабля гудком, с берега — флажками. Последний этап, в зоне прибоя, всегда бывал отмечен бранью, смехом и промоченными штанами. Частенько разгулявшиеся волны вынуждали кока и стюарда доставлять на берег свежий хлеб вплавь в непромокаемых резиновых мешках. Но хотя вода была холодноватая и малоприятная, зато пляж встречал нас ласковым теплом, и мы отлично себя чувствовали в солнечной долине королей. Одна за другой в Анакене выросли зеленые палатки, и вот уже возник мирный поселок на культовой площадке между поверженным богатырем и родовым поместьем Хоту Матуа. Наши пасхальские друзья, помогавшие перевозить снаряжение на берег, были поражены, когда увидели, где мы разбили лагерь. Бургомистр взволнованно вздохнул и торжественно произнес:
— Сеньор, как раз там Хоту Матуа тоже построил свой первый дом. Видите, вон — фундамент, а вон — кухня.
Опять нам долго вколачивали в голову этот факт, однако никто из пасхальцев не порицал наш выбор, и они охотно помогали ставить палатки. Прежде чем стемнело, один из них поймал несколько бродивших на воле коней, затем наши помощники попрощались и поскакали без седел в деревню.
В ту ночь я уснул поздно. Лежа, я глядел на лунный свет, просачивающийся сквозь тонкий зеленый брезент у меня над головой, и слушал, как волны бьются о берег там, где ступил на остров Хоту Матуа. Какое судно было у него, на каком он языке говорил?
Как выглядела тогда эта долина, был ли здесь лес, как на всех других островах Южных морей? Может быть, это род Хоту Матуа, заготавливая бревна и дрова, в конце концов свел весь лес и сделал остров таким, каков он сегодня: все холмы без единого дерева, так что негде укрыться от солнца? Меня несколько тревожило это полное отсутствие леса и кустарника. Вдруг в самом деле окажется, что мы зря ехали делать раскопки на остров Пасхи, ведь если он всегда был таким, как теперь, то не было растений, от гниения которых из года в год прибавляется почвенный слой. Исключая дюны на берегу и овечий помет среди камней, земля как будто та же, что во времена Хоту Матуа, такая же голая и сухая. В самом деле, если уж фундамент королевского дома видно до сего дня и он служит чуть ли не туристской достопримечательностью, то почвы здесь с воробьиный нос — и столько же надежд открыть что-нибудь новое. С берега донесся гул двух-трех особенно мощных волн, и я погладил шишку на голове. Нет, раз мы сюда добрались, не отправимся дальше, на другие острова, пока не убедимся, что здесь бесполезно копать.
Археологи первые дни занимались рекогносцировкой в разных концах острова, остальные члены экспедиции продолжали перевозить снаряжение с судна и вели подготовительные работы. На острове не было ни одного ручья, но дно кратеров трех вулканов занимали болота и окаймленные камышом окна чистой воды. Дрова и питьевую воду приходилось возить за пять километров из Ваитеа — так называлась овцеферма, расположенная на пригорке посреди острова. Здесь насажена эвкалиптовая роща, и сюда из вулкана Рано Арои подается по трубам питьевая вода. Губернатор одолжил нам здоровенную баржу кустарного производства, пасхальцы привели ее к судну, и в один тихий день мы на ней свезли на берег экспедиционный джип. Теперь у нас было на чем возить воду и дрова. На Пасхи сохранились участки древних дорог, а в наши дни заведующий овцефермой расширил дорожную сеть, отбросив тут и там в сторону камни, так что можно пересечь на джипе весь остров, длина
которого около пятнадцати километров. С помощью патера Себастиана и губернатора мы раздобыли и коней, и самодельные деревянные седла. Даже у самого бедного пасхальца есть по меньшей мере одна верховая лошадь, здесь никто не ходит пешком, потому что земля усеяна коричневым и черным вулканическим шлаком, местами так плотно, что только конскому копыту и пройти. Здешние дети, едва научившись ходить, уже осваивают верховую езду, и мы частенько видели, как по три малыша вместе скачут через камни на одном неоседланном коне — задний держится за среднего, средний за переднего, а передний цепляется за гриву.
Вдоль побережья попадалось много древних колодцев, вырытых подлинными мастерами и выложенных обтесанным камнем. Здесь первые жители острова научились пить солоноватую воду, которую находили, примечая, где в море вливаются ключи. Теперь в этих местах стоят ветряные мельницы и качают воду для овец; мы поили тут лошадей и брали воду для стирки.
Наш боцман, он же искусный плотник, сколотил полки и столы для большой палатки-столовой. Стены из проволочной сетки защищали нас от давно завезенных на остров мух, позволяя спокойно работать и есть.
— Придется все-таки опустить брезент с наветренной стороны, — сказала Ивон. — А то сквозь сетку пыль пробивается.
— Пыль? Здесь на острове?
— Да, посмотри, — она провела по полке указательным пальцем, остался ясный след.
Я с восторгом смотрел на этот след. За несколько сот лет получился бы изрядный слой, не скоро сотрешь! Кажется, все-таки есть смысл вести раскопки на острове Пасхи! Может быть, именно отсутствие леса помогает ветру точить скалы и, будто снегом, осыпать мелкой сухой пудрой равнину. Большую часть, конечно, уносит в море, но и в траве, надо думать, что-нибудь застревает.
Вернувшись из разведки, археологи сообщили немало интересного. Они видели древнюю каменную кладку и решили ее исследовать, так как было похоже, что на острове до прибытия европейцев сменились две культуры. А чтобы получше ознакомиться с местными условиями, мы решили, что археологи, прежде чем браться за большие задачи, проведут раскопки вблизи лагеря в Анакене.
Выбор пал на пятиугольную печь Хоту Матуа и напоминающий лодку фундамент рядом с ней.
Для такой работы используют не кирку и не заступ, а особую маленькую лопатку, которой очень осторожно скребут землю, углубляясь миллиметр за миллиметром, чтобы не повредить находки. Снятую лопаточкой землю просеивают сквозь тонкое проволочное сито, в нем остается все, что может представить интерес. Мы тщательно измеряли глубину раскопа, ведь чем глубже зарываешься, тем древнее то, что находишь.
Под самым дерном лежал осколок старинной каменной чаши вместе с наконечниками для копий и другими острыми орудиями из черного обсидиана. Дальше археологам стали попадаться обломки рыболовных крючков, как из человеческой кости, так и из великолепно отполированного камня. Углубившись сантиметров на тридцать в землю рядом с печью Хоту Матуа, они наткнулись на какие-то камни, расчистили их и увидели пятиугольную печь такого же точно вида, как лежащая наверху. Но если верхнюю печь сложил родоначальник пасхальцев Хоту Матуа, то кто же до него готовил себе пищу таким же способом? Островитяне недоумевали, они, как и все приезжавшие на остров, приписывали первую печь и фундамент Хоту Матуа, ведь он точно жил тут. Продолжая скрести землю, мы находили все новые обломки рыболовных крючков, ракушки, осколки костей, древесный уголь и человеческие зубы. Уже и вторая печь осталась далеко наверху, мы решили, что добрались до древних слоев. И тут Биллу попалась чудесная голубая бусина венецианского стекла. Он ее опознал — такими бусинами расплачивались европейцы при меновой торговле с индейцами двести лет назад. Выходит, мы находимся еще в эпохе первых европейских посещений! Бусина могла попасть на остров самое раннее в пору открытия его Роггевеном; то есть, мы дошли пока лишь до 1722 года. Обратившись к судовому журналу Роггевена, мы прочли, что первый островитянин, поднявшийся на борт его корабля, был вознагражден двумя нитками голубых бус, зеркальцем и ножницами. Вполне естественно допустить, что несколько бусин могли очутиться в обители короля в Анакене. Копая дальше, мы вскоре наткнулись на сплошную гальку без каких-либо следов деятельности человека.
Во всяком случае теперь было ясно, что есть прямой смысл вести раскопки на безлесном острове Пасхи. Можно приниматься за дело всерьез. Только надо было нанять островитян, потому что для некоторых намеченных нами объектов требовалось больше людей, чем мы могли выделить из состава экспедиции.
В эти первые дни мы почти не видели островитян. Опасаясь краж и недоразумений, патер Себастиан упросил нас объявить лагерь табу для всех пасхальцев, у кого не было особых поручений. Помешать нашим ребятам знакомиться с веселыми вахинами было невозможно, патер отлично это понимал, и он предложил: если ребята захотят повеселиться, пусть едут сами в Хангароа, не то очень скоро вся деревня переберется к нам. Мы согласились и натянули веревку вокруг лагеря, она как бы обозначала границу запретной области. Эффект был в общем и целом поразительный. Правда, не считая горстки пастухов, мало кому дозволялось бродить в этой части острова. Ведь стоило пасхальцам выйти за деревенскую ограду, как они непременно пользовались случаем стащить овечку-другую. Однако на таком маленьком островке трудно ограничить свободу передвижения.
В одну из первых ночей возле лагеря пропали две канистры, а кто-то срезал и унес отличную веревку, которой мы обнесли лагерь. Патер Себастиан считал, что ее присвоили для оснастки одной из лодок, подготовленной для побега в океан. После этого губернатор прислал Касимиро и Николаса, чтобы они дежурили вокруг лагеря. Это были деревенские полицейские. Насколько Николас был толст и дороден, настолько же старик Касимиро был тощ и высок и к тому же удивительно похож на сутулое чучело с кривыми коленями, излюбленный предмет резчиков острова Пасхи. Не будь эта фигурка известна еще во времена капитана Кука, можно было бы заподозрить Касимиро в том, что он для нее позировал. На боку у него висел в громадной кожаной кобуре старинный револьвер, и стоило Касимиро увидеть кого-нибудь из своих соплеменников независимо от пола и возраста, как он принимался кричать и размахивать револьвером, пока виновный не исчезал за пригорком в облаке пыли. А сутулый старик, пошатываясь, шел в запретную зону и садился в тени палаток.
Мы полюбили старого Касимиро. Правда, он казался придурковатым, но зато был на редкость кроткий и добрый человек. О Николасе тоже ничего худого не скажешь, но к нему почему-то не было такого сочувствия. Делясь с ними обедом, мы самое вкусное всегда отдавали худущему Касимиро, ему в жизни не приходилось так сеть, и карманы его были набиты драгоценными сигаретами. Старик чувствовал себя как на седьмом небе, и лень все чаще его одолевала. Знай себе лежит, потягивается у палатки со своим чудовищным револьвером. Настал день, когда он решил как-то отблагодарить нас за угощение. Пробравшись в мою палатку, Касимиро вполголоса сообщил, что на острове птицечеловеков есть пещера с «важными предметами». Еще мальцом он побывал там вместе с отцом и еще несколькими мальчишками; отец попросил ребят обождать, а сам ушел за скалу и забрался там в тайную пещеру. Касимиро не видел входа, он был закрыт камнями, но, если я отвезу его туда на нашей лодке, так, чтобы никто в деревне об этом не знал, он покажет, где стоял в тот раз. И если я найду пещеру, мы поделим сокровища. Глаза старика светились…
Я не принял всерьез его слова. Такие же предложения слышали и участники экспедиции Раутледж, и патер Себастиан. Стоило завоевать доверие пасхальцев, и непременно среди них оказывался охотник показать место, где находилась тайная пещера, надежно скрытое хранилище старых деревянных дощечек с письменами — ронго-ронго, как называют их островитяне. В музеях мира собрано всего два десятка таких дощечек, поэтому им нет цены, и пасхальцы отлично это знают. Но всякий раз, когда доходило до того, чтобы посетить пещеру с ронго-ронго, поход выливался в бесплодные поиски, найти потайной вход было невозможно. Туземцы объясняли это — тем, что пещеру завалил оползень пли обвал.
И вот наше первое воскресенье на острове.
Патер Себастиан намекнул, что рад будет видеть нас в церкви, если мы захотим послушать пение пасхальцев. Поэтому я собрал всех членов экспедиции, как научных работников, так и моряков, и объяснил, что в Полинезии церковь играет особую роль. Это не только столп, на котором зиждется мировоззрение островитян, получающих здесь некий заменитель своей древней веры в Тики и Маке-Маке. Церковь — общественный центр, единственное место, где туземцы собираются вместе, надев свои лучшие наряды, ведь на уединенных островах Полинезии нет ни клуба, ни кино, ни рыночной площади. И если в воскресенье вы не придете к ним, потом можете вообще не приходить, островитяне привыкли фанатично относиться к своей церкви и отказ прийти воспринимают как демонстрацию, враждебный выпад. На одних островах жители протестанты, на других — католики, мормоны или адвентисты в зависимости от того, какой миссионер первым туда попал и выстроил церковь. Неискушенный гость может нечаянно задеть чувства туземцев.
— Я атеист и никогда не хожу в церковь, — сказал Карл, — но если это, по-твоему, нужно, я охотно пойду с вами.
И мы всем гуртом — атеисты, протестанты, католики — двинулись кто верхом, кто на джипе через холмы к деревенской церквушке патера Себастиана.
Перед ней собралось уже все население — белые рубашки, пестрые платья, все постирано, выглажено ради воскресного дня, Вместе с благоговейно настроенными мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми, старцами и новорожденными, даже еще не родившимися малютками мы вошли в необычную, без башни, церковь. Солнечная деревня опустела, зато церковь была битком набита, сидящие с краю еле-еле умещались на скамейках. Впрочем, и сюда тоже проникло солнце. Его лучи пучками пробивались сквозь щели под потолком, освещая веселые краски и веселые лица, да и пичуги проникали внутрь и с беззаботным щебетанием порхали между балками. Патер Себастиан надел поверх белой сутаны широкую весенне-зеленую мантию. Кряжистый, добродушный, с пышной бородой, он напоминал доброго дедушку. Царила приподнятая атмосфера, как в опере. Главным было пение. Псалмы исполнялись на полинезийском языке, большинство — на мелодии старинных местных песен. Все до единого пели, кроме нас. Мы слушали и не могли наслушаться: так ладно и так звонко умеют петь только туземцы Юдиных морей.
Богослужение патера Себастиана отличалось простотой, проповедь была мудрой и ясной. Наши друзья — «пираты» и их веселые вахины слушали его так же увлеченно, как дети смотрят ковбойский фильм. Патер обратился с приветственным словом к нам, чужестранцам, и пожелал успеха экспедиции, а всех островитян призвал всячески помогать нам, дескать, мы, хотя и придерживаемся иной веры, все равно христиане и у нас общие идеалы.
С этого дня мы стали как-то ближе пасхальцам; раз патер Себастиан нас одобрил, значит, мы люди достойные.
После богослужения членов экспедиции ожидал чудесный обед у губернатора. Помимо хозяев и патера Себастиана мы здесь встретили почти всех белых поселенцев: двух монахинь, работающих в лепрозории к северу от деревни, чилийца — капитана авиации, который искал место, где можно построить аэродром для трансокеанской авиалинии, и двух помощников губернатора. Не хватало только деревенского врача и учителя. Этих двоих мы еще ни разу не видели, даже в церкви, и я заметил, что губернатор, жаловавшийся на порок сердца, обратился за помощью к нашему доктору.
Вечером, когда мы направлялись домой, нас остановил на дороге коренастый мужчина с чернущими глазами и жесткими черными волосами. Это и был деревенский врач. Он пригласил нас всех посмотреть хюлу; понятно, никто не стал отказываться. Пляски происходили в домике сестры бургомистра, причем там набилось столько народу, что кому-то пришлось вылезть в окна, чтобы мы смогли войти в дверь. Я с ужасом увидел, что по кругу ходит огромный кувшин с жидкостью цвета виски, которую наливали в стаканы, но это была всего-навсего агуа пуро, «чистая вода», собранная с крыши. Тем не менее в комнате было очень весело, звучали шутки на четырех языках и громкий хохот, когда вахины приглашали на танец смущенных моряков и неуклюжих ученых и те корчились, как уж на сковородке. От шума и возни, наверно, рухнули бы стены, если бы снаружи их не подпирало еще больше людей, жаждавших хоть одним глазком заглянуть в окна. Четверо гитаристов играли и пели. В разгар веселья деревенский врач протиснулся ко мне, ему не терпелось обсудить со мной важные политические проблемы.
— Моя цель — открыть этим людям окно в мир, — сказал он. «В самом деле, не худо бы, — додумал я, — скоро тут совсем нечем будет дышать». Но врач подразумевал другое, и мне пришлось выйти с ним наружу, чтобы выслушать его излияния.
Оказалось, что он и учитель стоят в оппозиции к остальным белым на острове.
— У нас в жилах течет индейская кровь. — Он показал на свои сверкающие черные глаза. — Мы хотим, чтобы островитяне покинули этот остров и познакомились с жизнью на материке.
«А патер Себастиан этого не хочет», — подумал я. Он боится, что они, получив неограниченный доступ к спиртному, живо сопьются. Боится, что их там будут нещадно эксплуатировать а они пропадут.
— Мы хотим поднять их жизненный уровень до современных требований, — продолжал деревенский врач. — Хотим, чтобы все босые обулись.
«А патер Себастиан считает это неразумным», — думал я. Я сам однажды слышал, как он говорил, что местные жители, не знающие ботинок, лучше кого-либо перемещаются по здешнему каменистому грунту, которого никакая обувь не выдерживает. Кое-кто пробовал ходить в ботинках, так у них кожа на ступне быстро становилась нежной, и, разбив обувь, они потом резали себе ноги в кровь.
«Похоже, у каждого из этих вопросов есть две стороны», — заключил я. Причем мнение патера Себастиана основано на опыте целой жизни, а этот молодой врач прибыл на остров с последним кораблем.
— Будете уходить, дайте музыкантам тысячу песо, а еще лучше пятнадцать долларов в твердой валюте, — сказал врач и добавил: — Они этого ждут.
— Но ведь вся компания угощается нашим шоколадом, и курит наши сигареты, и веселится вместе с нами, — возразил я.
— Разве вы в Европе не платите оркестру, когда приходите на танцы? Если вы ничего не дадите музыкантам только потому, что они местные, в другой раз вас никто не пригласит.
Я потихоньку собрал своих ребят, мы поблагодарили всех и отправились к себе в лагерь. Мы ничего не заплатили, но в приглашениях на хюлу в деревню Хангароа не было недостатка, пока мы находились на острове.
Мы набрали изрядное количество местных рабочих. Одни ночевали в деревне и приезжали каждое утро верхом, другие перебрались в пещеры по соседству с раскопками. Чтобы высвободить побольше наших собственных людей, мы наняли также четырех женщин, которые помогали в лагере с уборкой и стиркой. Одна из них, Эрория, была чудесным человеком и неутомимой труженицей. На первый взгляд она могла показаться мрачной и суровой, но стоило ей улыбнуться, и грозовая туча исчезала, грубоватое лицо Эрории сияло ярче солнца. Вот уже много лет она работала домоправительницей патера Себастиана и показала исключительную добросовестность, за что ей теперь и был поручен присмотр за лагерем. Как ни удивительно, Эрория и ее престарелая золовка седая Мариана слыли на острове самыми рьяными охотниками за пещерами. Вооруженные стеариновой свечкой и железным крюком вместо лопатки, они неутомимо разыскивали древние жилые пещеры, в полу которых откапывали каменные топоры и костяные орудия своих предков для коллекции патера Себастиана.
— Только в пещерах и можно что-нибудь найти, — сказал патер Себастиан. — Возьмите с собой Эрорию и Мариану, пусть они покажут вам все старые пещеры, которые нашли.
Дождавшись, когда мои товарищи развернули раскопки, мы оседлали четырех коней, на которых Эрория, Мариана, наш фотограф и я отправились исследовать пещеры. В первый день мы с раннего утра до позднего вечера ходили из одного подземелья в другое. В некоторые из них, совсем открытые, попасть было просто, нагнул голову — и входи. У других вход был тщательно заложен камнями, оставалось только небольшое квадратное отверстие, хочешь войти — опускайся на четвереньки. Но большинство пещер представляли собой настоящие мышеловки, даже на четвереньках не проникнешь. Просовывай в щель прямые ноги, а затем, вытянув руки над головой и извиваясь по-змеиному, протискивайся через длинный и чудовищно тесный ход. Эти ходы были искусно выложены камнем, нередко — тщательно обтесанными плитами. Они пронизывали склон по горизонтали или наклонно, но были и такие, что шли вертикально вниз, словно дымоход, — знай, притормаживай бедрами и плечами, пока сквозь потолок не попал в темную, хоть глаз выколи, полость. Чаще всего эти пещеры были такие низкие, что в них можно было стоять лишь пригнувшись, а то и вовсе только сидеть на корточках. В таких подземельях обитали в прошлом пасхальцы, во всяком случае в тревожные, смутные годы, когда не могли чувствовать себя в безопасности в камышовых хижинах на воле. Здесь они скрывались от европейцев. Обычно эти подземные убежища были размером со среднюю ванную комнату, и там царила такая темнота, что собственной руки не видно. Пол — холодная земля, толстый слой жирной почвы, удобренной многочисленными отбросами и плотной, как покрышка, потому что тысячи рук и ног ее утрамбовали. Потолок и стены — голая скала, кое-где выровненная искусной кладкой.
В одном мосте мы попали в нечто вроде огромного колодца с каменной облицовкой. Через узкую дыру на дне можно было проникнуть в три пещеры, лежащие уступом друг над другом. Эрория показывала их нам с особым благоговением, здесь жил ее дед, это была, так сказать, ее «родовая усадьба». Мариана и Эрория основательно изрыли пол пещеры своим железным крюком. В разрыхленной почве мне попался отпиленный кусок человеческой кости с отверстием в одном конце, чтобы можно было повесить на шею как амулет.
Ближе к побережью Мариана показала нам заросший травой фундамент старой камышовой хижины, остатки которых встречались нам очень часто. Здесь родился ее свекор, отец Эрории, и здесь он жил до тех пор, пока все обитатели острова не переселились в деревню Хангароа, где их крестили.
«Выходит, пасхальцев крестили совсем недавно», — подумал я, глядя на одетых в брюки женщин, по виду и поведению которых могло показаться, что остров цивилизован со времен Ноя.
Фундамент очертаниями напоминал планшир большого вельбота. Заостренный с концов, он был сложен из умело обтесанных и даже красиво округленных плит с глубокими отверстиями в верхней плоскости. В отверстия вставляли прутья, они служили остовом, на котором укрепляли камыш. Если все эти хижины были обитаемы в одно время, население Пасхи достигало изрядной цифры. Мариана и Эрория нашли очень много жилых пещер. В большинстве из них они уже покопались железным крюком, но некоторые еще оставались «запертыми», иначе говоря, никто не бывал внутри с тех самых пор, как последние обитатели покинули подземелье и завалили вход обломками. Однажды, отодвинув глыбу в сторону, я увидел притаившуюся компанию из четырнадцати скорпионов. В другой раз проход под камнем оказался настолько тесным, что мне пришлось опорожнить все карманы и снять рубашку, да и то удалось протиснуться далеко не с первой попытки. В мрачном тайнике мой фонарик осветил белые человеческие кости. Осторожно приподняв череп, я увидел под ним поблескивающий черный обсидиановый наконечник для копья и осиное гнездо. На мое счастье, гнездо было пустым, не то досталось бы мне на орехи, пока я выбирался из тесной ловушки.
Возвращаясь вечером домой, мы пересекли западнее лагеря каменистую возвышенность. Вся земля здесь была усеяна обломками лавы, местами они образовали осыпи. Мы спешились у одной такой осыпи, которая ничем не отличалась от тысяч других. От своего сына Мариана слышала, что он видел здесь вход в пещеру «другого рода». Я не представлял себе, как она сумела отыскать нужную осыпь в этом царстве камня, тем более по одному только устному описанию. Правда, Мариана, быть может, заблудилась бы в лабиринте городских улиц.
К этому времени мы с оператором считали, что эти внучки пещерных жителей уже сделали нас мастерами по преодолению узких шахт. Следуя их советам, мы всегда протискивались в ход ногами вперед, вытянув руки над головой, а также, если ход не был вертикальным, спиной вниз и носом вверх. Однако на этот раз старушка Мариана сперва легла на живот и посветила в квадратное отверстие, которым начиналась отвесная шахта, после чего попросила меня протискиваться вниз, глядя в строго определенном направлении. Подчиняясь силе тяжести, я медленно спускался, притормаживая бедрами и плечами, потому что руки пришлось держать навытяжку над головой. Шахта оканчивалась тупиком, и я стал на дно все в том же положении. В самом низу в одной стенке оказалось небольшое квадратное отверстие, туда надо было просунуть ноги. Сжатый плитами облицовки, я сперва медленно сел, не сгибая колен, затем начал следом втискивать корпус и в конце концов оказался лежащим горизонтально на спине в узкой трубе. Ах, где ты, квартира со всеми удобствами и лифтом! До чего же скверно быть замурованным в подземелье: нос чуть не уткнулся в камень, руки неловко зажаты над головой, и не подтянуть их, отчего чувствуешь себя особенно беспомощным в каменной норе. Кажется, сплошные стены все сильнее сжимают голову, крича: «Руки вверх! Сдавайся!» Лучше не слушать этот крик и не пытаться выдернуть руки, все равно ничего не выйдет, лучше вообще ни о чем не думать, а ползти дальше, подтягиваясь пятками и отталкиваясь лопатками, пока не почувствуешь, что можно согнуть ноги в коленях и поболтать ими в пустоте. Или что дальше хода нет и ступни уперлись в камень. В последнем случае догадываешься, что труба опять изгибается под прямым углом, надо, по-прежнему с вытянутыми над головой руками, повернуться на живот и нащупать ногами дальнейший путь, новый тесный вертикальный ход, заканчивающийся последним коварным изломом, который держит тебя в крепких тисках, пока ты, напрягая все силы, не извернулся, ввинчиваясь в следующее горизонтальное колено. Внезапно стенки расступаются — значит, ты наконец продавился в пещеру, можно подтянуть руки, освободиться из плена, смахнуть песок с лица и вообще двигаться без помех, правда, оберегая голову от удара о свод, пока не зажжен фонарь.
Только на второй или третий раз я приспособился при спуске удерживать в руках карманный фонарик. Это позволяло мне рассмотреть пройденные участки тесной шахты. И везде стенки были превосходно облицованы гладкими плитами без какого-либо связующего раствора. Каждая шахта представляла собой в сечении правильный квадрат не шире обычного дымохода. В некоторых плитах я увидел симметричные отверстия — они были взяты из фундаментов старых хижин. Выходит, те, кто выкладывал эти ходы, разломали уютное, светлое жилище, чтобы соорудить себе взамен отвратительную нору.
Но когда я в первый раз, будто змея, ввинчивался в томные подземелья острова Пасхи, у меня не было с собой даже спичек, а скользкий пол сулил неприятные сюрпризы, поэтому я предпочел стоять, как слепой, на месте и ждать во мраке. Напрягая слух, я услышал, что по шахте спускается вниз следующий. И вот уже Мариана рядом со мной и зажигает свой верный огарок. Да много ли толку от него. В недрах горы царил такой густой мрак, что я разглядел лишь искрящиеся глаза Марианы в окружении глухих морщин да шапку седых волос. Словно гротескное лицо в ночи за окном. Она и мне вручила огарок и зажгла его от своего. Держа свечи в вытянутой руке, мы различили в стене бугры и выступы. На полу лежали черные наконечники от копий. Тут и Эрория появилась, она долго пыхтела и шумела, но все же одолела шахту. Женщины рассказали мне, что это не обычное жилье, а убежище на случай войны — сюда не мог проникнуть враг. Н-да, судя по толщине утрамбованного слоя мусора на дне пещеры, войн было много и длились они подолгу. Я не мог понять, как люди отваживались заползать в такие крысоловки во время войны, ведь противнику достаточно было набросать камней в шахту, чтобы заточить их навеки. Может быть, тайна их спасала? Лишь бы никто не проведал об убежище, а там — накрыл вход камнем, и не так-то просто будет найти беглецов.
В одной стене было отверстие, и я пролез в него, сопровождаемый Марианой и Эрорией. Мы очутились в другой, более просторной пещере, а протиснувшись сквозь ход в ее задней стене, попали в подземную полость, где свод был так высоко над нами, что мы не видели его при свечах. Путешествие в недрах горы продолжалось. Местами было широко и просторно, как в железнодорожном туннеле, потом приходилось ползти на четвереньках по камню и глине или даже извиваться на животе, пока свод не поднимался, образуя новые обширные залы. Оборачиваясь, чтобы проверить, поспевают ли мои спутницы, я каждый раз видел лицо Марианы. Она шла за мной по пятам, боясь хоть на шаг отпустить от себя. Мариана учила меня остерегаться расшатавшихся камней в своде, ям и трещин в полу. В одну из полостей откуда-то просачивалась вода, и путь нам пересек ручей. Мы последовали за ним в боковой ход. Здесь люди вырубили в камне желоб, он вел к искусственным водоемам не больше таза. Я ополоснул руки в нижней яме, а в верхней набрал ладонями воды и напился. Холодная, прозрачная, вкусная — в сравнении с водопроводной водой будто изысканное вино. Что ж, пожалуй, эти пещерные жители разбирались в прелестях хорошей воды лучше нас, привыкших к третьесортной влаге из железной трубы.
В толще горы пещера многократно разветвлялась, и самые дальние ходы представляли собой тесные катакомбы с ровным полом и гладким, без малейших неровностей, сводом. Так и чудилось, что тут приложил руку человек, на самом же деле это оставили свой след огромные пузыри вулканического газа, которые пробивались сквозь огненное месиво в ту далекую пору, когда остров Пасхи представлял собой сплошную расплавленную лаву. Местами туннели сужались так, что облекали тело, словно сшитый в обтяжку костюм, тогда мы подолгу ползли на животе. Одни из них приводили к небольшим пустотам в виде колокола, другие были закупорены камнями, третьи сами сжимались, не пуская нас дальше.
Мы посетили немало обширных подземелий, которые, словно бусины на шнуре, были нанизаны на уходящие в недра каналы. В каждом случае выход на поверхность был искусно выложен камнями так, что внутрь можно было попасть только через узкие, в одно или несколько колен, ходы — никакому противнику не пробраться. Во многие из самых больших пещер просачивалась вода, и дважды мы видели запруды, а в самой глубине третьей пещеры нашли облицованный колодец с ледяной водой, и пол вокруг него был вымощен камнем, да еще на три метра возвышалась каменная терраса.
В этих вместительных убежищах могло укрыться все население острова Пасхи, однако, судя по всему, каждый ход принадлежал одному роду или родовой группе в ту пору, когда из-за кровавых усобиц островитяне чувствовали себя в камышовых хижинах ненадежно. Бродя по этим темным помещениям, я думал о том, как неразумно устроились обитатели этого солнечного островка, уйдя под землю, вместо того чтобы жить на поверхности в мире со своими соседями. Но тут мне вспомнился наш собственный мир — ведь и мы в двадцатом столетии тоже со страху роем себе убежища глубоко под землей, с тех пор как затеяли возню с атомной бомбой. И я простил непросвещенных предков Эрории и Марианы.
Сытый по горло глухими подземными закоулками, где видения прошлого смыкались с картинами будущего, я полез через извилистый проход вверх и почувствовал невыразимое облегчение, очутившись на воле, в солнечном настоящем, где паслись овцы да кони стояли, слушая голос прибоя.
Восемьдесят минут ушло у нас на то, чтобы пройти и проползти по всем ходам первой большой пещеры, и, только выйдя наверх, мы вновь увидели нашего оператора. Выяснилось, что он натерпелся страху. На полпути вниз его одолел в шахте приступ клаустрофобии, и он предпочел выбраться обратно, чтобы ждать нас наверху. На предыдущие пещеры мы тратили по нескольку минут, ведь речь шла пока лишь об осмотре, а не раскопках. И когда прошло четверть часа, оператор встревожился, сунул голову в ход и позвал нас. Не получив ответа, он не на шутку испугался. Долго он звал и аукал, так что гул стоял в туннеле, но его услышал только старик Касимиро, который примчался откуда-то со своим револьвером и вместе с оператором простоял у входа, пока мы не вылезли наружу.
Последней выбралась Мариана. Она подошла к камню и взяла с него свою соломенную шляпу с широченными полями. Мариана советовала нам всегда брать с собой шляпу или что-нибудь еще, чтобы оставить около пещеры, если мы в одиночку отправимся в подземелья. Она рассказала нам про чилийских моряков, которые в поисках клада забрались с местным проводником в пещеру. У них погас фонарик, и, прежде чем они успели вернуться к шахте, кончились спички. В темноте они заблудились и не могли найти выход. Их спасло то, что они оставили на земле у входа свои бескозырки и куртки. Проходивший мимо островитянин увидел вещи и понял, что под землей кто-то есть.
Наши археологи раскопали пол в нескольких пещерах, где по буграм было видно, что жители оставляли отбросы. Они нашли множество рыбьих костей и раковин, попадались куриные кости, реже — черепашьи. Даже крысиное и человеческое мясо входило в стол; его жарили в земляной печи на раскаленных камнях. В этих пещерах жили каннибалы. Их двуногие враги были единственной дичью на всем острове, не считая маленькой местной крысы. Сидя в темноте у своих нехитрых каменных светильников, пещерные жители роняли в мусор на полу тонкие швейные иглы из человеческой кости, и этих игл со временем накопилось изрядное количество. Кроме того, мы нашли простейшие орудия из камня, кости и обсидиана, а также амулеты из кости и ракушек. Больше ничего. Мы недоумевали. Неужели руками этих запуганных, примитивных людоедов созданы преобразившие самый облик острова классические скульптуры гордых властелинов? Могло ли отсталое во всем племя дать столь гениальных строителей и выдающихся художников, какими были авторы этих исполинских памятников? И как можно было организовать переноску монолитов, если население не было собрано в деревне, а ютилось в обособленных камышовых хижинах или даже в разбросанных по острову тесных каменных норах?
Я влез в узкий ход, ведущий в пещеру, где Билл при свете керосинового фонаря осторожно рылся лопаткой в земле. Подле него лежал мешочек с обугленными человеческими костями.
— Все те же следы примитивной культуры, — сказал он, доставая из земли два коренных зуба. — Посмотри, эти выродки пожирали здесь друг друга и выплевывали зубы на пол.
На острове Пасхи человеческое мясо ели не только в связи с ритуалами. Пасхальцы до сих пор рассказывают предания о воинах, которые предпочитали человечину рыбе и цыплятам. И есть легенды, упорно говорящие о предшествовавшем тем временам периоде величия, когда бок о бок с предками нынешних островитян короткоухими мирно жило племя длинноухих. Но длинноухие слишком нещадно заставляли короткоухих работать на себя, и дело кончилось войной, почти все длинноухие были сожжены во рву. С того дня кончилось ваяние статуй, из уже воздвигнутых многие свалили. Гражданская война, родовые усобицы и каннибализм не прекращались до той поры, когда на острове появился патер Эухенио и собрал пасхальцев в деревне Хангароа — тогда родители нынешних островитян сами еще были детьми.
Патер Себастиан был убежден, что на остров Пасхи прибыли два народа с различной культурой. И островитяне твердо стояли на этой версии. В своей книге патер указывает также, что пасхальцы во многом отличаются от обычных жителей Тихого океана, в частности здесь наблюдаются явные следы какой-то белой расы. Не только Роггевен и другие ранние мореплаватели заметили это. Патер Себастиан указывает, что, по преданиям самих островитян, среди их дальних предков многие обладали белой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами. И когда патер Эухенио первым из европейцев поселился на острове, его поразило, как много людей с белой кожей среди островитян, которых он собрал в деревне Хангароа. Еще пятьдесят лет назад, когда прибыла экспедиция Раутледж, жители делили своих предков на две группы по цвету кожи, и они рассказали англичанам, что последний король на острове тоже был совсем белый. Светлокожие пользовались здесь особым почетом и уважением; как и на некоторых других островах Южных морей, были звания, которые можно было получить, только пройдя особый ритуал «отбеливания», чтобы возможно больше походить на своих обожествленных предшественников.
Настал день, когда патер Себастиан пришел в лагерь, чтобы проводить четверых из нас в Ана о Кеке, священное убежище, где некогда «отбеливали» неру. Так называли избранных юных дев, которых в старину заточали в глубокое подземелье, чтобы они там стали возможно белее — это требовалось для определенных религиозных праздников. Девушки неделями не видели дневного света и других людей. Особо выделенные женщины приносили им еду и клали у входа в пещеру. Пасхальцы до сих пор помнят, что, когда возвращенные на остров рабы принесли с собой оспу, эпидемия не коснулась дев неру, но они умерли от голода в подземелье, так как некому было носить им еду.
Вход в девичью пещеру Ана о Кеке находится в крайней восточной части острова, а название означает «Пещера солнечного склонения». По пути к ней мы миновали самый восточный вулкан острова — Катики, за ним возвышаются три вершины, на которых испанцы некогда поставили свои кресты. Здесь тоже была жилая пещера, а рядом с ней в скале вырублена устрашающая сатанинская голова с такой огромной пастью, что я забрался в нее и весь спрятался за нижней губой от стекающей сверху дождевой воды. Но патер Себастиан повел нас дальше, на самый край обрыва, который спадает в море по всей кромке возвышенного полуострова. Наш проводник так беспечно зашагал вдоль пропасти, что мы дружно стали кричать, чтобы он отошел от края.
Сильнейший восточный ветер гремел в скалах и рвал одежду, и мы с трудом удерживались на ногах, а патер Себастиан в развевающейся белой сутане и черных башмаках знай себе шагал над самым обрывом, выискивая нужное место. Вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он торжествующе взмахнул руками: есть, нашел! Отломил кусок бурой породы — дескать, смотрите, какая рыхлая, тут надо быть начеку, потом решительно занес логу над обрывом, ветер с шумом рванул сутану и капюшон, мы вскрикнули, и патер Себастиан исчез. Карл настолько опешил, что где стоял, там и сел, придерживая шляпу. Я осторожно подошел к краю и глянул вниз. Отвесная стопка и далеко внизу — полоска берега, медленно набегающий пенистый прибой и уходящий в бесконечность океан, весь в белых барашках. Стоял сплошной гул от ветра и волн. А на узкой полке слева я увидел белую сутану патера Себастиана. Ветер яростно трепал ее, но патер, плотно прижимаясь к скале, упорно продвигался наискось вниз.
До чего сильно дуло в этот день! Море кипело, и отраженный скалами ветер обрушивал на нас мощные порывы с самых неожиданных сторон. Я поймал себя на том, что беспредельно восхищаюсь старым священником, который не знал колебаний, он так сжился со своей верой, что страх ему был неведом. Казалось, он и по воде пройдет и не утонет. Вот он обернулся и, улыбаясь мне, сделал жест рукой вниз, потом указал себе на рот — дескать, надо захватить наши съестные припасы, мы перекусим там, внизу. От сильных порывов ветра меня так качало, что я предпочел, отступив от края, сперва снять рубаху и только потом взял свертки и отважился последовать за патером. Впрочем, подобравшись к полке, я уже не увидел ни его самого, ни хотя бы краешка белой сутаны, лишь бушующий прибой в двухстах метрах подо мной. Я никогда не был сильным скалолазом, а потому чувствовал себя далеко не уверенно, когда осторожно спустился на полку и, боясь дохнуть, двинулся следом за патером, крепко прижимаясь животом к скале. Шаг за шагом, шаг за шагом, каждый раз проверяя ногой прочность опоры. Но больше всего меня злил ветер. На моем пути вырос выступ, к тому же полку здесь отделяла от скалы трещина. Выветрившаяся порода больше напоминала землю, чем камень. Что ж, если она выдержала патера Себастиана, должна и меня выдержать… Я топнул ногой — не очень сильно.
Заглянув за выступ, я снова увидел патера. Он лежал в пещере, высунув наружу голову и плечи, причем вход был куда меньше входа в собачью конуру. Таким я и буду его помнить всегда — этакий пасхальский Диоген в бочке, очки с тонкой дужкой, широкие белые рукава и пышная борода. При виде меня он взмахнул руками и воскликнул:
— Добро пожаловать в мою пещеру!
Из-за шума я еле разобрал его слова. Затем он подался назад, освобождая место. Перебравшись на карниз у входа, от которого вниз до самого моря тянулась отвесная стена, я тоже протиснулся внутрь. И сразу все пропало — гул прибоя, свист ветра. Вначале была страшная теснота, но скоро свод ушел вверх, и в чреве горы я почувствовал себя надежно, спокойно. Снаружи проникала полоска света, и мы могли различить друг друга, а включив фонарик, я увидел, что неровные стены испещрены мудреными знаками и фигурами.
Так вот она, девичья пещера. Здесь бедные девочки сидели неделями, может быть месяцами, ждали, когда кожа у них побелеет, и можно будет их вести и показывать людям. Высота свода не достигала и полутора метров, вдоль стен можно было рассадить от силы дюжину детей.
На секунду стало совсем темно, еще кто-то протискивался внутрь. Это был сопровождавший нас пасхалец. Патер Себастиан тотчас послал его за двумя остальными участниками похода — не совестно им мешкать, когда он, шестидесятивосьмилетний старик, уже указал путь. И вот мы сидим в кружок, закусываем. Обратив наше внимание на отверстие в задней стене, патер Себастиан сказал, что через этот ход можно углубиться в гору еще на триста восемьдесят метров. Но это такое путешествие… Кто его один раз совершил, второй раз не захочет. Примерно на полпути начинается страшно узкий туннель, только-только одному человеку ползти, а за этим туннелем лежат части скелета и челюсти, словцо в погребальной пещере. И как только туда ухитрились доставить покойника — ведь толкать его впереди себя было невозможно, а тащить за собой — сам потом не выберешься.
Я надел рубаху, намереваясь двинуться дальше в глубь пещеры, но патер Себастиан только расхохотался: если бы я знал, что меня ждет! Да я с полдороги вернусь! И когда я все-таки полез в отверстие, за мной последовал лишь пасхалец.
За отверстием пещера разветвлялась, но ответвления тут же опять соединялись, образуя тесный лаз, где нам пришлось ползти. Потом свод ушел вверх, начался длинный просторный туннель, в котором мы даже смогли передвигаться бегом, чтобы сберечь время. Фонарик светил отвратительно, вполсилы, потому что батарейки пострадали в лагере, и на всякий случай я нес в кармане огарок свечи и коробку спичек. Сберегая батарейки, я то и дело выключал фонарь, и мы пробегали, проходили или проползали отрезок, который успели разглядеть при свете. Понятно, при этом мы несколько раз бодали свод, так что по волосам и шее скатывались со стеклянным звоном каплевидные осколки. Уйдя довольно далеко от входа, мы попали в такое место, где под ногами лежала сырая глина. А свод начал опускаться, пока не принудил нас стать на четвереньки и так шлепать по грязи. Потом пришлось и вовсе лечь на живот и ползти, загребая воротом и штанами холодную грязь.
— Отличная дорога! — крикнул я назад.
Мой спутник, извивавшийся в грязи позади меня, отозвался какой-то шуткой. Хотя вообще-то здесь было неприятно. Теперь я понимал, о чем говорил патер Себастиан. Но если он здесь прошел, то нам как-то неловко сдаваться на полпути. В следующую минуту я чуть не передумал, Я наполовину погрузился в жидкую грязь, но свод опустился так низко, что дальше никак не пролезть. Фонарик водонепроницаемый, но как очистить стекло, когда сам купаешься в слякоти? Все же я разглядел, что ход сузился не только в вышину, но II в ширину, выбора просто нет. Патер Себастиан сумел протиснуться… Я нажал плечами и почувствовал, что, пожалуй, кое-как проберусь, если не станет еще теснее. Вспахивая грязь, со всех сторон ударяясь в камень, я дюйм за дюймом продавливался сквозь щель. Хоть смейся, хоть плачь, и я не удержался, простонал «Отличная дорога» ползущему за мной бедняге, по его чувству юмора пришел конец.
— Плохая дорога, сеньор, — прохрипел он в ответ.
Пять метров тянулись эти тиски, которые не давали вздохнуть полной грудью, наконец мы одолели игольное ушко и очутились в полости, где лежали части скелета. Здесь было сухо и сравнительно высоко до свода, можно опять не только карабкаться на четвереньках, но кое-где и бежать. Да, если несчастным неру хотелось поразмять ноги во время своего долгого заточения, их ждала отнюдь не романтическая прогулка при луне. От этой мокрой грязи я продрог и весь окоченел, а когда посветил назад, проверяя, поспевает ли мой спутник, то увидел чучело вроде тех, которых дети лепят из глины. Одни зубы да глаза позволяли различить человека в окружающем нас мраке.
Ход заканчивался крутым и скользким подъемом, который вел к отверстию в своде. Не помню, сколько раз я съехал вниз на животе, прежде чем наконец вскарабкался и через отверстие проник в следующую камеру, которая формой напоминала колокол. Казалось, стены сглажены человеком, на самом же деле эту полость образовал пузырь вулканического газа. Патер Себастиан оставил здесь свечку. Мой огарок лежал в заднем кармане, и спина была еще сравнительно сухой. Я попробовал зажечь свечу патера, по она не хотела гореть, да и спички сразу гасли. По лицу градом катился пот, было тяжело дышать, я съехал с горки к дожидавшемуся меня «негру», и мы поспешили обратно, насколько можно было спешить при таком скверном освещении и низком потолке. То ползком, то бегом, похожие на двух жителей преисподней, мы продвигались вперед, наконец добрались до игольного ушка, с веселой шуткой шлепнулись в грязь и начали протискиваться в щель. Пасхалец полз вплотную за мной, и мы медленно двигались вперед, чувствуя, как ребра сжимаются под
неумолимым давлением горы, которая не хотела даже на волосок приподняться для нас. Если путь в недра был долгим, то обратная дорога показалась нам еще длиннее. Мы попытались шутить, ведь осталось совсем немного, но эта слякоть меня раздражала, все лицо было в поту, и я уже начал уставать. И воздух плохой… Мы замолчали, все силы были направлены на то, чтобы протискиваться вперед с вытянутыми руками и при этом уберечь фонарик от грязи.
Кажется, только что вроде было попросторнее? Во всяком случае сейчас опять стало теснее. Странно, что этот узкий ход еще продолжается, пора бы нам очутиться в наружном туннеле. Усталый мозг взвешивал эту мысль, пока тело упорно сражалось с тисками. Внезапно перед самым носом я увидел в слабом свете фонаря крутой изгиб. Тут явно не пролезть. Неужели с той стороны этот лаз преодолеть настолько легче, что я даже не задумался, как трудно будет возвращаться через него? Странно, почему он мне не запомнился. Напрягая все силы, я продвинулся еще чуть-чуть, чтобы заглянуть в отверстие, и, лежа в каком-то немыслимом положении, сдавленный миллионами тонн сверху и снизу, с ужасом увидел, что здесь никак не пролезешь.
— Дальше некуда, — сказал я ползущему следом за мной пасхальцу. У меня все лицо было в поту.
— Продолжайте, сеньор, другого выхода нет, — простонал он в ответ.
Повернув голову, я еще на какую-то долю миллиметра втиснулся в щель между камнями. Потом направил вверх луч фонарика и убедился, что дальше ход намного уже моей головы, я ни за что не пролезу.
Я поспешил выключить фонарик, теперь надо было беречь каждую искорку света, нас ждали неприятности. Размышлять можно и в темноте. Казалось, могучий горный массив полуострова Пойке вдруг навалился на меня всем своим весом. Тяжело, ох, тяжело, и только хуже, если напрягаешься, лучше полностью расслабиться и сделаться возможно тоньше… Но гора все равно продолжала давить со всех сторон.
— Давай назад, — сказал я своему спутнику. — Дальше нельзя. Он наотрез отказался и умолял меня протискиваться вперед, это единственный путь на волю из этой преисподней.
Нет, он ошибается. Я снова включил фонарь и, подавшись немного назад, осмотрел пол прямо перед собой. Какая-то смесь земли и сыроватой глины, видно ясный отпечаток моей рубахи и пуговиц, а там, куда я дотянулся руками, — отпечатки пальцев, но дальше суглинок и гравий явно не тронуты ни человеком, ни животным. Я снова погасил свет. Душно. Грудь стиснута. Пот течет ручьями. Может быть, древний ход обвалился от нашего продвижения или громкой речи? Но если свод обрушился, как мы пробьемся на волю, ведь землю и камни некуда отгребать! Сколько мы продержимся в этом отвратительном воздухе, пока остальные сообразят, в чем дело, и сумеют пробиться к нам? А может, мы не туда забрались, попали в другой ход, оканчивающийся тупиком? Возможно ли это, если вся девичья пещера представляет собой один сплошной туннель, который в этой части чуть шире человека?..
Пасхалец пробкой лежал сзади, да еще напирал на меня, все тело облепила грязь, и гора продолжала давить своими миллионами тонн тем сильнее, чем больше я об этом думал. — Давай назад, — крикнул я.
А пасхалец в панике продолжал напирать на мои пятки, ведь он не видел, какая впереди узкая щель, и не пропустишь его, чтобы он мог посмотреть. — Назад! Назад давай!
Похоже, еще немного, и мой сплюснутый спутник потеряет разум от страха. Крича «Давай! Давай!», я начал брыкаться. Это подействовало, дюйм за дюймом он пополз назад, и я последовая за ним. Медленно, осторожно, не то зацепишься или голова застрянет! Больше всего я боялся за голову, она ведь не упругая, как грудная клетка. Вдруг стало просторнее. Я ничего не понимал, от духоты кружилась голова. Неужели вернулись к скелету? Я посветил и увидел перед собой две щели, причем правая изгибалась вверх.
Так вот где мы ошиблись, вместо правого хода полезли в левый! Я окликнул островитянина, который машинально продолжал отступать.
— Нам сюда! — крикнул я и опять полез в левый ход, и мой спутник все так же машинально последовал моему примеру.
Как глухо звучат в пещере наши голоса… Опять становится все теснее и теснее, да что же это такое! Включив фонарь, я увидел перед собой то же самое непролазное отверстие. И понял, что у меня помутился разум. Ведь знал, что нам надо направо, и все равно второй раз полез в левую щель. — Назад, — простонал я.
Теперь мы оба действовали как автоматы. Задом наперед выбрались обратно, причем я непрерывно твердил про себя: «Направо, направо, направо». Протиснулись в правый ход, и вот уже можно встать, бежать, ползти, в туннеле потянуло холодным свежим воздухом, и наконец мы через последнюю дыру выбрались в уютную пещеру с надписями на стене, где нас ждали наши друзья. До чего приятно было выйти из горы на волю, где шумел ветер! Приятно вновь увидеть слепящий солнечный свет и безбрежный простор за обрывом, море и небо, сколько угодно места!
— Что, сдались? — нетерпеливо спросил патер Себастиан, от души смеясь нашему виду.
— Нет, — ответил я. — Но теперь мне понятно, как в этой пещере мог очутиться скелет.
— Это называется, ты был в пещере для «отбеливания»? — удивилась Ивон, когда я вернулся в лагерь. По моему виду этого нельзя было сказать. Я прошел прямо к воде и, не раздеваясь, бросился в волны.
Глава четвертая. Загадка великанов острова Пасхи
Если вы мечтаете о полете на Луну, можете для начала полазить по конусам потухших вулканов острова Пасхи. Мало того, что здесь вы будете бесконечно далеко от лихорадочной жизни нашего собственного мира, ландшафт тоже вполне сойдет за лунный. Маленькая приветливая Луна между небом и морем, покрытые травой и папоротником безлесные кратеры сонно зевают в космосе, позеленевшие от старости, давно уже утратившие пламенный язык и зубы. На острове сгруппировалось несколько таких мирных вулканов, зеленых снаружи и изнутри. Пора извержений прошла так давно, что на дне двух самых широких кратеров образовались небесно-голубые озера с ярко-зеленым гибким камышом, в которых отражаются гонимые пассатом облака.
В одном из этих кратеров, названном Рано Рараку, лунные жители явно развили особенно кипучую деятельность. Их не видно, но, когда бродишь безмятежно по траве, осматривая брошенные ими дела, так и кажется, что они просто попрятались в черных норах в земле. Прервав работы, они поспешно бежали, поэтому Рано Рараку оказался одним из величайших и удивительнейших памятников творения — это памятник неведомому и утраченному прошлому и предупреждение о бренности всего сущего. Гора местами сплошь иссечена, люди некогда врезались в вулкан с такой жадностью, словно это была сдобная булка, а ведь стальной топор лишь высекает искры, когда испытываешь им твердость скалы. Десятки тысяч кубометров камня отделены от горного массива и перемещены далеко в сторону от кратера. А в зияющих ранах в теле горы лежит больше полутораста каменных исполинов от едва начатых, до только что законченных. У подножия вулкана готовые идолы выстроились в ряды, словно целая армия сверхъестественных существ, и чувствуешь себя таким крохотным, когда приближаешься к этой горе, будь-то даже верхом или в джипе по древней дороге, которую исчезнувшие ваятели проложили к своей гигантской мастерской.
Вы спешиваетесь подле скалы и вдруг видите в ее нижней части изображение человеческого лица — это не скала, а голова упавшего исполина. Вся экспедиция может укрыться под ней от дождя. Вы подходите к ближним фигурам, по грудь врытым в землю, и вам делается жутко, потому что вы не достаете даже до подбородка великана. А если вы попытаетесь влезть на лежащего плашмя богатыря, то почувствуете себя настоящим лилипутом, потому что взобраться на его живот — это же целая проблема. Зато потом можно свободно прогуливаться по телу и по лицу поверженного Голиафа и полежать на его носу длиной с хорошую кровать. Многие истуканы достигают десяти метров, а самый большой, еще не законченный, который лежит наискось на склоне, насчитывает двадцать два метра. Считая по три метра на этаж, этот каменный мужчина будет ростом с семиэтажный дом. Что и говорить — богатырь, настоящий горный тролль!
В кратере Рано Рараку загадка острова Пасхи, можно сказать, чувствуется во всем, здесь самый воздух насыщен таинственностью. Сто пятьдесят безглазых лиц молча вас обозревают. Тайна глядит на вас пустыми глазницами стоящих истуканов, глядит с каждого карниза, из каждой пещеры, где лежат, точно в колыбели или на смертном ложе, неродившиеся и усопшие великаны, безжизненные и беспомощные, потому что их покинула творческая мысль и созидательная сила. Так было здесь, когда ваятели оставили работу, и так будет всегда. Чопорные, гордые, стоят с поджатыми губами самые старые идолы, которых успели завершить, и всем своим видом говорят, что никакое долото, даже атомная энергия не заставят их раскрыть рот.
Но хотя рты великанов запечатаны семью печатями, о многом можно догадаться, когда ходишь по склонам горы среди тьмы незавершенных статуй. Куда бы мы ни залезли, где бы ни остановились, всюду нас, будто в комнате смеха, окружали огромные лица. Мы видели их анфас, в профиль, под всевозможными углами. Все они были поразительно схожи. У всех одно и то же стоическое выражение и необычно длинные уши. Мы перелезали через носы и подбородки, наступали на рты и громадные кулаки, а на полках вдоль склона над нами лежали еще и еще исполины. Научившись отличать искусственное от природного, мы убедились, что вся гора от самого подножия до кратерного гребня чуть не сплошь состоит из каменных тел и голов. И на гребне на высоте полутораста метров над равниной с незапамятных времен лежали наполовину законченные богатыри, глядя на небо и парящих в нем коршунов. Но и тут не было конца полчищам истуканов, они спускались непрерывной чередой вниз по стене кратера в чрево вулкана. Вплоть до пышных зарослей зеленого камыша по периметру кратерного озера протянулась кавалькада чопорных, безмолвных каменных людей, стоящих и лежащих, завершенных и незавершенных, словно племя роботов, окаменевших от жажды в тщетных поисках живой воды.
Грандиозные работы, когда-то происходившие в кратере Рано Рараку, всех поразили и потрясли. Одна лишь маленькая Аннет спокойно отнеслась к этой картине.
— Сколько куколок, — радостно сказала она, когда я снял ее с коня и опустил на землю у подножия вулкана.
Правда, когда мы подошли поближе, масштабы оказались слишком велики. Аннет пряталась за шеи истуканов, не ведая, что над ней вздымается кверху каменная голова. Когда мама помогала маленькой девочке вскарабкаться на высокий уступ, та и не подозревала, что переместилась с верхней губы на нос лежащего великана.
А когда мы приступили к раскопкам, то удивились еще больше. На что огромными казались каменные головы у подножия вулкана, а мы, зарываясь в землю, сперва откопали грудь, потом живот, руки, наконец бедра и соединяющиеся ниже живота длинные тонкие пальцы с огромными кривыми ногтями. В земле перед идолом нам попадались человеческие кости и следы кострищ. Знаменитые головы смотрелись совсем иначе вместе с телом и руками, чем в энциклопедиях и географических справочниках, где они выглядят отрубленными. Но как ни увлекало нас это зрелище, оно не давало ответа ни на одну из загадок острова Пасхи. Мы немало потрудились, чтобы перебросить веревку через самые высокие головы, II лишь самые ловкие из нас отваживались карабкаться по веревке вверх. Труднее всего последний кусок — от брови и выше. Тут веревка плотно прилегала ко лбу богатыря, и уцепиться за нее как следует было невозможно.
Да, не просто даже без груза влезть по канату на макушку стоящего исполина. Но еще труднее понять, как могли втащить наверх и водрузить на голову огромную «шляпу», если учесть, что «шляпа» тоже каменная и при объеме до шести кубических метров весила столько же, сколько два взрослых слона. Как поднять двух слонов на высоту четырехэтажного дома, если нет подъемного крана или хотя бы сподручного бугра поблизости? Допустим, на макушку головы взобралось несколько человек, — разве втащат они следом этакую махинищу, тут дай бог самим удержаться! А все те, кого можно разместить у подножия статуи, будут подобны беспомощным лилипутикам, их руки достанут разве что до живота истукана, а ведь надо этот тяжеленный груз поднять выше груди, подбородка и всей головы, на самую макушку! Металла пасхальцы не знали, леса на острове практически не было. Наши механики только пожимали плечами в недоумении. Мы чувствовали себя школьниками, которым задали непосильную задачку. Казалось, невидимые лунные жители радуются, сидя в своих норах, и поддразнивают нас: ну-ка, угадайте, как это было сделано?! Как мы спускали этих колоссов вниз по крутому склону и переносили через горы и долины туда, куда нужно?
Гадать было бесполезно. Прежде всего надо хорошенько осмотреться кругом: может быть, загадочные искусники прошлого оставили какие-то следы, хоть маленький намек.
«Смотри в корень!» — говорят, и мы решили сперва изучить многочисленных незаконченных идолов на полках в самой каменоломне. Все говорило за то, что работа прекратилась внезапно: тысячи примитивных каменных рубил лежали на рабочих местах. И так как ваятели трудились одновременно над многими статуями, мы могли видеть все этапы. Сначала они в горной породе высекали лицевую часть, потом оба уха и руки с длинными пальцами, которые соединялись ниже живота. И наконец они врубались в камень с боков, формируя спину. Она первоначально напоминала днище лодки с острым килем, соединяющим изваяние с горой. Полностью вытесав всю лицевую часть, ее тщательно обрабатывали и полировали, только не делали глаз под крутыми надбровными дугами. До поры до времени великан оставался незрячим. Потом скульпторы срубали «киль» под спиной, подпирая при этом богатыря камнями, чтобы не скатился с обрыва. По-видимому, ваятелям было безразлично, где и как вытесывать статую — на отвесной стене или на горизонтальной плоскости, головой кверху или книзу. Незаконченные исполины лежали как попало, словно на поле боя.
Отделив спину, начинали головоломный спуск по склону к подножию вулкана. Иной раз многотонных колоссов спускали по отвесным обрывам, через полки, на которых тоже шла работа над идолами. Немало истуканов побилось, но подавляющее большинство спустили целехонькими, правда ног не хватало, ведь каждое изваяние заканчивалось плоским срезом там, где у человека начинаются ноги. Словом, длинный торс с руками.
Тысячи тонн осколков из мастерской перенесли ваятели к подножию вулкана, где выросли огромные осыпи и искусственные морены. В этих кучах рыли глубокие ямы и временно устанавливали богатырей. Только теперь можно было отделывать спину и шею исполина, а выше бедер спину украшали поясом с символическими изображениями. Этот узкий пояс был единственным одеянием нагих фигур, и все они, кроме одной, изображали мужчин.
Однако таинственное странствие каменных богатырей здесь не заканчивалось, после доделки спины они отправлялись к своим алтарям. Большинство пасхальскнх истуканов покинули гору, и совсем немного осталось ждать своей очереди у подножия вулкана. Готовые богатыри разошлись во все концы острова, до пятнадцати километров от мастерской, в которой им придали облик человека.
Патер Себастиан был как бы директором этого музея под открытым небом. Он исходил лунное царство вдоль и поперек и пометил номерами все статуи, какие обнаружил, итого больше шестисот. Все они были высечены из одной породы, изваяны в огромной мастерской на крутом склоне Рано Рараку. Только здесь вы увидите характерный серо-желтый цвет, по которому затем издалека опознаете статую, где бы она ни валялась среди других каменных глыб.
Самое удивительное, что ваятели перемещали не глыбы камня, которым толчки нипочем, а полностью законченные фигуры, полированные от мочки уха до лунки ногтей. Не хватало только глазищ. Как ухитрялись они переносить готовых идолов в такую даль, ничего не повредив, не поцарапав полировки? Этого никто не знал.
Доставив слепых истуканов на место, их не опускали основанием в яму, чтобы поставить торчком, напротив — каждого идола поднимали и водружали на аху, каменный алтарь высотой около двух метров. Только теперь вытесывали глазницы, только теперь богатырь мог увидеть, где он очутился. И наконец, в довершение всего на голову исполина надевали «шляпу» весом от двух до десяти тонн, что как раз и равно весу двух слонов.
Впрочем, слово «шляпа» неверно, хоть так и повелось говорить. Старое пасхальское имя этого огромного головного убора — пукао, то есть «пучок волос», такую прическу носили многие местные мужчины, когда на Пасхи приплыли европейцы. Почему древние ваятели клали на макушку богатыря особый камень, изображающий пукао, а не высекали прическу сразу, вместе со всей статуей? Да потому что главным в этом пучке волос был цвет. Пасхальцы отправлялись в другой конец острова и за десять километров от каменоломни Рано Рараку в небольшом заросшем кратере добывали породу красного цвета. Именно этот красный цвет был им нужен для волос. И тащили они с одной стороны серо-желтые статуи, а с другой — красные пукао, чтобы водрузить их на каждом из пятидесяти с лишним алтарей, сооруженных вдоль побережья. На большинстве постаментов стояло по два идола, часто их было по четыре, пять, шесть, а на одной платформе, высотой четыре метра, выстроилось пятнадцать рыжеволосых богатырей.
Но сегодня ни один из великанов не стоит на своем алтаре. Уже капитан Кук, а по всей вероятности даже Роггевен, приплыли сюда слишком поздно, чтобы застать все статуи на первоначальных местах, по большинство идолов еще стояли с красными пукао на голове. В середине прошлого века последний великан был сброшен с алтаря, и красный «пучок волос», будто окровавленный паровой каток, прокатился по мощеной площадке. Теперь вы увидите стоящими только слепых, безволосых истуканов у подножия вулкана с вызывающе задранным кверху подбородком. Они ушли в землю так глубоко, что их никто не мог повалить, а попытка срубить одну голову топором кончилась родной неудачей, палач смог высечь лишь чуть заметную борозду в каменной шее великана.
Последнего идола свергли с аху примерно в 1840 году, во время стычки каннибалов, поселившихся в пещере по соседству. Десятиметровую фигуру венчал пукао объемом в шесть кубических метров, а сама она стояла на каменной стене почти в рост человека. Мы измерили поверженного богатыря и определили его вес — пятьдесят тонн. Такую махину притащили сюда за четыре километра от Рано Рараку. Представим себе, что мы опрокинули вверх колесами десятитонный железнодорожный вагон, ведь в Полинезии не знали колеса. Рядом с первым точно так же поместим второй вагон. Потом загоним в эти вагоны двенадцать коней и пять рослых слонов. Вместе это будет пятьдесят тонн, и можно тянуть, но мало сдвинуть груз с места, мы должны протащить его по камням на четыре километра, да так, чтобы ничего не повредить. Без машин, скажете вы, невозможно! Значит, исконные обитатели острова Пасхи совершили невозможное. Во всяком случае ясно, что это сделано не кучкой полинезийцев, любителей резьбы по дереву, которые, высадившись на остров, принялись долбить гору, потому что дерева не нашлось. Нет, рыжеволосые богатыри классического типа изваяны мореходами из страны, народ которой издавна привык работать с тяжелыми монолитами.
Итак, наш пятидесятитонный груз доставлен. Теперь его надо поднять на каменную стену и поставить прямо да еще увенчать голову на высоте четырехэтажного дома «начесом». Этот «начес» одни весит десять тонн, а доставлен он из каменоломни за одиннадцать километров, считая напрямик. Одиннадцать километров — изрядный путь по такой местности, и десять метров по любой мерке — внушительная высота, если надо поднять десять тонн — вес двадцати четырех добрых коней. Но люди справились с этим. А в 1840 году каннибалы все разрушили, расшатав кладку постамента, и в ознаменование сего подвига съели в пещере три десятка соседей.
Стоя на гребне кратера Рано Рараку, я любовался чудесной панорамой острова. Позади меня довольно крутой склон уходил в заросшее чрево вулкана, где небесно-голубое кратерное озеро блестело как зеркало, окаймленное широкой полосой небывало зеленого камыша. Возможно, камыш казался особенно зеленым рядом с пожухлой от засухи травой на косогорах. Прямо передо мной исчерченная полками стена мастерской спадала к площадке у подножия горы, где наши люди суетились, словно муравьи, роясь в коричневой земле вокруг истуканов. Стреноженные кони выглядели совсем маленькими перед могучими каменными богатырями. Мне хорошо было видно то, что можно назвать центром и фокусом загадки, прежде всего привлекающей внимание тех, кто попадает на остров Пасхи. Вот он, родильный дом истуканов; я стоял на громадном зародыше, а сколько их лежало на склонах кратера впереди и позади меня. На откосах у подножия как снаружи, так и внутри выстроились безволосые и незрячие новорожденные, напрасно ожидая, когда настанет их черед отправляться в путь. С гребня я видел дороги, по которым некогда перемещались статуи. Несколько готовых идолов уже приготовились выходить из кратера, когда все работы внезапно были прекращены. Один из них успел добраться до, гребня, другой даже перевалил в ложбину на наружном склоне. По транспорт прервался, и они остались лежать, причем не на спине, а на животе. Вдоль расходящихся от кратера поросших травой древних дорог, расчищенных от камня, тут и там лежали по одной, по две, по три другие статуи. Тоже незрячие и безволосые, и было очевидно, что их не свергли с какого-либо пьедестала, а просто бросили по пути от Рано Рараку к соответствующему алтарю. Некоторые ушли довольно далеко от торчащих на горизонте конусов. А вон там, на западе, отсюда и не видно, находится маленький кратер Пуна Пау, где ломали камень для пукао. Я уже спускался в него и на дне под крутыми стенками осмотрел с полдюжины цилиндрических «начесов», похожих на колесо парового катка. Древние мастера причесок переправили через обрывистый склон изрядное количество огромных глыб, и теперь они валялись в беспорядке под горой, дожидаясь, когда их поволокут дальше. Другие были брошены на пути к своим хозяевам, мы встречали их тут и там в степи. Я измерил самый большой пукао, извлеченный из кратера. В нем было больше восемнадцати кубических метров, он весил тридцать тонн — столько же, сколько семьдесят пять крупных лошадей.
Размах всех этих работ был так грандиозен, что не укладывался в моей голове. И я повернулся к пастуху, который стоял рядом со мной, молча глядя на кинутых вдоль дорог великанов.
— Леонардо, — сказал я, — ты человек деловой, скажи мне, как в старое время перетаскивали этих каменных богатырей?
— Они шли сами, — ответил Леонардо.
Не будь это сказано так торжественно и серьезно, я решил бы, что он шутит, ведь этот пастух в чистых брюках и рубахе был на вид такой же цивилизованный человек, как мы, а умом даже многих превосходил.
— Постой, Леонардо, — возразил я, — как же они могли ходить, если у них только туловище и голова, а ног нет?
— Они шли вот так. — Держа ноги вместе, не сгибая колен, Леонардо продвинулся немного вперед по скале, потом снисходительно спросил меня:
— А ты как думал?
Я не нашелся, что ответить. И многие до меня тоже становились в тупик. Ничего удивительного, что Леонардо полагался на бесхитростное объяснение своего отца и деда. Статуи шли сами. Зачем ломать себе голову, когда есть простой и ясный ответ.
Вернувшись в лагерь, я прошел на кухню, где Мариана в это время чистила картофель.
— Ты когда-нибудь слышала, как в старину перемещали больших моаи — спросил я.
— Си, сеньор, — твердо ответила она. — Они шли сами. И Мариана принялась рассказывать длинную историю о древней колдунье, жившей около Рано Рараку в ту пору, когда каменотесы высекали огромных истуканов. Эта колдунья своим волшебством оживляла каменных великанов и заставляла их идти, куда надо. Но однажды ваятели съели большого омара, а ведьму угостить забыли, она нашла пустой панцирь и так рассердилась, что заставила все статуи упасть ничком на землю, и с тех самых пор они лежат недвижимо.
Точно такую же историю про ведьму и омара поведали пасхальцы Раутледж пятьдесят лет назад. И теперь я с удивлением обнаружил, что, кого ни спроси, каждый по-прежнему держится за эту версию. Пока им не предложат более убедительного объяснения, они хоть до судного дня будут толковать про колдунью и омара.
Вообще-то островитян нельзя было назвать наивными. Правила не правила, а у них всегда находился какой-нибудь хитрый предлог, чтобы выбраться за пределы деревни и явиться к нам в лагерь со своими поделками. Почти все владели искусством резьбы по дереву, многие были истинными мастерами, но лучше всех работал бургомистр. Все спрашивали его изделия, потому что, хотя островитяне вырезали одно и то же, никто не мог сравниться с ним в изяществе линий и совершенстве отделки. Участники экспедиции завалили его заказами, только поспевай делать. В обмен за фигуры охотнее всего брали американские сигареты, норвежские рыболовные крючки и пестрые английские ткани. Пасхальцы были завзятыми курильщиками. Те, что в первую ночь побывали у нас на борту и выменяли несколько пачек сигарет, не выкурили их сами. Они помчались галопом в деревню и стали ходить из дома в дом, поднимая с постели друзей и родню, чтобы каждый получил по сигарете. Запас, полученный с последним военным кораблем, израсходовали несколько месяцев назад.
Среди тонких деревянных поделок попадались иногда каменные фигурки похуже: то наивные маленькие подобия больших идолов, то грубые головы, с едва намеченными глазами и носом. Первое время владельцы пытались нам внушить, будто это старинные предметы, дескать, нашли в земле или в алтарях. Но мы только смеялись, и чаще всего они били отбой, лишь некоторые упорно стояли на своем.
Однажды в лагерь прискакала женщина и вызвала меня, мол, обнаружила в каменной осыпи что-то странное. Когда мы добрались до места, она осторожно принялась разбирать камни, и я разглядел маленькую свежеизготовленную копию знаменитых истуканов.
— Оставь ее, — сказал я женщине. — Она совсем новая, кто-то ее нарочно подложил, чтобы обмануть тебя!
Женщина заметно смутилась, и ни она, ни ее муж больше не пытались нас надуть.
В другой раз поздно вечером примчался запыхавшийся мужчина с потрясающей новостью: ловя рыбу при свете факела, он нашел в песке на берегу маленькую статуэтку. Если мы ее хотим получить, он сейчас же нас туда проводит, хоть и плохо видно, а то ему надо спешить в деревню. Рыболов был явно озадачен, когда мы, подъехав на джипе, осветили фарами место находки. На траве лежала скверно сделанная фигурка, и даже песок, в котором ее вываляли, не мог скрыть, что она совсем новая. Под общий смех владелец упрятал свое уродливое изделие в мешок и потащил обратно в деревню. Ничего, сбудет какому-нибудь матросу, когда придет военный корабль…
Другую уловку применил пасхалец, который привел меня в грот с колодцами и странными барельефами на своде. Барельефы, изображавшие птицечеловеков и огромные глаза, были подлинными и очень мне понравились. Пока я их разглядывал, мой проводник с невинным видом забавлялся, роняя в воду комья земли. Вдруг он вскрикнул, я посмотрел вниз и увидел, как земляной ком медленно распадается в воде. Будто цыпленок из яйца, из него вылупилась малюсенькая куколка. Это было так неожиданно и потешно, что я расхохотался, хотя незадачливый плут не заслужил такой бурной реакции. И этот пасхалец тоже больше не пытался нас провести.
Правда, стремясь получить товары, которые мы привезли для обмена, пасхальцы иногда и впрямь отыскивали старинные вещи. Как-то раз за мной пришли молодые супруги — они нашли четыре необычные каменные головы. Как ни странно, головы лежали совсем близко от ограды, к востоку от губернаторской усадьбы. Когда мы туда прибыли, нас встретили какая-то старуха и ее дочь, истая ведьма, которая, казалось, готова была выцарапать нам глаза. Они были вне себя от ярости и сыпали ругательствами с такой скоростью, какую только полинезийский язык допускает. Когда наши проводники пытались вставить слово, на них обрушивался залп брани. Мы с кинооператором решили присесть, обождать, пока извержение кончится. Наконец бабка чуть поостыла.
— Сеньор Кон-Тики, — сказала она. — Эти двое — воры и мошенники. Камни мои, их никто не смеет трогать! Я из рода Хоту Матуа, эта земля исстари нам принадлежит.
— Теперь не принадлежит! — перебил ее молодой пасхалец. — Теперь это пастбище военно-морского флота. А камни наши, мы первыми их нашли!
Старуха опять вспылила.
— Первыми нашли? Да как у вас язык поворачивается, воровское отродье! Эти камни принадлежат нашему роду, бандиты вы этакие!
Пока они с пеной у рта оспаривали друг у друга право собственности, я по их жестам понял наконец, где находятся камни, о которых идет речь. Старуха и ее дочь сидели каждая на одном из них, я — на третьем, а молодые супруги стояли возле четвертого. С виду это были обыкновенные валуны. И вспомнил я мудрого Соломона, как он, взяв меч, вызвался поделить ребенка между двумя женщинами, каждая из которых называла себя матерью. Здесь можно было бы решить спор кувалдой. Молодые, наверно, с радостью поддержали бы меня, зато старуха окончательно взбесилась бы.
— Дай нам только посмотреть на твои камни, мы с ними ничего не сделаем, — предложил я бабке.
Она промолчала, по не стала нам мешать, и мы перевернули валуны нижней стороной кверху. Четыре причудливые рожи о незрячими круглыми глазищами величиной с блюдце воззрились на небо. Ни капли сходства с классическими пасхальскими истуканами; скорее, похоже на устрашающих круглоголовых идолов Маркизских островов. Владелицы камней смотрели на нас в полном отчаянии. Молодые супруги откровенно торжествовали, предвкушая выгодную сделку. Обе стороны напряженно следили за нами. Мы закатили камни на место, повернув их лицом вниз, поблагодарили и ушли восвояси. Наши проводники стояли, разинув рот от удивления. А старуха — старуха, как мы потом убедились, крепко запомнила этот случай.
Тем временем произошло другое событие, которое заставило пас основательно поломать голову. Когда в Южные моря пришли европейцы, ни на острове Пасхи, ни в остальной Полинезии не знали гончарства. Это довольно странно, потому что гончарное дело было важной чертой древних культур Южной Америки, а народы Индонезии и Азии знали его еще раньше. На Галапагосских островах мы нашли множество черепков от южноамериканских изделий: во-первых, архипелаг лежит достаточно близко к материку и его не раз посещали древние морепроходцы; во-вторых, почвенный слой здесь настолько скуден, что он не мог скрыть следов старины. Совсем иначе было на острове Пасхи. Вряд ли древние жители Южной Америки часто добирались сюда со своими кувшинами, и то немногое, что они могли здесь разбить, давно исчезло под дерном. Тем не менее я привез с собой один черепок, чтобы выяснить у островитян, не видали ли они что-нибудь похожее. Ведь такой черепок может рассказать детективу от археологии больше иной книги.
И вот первый сюрприз: несколько стариков, которых мы опросили порознь, назвали черепок маенго, этого слова не было в словаре патера Себастиана. Один из них слышал от своего деда, что маенго — это такая вещь, которой в старину пользовались на острове. По словам стариков, много лет назад один пасхалец попытался сделать из глины маенго, но что-то у него не получилось. Эрория и Мариана припомнили, что им в какой-то пещере как будто попадались такие черепки, и дня два потратили на поиски этой пещеры, по впустую. Черепки находила и жена губернатора, копаясь у себя в саду. И наконец, один пасхалец по секрету сказал нам, что у него есть дома такой черепок.
Прошло несколько дней, прежде чем этот пасхалец — его звали Андрес Хаоа — смог принести свой черепок. С удивлением мы увидели, что сосуд был вылеплен пальцами на индейский лад, а не изготовлен на гончарном круге, как это делали европейцы. Я посулил Андресу щедрое вознаграждение, если он покажет, где подобрал черепок, чтобы мы могли отыскать там еще черепки и тем самым подтвердить достоверность находки. Хаоа привел нас к большой аху с поваленными статуями. Могучая каменная стена сильно напоминала классические инкские сооружения в Андах. Показав на кладку в верхней части платформы, Андрес сказал, что много лет назад нашел здесь между камнями три черепка. Рабочие-пасхальцы помогли нам осторожно снять несколько плит. Нашим глазам предстало необычное для Пасхи погребение: два целых скелета лежали навытяжку рядом. Подле них оказался ход в две камеры, накрытые каждая своей очень тщательно вытесанной плитой. В обеих камерах беспорядочно валялись старые черепа. Но глиняных черепков не было, и Андрес получил только часть обещанного вознаграждения.
На другой день Карл отправился туда с рабочими и археологическим снаряжением, потому что Аху Тепеу явно заслуживала того, чтобы ее тщательно изучить. Неожиданно один рабочий, старик, нагнулся и стал собирать черепки, да такие крохотные, что мы поражались, как он их заметил, и ведь больше никому ничего такого не попалось. В это время из деревни прискакали Арне и Гонсало. Одна местная жительница рассказала им, что Андрес Хаоа дал старику черепки, чтобы тот помог ему получить все вознаграждение. Приложив осколочки к черепку, который мне накануне дал Хаоа, мы тотчас убедились, что один из них точно подходит к излому. Андрес пришел в бешенство, когда узнал, что его разоблачили, и наотрез отказался говорить, где на самом деле нашел свой черепок. Назло нам он отправился к патеру Себастиану и ошеломил старика, поставив перед ним на стол три целых глиняных кувшина.
— Вот, посмотрите, — возмущенно сказал Хаоа, — я их не покажу сеньору Кон-Тики, потому что он говорит, что я вру. А вот и не вру!
Патер Себастиан, который никогда не видел на Пасхи таких кувшинов, спросил Андреса, откуда он их взял.
— Мой отец нашел их когда-то в пещере и сказал, что в них удобно воду держать, — ответил Хаоа.
Опять ложь! Хаоа не держал воды в кувшинах, вообще не хранил их дома, об этом мы узнали от соседей, которые частенько наведывались в его скромный домишко и знали там каждый уголок.
Сразу после того, как патер Себастиан увидел загадочные кувшины, они бесследно исчезли. Стало одной загадкой больше. Сосуды не вернулись в хижину Хаоа, так откуда же они взялись, и вообще — что происходит?
А тут еще добавилась новая проблема. Я решил по совету старика полицейского Касимиро отправиться на легендарный остров птицечеловеков, поискать тайное хранилище ронго-ронго, о котором знал его отец. Пасхальцы с таким жаром толковали о дощечках с письменами ронго-ронго, будто бы по сей день хранящихся в «запечатанных» пещерах, что любой приезжий в конце концов заражался любопытством.
— Нам предлагали сто тысяч песо за одну дощечку, — говорили островитяне, — значит, настоящая цена им не меньше миллиона.
В глубине души я знал, что они правы. Но я знал также, что если кто-нибудь из них и найдет хранилище ронго-ронго, он вряд ли отважится туда войти. Ведь дощечки были для их предков святыней, и старые мудрецы, которые спрятали свои священные ронго-ронго в подземелье, когда патер Эухенио ввел на острове христианство, прочли заклинания и наложили табу на дощечки с письменами. Пасхальцы твердо верили, что всякого, кто к ним прикоснется, ждет смерть.
В музеях мира хранится не больше двух десятков таких дощечек, и до сих пор еще ни один ученый не сумел расшифровать надписи. Замысловатые письмена острова Пасхи не похожи на письмо других народов. На дощечках они искусно вырезаны в ряд и образуют своеобразный серпантин, причем каждый второй ряд стоит вверх ногами. Почти все хранящиеся в музеях ронго-ронго получены на острове давно, прямо из рук владельцев. Но последнюю дощечку, рассказал нам патер Себастиан, нашли в запретной пещере. Пасхалец, который ее обнаружил, поддался уговорам одного англичанина и привел его почти к самому тайнику. Потом попросил англичанина подождать и выложил из камешков полукруг, через который не велел переступать. А сам пошел дальше и через некоторое время вернулся с ронго-ронго. Англичанин купил дощечку, но пасхалец вскоре лишился рассудка и умер. С тех пор, заключил патер Себастиан, островитяне больше прежнего боятся входить в хранилища ронго-ронго.
Как бы то ни было, старик Касимиро забил отбой, когда я наконец принял его приглашение посетить пещеру. Сославшись на нездоровье, он предложил вместо себя другого проводника, старика Пакомио, с которым много лет назад стоял и ждал, пока отец Касимиро один ходил к тайнику. Пакомио был сыном гадалки Ангаты, той самой Ангаты, что сеяла смуту, играя на суеверии пасхальцев, когда на остров полвека назад прибыла экспедиция Раутледж. Я обратился к патеру Себастиану, и он сумел уговорить Пакомио. Посадив старика в нашу моторную лодку, мы подошли на ней к Мотунуи — скалистому островку птицечеловеков. За спиной у нас вздымался вверх самый высокий — из береговых обрывов Пасхи. На гребне находились развалины святилища Оронго. Там Эд и его бригада занимались раскопками и картографической съемкой. Мы с трудом различали движущиеся белые точки, а им наша лодка представлялась рисовым зернышком на синем поле. Еще в прошлом столетии самые знатные пасхальцы неделями сидели в наполовину врытых в землю каменных коробках над обрывом, ожидая, когда на скалистом островке внизу приземлится первая в году стайка морских ласточек. Ежегодно происходило состязание, кто скорее одолеет на камышовом поплавке два километра до острова и найдет первое яйцо. Победитель возводился в ранг божества и получал звание птицечеловека. Его брили наголо, окрашивали голову в красный цвет и затем торжественно сопровождали до священной обители среди статуй у подножия Рано Рараку, где он год проводил взаперти, ни с кем не соприкасаясь. Особые служители приносили ему пищу. Скалы за развалинами, где сейчас работал Эд, были сплошь покрыты барельефами, изображающими скорченные человеческие фигуры с длинным кривым клювом.
Ступив на легендарный птичий остров, мы не увидели даже перышка — птицы давно переселились на другой обрывистый островок поодаль. Когда мы шли мимо него, в воздухе кружили полчища птиц, напоминая облако дыма над вулканом.
Зато на Мотунуи мы сразу увидели множество наполовину заросших пещер. В двух из них вдоль стены лежали кости и заплесневелые черепа, а в одном месте на своде, будто охотничий трофей, торчала окрашенная в красный цвет бесовская голова с острой бородкой. Раутледж тоже побывала в двух здешних пещерах, Пакомио хорошо ее помнил. Теперь он нетерпеливо ждал, когда мы выйдем, чтобы вести нас к другому тайнику. Посреди склона старик вдруг остановился.
— Здесь мы изжарили курицу, — прошептал он, показывая себе под ноги.
— Какую курицу?
— Отец Касимиро сказал, что надо изжарить в земле курицу на счастье, прежде чем входить в пещеру.
Не очень-то вразумительное объяснение, а Пакомио добавил только, что таков обычай. Дескать, лишь старику можно было стоять так, что он слышал запах жареной курицы, а детям было ведено ждать с другой стороны очага. Им не пришлось даже одним глазком заглянуть в пещеру, но они знали, что там хранится что-то невероятно ценное. Уже стоять по соседству, когда старик проверял в тайнике сокровище, было для ребятишек большим событием.
Разумеется, мы не нашли пещеры. После долгих поисков среди камней и папоротника Пакомио сказал, что старик, пожалуй, нарочно пошел в эту сторону, чтобы сбить с толку мальчишек, а на самом деле надо искать в противоположной стороне. Пошли в другую сторону, и опять без толку. Скоро интерес к поискам пошел на убыль. Солнце нещадно пекло, один за другим мы сдавались и ныряли в глубокую расщелину, наполненную до краев кристально чистой водой, которую океан накачивал через трещину в скале. Мы собирали фиолетовых морских ежей (Пакомио ел их сырыми) и плыли навстречу невиданным рыбам всех цветов радуги, а они, разинув рот, смотрели, что за новые обитатели появились в каменном аквариуме Мотунуи. Искрометные солнечные лучи рождали фейерверк красок в расщелине, и вода была настолько чиста и прозрачна, что мы чувствовали себя птицечеловеками, парящими среди роя золотых осенних листьев. Сказочная красота, этакий подводный райский сад… Как не хотелось нам выходить на скалы, зная, что вся эта прелесть опять надолго, если не навсегда, станет достоянием одних лишь безглазых морских ежей да рыб-дальтоников.
Правда, на суше, особенно на самой Пасхи, тоже было на что поглядеть. Лопаты и кирки обнажали предметы, которых даже местные жители не видели сотни лет. В деревне начали шептаться, пасхальцы воспринимали происходящее не без суеверия. Откуда может чужеземец знать, что под дерном что-то лежите Не иначе как с помощью мана — сверхъестественного дара — проникает он в прошлое острова! Пока вслух об этом не говорили, но кое-кто из островитян спрашивал меня: может быть, я вовсе и не чужеземец, а канака? Дескать, цвет кожи и волос роли не играют, среди их предков тоже были светлокожие блондины. А то, что я знаю лишь несколько слов из пасхальского наречия полинезийского языка, объясняется очень просто: я так долго жил на Таити, в Норуэга и других дальних странах, что позабыл родную речь. Первое время мы не принимали все это всерьез, относили к разряду полинезийских комплиментов. Но чем больше открытий делали наши археологи, тем яснее становилось островитянам, что сеньор Кон-Тики не простой человек.
Началось с рабочих Билла. Билл выбрал себе увлекательнейшую задачу: впервые археолог исследовал самое знаменитое из пасхальских святилищ — огромную аху в Винапу. Ученые и туристы, которые видели это замечательное сооружение, все были поражены его сходством с величественными стенами в царстве инков. Ничего подобного нет ни на одном из десятков тысяч островов в Тихом океане, лежащих дальше на запад. Винапу, можно сказать, зеркальное отражение наиболее классических шедевров доинкской поры, и это тем более знаменательно, что речь идет о ближайшем к империи инков островке.
Может быть, и здесь работали мастера каменного дела из Перу? Может быть, питомцы этого славного цеха первыми ступили на землю острова и принялись высекать огромные плиты для пасхальских стен?
Улики говорили за это. Но теоретически была и другая возможность — та, которую до
сих пор предпочитали исследователи. Дескать, сходство и соседство не более чем случайность. Пасхальцы могли самостоятельно, независимым путем прийти к такой кладке. И тогда классическая стена в Винапу — венец местного развития, так полагали теоретики.
С двадцатью рабочими Билл четыре месяца раскапывал Винапу. Но уже через две-три недели мы получили ответ, на который рассчитывали. Классическая стена в Винапу относилась к самому раннему периоду, позже аху дважды переделывали и надстраивали куда менее искусные архитекторы, уже не владевшие сложной инкской техникой. Эд и Карл, работавшие каждый над своей аху, пришли независимо друг от друга к такому же выводу, как и Билл. Впервые было установлено, что загадочная древняя история Пасхи делится на три отчетливо различимые эпохи. Сначала на острове трудился народ, представляющий специфически развитую культуру, для него характерна «инкская» техника каменной кладки. Ничего подобного их классическим сооружениям позже не наблюдается. Огромные базальтовые плиты нарезали, словно сыр, и подгоняли одну к другой так, что не оставалось ни дырочки, ни щелки. Загадочные сооружения с гладкими стенами, напоминающие и алтарь, и укрепление, выросли в разных концах острова. Они простояли очень долго, пока не пришла новая пора. Большинство классических сооружений частично снесли и перестроили, к лицевой стене подвели мощеную наклонную плоскость и увенчали перекроенные аху могучими истуканами, доставленными из Рано Рараку. Вот в этот второй период, в разгар титанической работы, в которой было занято множество людей, все вдруг оборвалось, остров захлестнула волна войны и каннибализма. Будто по волшебству пришел конец развитию местной культуры, и наступила третья, трагическая пора загадочной истории острова. Никто уже не обтесывал огромных камней, и статуи непочтительно сбрасывали с пьедесталов. Вдоль стен аху из булыжника и обломков наскоро сооружали погребальные камеры, причем крышкой часто служили поваленные идолы. В третью эпоху работали без плана, кое-как.
Мало-помалу начал приоткрываться покров над тайной. Впервые история острова Пасхи стала рисоваться как ряд последовательных событий. И одна из загадок была решена, кусочек великой мозаики лег на свое место. Теперь мы знали, что сюда была перенесена самая совершенная инкская техника кладки. Ее применяли представители древней культуры, первыми ступившие на остров.
Один за другим озабоченные пасхальцы приходили на раскопки в Винапу, где Билл расчистил заднюю стену аху, так что каждый мог отчетливо видеть слои, отвечающие трем периодам. И в один из этих же дней он наткнулся на какой-то необычный красный камень по соседству с раскопом. Подозвав меня, Билл спросил, не кажется ли мне, что у камня есть как будто две руки с пальцами. Из дерна торчала только одна грань длинной красной колонны квадратного сечения, которая ни формой, ни материалом не походила на известные пасхальские статуи, в Рано Рараку вообще не было такой породы. И борозды, в которых Билл опознал пальцы, помещались в отличие от всех шестисот классических истуканов не в нижней части. Смеясь, пасхальцы заверили нас, что это просто хани-хани, обыкновенный красный камень.
Мне же сразу бросилось в глаза сходство этой колонны с красными статуями доинкского периода в Андах. Бородатая голова на парусе «Кон-Тики» была скопирована как раз с такой четырехгранной колонны, изображающей человека и высеченной из такой же точно красной крупнозернистой породы.
Два, четыре, пять… два, четыре, пять… Пожалуй, и в самом деле пальцы. Но ни головы, ни других человеческих черт не видно.
— Билл, — сказал я, — надо копать. Я видел такие четырехгранные статуи на берегу озера Титикака!
Когда патер Себастиан вместе с Эрорией наносил краской номера на все статуи Пасхи, стоящие и лежащие, он останавливался около этого камня. Эрория показала на борозды, напоминающие пальцы, но патер отрицательно покачал головой и пошел с ведерком дальше. Все пасхальские идолы были на одно лицо, у них не было ничего общего с этим прямоугольным красным камнем.
Мы осторожно вырыли в плотном дерне вокруг камня глубокую канаву, после чего стали медленно подбираться скребком и руками к самой колонне. Что это — в самом деле пальцы или случайные борозды на камне?.. Я так волновался, что затаил дыхание, убирая последний пласт дерна, за которым надеялся увидеть руку. Есть! Вдоль всей грани было отчетливо видно руку до самого плеча, и то же с другой стороны. Это была статуя неизвестного для острова Пасхи типа, правда голова отбита и в груди с левой стороны, где сердце, просверлена глубокая дыра. У идола были даже короткие ноги.
Мы хлопали Билла по плечу и жали ему руку. Патер Себастиан, шеф немой гвардии острова Пасхи, больше других был взбудоражен пополнением в липе угловатого красного солдата.
— Доктор Мэллой, это важнейшая находка века на острове Пасхи, — сказал он. — Эта статуя совсем не пасхальского типа, ее место в Южной Америке.
— А нашли-то ее здесь, — рассмеялся Билл. — Вот в чем дело! Двадцать пасхальцев, вооруженные талями и краном, подняли красного идола, и он встал в яме на своих коротких неуклюжих ногах. Рабочие недоумевали больше прежнего. Выходит, это был не просто хани-хани, — но как мы об этом догадались?
А сюрпризы только начинались. Вскоре Эд, раскапывая прежде неизвестное святилище в селении птицечеловеков на вершине Рано Као, обнаружил маленькую улыбающуюся статую. Патер Себастиан, губернатор и толпы островитян устремились туда посмотреть на находку. Арно — он работал на Рано Рараку — тоже находил со своей бригадой удивительнейшие вещи. Особенно всех поразил огромный истукан, такой же необычный для Пасхи, как красная статуя в Винапу. Когда Арне начинал копать, в этом месте выглядывал из земли неприметный камень с двумя глазами, только и всего, люди тысячи раз проходили мимо него, не замечая этих глаз и не подозревая, что здесь под дерном лежит на спине десятитонный тролль.
Богатырь был погребен в мощном слое осколков и затупившихся рубил из древней каменоломни выше на склоне, и, когда мы его отрыли, оказалось, что у него нет ничего общего со стоящими по соседству слепыми бюстами. Археологи и пасхальцы были одинаково удивлены; снова пригласили патера Себастиана и губернатора. У этого идола тоже были ноги, его изваяли сидящим на собственных пятках, руки лежали на коленях. Если другие фигуры изображались нагими, на этой был короткий плащ пончо с квадратным вырезом для шеи. Голова круглая, с острой бородкой и выпученными глазами. Странное лицо, такого еще не видели на острове Пасхи.
Неделя ушла на то, чтобы с помощью джипа, талей, кранов и целой бригады моряков и озадаченных островитян поднять этого великана. И вот наконец он стоит в униженной позе на коленях, задумчиво глядя на небеса. Точно высматривает другие планеты, некий исчезнувший мир. Что ему до нас, непосвященных чужаков, где его старые верные слуги? И что это за чопорные длинноносые чучела там на горе, под каменным «последом» которых был погребен он сам?
Закончен подъем, и стоит этот чужак среди чужаков, и рабочие один за другим снимают шляпы и отирают пот со лба. Потом они окружили идола, глядя на него так, словно ждали, что сейчас что-то случится. Но нет, ничего не случилось, истукан стоял неподвижно и никого не замечал.
Старик Пакомио негромко сказал, что пришла пора перекрестить остров, теперь это уже не Пасха и не Рапануи. — Все кругом так изменилось, — объяснил он. Касимиро и наши рабочие согласились с ним, но бургомистр добавил, что тогда и для Оронго, Винапу и Рано Рараку тоже надо искать новые имена, ведь перемены и их коснулись. Я предложил оставить прежние названия, ведь все, что мы откапываем, — старина.
— Старина для нас новизна, сеньор Кон-Тики, — ответил Пакомио. — Всю жизнь по здешней земле ходим, всякую малость запомнили. А того, что теперь вокруг видим, не помним, вот и выходит, что это уже не остров Пасхи.
— Тогда назовите остров «Пуп Вселенной», Те Пито о те Хенуа, — в шутку предложил я. Пасхальцы закивали, заулыбались.
— Так назывался наш остров в старину, а ты это знал. — Бургомистр озадаченно улыбнулся. — Это все знают, — возразил я.
— Нет, не все, да ведь ты канака, — сказал старик, который стоял позади статуи, и хитро кивнул мне: знаем, мол, откуда твоя осведомленность.
Да, пасхальцы никогда не видели ничего похожего на этого коленопреклоненного богатыря, который вдруг явился из чрева земли. Зато мы с Гонсало, можно сказать, встретили старого знакомого. Обоим нам приходилось бывать в Тиауанако, древнейшем в Южной Америке культовом центре доинкской поры, и там мы видели таких же коленопреклоненных каменных богатырей, настолько похожих на этого позой, чертами лица и всем стилем исполнения, точно их делал один мастер. Больше тысячи лет стоят они в Тиауанако рядом с красным бородатым истуканом и другими четырехгранными изображениями загадочного вида в окружении каменных плит, которые по своим огромным размерам и искусной обработке не знают себе равных во всей инкской империи. Вообще в древней Америке нет ничего подобного этим могучим мегалитическим сооружениям. Самые большие плиты весят свыше ста тонн, это равно весу десяти железнодорожных вагонов, а ведь эти плиты перемещали без колес на много километров. Здоровенные прямоугольные камни доставляли на место, поднимали на ребро и укладывали друг на друга, словно это были пустые картонные коробки.
А среди стен и террас, ныне обратившихся в развалины, древние мастера оставили удивительные статуи. Высота самой большой из них восемь метров, остальные намного меньше, но и они больше человеческого роста. Ныне загадочный Тиауанако со своими статуями и обтесанными глыбами покинут людьми, и предания говорят, что так же безлюдно было здесь, когда к власти пришел первый Инка. Старые хозяева задолго до этого ушли, уступив поле битвы племенам с более примитивной культурой — индейцам уру и аймара. И лишь в сказаниях остались жить исчезнувшие создатели Тиауанако. Но нас сейчас легенды не занимали. Мы искали в земле голые факты и находили безмолвных каменных истуканов. Может быть, потом предание вдохнет жизнь в мертвые изваяния.
Одной из загадок пасхальских статуй считалось их полное единообразие и отсутствие чего-либо подобного в других частях света. Нигде больше не находили таких скульптур, хотя человекоподобные изваяния доисторической поры прослеживаются от Мексики до Перу, Боливии и ближайших к Америке островов Полинезия, к которым подходит океанское течение от материка на востоке. На западе, на островах, лежащих ближе к Азии, каменных статуй не было. Так можно ли говорить о влиянии извне, если нигде нет ничего подобного пасхальским истуканам? И большинство исследователей заключило, что идея этого титанического и непонятного предприятия родилась на крохотном островке самостоятельно. Обладающие самой пылкой фантазией видели ответ в гипотезе о затонувшем материке и предлагали искать сходные изваяния на дне океана.
И вот теперь в земле Пасхи обнаружены статуи другого типа. Разбирая кладку аху, мы и тут нашли немало частично разбитых изваяний необычного тина, которые служили строительным камнем во втором периоде, когда классические стены перестроили и увенчали огромными истуканами из кратера Рано Рараку. Неожиданно и патер Себастиан обнаружил два высеченных из твердого черного камня изваяния в рост человека; одно из них было частью фундамента старой аху, только спина его выпирала. В самой деревне патер вместе с островитянами помог нам взгромоздить на ноги каменного дылду невиданного прежде примитивного типа, из той же красной породы, что безголовый идол в Винапу.
В итоге мы сильно продвинулись к цели, лег на место второй кусочек мозаики. Оказалось, что создатели красивых стен инкского стиля, появившихся в первый период, не были авторами исполинских бюстов из Рано Рараку, которые прославили на весь свет остров Пасхи. Они высекали изваяния попроще, с круглой головой и огромными глазами, когда из красного туфа, когда из черного базальта, но также из серо-желтой породы, что стала такой популярной во втором периоде. Первые статуи подчас были не выше человеческого роста, и ничто их не роднит со знаменитыми великанами, если не считать, что руки всегда занимают строго определенное положение на животе, пальцами друг к другу. Зато эта особенность типична также для многих доинкских изваяний на материке и для статуй ближайших островов Полинезии.
Наконец-то нам удалось развязать язык немым пасхальским истуканам. Первыми заговорили униженные безголовые фигуры, замурованные в стены, за ними нарушили молчание и гордецы, дошедшие и не дошедшие до аху. Каменные статуи вместе со стенами принесла на остров струя извне, извне пришли и замысел, и умение. Малые идолы, которых потом сунули в кладку, безголовый красный истукан в Винапу и коленопреклоненный великан, лежавший под щебнем у подножия Рано Рараку, — все они относились к первому периоду. Его сменил второй период, когда местные ваятели выработали свой более тонкий стиль. Появились исполины с рыжими волосами, они увенчали переделанные стены. Копился опыт, и статуи становились все огромнее. Те, что встали на стены, уже были достаточно велики, по дорогам шли еще большие, не говоря уже о некоторых — колоссах, что стояли у подножия вулкана и ждали, когда им отшлифуют спины. И всех громаднее был гигант ростом с семиэтажный дом, которого не успели завершить и отделить от породы.
Чем бы все это кончилось? Где проходила граница невозможного? Никто не знает. Ибо раньше чем была достигнута эта граница, произошла катастрофа, положившая конец параду каменных богатырей, и они пали ничком на землю. Пали потому, объясняли нынешние пасхальцы, что ведьму обделили омаром. На самом деле речь шла, пожалуй, о более скоромной пище, ведь шествие истуканов прекратилось, когда наступил третий период и началось шествие каннибалов.
Современные пасхальцы — потомки воинственного племени, победившего в третьем периоде. Наверно, приход на остров их полинезийских предков, завершивший победоносное движение с пальмовых островков на западе, был далеко не мирным. Недаром мы услышали от современных пасхальцев сказания о схватках, о поверженных статуях, о поре, когда рубила поражали живых, а не каменных людей. Во всем этом непосредственно участвовали предки нынешних островитян. И хотя ныне на острове царят мир и согласие, третий период еще не совсем кончился.
Глава пятая. Секрет длинноухих
Жизнь лагеря в Анакене шла своим чередом. Наше сверкающее белизной судно у входа в бухту стало как бы частицей острова, твердым ориентиром вроде птичьих базаров у побережья. Еще ни один корабль не задерживался так долго у берегов Пасхи. Разве что те, которые, напоровшись на скалы, легли на дно, укрытые от пассата многосаженной толщей воды. Когда ветер с моря слишком уж сильно трепал брезент палаток, стюард спешил на корабль за дополнительным запасом продовольствия, потому что в такую погоду капитан иногда гудел сиреной и сообщал по радио, что вынужден уйти. Он вел судно вдоль побережья и укрывался за мысом под скалами у подножия Рано Рараку, где мы бросили якорь в первый раз. День-два залив у лагеря пустовал; смотришь на хорошо знакомую картину, а в ней чего-то недостает. Но вот, выбравшись утром из палаток — стюард будил нас стуком в сковороду, — мы опять видим на положенном месте качающийся под лучами утреннего солнца корабль.
Мы обжили наш солнечный лагерь, он был для нас своего рода постоянной якорной стоянкой, куда мы возвращались из вылазок по острову. Завидишь белый корабль за черными скалами и зеленые палатки на желтой траве и желтом песке под упирающимся в горизонт голубым небосводом, и сразу чувствуешь себя дома. Конец трудовому дню, прибой зовет искупаться, и стюард колотит в сковороду, предлагая отведать вкусный обед. После обеда мы располагались кучками на траве и беседовали в сиянии звезд или яркой луны. Кто-то сидел в палатке — кают-компании, при фонаре читал, писал или заводил патефон, кто-то седлал коня и уносился вскачь через гребень пригорка. Сойдя на сушу, моряки стали завзятыми ковбоями, второй штурман играл роль шталмейстера, и площадка древнего святилища у палаток напоминала цирковой манеж — кони ржали и дыбились, ребята собирались в гости в деревню Хангароа. Нетерпеливый юнга решил сократить путь, махнул через осыпь и сломал руку, пришлось врачу заняться им. Но чего не сделаешь, чтобы поскорее добраться, когда тебя манят звуки настоящей хюлы.
Вскоре мы уже знали большинство жителей деревни. Лишь черноглазый деревенский врач редко появлялся даже среди тех, кто собирался на пляски, а учителя мы и вовсе не видели. Они не приходили вместе со всеми в церквушку патера Себастиана, а потому не участвовали и в воскресных обедах после богослужения, которые устраивались либо у монахинь, либо в доме губернатора. Нас это удивляло, потому что любой человек независимо от его веры и мировоззрения немало терял, отказывая себе в том, что можно было посмотреть и послушать, когда патер Себастиан бесхитростной проповедью открывал яркий полинезийский праздник песни. Настроение пасхальцев передавалось и нам, для них это был великий день, главное торжество недели, и даже самые ленивые, способные целыми днями сидеть на своем крыльце, все, кто только мог ходить, спешили принарядиться и торжественно шагали вверх по косогору к церкви, когда звонарь Иосиф принимался раскачивать колокол.
Но в один прекрасный день судьба все-таки свела нас с учителем. Губернатор несколько раз спрашивал нас, нельзя ли школьникам пройти вокруг острова на нашем экспедиционном судне, это будет для них такое событие. Скажем, они сойдут на берег в Анакене и позавтракают на свежем воздухе возле нашего лагеря, а пополудни продолжат путь вдоль побережья, чтобы вечером быть в деревне. Я воспринял эту мысль без особого восторга, но монахини присоединились к просьбе губернатора, и, когда патер Себастиан рассказал, что никто из ребятишек не видел по-настоящему свой родной остров с моря, я обещал, что попрошу капитана подойти к деревне. Вообще-то главная палуба отлично подходила для такого случая, высокий, наклонный фальшборт служил вполне надежным ограждением, да нас еще заверили, что здешние ребятишки плавают, как рыбы, мол, они бултыхаются в заливе уже задолго до того, как пойдут в школу.
Ранним погожим утром мы бросили якорь у деревни Хангароа, и сто пятнадцать школьников были доставлены на борт. Они составляли одну восьмую часть всего населения острова. Сопровождали детей учитель, деревенский врач со своим помощником, помощник губернатора, три монахини, да еще семеро взрослых пасхальцев. Губернатор и патер Себастиан остались дома. На палубе царил шум и гам, дети пели и ликовали. Шла драка за место на самом носу, каждому хотелось видеть, как форштевень будет рассекать волны. Но когда якорь, гремя цепью, пошел вверх и в скалах отдались прощальные звуки сирены, ребята как-то присмирели, и в их глазах, обращенных на деревню, появился намек на печаль. Можно было подумать, что они отправляются в кругосветное путешествие, а не в однодневную экскурсию вокруг Пасхи. Правда, для них остров Пасхи и был весь мир.
Едва судно закачалось на ленивых блестящих валах, наших юных пассажиров одолела морская болезнь. Один из пасхальцев обратился к нам и попросил прибавить ходу, чтобы поскорее добраться до места. После этого он, шатаясь, побрел к люку и улегся среди ребятишек, на которых вдруг напала сонливость. И вот уже по всей палубе лежат будто узлы с бельем, а если кто-нибудь подходил к фальшборту, то вовсе не затем, чтобы полюбоваться красотами родного края…
Лишь один из наших гостей, учитель, держался молодцом. С той самой минуты, как он, плечистый, дородный, ступил на палубу, он все время двигался. Мы услышали от него, что ему доводилось быть в море во всякую погоду, и никогда он не испытывал морской болезни. Волосами цвета воронова крыла и чистыми сверкающими глазами учитель напоминал своего деятельного друга — деревенского врача, и оказалось, что он так же увлечен политикой. Пасхальцы считаются чилийскими гражданами, но не обладают соответствующими правами, пока не попадут с военным кораблем в Вальпараисо и не поселятся в Чили. И вот учитель задался целью помочь пасхальцам перебраться на материк. Но как ни глядел он сурово, когда излагал свою политическую программу, глаза его становились удивительно добрыми, когда он доставал карандаш, чтобы зарисовать в своем дневнике кусочек побережья или гладил по голове кого-нибудь из детей. Тучный воспитатель ходил вперевалку по палубе, утешая своих измученных морской болезнью питомцев на их языке. Вот присел около малышей, дает им таблетки, а вот уже тащит к фальшборту двух долговязых подростков, которые жестами призывают всех расступиться, освободить дорогу. За мысом море вело себя потише, и старшие ребята ожили, но вместо того, чтобы послушаться нас и остаться в средней части корабля, где меньше качало, они ринулись на нос. И опять пришлось учителю вмешаться, волочить позеленевших, судорожно хватающих воздух мальчишек и девчонок к люку, чтобы они снова могли принять горизонтальное положение. До самой Анакенской бухты наши юные пассажиры пребывали в унынии, зато там судно вновь огласилось песнями и веселым гомоном, а матросы принялись драить палубу, которая очень напоминала скалу под вороньим гнездом.
Судно заняло свое обычное место возле лагеря, и ребятишек свезли на берег, показали им палаточный городок на месте древней обители Хоту Матуа. Потом взрослые повели всю ораву к святилищу, и они устроились полдничать на траве под стеной. С другого конца острова прибыли верхом на помощь еще взрослые; на раскаленных камнях в яме изжарили на полинезийский лад шесть ягнят.
Близился вечер. Вокруг очага остались одни обглоданные кости, а в бухте, визжа и распевая, резвились купающиеся ребятишки. На берегу монахини собрали вокруг себя гурьбу детей, которые дружно исполняли древнюю песню предков о Хоту Матуа, первым из людей ступившем на берег Анакены.
Но вот учитель поглядел на часы, захлопал в ладоши и велел собираться: пора на судно. Море вело себя спокойно, был ровный, длинный накат; катер, как обычно, стоял у большого плота, с которого дети приноровились прыгать в воду. С первой группой вернулись на судно механики, чтобы пустить машину, а катер снова пошел к плоту. Учитель отобрал на берегу вторую группу, ее отвезли на веслах на большой плот, и кое-кто воспользовался случаем еще раз искупаться напоследок, плывя рядом. Пока катер совершал второй рейс, несколько сорванцов сами добрались вплавь до плота, чтобы ждать там очередного захода. Тут нужен был глаз, поэтому учитель тоже переправился на плот и сопровождал третью группу, когда она погрузилась на катер. Остальные взрослые на берегу готовили следующие группы.
Беда разразилась как гром среди ясного неба. Катер не спеша огибал мыс, направляясь к судну. Вдруг дети засуетились, всем сразу захотелось протиснуться на нос, где с чалкой в руках сидел Тур-младший, чтобы посмотреть оттуда на волны. Как ни старался учитель навести порядок, они его не слушались, словно перестали понимать даже полинезийский язык. Плотник, который стоял на руле, дал задний ход, и вместе с Туром они попробовали призвать к порядку ребят, но катастрофа уже надвигалась. Катер водоизмещением в две тонны, идя с половинным грузом, врезался носом в скат могучего вала и мгновенно наполнился водой. На поверхности остались только ахтерштевень и множество плавающих голов.
С судна тотчас спустили шлюпку, я вместе с судовым врачом отчалил от берега на плотике, все остальные побежали к мысу, от которого до места катастрофы было всего семьдесят — восемьдесят метров. Отчаянно работая веслами, я повернул голову и увидел, что кто-то из детей — плывет к мысу, но большинство барахталось в воде вокруг ахтерштевня. Мы подошли к ним, правя на плотника и одного из школьников, которые поддерживали чьи-то безжизненные тела. Мы вытащили их на плот, и среди них я узнал тринадцатилетнюю дочь бургомистра, милую девчушку с удивительно светлой кожей и золотисто-рыжими волосами. Затем я прыгнул в воду, а врач кружил на плотике, подбирая детишек. Тем временем подоспели вплавь взрослые со стороны мыса во главе с капитаном Хартмарком. Одного за другим мы вылавливали безвольно качающихся на воде ребят и подсаживали на плотик. На нем почти не оставалось места, когда капитан и плотник подтащили могучую тушу учителя. Потребовалось несколько человек, чтобы втолкнуть его на плотик, а тут еще за этот борт уцепились трое из приплывших с берега островитян, и суденышко угрожающе накренилось. Я прикрикнул на них, они соскочили обратно, при этом двое ухватились за меня, да так крепко, что несколько раз окунули, и пришлось мне нырнуть, чтобы вырваться. Около плотика собрались уже все бывшие на берегу моряки, помощник деревенского врача и пять-шесть пасхальцев. Вместе они принялись толкать плотик к мысу, и наш врач, со всех сторон стиснутые ребятишками, лихорадочно работал веслами.
Мы с капитаном продолжали плавать среди всякого барахла, проверяя, не прозевали ли кого-нибудь, и к нам подоспели еще трое пасхальцев. Вода была идеально прозрачной, и, ныряя, я видел на песке, на глубине восьми метров, кучу одежды и ботинок. Вдруг я с ужасом заметил на дне что-то похожее на куклу. Оттолкнувшись ногами, я пошел вниз. Ближе, ближе, кукла росла у меня на глазах. Но я далеко не первоклассный пловец, к тому же было израсходовано немало сил. На глубине семи метров я окончательно выдохся, пришлось поспешно возвращаться к поверхности, как ни горько было сдаваться так близко от драгоценной цели. Всплыв, я увидел рядом с собой звонаря Иосифа. Зная его как лучшего ныряльщика на острове — ему однажды поручили показать нам возле деревни место гибели двух судов, я через силу что-то вымолвил, показал пальцем вниз, и тотчас Иосиф исчез под водой. Через несколько секунд он показался опять, покачал головой, жадно глотнул воздух и снова нырнул. На этот раз он вернулся, держа на вытянутых руках мальчика. Уложив его на бочонок, мы направились к берегу. Тут и шлюпка подошла, а на ней механики, но они, нырнув, увидели на дне одну только одежду. На судне было сорок восемь ребятишек, перекличка там и на берегу показала, что все налицо. Когда мы доплыли до мыса, всех детей с плотика уже перевезли на скалы, и наш доктор вместе с помощником деревенского врача и другими взрослыми делал захлебнувшимся искусственное дыхание. Сам деревенский врач, встретив плотик на мысу, вскочил на борт, чтобы сопровождать до пляжа учителя, которого из-за его внушительного веса не удалось вынести на острые камни. Сгущались сумерки, медленно тянулись жуткие часы, пока деревенский врач старался оживить своего Друга. Ему помогали самые сильные из нашей команды, все остальные занимались детьми на мысу. Больше десятка ребятишек нуждались в срочной помощи. Метались люди с керосиновыми фонарями, подносили шерстяные одеяла и одежду; в лагере Ивон открыла все палатки и разносила большим и маленьким горячее. Из деревни в Анакену чередой потянулись всадники, и во мраке мелькало множество фигур.
В жизни не забуду эту страшную ночь. Жуть пропитала воздух над Анакенской долиной, ее усугубляла серая бесцветная радуга, мрачно повисшая в черном небе над пригорком, за которым показалась луна. Один за другим дети возвращались к жизни, их переносили в палатки и укладывали в кровать. Но двое продолжали лежать недвижимо, и среди этих двоих была рыжеволосая девочка. Бургомистр сидел словно каменный рядом с ней, говоря ровным голосом:
— Ей хорошо теперь, она всегда была такая послушная, теперь она у девы Марии…
Никогда я не ощущал так остро людское горе. И никогда не видел, чтобы его переносили с таким достоинством. Отцы и матери погибших молча пожимали нам руки обеими руками, словно хотели показать, что понимают: хоть катер наш, мы ничуть не причастны к беде. Родители спасенных бросались нам на шею и рыдали. В палатках и около них собралось сто пятнадцать школьников со своими родителями и знакомыми родителей, так что в лагере стало тесновато, но через несколько часов, когда начал сказываться ночной холодок, пасхальцы принялись собирать свои узлы, усаживались в деревянные седла и по двое, по трое разъезжались. Анакенская долина быстро пустела по мере того, как всадники исчезали во мраке, увозя детей, и только два школьника с сильным расстройством желудка остались в лагере со своими родичами.
Последними с пляжа пришли восемь человек с носилками, на которых лежало тело учителя. Серая дуга на черном небе траурной каймой обрамляла восемь фонарей, мелькающих, будто искры в ночи. Деревенский врач подошел и, глядя на меня спокойными черными глазами, произнес:
— Остров потерял хорошего человека, сеньор. Он погиб на посту, его последние слова были: «Кау каи поки! Работайте ногами, мальчики!»
После этого я увидел деревенского врача уже в маленькой церкви патера Себастиана. Склонив голову, он недвижимо стоял у тела своего друга. Двух погибших детей предали земле накануне, обряд был простым и красивым, гроб накрыли пальмовыми листьями, вся деревня шла в траурном шествии, и звучала тихая песня о покойных, отправившихся на небеса.
Патер Себастиан произнес над прахом учителя короткую, но проникновенную речь.
— Ты любил своих учеников, — сказал он в заключение. — Дай бог вам встретиться опять.
Когда тело учителя исчезло в могиле, мы услышали тихий голос деревенского врача:
— Работайте ногами, мальчики, работайте ногами. Пасхальцы как-то очень быстро предали забвению трагический случай. Родные сразу принялись резать скот и, согласно обычаю, устроили роскошные поминки. Даже к нам, в Анакену, навезли целые горы мяса. Но пожалуй, больше всего нас удивила, когда мы управились с уборкой в палатках, полная сохранность всех вещей. Двести лет о пасхальцах писали как об отъявленных ворах, которые тащат все, что попадается под руку. В ту темную безлунную ночь никто за ними не следил, они свободно входили и выходили из палаток, где лежало на виду наше имущество. Мы приготовились к тому, что нас обчистят. Но мы ошиблись. Хоть бы одна шляпа, или расческа, или шнурок пропал. Одежда и одеяла, в которые были завернуты дети, вернулись из деревни выстиранные, выглаженные и аккуратно сложенные.
Правда, один из наших, прыгая в воду, оставил в шляпе на мысу часы, и они пропали. Кто-то из пасхальцев стащил их, пока владелец спасал детей. Конечно, низкий поступок, но что это было перед таким бедствием! Вот почему меня потрясло то, что я услышал от патера Себастиана, встретив его на кладбище впервые после трагедии.
— Какой ужас, что дети погибли, — вымолвил я.
— Еще ужаснее, что украли часы, — невозмутимо ответил он.
— Что ты говоришь? — воскликнул я, пораженный чудовищным ответом.
Патер Себастиан положил руку мне на плечо и спокойно сказал:
— Все мы должны умереть. Но красть мы не должны.
Никогда не забуду этих слов. И как я силился их понять. И как меня еще раз вдруг осенило, какого я человека встретил на Пасхи, быть может самого большого, какого когда-либо знал. Патер Себастиан чрезвычайно серьезно относился к своему вероучению, для него оно не сводилось к воскресным наставлениям с амвона. Он был искренен, когда поучал других. Наш разговор на том кончился, и мы молча вернулись в деревню.
А несколько дней спустя мы опять свиделись. Я велел на время приостановить работы, хотя пасхальцы не одобряли такой шаг. Солнце зашло и снова взошло, вчера есть вчера, а сегодня — сегодня, пора работать, чтобы получить еще паек, еще деньги, еще товары. Проезжая через деревню на джипе, мы увидели, что бургомистр сидит на крыльце и ревностно вырезает из большой болванки птицечеловека. Он окликнул нас и помахал рукой, показывая свое изделие. Мы остановились перед ярко-красной клумбой, за которой стоял возле церкви домик патера Себастиана, я выскочил из машины и отворил низенькую калитку. Через окно я увидел хозяина, он сидел за маленьким столом с кучей писем и других бумаг, жестом приглашая меня войти в его просто обставленный небольшой кабинет. На стене позади него висела полка с книгами на всевозможных языках. Они образовали колоритную рамку учености вокруг головы бородатого мудрого старца в — пышной белой сутане с откинутым капюшоном. Недоставало только чернильницы с большим гусиным пером. Патер Себастиан писал самопишущей ручкой. Зато на столе, прижимая стопку писем, лежал каменный топор. Старый священник как-то не укладывался в двадцатом веке. Правда, мы его воспринимали как своего, однако с таким же успехом он мог быть ученым монахом со средневековой картины, бюстом древнеримского философа, портретом мудреца с древнегреческой вазы или шумерской фрески. И хотя казалось, что он живет уже не одну тысячу лет, голубые глаза его с морщинками, в которых притаилась улыбка, искрились жизнерадостностью и молодой энергией. Сегодня он испытывал особый подъем, что-то его будоражило. Патер попросил меня направить бригаду в один уголок острова, чаще всего фигурирующий в преданиях и легендах пасхальцев.
В двадцатый раз я услышал сказание о рве Ико или земляной печи длинноухих. Всякий, кто был на острове Пасхи, слышал это сказание; его приводят все, писавшие о загадках острова. Пасхальцы показывали мне ямы там, где некогда проходил ров, и с жаром излагали его историю. Патер Себастиан тоже включил это предание в свою книгу, теперь он сам пересказал его мне и кончил просьбой, чтобы я распорядился произвести раскопки во рву.
— Я верю в предание, — сказал он. — Мне известно, что наука настаивает на естественном происхождении рва, но ведь и ученые могут ошибаться. Я хорошо знаю пасхальцев. Слишком жизненно, ярко звучит сказание о рве, чтобы быть выдумкой.
В памяти современных пасхальцев история рва длинноухих стоит в ряду самых древних событий. Она берет свое начало там, где кончился марш истуканов, в голубой дымке прошлого, а речь идет о катастрофе, которая оборвала золотой век острова Пасхи.
Два народа в разное время приплыли на этот остров, и жили они бок о бок. Людей одного племени отличала странная внешность, мужчины и женщины вдевали грузики в мочки ушей и растягивали их до самых плеч. Поэтому первый народ называли Ханау ээпе — длинноухие, а второй Ханау момоко — короткоухие.
Длинноухие были людьми энергичными, они неустанно трудились и заставляли короткоухих тоже строить стены и водружать статуи, а это вызывало недовольство и зависть вынужденных помощников. Наконец длинноухие вздумали очистить остров от камня, чтобы можно было возделывать землю. Начали с плато Пойке в восточной части острова, и короткоухим приходилось носить камни к обрыву и сбрасывать в море. Вот почему сегодня на лугах Пойке нет ни одного камня, хотя весь остальной остров усеян черными и красными осыпями и крупными глыбами лавы.
Но тут короткоухие не выдержали. Им надоело носить камни для длинноухих, и они поднялись на войну. Длинноухие со всех концов острова бежали на восток, на расчищенный полуостров Пойке. Под начальством своего предводителя Ико они прорыли двухкилометровый ров, который отделил плато от остальной части острова, и набросали в ров множество бревен и сучьев, чтобы в любую минуту можно было зажечь огромный костер, если засевшие на равнине внизу короткоухие попытаются штурмовать склон, ведущий на плато. Полуостров обрывается в море крутыми стенами двухсотметровой высоты, и длинноухие чувствовали себя в полной безопасности. Но один из них был женат на женщине из племени короткоухих, по имени Моко Пингеи, и она оказалась вместе с мужем на Пойке. Эта женщина была изменницей, она сговорилась с осаждающими; обещала подать им сигнал. Когда короткоухие увидят ее за плетением корзины, пусть прокрадутся мимо нее.
И вот однажды ночью лазутчики короткоухих заметили, что Моко Пингеи плетет корзину, сидя у конца рва Ико, и один за другим осаждающие стали красться по краю скалы. Пробираясь над обрывом все дальше вперед, они обложили плато сплошным кольцом. Одновременно другой отряд открыто подступил вплотную ко рву. Ничего не подозревавшие длинноухие выстроились по другую сторону рва и подожгли сваленное в нем топливо. Тотчас противник набросился на них с тылу, завязалась кровавая схватка, и длинноухие сгорели в собственном рву.
Лишь троим длинноухим удалось перескочить ров и бежать в сторону Анакены. Одного из них звали Оророина, второго — Ваи, имя третьего забыто. Они спрятались в пещере, которую пасхальцы и сегодня могут вам показать. Здесь их нашли, двоих закололи острыми кольями, а третьему сохранили жизнь, и это был единственный оставшийся в живых длинноухий. Когда короткоухие вытаскивали его из пещеры, он кричал «орро, орро, орро» на своем языке, которого короткоухие не понимали.
Оророину привели в дом короткоухого, по имени Пипи Хореко, у подножия горы Тоатоа. Он женился на женщине из рода Хаоа, у него было много потомков, в том числе Инаки-Луки и Пеа, у которых тоже были потомки, и последние из них по сей день живут на острове среди короткоухих.
Таков самый полный вариант предания о рве длинноухих. И вот теперь патер Себастиан хотел, чтобы я раскопал этот ров. Я знал, что обе прежние экспедиции слышали разные варианты легенды и осматривали остатки рва. Раутледж поначалу колебалась, но заключила, что это естественная впадина геологического происхождения, возможно использованная длинноухими для обороны. Метро пошел еще дальше, он заявил, что природная формация дала пасхальцам повод сочинить сказку. Дескать, островитяне старались как-то объяснить своеобразный географический феномен, так что сказание о длинноухих и короткоухих, несомненно, вымышлено пасхальцами в недавнее время.
Среди тех, кто осматривал ров длинноухих, был также один геолог. Он раз навсегда установил, что впадина возникла естественным путем еще до появления здесь людей. Поток лавы из главной части острова натолкнулся на затвердевший поток, который еще раньше сполз с плато Пойке, и в месте их встречи получилось подобие рва.
Наука вынесла свой приговор, который поверг в недоуменно обескураженных пасхальцев. Однако они продолжали стоять на своем: это оборонительный ров Ико, земляная печь длинноухих. И патер Себастиан верил в их версию.
— Это очень важно для меня лично, если вы согласитесь провести там раскопки, — сказал он и чуть не подпрыгнул от радости, когда я ответил «да».
Руководить раскопками рва длинноухих взялся Карл. На следующий день мы вместе с пятью пасхальцами отправились на джипе в сторону Пойке по расчищенной от камня тропе. И вот уже впереди отлогие травянистые склоны без единого камешка, хотя по бокам и позади нас все было черно от вулканического шлака. Вверху, на плато, можно было катить без помех в любую сторону. Но мы остановились внизу, у кромки, за которой начиналась чистая зелень. Здесь в обе стороны на север и на юг тянулась вдоль склона небольшая впадина, будто занесенная канава. Местами, где было поглубже, она различалась отчетливо, местами почти совсем сглаживалась, потом снова появлялась, и так до самых обрывов по краям перешейка. Кое-где за рвом виднелись возвышения, словно остатки вала. Мы затормозили и выскочили из машины. Вот он, Ко те Ава о Ико, ров Ико, или K° те Уму о те Ханау ээпе, земляная печь длинноухих!
Прежде чем копать всерьез, Карл хотел сначала заложить несколько разведочных шурфов. Мы прошли вдоль канавы и расставили с большим интервалом пятерых рабочих, поручив каждому вырыть глубокую прямоугольную яму. Впервые я видел, чтобы пасхальцы так рьяно брались за работу. Наблюдать за ними но было надобности, и мы решили прогуляться по плато. А когда вернулись и пошли к первому шурфу посмотреть, как подвигается дело, оказалось, что оставленный здесь рабочий куда-то исчез вместе с инструментом. Но прежде чем мы успели удивиться, из ямы вылетели комья земли, и, подойдя вплотную, мы увидели, что старик уже зарылся метра на два и продолжает лихо орудовать киркой и лопатой. А в горчично-желтой стене вокруг него проступал широкий красно-черный слой. Древесный уголь и зола! Здесь некогда пылал огромный костер, и Карл объяснил, что пламя было очень жарким или же костер горел долго, оттого зола такая красная. Раньше чем он успел что-нибудь добавить, я уже бежал по склону к следующей яме.
Карл поспешил вдогонку за мной, и мы увидели торчащую из земли улыбающуюся голову звонаря Иосифа. Он тоже раскопал следы костра и показал нам полную горсть черных головешек. Между тем на всем косогоре не было видно даже самого маленького кустика. Мы бежали от шурфа к шурфу, и всюду нас ждало одно и то же: ярко-красная полоса золы с каймой из черных угольков.
Съездили за патером Себастианом, и он побежал в развевающейся сутане от одной ямы к другой, рассматривая красную золу. Старый патриарх сиял, как солнце. И когда мы под вечер покатили мимо чопорных истуканов Рано Рараку в Анакену, где нас ждал плотный обед, патер широко улыбался, радуясь нашей победе и предвкушая славную трапезу с добрым датским пивом в банках. Надо было хорошенько подкрепиться, завтра предстоял волнующий день, начало больших раскопок на Пойке.
На другое утро бригада рабочих получила задание — сделать полный разрез впадины на перешейке. Несколько дней под руководством Карла продолжались работы, которые позволили раскрыть тайну рва. Верхняя кромка впадины и впрямь была намечена самой природой, она совпадала с границей древнего потока лавы. Но нижняя часть рва была делом прилежных человеческих рук. Люди врубились в камень и создали оборонительный ров правильного сечения, глубиной четыре метра, шириной двенадцать метров и больше двух километров в длину. Это было титаническое сооружение. В золе мы нашли камни для пращей и каменные орудия. Щебень и песок из рва пошли на вал вдоль верхнего края, причем их, судя по виду пластов, переносили в больших корзинах.
Итак, мы убедились, что ров Ико — великолепно задуманное оборонительное сооружение. В глубокой канаве вдоль всего склона много лет назад люди сложили топливо и зажгли огромный костер. Настал наш черед дивиться, а пасхальцы все это давно знали, из поколения в поколение передавалось, что занесенная впадина — след защитного рва Ико и место гибели длинноухих.
Современному археологу нетрудно датировать древесный уголь из древнего костра. Возраст довольно точно определяют, измеряя радиоактивность древесного угля, которая убывает из года в год с определенной,
известной скоростью. Громадный костер в земляной печи длинноухих пылал триста лет назад, может быть чуть раньше или чуть позже. Но оборонительное сооружение было создано людьми задолго до этой катастрофы, ров уже наполовину занесло песком, когда длинноухие собрали в него топливо и подожгли. В нижних слоях тоже оказались следы кострища. Те, кто первоначально копал ров, закидали щебнем очаг, в котором горел огонь около 400 года нашей эры. Это был древнейший датированный след человека во всей Полинезии.
В деревне и в экспедиционном лагере теперь по-новому звучала история длинноухих. Приобретали смысл некоторые особенности огромных статуй — у всех них были длинные уши, отвислые, как у охотничьей собаки.
Однажды под вечер я бродил среди длинноухих статуй у подножия Рано Рараку. У меня накопилось о чем поразмыслить, а лучше всего думается в одиночестве под звездами. Чтобы хорошенько узнать какое-то место, надо там переночевать. Мне случалось спать в самых неожиданных местах: на алтарном камне древнего Стоунхенджа, в сугробе на высочайшей вершине Норвегии, в каморке из сырцового кирпича в одном из заброшенных пещерных поселений Нью-Мексико, у развалин обители первого Инки на острове Солнца на озере Титикака. И вот теперь я решил переночевать в древней каменоломне Рано Рараку. Не потому, что я суеверен и рассчитывал узнать секреты длинноухих от их духов, а потому, что люблю необычные ощущения. Я карабкался вверх с полки на полку через лежащих исполинов, пока среди всех этих фигур не нашел площадку, с которой перенесли готовое изваяние. Опустевшая колыбель напоминала театральный балкон с нависшим потолком. Отсюда открывался великолепный вид, и дождь мне был не страшен.
Впрочем, пока что стояла чудесная погода. Солнце готовилось уйти за крутую стену вулкана Рано Као, который вырисовывался силуэтом в другом конце острова, и красные, пурпурные, фиолетовые облака укрыли ложе солнечного бога. Но несколько ярких лучей пробились сквозь завесу и дотянулись до сверкающей череды волн, которые в нескончаемом штурме медленно и беззвучно накатывались на берег. Днем я вряд ли увидел бы волны, слишком далеко, но вечернее солнце посеребрило курчавые гребни, и серебряная пыль повисла в воздухе у подножия вулкана. Божественное видение…
И среди роя богов на склоне горы сидел на балконе великанов маленький человек, любуясь грандиозной картиной.
Я срезал несколько пучков сухой травы, смел песок и овечий помет с одного конца каменного ложа, потом в гаснущем свете дня сделал себе мягкую постель из травы и папоротника. С луга под горой доносились чарующие звуки полинезийских любовных песен. Две девушки ехали верхом неведомо куда, лошади бесцельно петляли, а беспечные всадницы наполняли вечерний воздух звонким смехом и песней. Но когда солнце потянуло с востока ночной мрак, словно темное жалюзи, и одинокий гость горы стал укладываться спать, девушки вдруг примолкли и, чем-то спугнутые, понеслись галопом к пастушьему домику около бухты. Незадолго перед этим туда прошел пастух. Я видел, как он останавливался на ходу, чтобы поджечь траву. Давно уже стояла засуха, дожди шли очень редко, и трава пожухла. Нужно было ее спалить, чтобы могла вырасти свежая зеленая трава. Покуда было светло, я видел только серую пелену дыма, будто туман над степью. Но вот спустилась ночь, и дым исчез во мраке. Дым, но не огонь.
Чем темнее, тем ярче светились язычки пламени. Казалось, тысячи красных костров вспыхивают в черной ночи.
Морской бриз нес холодок, и я застегнул спальный мешок до самого подбородка, вслушиваясь в ночную тишину и вдыхая необычную атмосферу мастерской длинноухих. На своем балконе я чувствовал себя совсем как в театре. Длинноухие давали исполинский спектакль. Силуэты окружавших меня великанов были будто черные кулисы на фоне переливающегося звездными блестками темно-синего занавеса, а ниже их простиралась глухая степь, где вспыхивали все новые языки пламени, и вот уже кажется, что тысячи незримых короткоухих крадутся с факелами в ночи, готовясь штурмовать каменоломню. Снова время перестало существовать, словно всегда было так: ночь, звезды и люди, играющие с огнем.
С этой картиной перед глазами я задремал, но тут меня заставил вздрогнуть неожиданный шорох: кто-то тихонько полз по сухой траве. Кто бы это мог быть?.. Островитянин, задумавший стащить что-нибудь из моих вещей? Вдруг что-то прошуршало у самой моей головы, я повернулся на живот и зажег фонарь. Ни души. Лампочка мигнула, белый накал сменился красным тлением. Черт бы побрал эти отсыревшие сухие элементы! В тусклом свете фонаря я едва различал каменного богатыря с верхнего яруса; который перекрывал часть моего балкона. Судя по всему, он сломал себе шею, когда его спускали вниз. Да еще из травы на соседнем карнизе, отбрасывая причудливые тени, торчали два здоровенных носа. Небо заволокли тучи, начал накрапывать дождь, но меня он достать не мог. Я выключил фонарик и попытался уснуть, но шуршание усиливалось. Хорошая встряска заставила фонарик светить поярче, и я увидел коричневого таракана величиной с большой палец. Я отыскал ощупью угловатое рубило, каких в мастерской валялось множество, и уже хотел расправиться с чудовищем, когда заметил подле него второго таракана… третьего… четвертого. Таких громадных тараканов я еще не встречал на острове Пасхи. Посветил кругом и убедился, что со всех сторон окружен этими жирными бестиями. Они сидели гроздьями на стенке рядом со мной, над моей головой, а несколько штук забрались на спальный мешок и, тараща глупые круглые глаза, шевелили длинными усиками. Отвратительное зрелище, но, когда я погасил фонарик, стало еще хуже, потому что тараканы сразу закопошились. Один из них, посмелее, даже ущипнул меня за ухо. Снаружи лил дождь. Взяв рубило, я пришиб самых здоровенных, потом сбросил тех, которые влезли на спальный мешок. Опять фонарь отказал, а когда мне удалось что-то из него выжать, кругом было столько же тараканов, сколько до расправы. Несколько бестий пожирали убитых собратьев — сущие каннибалы! Внезапно я увидел глядящие на меня в упор страшные глазища и разинутую беззубую пасть. Прямо кошмар какой-то. Уродливая рожа оказалась высеченным в камне изображением грозного духа маке-маке. Днем я его не заметил, теперь же тени в бороздах выявили его рельефность, в слабом свете фонаря гротескный лик отчетливо вырисовывался на стене у самой моей головы. Я прикончил рубилом еще несколько тараканов, но в конце концов сдался на милость превосходящих сил противника, не то пришлось бы мне всю ночь заниматься убийством. Еще мальчишкой, в бойскаутах, запомнил я мудрое изречение: все животные красивы, если хорошенько присмотреться. Я уставился прямо в блестящие, шоколадного цвета, пустые глаза шестиногого гостя, потом укрылся с головой, чтобы поскорее уснуть. Но жесткое ложе дало мне срок кое о чем еще поразмыслить. Думал я о том, до чего же эта порода твердая — не в том смысле, что лежать жестко, а в том, что рубить трудно. Снова взяв рубило, я изо всех сил стукнул им по скале. Этот опыт я проделывал и раньше и убедился, что рубило отскакивает, оставив лишь светлое пятнышко на породе. Наш капитан ходил со мной сюда один раз, решил испытать крепость камня молотком и зубилом. Полчаса ушло у него на то, чтобы отбить кусок величиной с кулак. И тогда же мы определили, что только в видимых нам нишах было вырублено больше двадцати тысяч кубометров камня, причем археологи считали, что это число надо удвоить. Непостижимо! Что-то фантастическое было во всей этой затее длинноухих… И давняя мысль с новой силой овладела мной. Почему бы не провести опыт? Рубила лежат там, где их бросили ваятели, а в деревне до сих пор живут потомки последнего из длинноухих. Ничто не мешает хоть завтра возобновить работы в каменоломне.
Факельное шествие каннибалов в степи прекратилось. Но рой крохотных каннибалов на карнизе среди великанов продолжал пировать останками сородичей, павших от рубила длинноухих. И под непрерывный шелест и шорох я погрузился в безбрежное, вневременное море сна — голиаф среди копошащихся каннибалов, карлик среди грезящих богатырей под простершимся над горой необъятным звездным небом.
А наутро солнце опять позолотило равнину, и только множество крылышек да скорченных ножек говорило мне, что нашествие тараканов не было сном. Я оседлал лошадь и поскакал по древней заросшей дороге в деревню.
Лицо патера Себастиана осветилось задорной улыбкой, когда я рассказал ему, где провел ночь и что задумал. Он сразу одобрил мою мысль, просил только выбрать укромный уголок, чтобы не нарушать привычной картины — вид на Рано Рараку с равнины. Однако мне для работы были нужны не первые попавшиеся люди. Я знал, что патер Себастиан лучше всех научил родовые связи пасхальцев, он даже опубликовал работу о местных генеалогиях. И я сказал ему, что ищу потомков последнего длинноухого.
— Теперь осталась только одна семья, которая происходит по прямой линии от Оророины, — ответил патер Себастиан. — Они выбрали для себя родовое имя «Адам», когда в прошлом веке пасхальцев крестили. По-местному это звучит «Атан». Да ведь ты знаешь старшего из братьев Атан — это Педро Атан, бургомистр.
— Бургомистр!? — Я был поражен и невольно улыбнулся.
— Конечно, есть в нем шутовство, но он далеко не глуп, да к тому же добрый человек, — заверил меня патер.
— Но ведь он совсем не похож на коренного пасхальца, — возразил я. Эти тонкие губы, узкий нос, светлая кожа…
— Он чистокровный, — сказал старик. — Из всего населения острова мы сегодня можем поручиться за чистокровность только восьмидесяти — девяноста человек. К тому же он настоящий длинноухий по отцу.
Я живо вскочил на коня и поскакал вдоль глинистой улочки к ограде, за которой среди кустов и деревьев укрылся белый домик бургомистра.
Педро Атан был занят работой, вырезывал набор чудесных шахматных фигур, которые изображали птицечеловеков, статуи и другие пасхальные мотивы.
— Это для тебя, сеньор. — Он гордо показал на свой шедевру
— Ты художник, дон Педро бургомистр, — сказал я.
— Да, лучший на всем острове, — тотчас последовал самоуверенный ответ.
— Правда, что ты еще и длинноухий?
— Да, сеньор, — торжественно произнес бургомистр. Он вскочил и вытянулся в струнку, будто солдат на поверке. — Я длинноухий, настоящий длинноухий, и горжусь этим!
Он ударил себя в грудь.
— Кто сделал большие статуи?
— Длинноухие, сеньор! — последовал уверенный ответ.
— А некоторые пасхальцы говорили мне, что короткоухие.
— Это ложь, они хотят присвоить себе честь, которую заслужили мои предки. Все сделано длинноухими. Разве ты не заметил, сеньор, что у статуй длинные уши? Неужели думаешь, что короткоухие вытесывали изображения длинноухих? Эти статуи — памятники вождям длинноухих.
От волнения он часто дышал, тонкие губы дрожали.
— Я считаю, что статуи сделаны длинноухими, — сказал я. — И хочу, чтобы мне высекли такое изваяние, прячем эту работу должны? выполнить только длинноухие. Как ты думаешь, справитесь?
Бургомистр на минуту окаменел, только губы шевелились, потом всколыхнулся:
— Будет сделано, сеньор, будет сделано! А какой величины?
— Да не слишком большую, метров пять-шесть.
— Тогда нужно шесть человек. Нас всего четверо братьев, но есть много длинноухих по матери — подойдет?
— Вполне.
Я тут же навестил губернатора и попросил на время освободить Педро Атана от обязанностей бургомистра. Ему было разрешено вместе с родственниками отправиться на Рано Рараку, чтобы вытесать изваяние.
Меня попросили, чтобы я за день до начала работ приготовил угощение для длинноухих. Раз я заказал статую, мне полагалось кормить работников, таков древний обычай. Кончился день, наступил вечер, а за едой все никто не шел. Один за другим обитатели лагеря стали укладываться спать, раньше всех Ивой с Аннет. в крайней палатке, около поверженного широкоплечего великана, и начали гаснуть фонари. Только Гонсало, Кард и я продолжали писать в столовой.
Вдруг послышалось странное тихое пение… громче, громче… Пели где-то в нашем лагере, а вот к пению присоединился ровный глухой стук. Чем-то древним, необычным веяло от этой музыки. Гонсало встал, явно ошеломленный, Карл вытаращил глаза, и сам я слушал как завороженный. Ничего подобного я не слыхал, сколько путешествовал в Полинезии. Мы вышли из палатки в ночной мрак. Тут и наш кинооператор появился, одетый в пижаму, в палатках загорелись огни. В слабом свете, который пробивался наружу из столовой, мы различили посреди площадки между палатками сидящих людей, которые колотили по земле затейливо орнаментированными палицами, веслами и рубилами. На голове у каждого был убор из листьев, словно венец из перьев, а две фигурки с края были в больших бумажных масках, изображающих птицечеловека с громадными глазами и клювом. Они кланялись и кивали, остальные пели, покачиваясь, и отбивали такт.
Но больше, чем это зрелище, нас очаровала мелодия — будто привет из мира, канувшего в лету. Особенно своеобразно, даже не описать, звучал среди низких мужских голосов чей-то гротескный пронзительный голос, который подчеркивал необычность этого замогильного хора. Приглядевшись, я рассмотрел, что он принадлежит тощей седой старухе. Они продолжали сосредоточенно петь, пока кто-то из наших не вышел из палатки с фонарем в руках. Тотчас пение смолкло, они забормотали «нет» и закрыли лица. Когда фонарь исчез; пение возобновилось, начал запевала, за ним поочередно вступили остальные, последней — старуха. Я словно унесся далеко от Полинезии; что-то похожее доводилось мне слышать среди индейцев пуэбло в Нью-Мексико, и все наши археологи подтвердили мое впечатление.
Как только песня кончилась, я вынес блюдо с сосисками, заранее приготовленное стюардом, исполнители встали и, взяв блюдо, скрылись во мраке. Мы увидели, что птицечеловеков изображали дети.
Через некоторое время вернулся с пустым блюдом бургомистр, чрезвычайно серьезный, с венком из папоротника. Я обратился к нему с шуткой, смеясь, похвалил редкостный спектакль, но бургомистр даже не улыбнулся.
— Это очень старинный обряд, древняя песнь каменотесов, — объяснил он. — Они обращались к своему главному богу Атуа, просили, чтобы им сопутствовала удача в предстоящей работе.
В бургомистре, в песне и ее исполнении было что-то особенное, из-за чего я чувствовал себя неловко и неуверенно. Это был вовсе не спектакль, чтобы развлечь себя или нас, пасхальцы выполнили своего рода ритуал. Ничего подобного я не наблюдал в Полинезии с тех самых пор, как почти двадцать лет назад жил у старика Теи Тетуа, уединившегося в долине Уиа на Фату-Хиве. Жители Полинезии давно расстались со стариной, разве что выступят в лубяных юбочках для туристов. Музыка песен и плясок обычно сочинена не ими, а когда островитяне рассказывают предания, это чаще всего пересказ вычитанного в книгах белых путешественников. Но маленькая ночная церемония явно не была придумана для нас, мы ее увидели лишь потому, что заказали у них статую.
Я нарочно попробовал вызвать бургомистра и его людей на шутку, однако не встретил поддержки. Педро Атан спокойно взял меня за руку и сказал, что все было «всерьез», эта древняя песня обращена к богу.
— Наши предки заблуждались, — продолжал он. — Они верили что бога зовут Атуа. Мы-то знаем, что это неверно, но не будем их порицать, ведь их некому было учить тому, что знаем мы.
Затем весь отряд, большие и маленькие, покинул со своим снаряжением культовую площадку, они отправились в одну из пещер Хоту Матуа, чтобы там переночевать.
На другое утро мы поднялись в каменоломню Рано Рараку. Здесь мы застали бургомистра и еще пятерых длинноухих: придя задолго до нас, они собирали древние рубила. Сотни таких рубил, напоминающих огромный клык с конусовидным острием, лежали на полках и по всему склону. На «балконе», где я ночевал, была незаметная снизу большая ровная стена, которая образовалась, когда древние ваятели врубились в гору. Здесь-то мы и задумали возобновить работу. На стене еще с прежних времен остались следы от рубил, словно длинные царапины. Наши друзья длинноухие с самого начала ясно представляли себе ход работы. У стены были сложены в ряд старые рубила, кроме того, каждый поставил возле себя наполненный водой сосуд из высушенной тыквы. Бургомистр, все в том же венке из папоротника, бегал взад-вперед, проверяя готовность. Затем он где вытянутой рукой, где пядью сделал замеры на скале; очевидно, знал пропорции по своим деревянным фигуркам. Нанес рубилом метки — все готово. Но вместо того чтобы приступать, он вежливо извинился перед нами и зашел со своими людьми за выступ.
Предвкушая новый ритуал, мы долго с интересом ждали, что теперь последует. Но вот каменотесы не спеша, с важным видом вышли из-за выступа и, взяв по рубилу, заняли места вдоль стены. Очевидно, ритуал уже совершился за выступом. Держа рубила, словно кинжал, они по знаку бургомистра запели вчерашнюю песнь каменотесов и принялись в лад песне стучать рубилами по скале. Удивительное зрелище, удивительный спектакль… Правда, в ней недоставало характерного голоса старухи, но гулкие удары рубил возмещали этот пробел. Это было так увлекательно, что мы стояли будто загипнотизированные. Постепенно певцы оживились; весело улыбаясь, они пели и рубили, рубили и пели. Особенно горячо работал пожилой долговязый пасхалец, замыкавший шеренгу, он даже приплясывал, стуча и напевая. Тук-тук, тук, тук-тук-тук, гора твердая, камень о камень, маленький камень в руке тверже, гора поддается, тук-тук-тук — наверное, стук разносился далеко над равниной… Впервые за сотни лет на Рано Рараку снова стучали рубила. Песня смолкла, но не прекращался перестук рубил в руках шестерки длинноухих, которые возродили ремесло и приемы работы своих предков. След от каждого удара был не ахти какой — пятнышко серой пыли, и все, но тут же следовал еще удар, еще и еще, глядишь, и пошло дело. Время от времени каменотесы сбрызгивали скалу водой из тыквы. Так прошел первый день. Куда бы мы ни пошли, всюду к нам доносился стук с горы, где лежали окаменевшие богатыри. Когда я вечером улегся спать в палатке, перед глазами у меня стояли смуглые мускулистые спины и врубающиеся в гору острые камни. И в ушах звучал мерный стук, хотя в каменоломне давно уже воцарилась тишина. Бургомистр и его товарищи, смертельно усталые, спали крепким сном в пещере Хоту Матуа. Старуха приходила к нам в лагерь и получила огромное блюдо с мясом, да еще полный мешок хлеба, сахара и масла, так что длинноухие наелись до отвала перед сном.
На другой день работа продолжалась. Обливаясь потом, пасхальцы рубили камень. На третий день на скале вырисовались контуры истукана. Длинноухие сначала высекали параллельный борозды, потом принимались скалывать выступ между ними. Все стучали и стучали, сбрызгивая камень водой. И без конца меняли рубила, потому что острие быстро становилось круглым и тупым. Прежде исследователи считали, что затупившиеся рубила просто выкидывали, потому-де в каменоломне валяется такое множество рубил. Оказалось, что они ошибаются. Бургомистр собирал затупившиеся рубила и бил, словно дубинкой, одним по другому, так что осколки летели. Смотришь, рубило уже опять острое, и было это на вид так же просто, как чертежнику заточить карандаш.
И мы поняли, что большинство целых рубил, лежавших в каменоломне, были в деле одновременно. У каждого ваятеля был целый набор. Вдоль средней по величине пятиметровой статуи вроде нашей могло разместиться шесть человек. Поэтому сразу можно было делать много истуканов. Сотни-другой каменотесов было достаточно, чтобы развернуть обширные работы. Но многие статуи остались незавершенными по чисто техническим причинам задолго до того, как оборвалась работа в мастерской. Где-то ваятелей остановили трещины в породе, где-то твердые, как кремень, черные включения не давали высечь нос или подбородок.
Так нам открылись тонкости работы каменотесов. Но больше всего нас занимало, сколько времени нужно, чтобы вытесать статую. По расчетам Раутледж, хватило бы и пятнадцати дней. Метро тоже считал, что камень мягкий и обрабатывать его куда легче, чем думает большинство людей; правда, пятнадцати дней ему казалось маловато. Очевидно, оба они допускали ту же ошибку, что мы и многие другие, судя о твердости породы по поверхности изваяний. Чувство благоговения не позволило нам последовать примеру первых испанцев, которые прибыли на Пасхи. Они решили, что истуканы глиняные, и ударили по одному из них киркой так, что искры посыпались. Дело в том, что под выветренной коркой камень очень твердый. То же можно сказать о породе на защищенных от дождя участках горы.
После, третьего дня работа пошла медленнее. Длинноухие показали мне свои скрюченные, в кровавых мозолях пальцы и объяснили, что, хотя они привыкли день-деньской орудовать топором и долотом, у них нет навыка, которым обладали древние ваятели, вытесывавшие моаи. Поэтому они не могут, как их предки, много недель подряд поддерживать высокий темп работы. Мы уселись поудобнее на траве и занялись расчетами. У бургомистра получилось, что две бригады, работая посменно весь день, управятся со статуей средней величины за двенадцать месяцев. Долговязый старик подсчитал, что нужно пятнадцать месяцев. Билл, проверив твердость породы, получил такой же ответ, как бургомистр. Год уйдет на то, чтобы вытесать идола, потом его еще надо перенести.
Интереса ради наши скульпторы вытесали пальцы и наметили лицо, потом отполировали барельеф стертой пемзой, оставленной древними ваятелями.
Вечером того же дня, посадив Аннет на плечо, я вместе с Ивон пошел через долину в пещеру к длинноухим. Они заметили нас издалека; когда мы подошли, они сидели, занятые каждый своим делом, и, плавно покачиваясь из стороны в сторону, напевали песню о Хоту Матуа. Эту старинную песню хорошо знали все пасхальцы, а мелодия ее была такой же захватывающей, как наши популярные песенки. Мы с удовольствием слушали, как ее пели тогда в деревне, но здесь, в пещере самого Хоту Матуа, она нам понравилась еще больше. Даже трехлетняя Аннет запомнила мелодию и полинезийские слова, и теперь она принялась подпевать, приплясывая вместе с двумя местными гномиками, которые выскочили из пещеры. Мы с Ивон пригнулись, вошли и сели на циновку рядом с потеснившимися длинноухими — они были страшно рады гостям.
Расплываясь в улыбке, бургомистр поблагодарил за хорошее угощение, которое им ежедневно посылал наш повар, а особенно за сигареты, самое дорогое для них. Он и еще двое из бригады, вооружившись топориками, напоминающими кирку, Трудились над обычными деревянными фигурками. Один из них вставлял деревянному страшилищу глаза из белых акульих позвонков и черного обсидиана. Бабка-стряпуха плела шляпу, остальные просто лежали, покусывая соломинки и глядя на вечернее небо. Над костром у входа в пещеру висел черный котел.
— Ты когда-нибудь отдыхаешь? — спросил я бургомистра.
— Мы, длинноухие, любим работать, всегда работаем. Я по ночам почти не сплю, сеньор, — ответил он.
— Добрый вечер, — произнес чей-то голос. Этого длинноухого мы и не приметили сразу, он пристроился на подстилке из папоротника в темной нише в стене. — А что, уютно у нас здесь?
Нельзя было не согласиться с этим, но я как-то не ожидал, что они сами придают этому значение. Начало темнеть, из пещеры мы увидели горизонтально парящий в небе лунный серп. Старуха поставила вверх дном старую жестяную банку. В дне была вмятина, а во вмятине плавал в бараньем жире самодельный фитиль. Это подобие старых каменных светильников давало удивительно яркий свет. Тощий старик сообщил нам, что в старину никто не зажигал огня ночью, боялись привлечь врагов.
— Зато воины приучались хорошо видеть в темноте, — добавил бургомистр. — А теперь мы так привыкли к керосиновым лампам, что в темноте почти слепые.
Одно воспоминание родило другие.
— Да, и тогда они так не спали. — Старик лег на спину, раскинул руки, открыл рот и захрапел, будто мотоцикл. — Вот как они спали. — Он перевернулся на живот и собрался в комок, упираясь грудью в колени и положив лоб на сжатые кулаки, макушкой ко мне. В одной руке он держал острый камень.
— Проснулся, вскочил и мигом убил врага, — объяснил старик и для наглядности вдруг стрелой метнулся вперед и набросился на меня с каннибальским воплем, который заставил Ивон взвизгнуть от неожиданности. Длинноухие покатились со смеху. Испуганные ребятишки прибежали посмотреть, что случилось, потом опять затеяли плясать вокруг костра, а длинноухие продолжали увлеченно вспоминать дедовские рассказы.
— Ели тогда очень мало, — говорил старик. — А горячего и вовсе в рот не брали, боялись разжиреть. В то время, мы его называем Хури-моаи, время свержения статуй, нужно было всегда быть готовым к битве.
— Это время так называли, потому что воины сбрасывали статуи, — разъяснил длинноухий в нише.
— А зачем они это делали, ведь все длинноухие сгорели? — спросил я.
— Короткоухие делали это назло друг другу, — ответил бургомистр. — Все принадлежало им, у каждого рода был свой участок. У кого на участке стояли большие статуи, те гордились, и, когда роды воевали между собой, они валили статуи друг у друга, чтобы хорошенько досадить. Мы, длинноухие, не такие воинственные. Мой девиз, сеньор Кон-Тики, — «Не горячись».
И он примирительно положил руку мне на плечо, словно показывая, как надо успокаивать буяна.
— А откуда ты знаешь, что ты длинноухий? — осторожно спросил я.
Бургомистр поднял руку и начал загибать пальцы:
— Потому что мой отец Хосе Абрахан Атан был сыном Тупутахи, а тот был длинноухий, потому что он был сыном Харе Каи Хива, сына Аонгату, сына Ухи, сына Мотуха, сына Пеа, сына Инаки, а тот был сыном Оророины, единственного длинноухого, которого оставили в живых после битвы у рва Ико.
— Ты насчитал десять поколений, — заметил я.
— Значит, кого-то пропустил, потому что я одиннадцатый, — сказал бургомистр и снова принялся считать по пальцам.
— Я тоже из одиннадцатого поколения, — объявил голос из ниши, — но я младший. Педро — старший, он знает больше всех, поэтому он глава нашего рода.
Бургомистр указал на свой лоб и, хитро улыбаясь, произнес:
— У Педро есть голова на плечах. Поэтому Педро предводитель длинноухих и бургомистр всего острова. Я не такой уж старый, но люблю думать о себе как об очень старом человеке.
— Это почему же?
— Потому что старики умные, только они что-то знают. Я попробовал выведать, что происходило до того, как короткоухие истребили длинноухих и началось «время свержения статуй», но напрасно. Они знали, что их род начинается с Оророины, а что было до него, никто не мог сказать. Известно, конечно, что длинноухие сопровождали Хоту Матуа, когда был открыт остров, но ведь то же самое говорят о себе короткоухие, и они же приписывают себе честь изготовления статуй. И никто не помнил, приплыл ли Хоту Матуа с востока или с запада. Человек в нише предположил, что Хоту Матуа приплыл из Австрии (Osterreich — «Восточная империя»), однако никто его не поддержал, и он отступил, добавив, что слышал это на каком-то судне. Пасхальцы предпочитали говорить о гораздо более реальной для них «поре свержения статуй». Вспоминая предавшую его сородичей женщину с корзиной, бургомистр до — того возмущался, что у пего выступили слезы на глазах и перехватило голос. Видно было, что, невзирая на девиз «Не горячись», это предание переживет еще одиннадцать поколений.
— Красивые люди были среди наших предков, — продолжал бургомистр. — Тогда на острове жили разные люди, одни темные, а другие совсем светлокожие, как вы на материке, и со светлыми волосами. В общем белые, но они все равно были настоящие пасхальцы, самые настоящие. В нашем роду таких светлых было много, их называли охо-теа, или «светловолосые». Да у моей собственной матери и у тетки волосы были куда рыжее, чем у сеньоры Кон-Тики.
— Гораздо рыжее, — подтвердил его брат в нише.
— В нашем роду всегда, какое поколение ни возьми, было много светлых. Правда, мы, братья, не рыжие. Но у моей дочери, которая утонула, кожа была белая-пребелая и волосы совсем рыжие, и Хуан, мой сын, он уже взрослый, тоже такой. Он представляет двенадцатое поколение после Оророины.
Что правда, то правда — у обоих детей бургомистра волосы были такого же цвета, как пукао тонкогубых длинноухих идолов, венчавших пасхальские аху во втором культурном периоде. Предки сгорели на Пойке, истуканов свергли с аху, но рыжие волосы можно проследить, начиная от огромных каменных «париков» и от пасхальцев, описанных путешественниками и миссионерами, до последних потомков Оророины, ближайших родственников бургомистра.
Мы и сами чувствовали себя чуть ли не светловолосыми: длинноухими, когда выбрались из пещеры Хоту Матуа и побрели через долину в спящий лагерь. Засиделись, поздновато для Аннет…
Несколько дней спустя я стоял вместе с бургомистром и смотрел на поверженных идолов на культовой площадке у нашего лагеря. Билл только что сообщил на Винапу, что его рабочие-пасхальцы, водружая на место выпавшую из каменной стены глыбу, применили какой-то необычный способ. Нет ли тут какой-нибудь связи с вековой загадкой, как в древности переносили или воздвигали огромные статуи? Применяя свой нехитрый способ, эти рабочие действовали уверенно, словно иного способа и быть но могло. Может быть, речь идет о приемах, унаследованных от предков? Вспомнилось, что я уже спрашивал бургомистра, как переносили статуи из мастерской. А оп тогда ответил то же, что мне говорили все пасхальцы: истуканы сами расходились по местам. Я решил снова попытать счастья:
— Послушай, бургомистр, ты ведь длинноухий, неужели не знаешь, как поднимали этих великанов?
— Конечно, знаю, сеньор, это пустяковое дело.
— Пустяковое дело? Да ведь это одна из великих загадок острова Пасхи!
— Ну, а я знаю способ, как поднять моаи.
— Кто же тебя научил?
Бургомистр с важным видом подошел ко мне вплотную. — Сеньор, когда я был маленьким-маленьким мальчиком, меня сажали на поп и велели слушать, а мой дедушка и его зять старик Пороту сидели передо мной. Знаете, как в школах обучают, вот так они меня учили. Поэтому я знаю очень много. Я должен был повторять за ними снова и снова, пока не запоминал все в точности. И песни я выучил.
Он говорил так искренне, что я опешил. С одной стороны, бургомистр ведь доказал в каменоломне, что в самом деле кое-что знает, с другой стороны, я уже убедился, что он порядочный выдумщик.
— Если ты знаешь, как устанавливали изваяния, почему же ты давным-давно не рассказал об этом всем тем, кто приплывал сюда раньше и расспрашивал жителей? — решил я проверить его.
— Никто не спрашивал меня, — гордо ответил бургомистр, явно считая это достаточно веской причиной.
Я не поверил ему и с апломбом вызвался заплатить сто долларов в тот день, когда самая большая статуя в Анакене встанет на свой постамент. Я знал, что на всем острове нет ни одной статуи, которая стояла бы, как в старину, на своей аху. И не видать мне их стоящими! Безглазые идолы, временно установленные в глубоких ямах у подножия Рано Рараку, в счет не шли.
— Условились, сеньор! — живо отозвался бургомистр и протянул мне руку. — Я как раз собираюсь в Чили, когда придет военный корабль, доллары мне пригодятся!
Я рассмеялся и пожелал ему успеха. Ну, и чудак же этот бургомистр!
В тот же день из деревни прискакал верхом рыжеволосый сын бургомистра. Он привез записку от отца, который просил меня переговорить с губернатором, чтобы тот разрешил ему и еще одиннадцати островитянам на время подъема большой статуи поселиться в пещере Хоту Матуа в Анакене. Я оседлал коня и отправился к губернатору. Он и патер Себастиан только смеялись, слушая бургомистра, дескать, все это пустое бахвальство. Я и сам так думал, но, глядя на дона Педро, который стоял перед нами, держа шляпу в руках, с дрожащими от волнения губами, решил, что надо держать слово. Губернатор дал письменное разрешение. Патер Себастиан посмеивался — мол, посмотрим, что выйдет из этой затеи!
И вот бургомистр вместе с двумя братьями и другими потомками длинноухих по материнской линии — всего двенадцать человек — явились в лагерь. Здесь они получили паек, после чего снова вселились в пещеру Хоту Матуа.
На закате бургомистр пришел к нашим палаткам, вырыл в центре лагеря глубокую круглую яму, затем удалился.
А когда спустилась ночь и лагерь объяла тишина, послышались, как и в прошлый раз, какие-то странные, таинственные звуки. Глухой стук и тихое пение, которое звучало все громче и громче. Запевал дребезжащий старушечий голос, нестройный хор подхватывал припев. Лагерь проснулся, палатки озарились изнутри зеленым призрачным светом, точно огромные бумажные фонари. Все, как один, вышли наружу, на этот раз без фонариков — в прошлый раз мы усвоили, что пение должно происходить в темноте. Однако теперь мы увидели совсем другое представление. Пасхальцы украсили себя листьями и зелеными ветками, кто-то покачивался в лад песне, кто-то приплясывал, топая, будто в экстазе. Старуха пела с закрытыми глазами; у нее был низкий своеобразный голос. Младший брат бургомистра стоял в вырытой вечером яме; потом оказалось, что в ней под плоским камнем лежал большой сосуд. От топота босых ног этот «барабан» издавал глухой звук, который усугублял впечатление, будто мы очутились в подземном царстве. В пробивавшемся сквозь стенки палаток тусклом зеленом свете мы с трудом различали призрачные фигуры, но тут из мрака вынырнуло стройное создание, и наши ребята сразу вытаращили глаза.
Юная девушка в свободном светлом одеянии, босая, с длинными развевающимися волосами, прямая, как свеча, впорхнула в зеленый световой круг, будто нимфа из сказки. Под пение хора и звуки «барабана» она танцевала что-то необычное, в ритме танца ничего не было от хюлы, и она не вращала бедрами. Зрелище было такое прекрасное, что мы боялись дохнуть. Сосредоточенная, чуть смущенная, гибкая, стройная танцовщица словно и не касалась травы своими светлыми ногами. Откуда она? Кто это? Придя в себя от неожиданности и убедившись, что это не сон, наши моряки засыпали друг друга, Мариану и Эрорию вопросами. Уж, казалось бы, они давно успели перезнакомиться со всеми местными красавицами! Может быть, «длинноухие» прятали эту нимфу в какой-нибудь девичьей пещере, «отбеливали» ее? Выяснилось, что она племянница бургомистра и по молодости лет еще не участвует в обычных танцевальных вечерах.
Между тем песня и танец продолжались, и мы смотрели как завороженные. Представление повторилось три раза. Мы разобрали только слова припева, в нем говорилось про моаи, который будет воздвигнут по приказу Кон-Тики на аху в Анакене. Мелодия совсем не похожа на песнь каменотесов, но такая же ритмичная и зажигательная.
Наконец барабанщик вылез из ямы, и все «длинноухие», шурша листьями, встали. Прежде чем они ушли, мы опять выдали им еды. Кто-то спросил их, не согласятся ли они спеть и станцевать какую-нибудь обычную хюлу. Но пасхальцы отказались. Песнь каменотесов еще куда ни шло, сказал бургомистр, но другие мелодии здесь не к месту, только серьезные песни годятся, они принесут удачу в работе. А другие они исполнят нам как-нибудь потом, не то предки обидятся и не будет удачи.
Итак, мы еще раз услышали песнь каменотесов, а затем ночные гости в шуршащих нарядах скрылись во мраке, уводя с собой нимфу в светлом платье…
Солнце только-только осветило мою палатку, когда я проснулся от звука шагов. Двенадцать «длинноухих» из пещеры пришли поглядеть на статую и прикинуть, какая задача им предстоит. Самой большой статуей в Анакене был плечистый верзила, который лежал ничком у нашей палатки. Коренастый крепыш, три метра в плечах, он весил тонн двадцать пять — тридцать. Другими словами, на каждого из двенадцати членов бригады приходилось больше двух тонн. Не мудрено, что, глядя на великана, они почесывали в затылке. Впрочем, они полагались на бургомистра, а он невозмутимо ходил вокруг поверженного исполина, присматриваясь к нему.
Старший механик Ульсен тоже поскреб в затылке, покачал головой и усмехнулся.
— Н-да, если бургомистр справится с этим бесом, я скажу, что он молодец, черт подери!
— Ни за что не справится.
— Куда там.
Во-первых, великан лежал на откосе у стены головой вниз, во-вторых, четыре метра отделяли его основание от плиты, на которой он некогда стоял. Бургомистр показал нам небольшие коварные камни и объяснил, что этими камнями, вбив их под плиту, «короткоухие» повалили статую.
Наконец, так уверенно и спокойно, словно он всю жизнь только и занимался подъемом каменных исполинов, Педро Атан приступил к делу. Единственным орудием пасхальцев были три бревна (потом бургомистр от одного отказался, ограничившись двумя) и множество камней, которые члены бригады собирали около лагеря. Остров Пасхи в общем безлесный, если не считать рощи недавно посаженных эвкалиптов, но вокруг озера в кратере потухшего вулкана Рано Као стоят деревья, уже первые путешественники-европейцы увидели там лес, состоящий из торо миро и гибискуса. Так что три бревна пасхальцы вполне могли раздобыть.
Хотя статуя зарылась носом глубоко в землю, бригаде удалось подсунуть под нее концы бревен. А с другой стороны, раскачивая бревна, повисло по три-четыре человека. Сам бургомистр, лежа на животе, подкладывал мелкие камни под голову статуи. Идол лежал как вкопанный, лишь изредка чуть подрагивал, уступая согласованным усилиям одиннадцати пасхальцев. На первый взгляд — никакого сдвига. Но бургомистр продолжал манипулировать своими камнями, на место маленьких подсовывал камни побольше, еще побольше, и так час за часом. К вечеру голова исполина поднялась над землей уже на метр с лишним, опираясь на горку камней.
На следующий день бригада вместо трех бревен использовала два, и каждой вагой орудовали по пяти человек. Поручив младшему брату подкладывать камни, бургомистр занял место на стене, раскинул руки, как дирижер, и зазвучала громкая, четкая команда:
— Этахи, эруа, этору! Раз, два, три! Раз, два, три! Держать! Подсунуть! Налегли снова! Раз, два, три! Раз, два, три!
Концы наг были подсунуты под правый бок великана, и он незаметно приподнимался. Сначала это были миллиметры, потом дюймы и, наконец, футы. Тогда бревна перенесли к левому боку истукана, и процедура повторилась. И этот бок медленно-медленно поддавался, а свободное место тотчас заполняли камнями. Вернулись к правому боку, опять к левому, туда и обратно… Лежа ничком на груде камней, статуя поднималась все выше и выше. На девятый день груда представляла собой старательно выложенную башню высотой до трех с половиной метров. Даже оторопь брала, как посмотришь на почти тридцатитонного исполина, поднятого высоко над землей. Пасхальцы уже не дотягивались руками до верхнего конца бревен, они дергали и тянули веревки, привязанные к вагам. А истукан еще не начинал выпрямляться, мы еще не видели его лицевой части, ведь он лежал ничком на камнях.
Того и гляди, кого-нибудь зашибет насмерть! Пришлось запретить Аннет подвозить в детской коляске камни для бургомистра. Только крепкие, здоровые мужчины, будто какие-нибудь неандертальцы, тащили, переваливаясь, тяжеленные булыжники. Бургомистр все время был начеку, придирчиво проверял положение каждого камня. Под весом древнего исполина некоторые камни крошились, словно рафинад. Положи хоть один камень не так, и может случиться беда. Но все было тщательно продумано, каждый ход точно рассчитан и взвешен. Затаив дыхание, мы смотрели, как пасхальцы с громадными каменюгами карабкаются на башню, цепляясь за неровности пальцами босых ног. Но люди были предельно собраны, и бургомистр ни на миг не ослаблял внимания, все видел и направлял, не тратя лишних слов.
Таким мы еще не знали дона Педро. Мы привыкли видеть в нем кичливого, назойливого пустобреха. Наши ребята невзлюбили его за постоянное хвастовство и за то, что он очень уж дорого брал за свои фигуры, пусть даже они были, несомненно, лучшими на острове. Но сейчас перед нами был другой человек, уравновешенный, рассудительный — прирожденный организатор, наделенный к тому же недюжинной изобретательностью. Пришлось нам пересматривать свою оценку.
На десятый день подъем статуи был закончен, и «длинноухие» принялись так же незаметно для глаза подавать ее основанием вперед к стене, на которую хотели поставить.
На одиннадцатый день великана начали устанавливать вертикально, подкладывая камни под лицо, шею и грудь.
На семнадцатый день в бригаде «длинноухих» неожиданно появилась морщинистая древняя старуха. На огромной плите, где готовился встать истукан, она вместе с бургомистром выложила полукруг из камней величиной с яйцо. Это был магический ритуал.
Статуя стояла наклонно в чрезвычайно неустойчивом положении, грозя перевалить через аху и скатиться с отвесной стены вниз, на пляж. Впрочем, с таким же успехом она могла повалиться в любую другую сторону, вместо того чтобы стать вертикально на пьедестал. Поэтому бургомистр обвязал голову великана канатом, а от него протянул четыре растяжки к вбитым в землю толстым кольям.
Наступил восемнадцатый день работ. Несколько человек ухватились за веревку со стороны пляжа и начали тянуть, другие притормаживали веревкой, которая была обмотана вокруг кола посредине лагерной площадки, третьи тихонько подваживали бревном. Вдруг великан качнулся, и прогремела команда: — Держать! Крепче держать!
Выпрямившись во весь свой могучий рост, истукан начал переваливаться с ребра на плоскость основания, и освобожденная от нагрузки башня стала разваливаться, здоровенные каменюги с грохотом покатились вниз в облаках пыли. А исполин твердо ступил на плиту и замер — плечистый, прямой. Он смотрел на наш лагерь, равнодушный к переменам, которые произошли на культовой площадке с тех пор, как его сбросили с пьедестала. Весь пейзаж изменился с появлением этой могучей фигуры. Широченная спина была как ориентир, видимый с моря издалека, Мы, обитатели палаток у подножия стены, на которую взгромоздился истукан, не узнавали собственной обители на участке древнего Хоту Матуа. Огромная голова неотступно следовала за нами, возвышаясь над палатками будто старый норвежский горный тролль. Идешь ночью по лагерю, так и кажется, что тролль-великан сейчас вышел из роя звезд и занес ногу, чтобы переступить через излучающие зеленый свет палатки.
Впервые после столетнего перерыва один из великанов острова Пасхи снова занял свое место на аху.
Приехали на джипе губернатор с семьей, патер и монахини, около лагеря стучали копыта: все, кто только мог, спешили в Анакену посмотреть на работу своих односельчан. Гордые «длинноухие» разобрали башню, и бургомистр с достоинством грелся в лучах собственной славы. Он доказал, что знает ответ на одну из старейших загадок острова Пасхи. И разве могло быть иначе? Что ни говори, дон Педро Атан — старый мудрец, бургомистр острова, старший из всех «длинноухих»! Только заплатите, он на всех аху установит статуи, и все будет, как в старые, добрые времена. Деньги, полученные в этот раз, он поделил со своими помощниками, но если ему доведется попасть с военным кораблем в Чили, он самого президента уговорит раскошелиться, чтобы встали все статуи. С одиннадцатью помощниками, действуя двумя бревнами, он поднял этого истукана за восемнадцать дней. То ли еще будет, если ему прибавят людей и времени!
Я отвел бургомистра в сторонку и, положив ему руки на плечи, строго посмотрел ему в лицо. Он стоял с видом прилежного школьника и выжидающе глядел на меня.
— Дон Педро бургомистр, может быть, теперь ты расскажешь мне, как твои предки переправляли статуи в разные концы острова? — спросил я.
— Они сами шли, пешком, — отчеканил он.
— Ерунда! — воскликнул я разочарованно и не без раздражения.
— Не горячись. Я верю, что они шли сами, и мы должны чтить своих предков, а они говорили так. Но старики, которые мне об этом рассказывали, лично не видели, чтобы статуи сами шли. Так что кто знает, может быть, тут применяли миро манга эруа?
— А что это такое?
Бургомистр начертил на песке что-то вроде рогатки с перекладинами и объяснил, что из древесного ствола с развилком делали такие салазки.
— Во всяком случае на салазках доставляли большие каменные плиты для стен, — продолжал он. — Из крепкого луба хаухау делали канаты, такие же толстые, как у вас на корабле. Я могу сплести тебе на пробу такой канат. И миро манга эруа тоже могу сделать.
Незадолго перед тем по соседству с лагерем один из наших археологов откопал статую, которая была полностью занесена песком, так что патер Себастиан о ней не знал и не метил ее. Судя по тому, что статуя была без глаз, ее бросили, не доставив к месту назначения.
— Можешь ты со своими людьми протащить этого моаи по равнине? — спросил я бургомистра, показывая на слепого идола.
— Нет, нужно, чтобы и другие тоже помогли, а они не станут. Тут даже всех твоих рабочих не хватит.
Статуя была далеко не из самых больших, скорее ниже среднего роста. Мне пришла в голову одна идея, и с помощью бургомистра я купил в деревне двух здоровенных быков. «Длинноухие» зарезали их и изжарили мясо на камнях в земляной печи. Потом мы пригласили жителей деревни на пир, и в степи вокруг лагеря собралась тьма народу.
«Длинноухие» осторожно убрали с печи слой песка, и показались распаренные банановые листья. Эту несъедобную приправу тоже убрали, и открылись целиком зажаренные туши. Толпа восхищенно вдыхала запах чудеснейшего в мире жаркого. Держа в руках громадные куски горячего мяса, гости расселись кучками на траве, а «длинноухие» разносили батат, кукурузу и тыкву; все это парилось вместе с бычьими тушами в плотно закрытой земляной печи. Вокруг пирующих паслись на травке оседланные кони, гнедые и вороные. Кто-то забренчал на гитаре, зазвучали песни и смех, начались пляски.
Тем временем «длинноухие» приготовили все, чтобы тянуть слепого идола. Сто восемьдесят веселых островитян со смехом и криками выстроились вдоль длинного каната, обвязанного вокруг шеи великана. Бургомистр, в новой белой рубахе и клетчатом галстуке, чувствовал себя героем дня. — Раз, два, три! Раз, два, три!
Бамм! Канат лопнул, мужчины и женщины, громко хохоча, покатились вперемежку по земле. Бургомистр смущенно улыбнулся и велел сложить канат вдвое. На этот раз истукан тронулся с места. Сперва короткими рывками, потом будто кто-то выключил тормоз — великан заскользил по земле так быстро, что помощник бургомистра Лазарь вскочил на голову статуи и принялся гикать и размахивать руками, как гладиатор на колеснице. Длинные колонны пасхальцев прилежно тянули, громко крича от восторга, да так скоро, словно на буксире были пустые ящики.
Через несколько минут мы остановили этот выезд. Было очевидно, что сто восемьдесят плотно закусивших пасхальцев вполне могут тащить по степи двенадцатитонную статую. А на деревянных салазках, да если собрать побольше людей, можно было перемещать и куда более тяжелые изваяния.
Итак, мы увидели, что с водой и каменными рубилами можно высечь статуи прямо в горной толще — было бы только время; убедились, что при помощи канатов или на салазках можно перенести каменных великанов — было бы вдоволь прилежных рук и крепких ног; увидели, что истуканы взмывают вверх, как воздушный шар, и встают на высокую стену, если только знать верный способ. Оставался один рабочий секрет: как водружали громадный «пучок волос» на макушку стоящей фигуры? Впрочем, ответ напрашивался. Груда камней, которые подняли идола вверх, высилась вровень с его головой — красный «парик» вполне можно вкатить наверх по этой насыпи. Или тем же нехитрым способом поднять вдоль стены. А когда и статуя, и парик оказывались на месте на аху, башню разбирали. Дело сделано — истукан поставлен.
Загадка родилась только после того, как умерли ваятели: как же можно было все это сделать, не зная железа, кранов, машин? А ответ прост. На этот маленький островок пришли люди, которые в изобретательности и творческой энергии никому не уступали. У них не было войн и было сколько угодно времени, чтобы сооружать свои вавилонские башни на фундаменте древней традиции. Сотни лет не знали они никаких врагов на самом уединенном острове в мире, где соседями их были только рыбы и киты.
Наши раскопки показали, что лишь в третьем периоде на Пасхи начали изготовлять наконечники для копий и другое оружие.
Недалеко от палаток лежал здоровенный цилиндр из красного камня. Давным-давно его прикатили сюда из каменоломни на другом конце острова. Цилиндр проделал тогда путь в десяток километров, а теперь бургомистр вызвался протащить его на катках оставшиеся несколько сот метров и увенчать им голову поднятого великаны Но в те самые дни, когда «длинноухие» поднимали идола, на место решенных нами загадок острова Пасхи явилась новая тайна. Все наши карты оказались перетасованными, и красный «парик» так и остался лежать там, где остановился передохнуть перед финишным рывком.
У нас появились другие заботы.
Глава шестая. Клин клином
Подвешенный на веревочке фонарь чертил длинные тени на палаточном брезенте. Я прикрутил фитиль и стал готовиться ко сну. В лагере темно и тихо, только прибой шуршит на пляже. Ивон уже забралась в спальный мешок на раскладушке у задней стенки. Аннет давно уснула в своем уголке за низкой ширмой. Вдруг кто-то поскребся снаружи в брезент, и тихий голос произнес на ломаном испанском языке: — Сеньор Кон-Тики, можно мне войти?
Я снова натянул штаны и приоткрыл замок-молнию ровно настолько, чтобы выглянуть одним глазом. Во тьме я смутно различил фигуру человека с каким-то свертком под мышкой; дальше на фоне звездного неба вырисовывался силуэт лежащего богатыря: шел седьмой день, как «длинноухие» начали его поднимать.
Можно мне войти? — опять послышался умоляющий шепот.
Я тихо открыл и неохотно впустил гостя. Он юркнул внутрь и остановился. Пригнув голову, он восхищенно осматривался в палатке, на губах его была радостная благодарная улыбка. Старый знакомый — самый младший в бригаде бургомистра, один из так называемых нечистых длинноухих, удивительно симпатичные двадцатилетний паренек, по имени Эстеван Пакарати. Низкая палатка не давала ему выпрямиться, и я предложил ему сесть на мою кровать.
Он посидел, смущенно улыбаясь и подыскивая слова, потом неловко сунул мне круглый сверток: — Это вот тебе.
Я развернул мятую коричневую бумагу и увидел курицу. Курицу из камня. Выполнена очень реалистично, в натуральную величину, и совсем не похожа на известные всем изделия пасхальцев. Я не успел и рта раскрыть, как гость уже продолжал: — Все в деревне говорят, что сеньор Кон-Тики послан нам, чтобы приносить счастье. Поэтому ты нам столько всего дал. Все курят твои сигареты и благодарят тебя.
— Но откуда у тебя этот камень?
— Это моа, курица. Моя жена велела дать ее тебе в благодарность, ведь она получает все сигареты, которые ты даешь мне каждый день.
Ивон высунулась из спального мешка и достала из чемодана материал на платье. Но Эстеван решительно отказался принять что-либо от меня.
— Я не меняться пришел, — заявил он. — Это подарок сеньору Кон-Тики.
— А это подарок твоей жене, — ответил я.
Эстеван нехотя уступил и опять принялся благодарить за еду, сигареты и все прочее, что ежедневно доставалось ему и остальным «длинноухим». Наконец, он выбрался из палатки и пропал во мраке, ушел ночевать в деревню. Но прежде он попросил меня спрятать курицу, чтобы ее никто не увидел.
Я еще раз осмотрел искусно выполненную скульптуру.
Отличная работа! От камня попахивало дымком. Впервые у меня в руках было подлинно художественное местное изделие, которое не повторяло в тысячный раз старые деревянные фигуры и не было миниатюрной копией больших статуй. Я убрал каменную наседку в чемодан и задул фонарь.
Вечером следующего дня, как только лагерь уснул, я снова услышал тихий голос у входа в палатку. Что ему нужно теперь?
На этот раз Эстеван принес другое изображение: на плоском камне высечен скорченный человек с птичьим клювом, в одной руке он держал яйцо. Что-то в этом роде мы видели на скалах Оронго, разрушенной обители птицечеловеков. Тонкая работа была выполнена мастерски. Камень был ответным подарком жены Эстевана за полученный от нас материал. Объяснив, что фигурку вытесал ее отец, Эстеван опять попросил нас никому не показывать эту вещь. На прощание мы дали ему новый сверток для жены. Убирая камень, я обратил внимание, на то, что он влажный тщательно начищенный песком и пахнет едким дымом. Что за чертовщина?
Я долго ломал себе голову над этими странно пахнущими изделиями, выполненными с необычайным искусством, в конце концов не выдержал, зазвал к себе в палатку бургомистра и опустил поднятые на день стенки.
— Мне нужно тебя кое о чем спросить, но только обещай: никому ни слова, — сказал я.
Заинтригованный бургомистр дал слово сохранить все в тайне. — Что ты скажешь об этих вещах? — Я достал из чемодана оба камня.
Бургомистр отпрянул, словно обжегся. Он побледнел, глаза у него были такие, будто он увидел злого духа или дуло пистолета.
— Откуда они у тебя? Откуда они у тебя? — выдавил он наконец из себя.
— Я не могу тебе сказать этого. Но мне хочется знать твое мнение о них!
Бургомистр по-прежнему жался с испуганными глазами к стенке.
— На острове, кроме меня, никто не умеет делать такие фигуры, — сказал он, и по лицу его можно было подумать, что он вдруг встретил собственную тень.
Бургомистр продолжал разглядывать камни, и тут его явно осенила какая-то мысль, в глазах появилось что-то похожее на любопытство, потом он подвел мысленный итог и спокойно сказал мне:
— Спрячь оба камня и поскорее отправь их на корабль, чтобы на острове никто не увидел. Если тебе принесут еще, бери тоже и прячь на судне, даже если они тебе покажутся новыми. — А все-таки что это такое? — Это вещь серьезная — родовые камни.
Не могу сказать, чтобы я что-нибудь уразумел в мудреных речах бургомистра, но все же мне стало ясно, что я нечаянно натолкнулся на нечто чрезвычайно щекотливое. Этот тесть Эстевана творит какие-то подозрительные дела…
Я знал Эстевана как человека простодушного, отзывчивого и доброго. И когда он на третий вечер опять пришел к палатке, я решил выяснить, что же все-таки происходит. Усадил гостя на кровать и приготовился начать длинный разговор, но ему не терпелось показать свой «товар». На этот раз он высыпал из мешка на мою постель три изделия, увидев которые, я онемел. На одном камне по кругу искусно высечены три головы, трое бородатых усачей, причем борода одного переходила в волосы следующего. Второй камень изображал палицу с глазами и ртом, третий — стоящего человека с громадной крысой в зубах. Мотивы и исполнение совсем необычные не только для острова Пасхи: я не видел ничего подобного ни в одном из музеев мира.
Никогда не поверю, чтобы эти вещи сделал тесть Эстевана! В них было что-то сумрачное, что-то языческое, и парень с явной робостью смотрел на камни и прикасался к ним.
— Почему мужчина держит крысу в зубах? — В эту минуту я просто не мог придумать более толкового вопроса.
Эстеван оживился, сел поближе ко мне и начал вполголоса объяснять, что у предков был такой обычай: когда у мужчины умирала жена или ребенок, — словом, кто-то из близких, он должен был поймать киое (крысу съедобного вида, обитавшую на острове до появления корабельных крыс) и, держа ее в зубах, один раз пробежать без остановки вдоль всего побережья, убивая каждого, кто преградит ему путь.
— Так воин показывал свое горе, — заключил Эстеван с явным восхищением в голосе.
— Кто же сделал этого скорбящего воина?
— Дед моей жены.
— А остальные — ее отец?
— Не знаю точно, один — отец, другие — дед. Несколько раз она видела, как отец работал над такими камнями.
— Он сейчас работает у нас на раскопках?
— Нет, он умер. Это священные камни, очень важные. Чем дальше, тем загадочнее! А Эстеван уже говорил о том, что он с женой опять слышал в деревне: дескать, я прислан на остров высшими силами. Какой-то вздор, да и только!
— А где вы хранили эти камни после смерти отца твоей жены? У себя дома?
Эстеван поежился, помялся, наконец сказал: — Нет, в пещере, в родовой пещере.
Я встретил эти слова молчанием и услышал целую исповедь. Дескать, пещера битком набита такими камнями. Но найти ее никто не сумеет, никто. Только его жена знает, где вход. Она одна может туда войти. Он сам никогда не видел этой пещеры. Хотя примерно представляет себе, где она находится, потому что стоял по соседству, пока жена доставала там камни. Жена и сказала, что пещера набита ими.
Теперь, когда Эстеван посвятил меня в свою тайну, разговаривать об этом было легче. И когда он пришел в следующий раз, то вызвался попробовать уговорить жену, чтобы она взяла меня с собой в пещеру. Тогда я сам смогу выбрать, что мне больше понравится, а то ведь камней так много, всех ему просто не принести. Но главная трудность, продолжал он, очень уж она, жена его, непреклонна в этом вопросе, прямо кремень. Даже его ни раду не пускала в пещеру. И если она теперь согласится, нам надо будет ночью тайком прийти в Хангароа — пещера находится где-то прямо в деревне.
Эстеван рассказал, что жена, прежде чем послать камни мне, чистила их песком, мыла и сушила над кухонным очагом: боялась, как бы кто-нибудь из местных, увидев их, не догадался, что она берет старинные вещи из родовой пещеры. Но раз уж я об этом прошу, он ей скажет, чтобы больше их не мыла. А вообще-то она спрашивала, что именно мне хочется получить.
Но о чем ее попросить, если даже Эстеван не может мне сказать, что там есть? Одно — было ясно: из тайного хранилища на острове появляются чрезвычайно ценные для этнографии произведения искусства.
Бургомистру ничего не стоило установить, кто из его людей покидает ночью пещеру Хоту Матуа. А может быть, он устроил засаду около моей палатки — кто знает? Так или иначе однажды он отвел меня в сторонку и с хитрым видом сообщил, что тесть Эстевана, умерший много лет назад, был его хорошим другом. И оп был последним на острове, кто делал «важные» камни. Такие камни, которые делали не для продажи, а для себя. — А в чем было их назначение? — спросил я. — Их приносили с собой на праздники и показывали, носили на пляски.
Больше я ничего не сумел от него добиться.
После этого у меня была новая встреча с Эстеваном, и он принес мне еще камней из пещеры. А потом его ночные посещения вдруг прекратились. В конце концов я послал за ним, и он пришел вечером в мою палатку обескураженный и огорченный: по словам жены, два духа, охраняющие ее пещеру, рассердились, потому что она вынесла столько вещей. Теперь она наотрез отказывается взять меня с собой в пещеру. И по той же причине Эстеван перестал приносить мне фигурные камни. Он-то готов для меня все что угодно сделать, по жена уперлась и ни в какую, ну прямо кремень. Недаром отец именно ей передал наследственную тайну.
В это же время, когда Эстеван приходил ко мне по ночам с камнями, на острове каждый день происходили какие-нибудь события. Археологи делали все новые неожиданные находки, и все сильнее проявлялось суеверие пасхальцев. На вершине Рано Као Эд обнаружил стены ранее неизвестного храма и начал раскопки. И когда я пришел посмотреть, как идут дела, двое рабочих из его бригады взялись за меня всерьез.
— Признайся, что ты из нашего рода и уехал с Пасхи много поколений назад, — сказал один.
— Мы всё точно знаем, так что не отпирайся, — поддержал его второй.
Я рассмеялся и ответил, что я самый настоящий норвежец, приехал с противоположного конца земного шара. Но рабочие стояли на своем: они меня разоблачили, чего уж там! Ведь говорится же в одном предании про островитянина, который в давние времена покинул остров и не вернулся. Больше того, если я никогда раньше не был на Пасхи, как это меня осенило сразу отправиться в Анакену и поселиться в том самом месте, где высаживался Хоту Матуа, когда высадился на острове?
Спорить было бесполезно, и я постарался обратить все в шутку. В этот же день по просьбе Арне рабочие перевернули показавшийся ему странным большой прямоугольный камень, который лежал у дороги возле Рано Рараку. Пасхальцы отлично знали этот камень, и многим, наверно, доводилось сидеть на нем, но тут его впервые перевернули и, ко всеобщему удивлению, увидели неведомого идола — толстогубого, плосконосого, с большими мешками под глазами. Широкое квадратное лицо не имело ничего общего с известными пасхальскими изображениями. Опять что-то новое, озадачившее пасхальцев! Кто подсказал сеньору Арне, что этот камень стоит перевернуть? Рабочие так и объявили ему: дескать, всем уже известно, что этот сеньор Кон-Тики якшается с нечистой силой.
Как-то вечером мы с Ивон снова навестили бургомистра с его «длинноухими» в пещере Хоту Матуа. Удобно лежа на подстилках, они уписывали ломти хлеба с маслом и джемом, а у входа в большом чайнике кипела вода для кофе.
— Дома мы едим только батат и рыбу. — Бургомистр с довольным видом погладил себя по животу.
Зажгли светильник в жестяной банке, и разговор опять зашел о старине, о том, как король Туу-ко-иху обнаружил два спящих привидения подле красной горы, где добывался камень для «париков». Оба привидения были длинноухие, с бородой и большим горбатым носом и до того тощие, что ребра торчали. Король тихо-тихо отступил, вернулся домой и поспешил вырезать их облик из дерева, пока не забыл. Так впервые появились деревянные фигурки моаи кава-кава, человека-призрака, которые с тех пор в точности повторяются пасхальскими резчиками.
Поужинав, «длинноухие» вытащили заготовки и принялись вырезывать свои моаи кава-кава. По неровным стенам пещеры метались беспокойные тени, а старики рассказывали страшные истории о призраках-людоедах, которые являлись по ночам и требовали кишок. Или про женщину-призрака, которая, лежа в море, длинной-предлинной рукой стаскивала людей с утесов, а другие призраки толкали одиноких странников со скал прямо в волны. У Лазаря, помощника бургомистра, коварное привидение сбросило в море бабушку. Но были и дружелюбные привидения, они помогали некоторым людям. Большинство призраков хорошо относились к какому-то одному роду, а всем остальным чинили вред.
Страшные истории следовали одна за другой, и кончилось тем, что «длинноухие» наперебой принялись описывать загадочный случай, приключившийся с ними самими не далее как сегодня!
— И ведь ты тоже там был, — заявил кто-то. — Смотрел, как все происходило, и даже виду не подал.
Они отлично знали, что перемещать статуи по острову предкам помогала нечистая сила. Но устанавливать идолов на постаменты приходилось самим с помощью ваг и камней; правда, и тут не обходилось без участия волшебников. А сегодня на глазах у всех случилось такое, чего они прежде не видели: незримый аку-аку помог поднять истукана. Это песня принесла удачу.
Взяв деревянную фигуру и две палочки, «длинноухие» показали нам, как они раскачивали истукана с одного бока, и вдруг голова великана поднялась на несколько дюймов, хотя ее никто не трогал!
— Это поразительно, — приговаривал человек в нише. — Просто поразительно…
Тур-младший в эти дни помогал Эду наносить на карту развалины Оронго на вершине Рано Као.
Эд и Билл нашли приют в коттедже губернатора у подножия горы, и, так как до нашего лагеря было очень далеко, гостеприимная хозяйка дома предложила Туру тоже поселиться здесь. Но Тура обуяла юношеская страсть к романтике и приключениям, и он решил обосноваться в разрушенном селении птицечеловеков на горе. Из древних каменных хижин многие еще вполне годились для жилья. Конечно, в них низкие потолки и постель жесткая, зато он будет надежно укрыт от любой непогоды, а вид сверху такой, что ни словом сказать, ни пером описать. Стоя там, Тур видел у своих ног всю деревню Хангароа и большую часть острова; на западе и на востоке до самого небосвода простирался Тихий океан.
Врытые в землю хижины птицечеловеков располагались рядом с замечательными барельефами у острого, как нож, гребня кратера.
В двух-трех шагах от порога гора обрывалась на триста метров отвесно вниз до самого моря с птичьими островками; несколько шагов в другую сторону — ивы на краю второго столь же крутого обрыва. Отсюда начинался огромный кратер потухшего вулкана Рано Као, исполинская чаша полутора километров в поперечнике. Дно кратера выстилал пятнистый зеленый ковер — вероломная трясина с рябью блестящих окошек чистой воды.
Когда Тур, взяв спальный мешок и продукты, отправился на вершину, пасхальцы не на шутку испугались. Его уговаривали, умоляли на ночь возвращаться вниз. Эда просили, чтобы он запретил мальчику ночевать наверху. Дали знать даже мне в Анакену, что нельзя Туру-младшему оставаться на ночь одному в развалинах Оронго, его там заберет аку-аку. Но никакие предупреждения не помогли. Для юношеского воображения каменные хижины Оронго были увлекательнее самого роскошного дворца.
Кончился рабочий день, бригада спустилась вниз, а Тур остался на гребне. Бригадир-пасхалец так сильно беспокоился, что послал на гору трех добровольцев, чтобы они составили компанию парню. И когда солнце зашло и над темными кручами зарокотал ветер, Тур немного испугался: среди развалин появились три тени… Оказалось, это девушки, посланные бригадиром, причем они дико трусили, одна из них от страха буквально помешалась. Гулкое эхо в черном кратере она приняла за голос аку-аку, увидела отражение звездочки на болоте — опять аку-аку! Всюду девушкам чудились духи, и они еле дождались дня, чтобы спуститься с горы в степь. А потом Тур ночевал в Оронго один и по утрам любовался восходом, когда остальные еще только поднимались по склону. Пасхальцы считали его героем, задаривали дынями, ананасами и жареными цыплятами. И хотя им никак не удавалось уговорить заставить мальчика спуститься в степь, волноваться за него они перестали: Кон-Тики-ити-ити может один жить в Оронго, его охраняет волшебная сила.
Четыре месяца провел Тур на гребне, и никакие аку-аку его не тронули.
Но таинственные происшествия этим отнюдь не были исчерпаны. В те самые дни, когда я начал выпытывать у Эстевана тайны родовых пещер, меня крепко озадачил Лазарь — правая рука бургомистра и, как утверждали они оба, одно из важнейших лиц на острове. Лазарь входил в число трех выборных представителей местной власти, и бургомистр говорил мне, что он очень богатый человек. В жилах Лазаря текла кровь и длинноухих, и короткоухих с примесью, к которой были причастны европейские гости.
Он был изумительно сложен, но лицо его могло бы послужить Дарвину лишним подтверждением эволюционной теории. Если когда-то в будущем археологи откопают череп Лазаря, они, пожалуй, заподозрят, что остров Пасхи был колыбелью человечества. Впрочем, несмотря на низкий скошенный лоб с крутыми надбровными дугами, выдающиеся вперед челюсти с маленьким подбородком и жемчугом зубов под полными губами, мясистый нос и чуткие глаза дикого зверя, Лазарь вовсе не походил на тупоумную обезьяну. Он был на редкость сообразителен и смышлен и к тому же щедро наделен чувством юмора. Но сверх того он был еще и суеверен.
В тот день Эд сообщил мне, что нашел неизвестные фрески на потолочной плите в развалинах Оронго. Почти одновременно Арне откопал у подножия Рано Рараку новую скульптуру своеобразного типа. И когда под вечер «длинноухие», закончив работу, удалились в пещеру Хоту Матуа, Лазарь с таинственным видом отвел меня в сторону.
— Теперь тебе только ронго-ронго недостает, — сказал он, украдкой поглядывая на мое лицо: как я буду реагировать.
Я сразу понял, что этот разговор затеян неспроста, и изобразил безразличие.
— Их больше нет на острове, — коротко ответил я.
— Нет, есть, — осторожно возразил Лазарь.
— Если есть, так совсем гнилые, только тронешь — рассыплются.
— Нет, мой двоюродный брат сам держал в руках две ронго-ронго.
Я не поверил ему. Видя это, Лазарь попросил меня пройти с ним за каменную стену, рядом с которой поднимали истукана, и здесь шепотом сообщил мне, что у него есть два двоюродных брата, близнецы Даниель и Альберте Ика, и, хотя Альберте родился часом позже Даниеля, именно ему доверили по наследству секрет родовой пещеры, где хранится множество удивительных вещей, в том числе несколько ронго-ронго. Два года назад Альберте ходил в пещеру и принес домой две ронго-ронго, причем одна дощечка напоминала плоскую рыбу с хвостовым плавником. Испещренные маленькими фигурками, эти дощечки были почти черные и совсем твердые, несмотря на свой древний возраст. Не только Лазарь, многие другие видели их. Но Альберте нарушил табу, взяв таблицы из пещеры, и ночью, когда он уснул, к нему подобрался аку-аку и стал его щипать и колоть, пока не разбудил. Альберте выглянул в окно и увидел тысячи крохотных человечков, которые лезли в дом. Он чуть не свихнулся от страха, бегом отправился в пещеру и положил обе ронго-ронго на место. Пещера эта находится где-то поблизости от долины Ханга-о-Тео.
Рассказав все это, Лазарь добавил, что постарается убедить двоюродного брата наораться храбрости и снова вынести дощечки.
Продолжая расспросы, я выяснил, что роду Лазаря принадлежит несколько пещер. Сам он знал ход в один тайник, тоже расположенный по соседству с Ханга-о-Тео. Правда, там нет ронго-ронго, зато есть много других предметов.
Я стал было уговаривать Лазаря провести меня в эту пещеру, по тут его покладистости вдруг пришел конец. Наградив меня уничтожающим взглядом, он объяснил тоном наставника, что тогда нам обоим конец. В пещере обитает родовой аку-аку, там же лежат скелеты двух предков, и, если туда попробует проникнуть посторонний, аку-аку его страшно покарает. Вход в пещеру — самая священная тайна.
Я попытался обратить в шутку разговор про аку-аку, взывал к разуму Лазаря, но это было все равно что пробивать стену головой. Все мои старания были напрасными. Единственное, чего я добился после долгих уговоров, это обещания Лазаря, что он принесет мне что-нибудь из тайника.
А что принести? Птицечеловека с яйцом или без? В пещере есть всякая всячина, кроме ронго-ронго, конечно. Я предложил ему захватить всего понемногу — посмотрю и что-нибудь выберу. Но Лазарь ответил, что так нельзя. Слишком много в пещере редкостей, он может рискнуть вынести только какой-нибудь один предмет. В эту минуту наш разговор прервали, Лазарь простился и исчез.
На следующий день я решил посмотреть, как идут дела у «длинноухих»; они еще продолжали подносить камни и наращивать башню, поднимая истукана. Бургомистр и Лазарь подошли ко мне.
— Видишь, аку-аку нам помогает, — пробормотал бургомистр. — Если бы не колдовство, мы бы одни не справились.
Я услышал, что сегодня они изжарили курицу в земляной печи около пещеры, чтобы статуя поднималась быстрее.
Я сделал попытку победить их суеверие, но встретил решительный отпор. Когда я заявил, что никаких аку-аку не существует, они посмотрели на меня как на безнадежного идиота. То есть как это не существует! В старое время весь остров кишел ими, теперь их стало меньше, по все равно можно назвать множество мест, где по сей день живут аку-аку. Есть аку-аку мужского и женского пола, добрые и злые. Кто разговаривал с аку-аку, рассказывает, что у них своеобразный писклявый голос; всех доказательств существования аку-аку и не сочтешь… Мне не давали слова вставить. С таким же успехом я мог бы попытаться внушить им, что в море нет рыбы, а в деревне — кур.
Из всего этого вытекало одно: атмосфера острова пропитана исступленным суеверием, которое лучше всяких замков преграждает вход в пещеры с неведомыми предметами.
В книге патера Себастиана об острове Пасхи можно прочесть такие слова:
«Существовали потайные пещеры, принадлежавшие определенным родам, причем только самые значительные представители рода знали вход в тайную родовую пещеру. В подземных тайниках хранились драгоценные предметы, например дощечки ронго-ронго с письменами и статуэтки. Секрет расположения этих пещер утрачен со смертью последних представителей старой поры…»
Во всем мире нет человека, который лучше патера Себастиана знал бы остров Пасхи и секреты островитян. К тому же я мог быть уверен, что все рассказанное ему останется между нами.
Итак, я отправился к патеру и сказал, что, по-видимому, на Пасхи до сих пор есть тайные родовые пещеры. От удивления он попятился и, теребя бороду, воскликнул:
— Не может быть!
Не называя имен, я рассказал ему о подаренных мне загадочных камнях. Он загорелся и тотчас спросил, где находится пещера. Но я мог только поделиться тем немногим, что сумел узнать, и добавил, что из-за суеверия островитян вход в пещеры для меня закрыт. Пока я говорил, патер Себастиан взволнованно ходил по комнате в своей белой сутане, потом он остановился и в отчаянии взялся руками за голову.
— Ох, уж это их суеверие! — вымолвил он. — На днях приходит ко мне Мариана и совершенно серьезно принимается уверять, что ты не человек. Суеверие засело в них так прочно, что с этим поколением уже ничего не поделаешь. Они чрезвычайно высоко чтят своих предков, и я их вполне понимаю. И ведь все они добрые христиане, но это суеверие сильнее всего!
Я услышал, что патер Себастиан до сих пор не смог переубедить собственную домоправительницу, почтенную Эрорию, упорно считающую себя потомком кита, выброшенного на берег залива Хотуити. Мол, она на все отвечает, что, хоть он и священник, его слово тут ничего не значит, потому что она знает об этом от своего отца, ему же рассказал его отец, который в свою очередь ссылался на своего отца, а уж тому ли не знать, как было дело: ведь он и был тем китом!
Мы пришли к выводу, что орешек будет нелегко раскусить. Не просто это — уговорить пасхальца проводить вас в такое место, которое охраняют бесы и злые духи. Патер Себастиан предложил мне взять у него святой воды — пасхальцы верят в ее силу, может быть они расхрабрятся, если мы окропим вход в пещеру? Да нет, пожалуй, патеру не стоит открыто вмешиваться в эту историю. Он сам признал, что кому-кому, а уж ему-то местные жители вряд ли станут поверять такие секреты. Но мы, конечно, будем поддерживать с ним непрерывную связь, он примет меня хоть среди ночи, если мне удастся побывать в тайной пещере.
Меня ставило в тупик это дикое суеверие разумных пасхальцев, но потом я вспомнил про наш собственный мир. Разве нет у нас двадцатиэтажных домов без тринадцатого этажа или самолетов, где за двенадцатым местом сразу следует четырнадцатое? Значит, кто-то верит, что число «13» заколдованное, с ним связан приносящий несчастье злой дух. Вся разница в том, что мы его не называем недобрым аку-аку… Разве нет людей, для которых дурная примета рассыпать соль, или разбить зеркало, или встретить черную кошку? Они, эти люди, верят в аку-аку, хоть и не пользуются этим словом. Так стоит ли поражаться тому, что обитатели самого уединенного в мире островка подозревают своих пращуров в колдовстве и верят, что тени предков, бродят среди их гигантских скульптурных портретов, которые даже мы, европейцы, во всеуслышание называем таинственными. Если сытый черный котишка, средь бела дня мирно шествующий по дороге, на кого-то нагоняет суеверный страх, что же тогда говорить о скелетах и черепах в мрачных подземельях острова Пасхи!
Суеверие пасхальцев — наследие далекого прошлого; из поколения в поколение передавалась вера в вездесущих злых духов. На острове есть моста, куда некоторые здешние жители вообще не решаются заходить, особенно ночью. Бургомистр и Лазарь озабоченно рассказывали мне, какой это бич для острова.
Подобно многим другим до меня я допустил серьезный промах, не учтя всех этих обстоятельств. Никакие доводы разума не могли погасить пламени суеверия — что бы я ни говорил, все было как о стену горох. Лесной пожар водой не затушишь, тут нужен встречный пал. Пламя — худший враг пламени, когда оно подчинено вашей воле. И, основательно поразмыслив, я пришел к выводу, что надо попробовать обратить суеверие против суеверия. Если они верят, что я общаюсь с предками, передам им от имени тех же предков, что отныне старые табу и проклятия отменяются. Я проворочался с боку на бок целую ночь, обдумывая свой план. Ивон, хоть и назвала его безумным, поддержала меня.
На следующий день у меня состоялась на каменистом склоне долгая беседа с бургомистром и Лазарем. Чего только я не услышал, пока морочил им голову. Сперва я, ничуть не греша против метины, рассказал, что отлично знаю секрет табу и что мне первому довелось плыть на пироге по Ваи По, подземному озеру в заколдованной пещере на Фату-Хиве. Рассказал, как я на том те острове пробрался в склеп завороженной пае-пае — и хоть бы что. Бургомистр и Лазарь слушали, вытаращив глаза. Они и не подозревали, что на других островах тоже существуют табу. Того, что я знал про эту древнюю систему запретов, вполне хватило, чтобы потрясти их, особенно когда я принялся пересказывать слышанные на Фату-Хиве истории о всяких бедах и ужасающих несчастьях, поражавших тех, кто нарушал табу предков.
Бургомистр побледнел. Поеживаясь и смущенно улыбаясь, он признался, что его мороз по коже дерет, когда он слышит про такие вещи. Ведь точно такие случаи происходят на острове Пасхи. И я услышал примеры: как целую семью поразила проказа, как акула отхватила руку человеку, как сильнейшее наводнение унесло камышовую хижину вместе со всеми ее обитателями, как аку-аку доводили до помешательства многих островитян, щипая их по ночам, — и все за попытки нарушить табу родовых пещер.
— А с тобой что случилось? — спросил Лазарь с садистским любопытством.
— Да ничего, — сказал я. Кажется, мой ответ его разочаровал.
— Это потому, что у тебя есть мана, — заявил он. (Так пасхальцы называют магическое свойство, наделяющее человека волшебной силой.)
— У сеньора Кон-Тики есть не только мана, — сказал Лазарю бургомистр: дескать, я-то все вижу. — У него есть аку-аку, который приносит ему удачу. Я ухватился за эту соломинку. — Поэтому я могу войти в запретную пещеру, и мне ничего не будет.
— Тебе-то ничего не будет, зато будет нам, если мы покажем тебе пещеру. — Лазарь показал на себя и кивнул с многозначительной кривой усмешкой.
— Со мной и вам бояться нечего, мой аку-аку не даст вас в обиду, — попытался я успокоить его.
Но этот довод не произвел впечатления на Лазаря. Родовой аку-аку покарает его, и мой аку-аку, как бы надежно он меня ни защищал, тут не поможет. А один я ни за что на свете не найду входа, даже если буду стоять так же близко от него, как мы сейчас друг от друга.
— Лазарь происходит из очень знатного рода, — похвастался за своего друга бургомистр. — У них много пещер. Они богатые. Лазарь гордо сплюнул.
— Но у меня тоже есть мана, — кичливо продолжал бургомистр. — Это мой аку-аку помогает нам поднимать статую. В моей пещере в маленькой аху на берегу залива Лаперуза находятся три аку-аку. Один — в виде птицы.
Итак, нам удалось установить, что мы все трое — важные персоны. Бургомистр и Лазарь старались перещеголять друг друга в знании дурных и хороших примет, и тут вдруг выяснилось, что в этот день я, сам того не ведая, выдержал серьезное испытание. Бургомистр рассказал, что утром смотрел, как я вязал узел на палаточной растяжке, и лишний раз убедился в моей осведомленности — небось, я завязывал справа налево, а не наоборот!
Опираясь на такой плацдарм, я решил идти на штурм. Объявил, что мне известно, почему на родовые пещеры наложено табу — исключительно для того, чтобы сохранить изделия предков. Беды бояться надо только, если скульптуры достанутся туристам и матросам, которые в этом не понимают и могут даже со временем их забросить. Если же скульптуры попадут к ученым, которые доставят их в музей, это на счастье. Музей все равно что церковь, люди осторожно ходят и смотрят, и скульптуры будут там стоять за стеклом, их никто не разобьет и не выбросит. И злые духи покинут остров вместе с ними, так что больше некого будет бояться.
Мне показалось, что мои слова произвели особенно сильное впечатление на Лазаря. И я не ошибся: в ту же ночь снова кто-то поскребся в стенку палатки и чей-то голос тихонько позвал Кон-Тики. На этот раз пришел не Эстеван, а Лазарь. В мешке, который он мне сунул, лежало старинное изделие, плоская каменная голова — своеобразное лицо, длинные жидкие усы. В ямках на камне была паутина, сразу видно, что его не мыли и не чистили песком. Лазарь кое-что рассказал о самой пещере: я узнал, что в ней множество скульптур, в числе которых каменная чаша с изображением трех голов, удивительные люди и животные, модели судов, что расположена пещера около Ханга-о-Тео и первоначально принадлежала прадеду, теперь же перешла по наследству к Лазарю и его трем сестрам. Когда Лазарь доставал каменную голову, никакой беды не случилось, и теперь он решил поговорить с двумя старшими сестрами, чтобы они позволили ему принести мне еще что-нибудь. С младшей говорить не обязательно, ей всего двадцать лет, она в этих делах не смыслит.
Сразу было видно, что Лазарь, побывав в пещере, чувствует себя героем.
Он продолжал рассказывать: всего его роду принадлежат четыре подземных тайника. Тайник с ронго-ронго, в который ходил Альберте, находится где-то по соседству с пещерой, где сейчас побывал Лазарь, но вход известен одному Альберте, Еще одна пещера — в скалах около Винапу: ее Лазарь знает, и туда он собирается сходить в следующий раз. Четвертый тайник — на склоне Рано Рараку, той самой горы, где высекали статуи. В этой пещере три отделения, она принадлежит трем родам. Там столько чужих скелетов, что он туда никогда не посмеет войти, да он и входа не знает.
Я спросил его, но бывает ли краж, коль скоро три рода знают ход в пещеру. Нет, сказал он, этого бояться нечего: каждому роду принадлежит свой уголок, и он охраняется родовым аку-аку.
Лазарь получил для обеих старших сестер материал на платье и другие подарки и скрылся во мраке.
А бургомистр на следующий день продолжал как ни в чем не бывало командовать «длинноухими», которые висели на тяжелых бревнах. Стоит на аху, отбивает такт взмахом руки, и по его лицу ничего не угадаешь. Чем он похвастался вчера? Тем, что ему помогает в этой работе аку-аку да еще тройка добрых духов, обитающих в стене в соседней долине. И только. Но я, глядя, как он, спокойно и трезво, словно опытный инженер, распоряжается подъемом статуи, говорил себе, что было бы странно, если бы предводитель «длинноухих» не имел ни одной пещеры, когда у рода Лазаря их целых четыре! Просто, чтобы он заговорил, нужно средство посильнее.
Выбрав удобную минуту, я опять отвел в сторонку бургомистра и Лазаря для доверительного разговора. Есть ли у дона Педро своя пещера или нет, он во всяком случае знает, что это такое. И в ходе беседы я спросил его, много ли на острове родов владеет подземными тайниками. Много, ответил он, но между собой они об этом избегают говорить. Секрет большинства пещер утрачен, потому что местонахождение тайника известно, как правило, только одному члену семьи. И если он умирает, не успев посвятить в тайну преемника, вход найти невозможно, так все хитро устроено. Из-за этого кануло в неизвестность много родовых пещер. Старинные изделия лежат в лих без ухода, портятся, а это приносит несчастье.
— Вот и надо это предотвратить, — подхватил я. — Потому-то так важно поместить изделия в надежный музей, там их никто не украдет, и там они будут в полной сохранности, для этого специальный сторож есть.
Бургомистр призадумался, однако я его не убедил. Мол, те, кто делал каменные фигурки, велели хранить их в тайных пещерах, а не в домах.
— Это потому, что на камышовые хижины нельзя было положиться, объяснил я. — Тогда пещеры были самым надежным местом, но, стоит забыть, где вход, и все пропадет. А вход в музей не затеряется.
Бургомистр продолжал сомневаться. Какую бы манн он мне ни приписывал, веление предков было сильнее, И ведь у него тоже есть и мала, и аку-аку. но он почему-то пока не видел никаких указаний на то, чтобы предки изменили свою позицию.
Я зашел в тупик. Видя это, и Лазарь тоже начал колебаться. И тут я решился на отчаянный шаг. Бургомистр суеверен — так надо придумать знамение, которое убедит его, что предки отменили смертоносное табу.
В степи рядом с лагерем стояла старая аху с поверженными идолами. Первая, классическая кладка сильно пострадала, когда во вторую эпоху началась перестройка. Работу не довели до конца, а потом пришли разрушители. На песке перед фасадом беспорядочно лежали плиты и необтесанные камни. Билл уделил воскресенье осмотру этой аху и под слоем песка на одной плите увидел что-то вроде головы кита; огромный камень закрывал все, остальное. Он рассказал мне про свою находку и вернулся в Винапу.
Вместе с фотографом мы отыскали это место, приподняли верхний камень, и к подножию стены скатилась плита с рельефный изображением кита длиной около метра. Плита упала необработанной стороной вверх, и никто не отличил бы ее от остальных камней,
валявшихся кругом.
Это подсказало мне идею. Никто не видел, как мы ходили к аху. И теперь я предложил бургомистру и Лазарю прийти в лагерь в полночь, когда будет совсем темно и тихо. Мы устроим волшебное представление и убедим предков самих прислать нам скрытое в земле произведение искусства в знак того, что они больше не боятся открывать свои секреты.
Мое предложение страшно увлекло бургомистра и Лазаря, и, когда воцарилась ночь, оба тихонько пришли в лагерь. Как раз перед ними ко мне явился Эстеван со своим последним подарком. Ивон представляла себе всякие ужасы и не могла уснуть, все лежала и прислушивалась. Остальные крепко спали.
Я объяснил моим гостям, что нам надо стать в затылок, положить руки на плечи друг другу и медленно пройти по кругу. Наутро мы внутри этого круга найдем изделие предков, присланное ими в знак справедливости моих слов о том, что аку-аку впредь никого не будут карать за нарушение старых табу.
И мы зашагали: впереди я, сложив руки накрест на груди, за мной бургомистр, держа меня за плечи, и последним Лазарь. В кромешной тьме я не видел, куда ступаю, и, с трудом сдерживая смех, спотыкался на каждом шагу. Но мои ведомые отнеслись к церемонии так серьезно, что, наверно, прошли бы за мной даже по канату. Но вот обход завершен, мы вернулись к палатке, без слов низко поклонились друг другу и бесшумно разошлись.
На следующий день бургомистр уже на рассвете явился в лагерь и рассказал мне, что ночью около пещеры Хоту Матуа видел два таинственных огня. Нет, это были не фары джипа, он точно знает, а какое-то доброе предзнаменование.
Снабдив бригады заданием на день, я пригласил бургомистра и Лазаря и попросил их отобрать лучшего и самого надежного из своих людей, чтобы он помог нам искать внутри круга, который мы наметили ночью. Бургомистр тотчас назвал мне своего младшего брата Атана Атана, тщедушного человечка с черными усами и огромными доверчивыми глазами. Атан Атан простодушно заверил меня, что у него в самом деле золотое сердце и он добрый человек, я могу хоть кого спросить, если не верю ему на слово. Мы взяли Атана с собой и приступили к поискам.
Будем переворачивать все камни подряд, сказал я, и посмотрим, не попадется ли нам художественное изделие предков. А чтобы придать поискам больше драматизма, оттянуть минуту находки, я начал с дальнего конца.
Случай решил иначе. Сперва Атану попался какой-то необычный предмет из красного камня, потом я подобрал старый каменный напильник и чудесный топорик из обсидиана. А вскоре мы услышали громкий крик Атана — он перевернул большую плиту и счищал с нее песок. Втроем мы подбежали к нему и увидели великолепного рельефного кита. Но ведь это совсем не тот кит, которого я приметил! Выходит, их тут два… Бросив статую, к нам прибежали «длинноухие» — посмотреть; из лагеря примчались кок, стюард и фотограф. Бургомистр стоял с округлившимися глазами, грудь его часто вздымалась. Вместе с Атаном он восхищенно что-то бормотал о могуществе моего аку-аку. Лазарь, напустив на себя важность, возвестил, что это место раньше принадлежало его роду и родовым аку-аку. Бургомистра била дрожь. Пасхальцы смотрели на меня, как на диковинного зверя. А я думал о том, что главный сюрприз еще впереди! — Вы раньше видели такие фигуры? — спросил я. Нет, никто не видел. Но все тотчас узнали мамама ниухи — дельфина.
— Тогда я сделаю так, что внутри круга появится еще одно изображение, — сказал я.
Бургомистр отправил своих людей обратно, чтобы собирали камни для подъема идола, и вчетвером мы продолжали поиски. Переворачивали камень за камнем и медленно приближались к цели. В эту минуту стюард позвал меня завтракать, и я велел помощникам подождать — я приду и Сам заставлю явиться кита.
Сидя в столовой, мы вдруг услышали крики и шум, вбежал страшно расстроенный бургомистр и сообщил, что двое рабочих сами, без его ведома, затеяли искать в кругу, нашли кита и поволокли к пещере Хоту Матуа, рассчитывая продать его мне. Бургомистр был в полном отчаянии. Я потер себе нос: н-да, задали они мне задачу, черт возьми, что же делать? Эти ребята присвоили мои лавры, теперь уже не явится по моему велению кит, как я обещал…
Тем временем Лазарь догнал рабочих и заставил их тащить камень обратно. Они положили свою находку на место. Что такое — это ведь совсем не то место? Вместо с бургомистром я подошел ближе — и опешил: мой камень по-прежнему лежал оборотной стороной вверх, его никто не трогал! А двое преступников, которые теперь стояли передо мной с виноватым и испуганным видом, оказывается, нашли третьего кита, размером поменьше. Я поспешил их успокоить, дескать, все в порядке, как только я доем, мы продолжим, и они увидят еще одного кита, лучше и больше этого.
Когда поиски возобновились и остался последний сектор круга, я заметил, что мои помощники, все трое, словно нарочно, обходят нужный камень, а все другие переворачивают, Наконец кольцо замкнулось.
— Нет больше китов, — озадаченно произнес бургомистр. — А вы пропустили вот этот. — Я показал на заветный камень.
— Ничего подобного, — возразил Лазарь. — Разве ты не видишь: он лежит светлой стороной вверх.
И я понял, что эти дети природы с одного взгляда могут определить, повернут ли камень «загаром» кверху или светлой, не прокаленной солнцем стороной, как этот.
— Ладно, допустим, вы его перевернули, — уступил я. — А теперь поверните еще раз. Помните камень у Рано Рараку, на котором вы часто сидели, — что было, когда его перевернул сеньор Арне?
Лазарь вместе со мной ухватился за камень, и мы опрокинули его.
— Глядите! — вымолвил Лазарь, растерянно улыбаясь. Атан ахнул; бургомистр возбужденно твердил: — Очень важно. Очень важно. Какой сильный аку-аку! Бросив статую, опять прибежали «длинноухие», подошел и народ из лагеря. Все были поражены, даже два молодца, которые только что сами нашли камень с рельефом. Мы с фотографом, думая про удивительные совпадения этого дня, с трудом удерживались от смеха. Эрория покачала головой и спокойно объявила, что я удачник, только и всего. Она не могла оторвать глаз от трех китов, и я подумал, что для нее это своего рода галерея фамильных портретов, ведь говорил же ей отец, что она происходит по прямой линии от кита! А бабка Мариана поведала нам странную историю. Вместе с пастухом Леонардо она жила в каменном домике на другом краю нашей долины. Сегодня у них ночевал брат Леонардо — старик Доминго, и, проснувшись утром, он рассказал, что видел во сне, как сеньор Кон-Тики поймал пять тунцов.
— Значит, еще двух не хватает! — воскликнул бургомистр.
И не успел я опомниться, как вся компания снова принялась ворочать камни, причем наиболее рьяные, по-моему, выходили за круг.
Все настроились во что бы то ни стало найти двух недостающих китов, чтобы исполнился сон Доминго. Наконец кому-то попались две не очень старательно высеченные рыбы, которых тотчас объявили китами.
Пасхальцы с торжеством разложили в ряд все пять изображений, затем бургомистр взял небольшой камешек, начертил им некую дугу на песке перед китами, в середине дуги выкопал ямочку и сказал:
— Готово.
Вместе с Лазарем он стал у дуги и, вращая бедрами, они спели несколько строф из древней песни Хоту Матуа, отдохнули, потом спели еще, опять передохнули. Так продолжалось до вечера, наконец все разошлись.
На следующий день Лазарь ни свет, ни заря явился в лагерь с мешком и шмыгнул в мою палатку. Когда он скинул мешок с плеча на пол, я услышал стук каменных фигур.
С той поры Лазарь частенько наведывался ко мне по ночам. Днем он работал, вечером вместе со всеми отправлялся спать в пещеру, по среди ночи, шагая через спящих, тихонько выбирался наружу, седлал копя и исчезал во мраке за пригорком на западе.
Бургомистр еще три дня крепился, потом и он не выдержал. Вызвав меня для важного разговора, он сообщил, что у него-де есть друг, у которого в саду хранится большая красная статуя без номера, и эту статую я могу взять к себе на корабль как талисман. Я объяснил бургомистру, что такие памятники охраняются государством, их нельзя увозить. Он заметно расстроился и приуныл: значит, этот дар не годится… По его лицу было видно, как он терзается. Наконец бургомистр тихо сказал, что переговорит со своими людьми, у многих из них есть родовые пещеры. Пусть только меня не сбивает с толку, если кто-нибудь принесет новые с виду изделия, и станет уверять, будто сам их нашел или сделал. Дескать, люди боятся говорить открыто об этих вещах. И вообще хранимые в пещерах камни положено мыть и чистить.
Я принялся втолковывать ему, что этого ни в коем случае не надо делать, можно испортить изделие.
И тут дон Педро проговорился: как же так, отец специально просил его мыть камни!
— А ты сдувай пыль, и все, — посоветовал я. — Тогда камень не будет истираться.
Бургомистр одобрил эту идею и сказал, что поделится моим советом с другими. Но его беспокоило, что в поры застывшей лавы могут проникнуть личинки насекомых и мелкие корешки. В пещерах, которые остались без присмотра, из-за этого потрескалось и пропало много скульптур. Забыв про свою осторожность, бургомистр рассказал, что моет все свои фигуры каждый месяц. Я слушал с каменным лицом, и он совсем разоткровенничался.
Я узнал, что на чистку всех камней у него уходит пятнадцать ночей, ведь он как старший брат отвечает за четыре пещеры. Жена в это время ловит рыбу, ей не положено помогать ему, она из другого рода. Бургомистр должен входить в пещеру один и стараться не шуметь. Как вошел, быстро хватай, что нужно, — раз, два, три! — и скорей на волю, мыть взятое. В одном тайнике есть даже деньги — железные деньги. Но в пещерах сыро, поэтому деревянных фигур в них нет. Правда, он унаследовал еще две пещеры другого рода — ана миро, которые полны деревянных изделий, да только ему до сих нор не удалось найти туда вход. Три раза приходил он в указанное место и жарил цыпленка в земляной печи, чтобы запах помог отыскать тайные входы в эти пещеры, и все напрасно. Теперь вот хочет попробовать еще раз. Под конец бургомистр добавил, что его аку-аку все время советует ему взять кое-что из пещер и подарить Кон-Тики, хотя отец говорил, чтобы он никогда-никогда ничего не выносил из тайников. Ему бы получить брюки, рубаху, совсем немного материала на платье да несколько долларов в придачу — он спрячет все это в пещере на тот случай, если кто-нибудь из родни будет очень нуждаться. Тогда посмотрим, что произойдет…
Бургомистр получил все, о чем просил, но ничего не произошло. А тут наступил шестнадцатый день работ со статуей — еще немного, и великан станет на место. Была середина февраля, время ежегодного визита с материка, губернатору уже сообщили по радио, что на Пасхи вышел военный корабль «Пинто», и «длинноухие» страшно торопились.
Бургомистр мечтал вовремя управиться с подъемом, чтобы командир корабля своими глазами увидел стоящего на стене идола, — ведь он, прибыв на остров, автоматически становился высшим представителем власти на Пасхи, и дон Педро надеялся, что капитан «Пинто» доложит о нем что-нибудь лестное президенту Чили.
На шестнадцатый день работ бургомистру понадобился канат, чтобы с одной стороны тянуть, с другой удерживать статую. И так как все наши веревки были заняты на раскопках в разных концах острова, мы вечером поехали на джипе к губернатору в надежде раздобыть канат. А губернатор встретил нас известием, что «Пинто» ожидается завтра, ведь уже десять суток как судно вышло из Чили. Бургомистр расстроился. Значит, он не поспеет со статуей… Как только придет корабль, всех поставят на погрузку шерсти и выгрузку муки, сахара и прочих припасов на год. Да, как ни жаль, подтвердил губернатор, «длинноухим» и всем остальным, кого мы наняли, придется прервать работы и завтра явиться к нему.
Обескураженные, мы проехали через деревню к патеру Себастиану, чтобы сообщить о ходе событий. Я шепнул ему, что все мои попытки проникнуть в родовую пещеру пока остаются безуспешными, хотя на борту нашего судна собралась уже целая коллекция необычных скульптур.
Еще по пути к патеру бургомистр вдруг предложил, чтобы каждый из нас мысленно обратился к своему аку-аку: пусть задержат «Пинто» хотя бы на один день, тогда он успеет поднять идола. И он погрузился в благоговейное молчание, сидя на инструментальном ящике между мной и фотографом и судорожно цепляясь за сиденья, чтобы не разбить голову о потолок, когда нас бросало на ухабах.
После визита к патеру Себастиану нам предстояло опять проехать через всю деревню, затем свернуть на колею в сторону Анакены. На самом повороте мы увидели в свете фар губернатора и рядом с ним на земле здоровенную бухту каната. Пришла новая радиограмма: «Пинто» будет только послезавтра.
Я откинулся на спинку сиденья, сдерживая смех. Фотограф прыснул, нагнувшись над баранкой. Ведь это надо же — какое странное совпадение! А бургомистр воспринял все как должное.
— Вот видишь, — тихонько сказал он мне.
Я не знал, что отвечать, только молча качал головой, пока мы катили дальше во мраке.
На деле оказалось, что «длинноухим» нужно два дня, а не один для завершения подъема, так что из замечательного плана дона Педро ничего но вышло. Но тогда он не мог этого знать и громко восхищался могуществом наших объединенных аку-аку, причем главная роль явно отводилась моему аку-аку, потому что бургомистр по собственному почину начал нашептывать мне про удивительные вещи, хранящиеся в его пещерах. Никогда еще, ни разу он не выносил ничего из унаследованных сокровищ, теперь же собственный, аку-аку упорно подбивает его на это…
И вот семнадцатый день. Сегодня идол должен встать на пьедестал. Появилась, как я уже говорил, седая бабка и выложила из камушков магический полукруг на плите, призванной быть основанием статуи. Затем она подошла ко мне и подарила большой, искусно сделанный и тщательно отполированный рыболовный крючок из черного камня. Дескать, она «нашла» этот крючок как раз сегодня — добрая примета.
Я впервые видел эту старуху. Маленькая, тщедушная, сутулая, но за морщинами угадывалось некогда красивое, благородное лицо, а глаза сверкали умом. Бургомистр шепотом сказал мне, что это сестра его отца, последняя, остальные умерли. Ее имя Виктория, но она предпочитает называться Таху-таху, что означает «колдовство». Всю ночь она плясала перед пещерой «длинноухих», чтобы им сопутствовало счастье и великан не сорвался со стены, становясь на плиту. Великан не упал, но и не стал на место. Оставалась самая малость, завтра он выпрямился бы во весь рост, но назавтра всем надлежало быть в деревне по случаю главной сенсации года — прибытия военного корабля. Так что истукан встретил командира корабля в наклонном положении, уткнувшись носом в каменную насыпь.
А пока лагерь на ночь опустел, остался только сторож, мы же все отправились на борт экспедиционного судна, чтобы на рассвете выйти в море и эскортировать военный корабль до залива Хангароа. Пасхальцы не привыкли к такому оживлению в океане. Обычно лишь голая паутинка горизонта разделяла два голубых ноля. Завтра утром на паутинке будут висеть муха и комар, а затем два корабля вместе бросят якорь около деревни.
Кстати, в эти дни умы пасхальцев занимало еще одно судно — не стальное и не бронированное, а связанное ими из золотистого пресноводного камыша и спущенное на воду в Анакене. Теперь эта лодка лежала у нас на палубе, сверкая в солнечных лучах. Ее построили в виде эксперимента, но, оказавшись на воде, она пополнила череду пасхальских тайн.
Началось с того, что Эд, ползая между каменными плитами в развалинах Оронго, обнаружил неизвестные ранее стенные росписи. Особенно нас поразили плачущие глаза, типичные для индейского искусства, и нарисованные на потолке серповидные лодки с мачтой. На одной из лодок были показаны поперечные крепления и большой прямой парус.
Давно известно, что древние пасхальцы вязали из камыша характерные одно— и двухместные лодки, такие же, какими в незапамятные времена пользовались инки и их предшественники в перуанском приморье. Но никто не слыхал, чтобы на Пасхи в прошлом делали парусные суда! Меля это особенно заинтересовало, ведь я плавал на озере Титикака на камышовых лодках, которыми управляли горные индейцы с плато Тиауапако, известного своими древними развалинами. Отличные суда, скороходные и удивительно грузоемкие. В эпоху великих географических открытий перуанцы выходили на больших камышовых судах в открытое море. Рисунки на сосудах доинкской поры показывают, что представители древних культур этой области делали из камыша настоящие корабли, подобно тому как египтяне вязали суда из папируса. Плоты из бальсовых бревен и лодки из камыша непотопляемы, и народы Перу предпочитали их для всех морских перевозок. Я знал также, что камышовые лодки могут месяцами держаться на воде. Одна такая лодка с озера Титикака, которую мои перуанские друзья доставили в приморье, скользила, как лебедь, через волны Тихого океана, причем шла вдвое быстрее бальсового плота.
И вот новая встреча с камышовыми лодками, теперь на фреске в развалинах строения на кратерном гребне самого большого пасхальского вулкана, помеченного в записях Эда номером «19». И ведь мы нашли не только изображение, но и камыш. Стоя в разрушенном городе птицечеловеков, мы видели далеко внизу с одной стороны гонимые буйным океаном соленые волны прибоя, а с другой на дне кратера — заросшее высоченным камышом тихое пресноводное озеро. Этот самый камыш и применяли в строительстве древние пасхальцы. Любой островитянин мог нам рассказать про маленькие лодки пора, которые вязали себе участники гонок к птичьим базарам за первым в году яйцом.
Наконец, я знал, что этот камыш есть своего рода ботанический курьез. Его родина — Америка, где он растет по берегам озера Титикака, так не сюрприз ли это — увидеть в кратере на острове Пасхи тот самый камыш, из которого индейцы Титикаки делали свои лодки и который жители засушливого приморья Перу выращивали на орошаемых участках для строительства своих заслуженных камышовых лодок там, где было трудно достать бальсу. Как же могло пресноводное растение попасть сюда через океан?
У патера Себастиана и у пасхальцев был готов ответ на этот вопрос. По преданию, камыш в отличие от многих других здешних растений не был диким, его заботливо посадили на озере предки. Легенда приписывает это дело Уру, одному из первых переселенцев. Мол, оп привез с собой корневища и посадил их в кратере. Как только появились ростки, Уру перенес корневища в кратер Рано Рараку, а затем и в Рано Орои. Длинный камыш стал одним из важнейших растений острова, он шел не только на лодки, но и на дома, циновки, корзины, шляпы. И в наши дни пасхальцы регулярно спускаются в кратеры резать камыш. В бинокль мы видели внизу на поблескивающем окошке посреди болота большой камышовый плот, который связали себе любители купания — ребятишки.
Мне захотелось увидеть настоящую пора. Современные люди знают эту пасхальскую лодку только по нехитрому старинному рисунку, а по нему нельзя судить, как она вела себя в открытом море.
— Братья Пакарати справятся с этим, — заверил меня патер Себастиан, который с увлечением выслушал рассказ о моем новом плане. — Эти старые чудаки знают все о лодках и рыбной ловле.
Педро, Сантьяго, Доминго и Тимотео подтвердили, что могут сделать пора. Только им для этого нужен хороший нож и время, чтобы высох срезанный камыш. Старики получили каждый по ножу и отправились в кратер Рано Рараку. Но сперва Тимотео рассказал мне, что камышовые лодки были двух родов: одноместные — для участников гонок на птичьи базары за яйцом, и двухместные — для рыбной ловли в океане. Я попросил братьев сделать по одной лодке каждого вида. Старики нарезали охапки длинного, выше человеческого роста, камыша и сложили для просушки под каменоломней, потом отправились верхом разыскивать кусты махуте и хау-хау, из луба которых можно было сплести крепкие веревки, чтобы связать камыш по старинке.
На сушку ушла уйма времени, потому что стоило братьям покинуть кратер, как являлись другие пасхальцы и увозили громадные охапки. Камыш отличное сырье для циновок и матрацев, и, конечно, проще воспользоваться уже срезанным, чем самим заготавливать его на болоте. И старикам приходилось снова браться за ножи.
Пока в кратере Рано Рараку сушился зеленый камыш, я, захватив палатку, отправился в другой кратер, тот самый, на гребне которого стоят развалины поселения птицечеловеков. Тур-младший тогда еще не перебрался на гребень, где работал Эд, поэтому он сопровождал меня, когда я лез по крутой стенке вниз, в чрево вулкана. На всем острове мы еще не встречали такого дикого места. Спустившись по единственному проходу в скале, мы увидели сплошную огромную трясину. Словно зеленый шпинат устилал дно исполинского котла, а кругом — страшные кручи…
С нами был фотограф. Он карабкался по стенкам и узким гребням что твой козел, но трясина на дне котлована его обескуражила. Мы стояли у подножия почти отвесной скалы, а сделаешь шаг вперед — и ты уже на болоте, либо проваливаешься в воду, либо тебя качает на трясине, как на батуте. Пришлось соорудить из веток и камыша помост, иначе на склоне нельзя было лечь без риска скатиться в болото. Скальные стенки чередовались с осыпями, настолько крутыми, что полезешь — сразу обвал устроишь. А где и можно бы влезть, так нас давно опередили деревья и кусты — такие заросли, что не пробиться. Это здесь, в этом кратере, пасхальцы до недавнего времени добывали древесину. Тут можно было нарубить себе дров для трескучего костра, а когда настал час ложиться спать, мы вознесли хвалу неизвестному мореплавателю по имени Уру, который даровал нам такой чудесный камышовый матрац,
До сих пор никто не брал буром проб на этом болоте, поэтому мы рассчитывали провести несколько дней в кратере. Ведь если верить преданию, здесь впервые был посажен тот камыш, из которого в Южной Америке строили лодки. Когда первые испанцы прибыли на остров Пасхи из Перу, они узнали в местном пресноводном камыше тотору инков, и современные ботаники подтвердили их догадку. Теперь мы пришли за пробами торфа с специальным восьмиметровым буром. Ведь в таких болотах герметически сохраняется цветочная пыльца. В Государственном музее в Стокгольме профессор Селлинг изучит наши пробы под микроскопом и определит, как развивалась с древних времен растительность Пасхи. И если нам посчастливится, цветочная пыльца расскажет, был ли остров покрыт лесом и когда попал в кратер южноамериканский пресноводный камыш. Вообще-то сразу видно, что это было очень давно: большое, в полтораста гектаров, кратерное озеро настолько заросло зеленым тоторой, что напоминало плантацию сахарного тростника с пятнами коричневой трясины из старых стеблей.
На первый взгляд казалось, что ходить по такому болоту опасно для жизни, однако это было делом привычки. Из поколения в поколение пасхальцы разведывали надежные проходы к окошкам. Когда деревню поражала засуха, приходилось за водой идти в кратер: сперва восхождение на вулкан, потом трудный спуск. Местные жители считали озеро бездонным. Патер Себастиан рассказывал, что промеры полуторастаметровым линем ничего не дали.
…В глубокой котловине солнце разбудило пас поздно. Пока мы дули на дымящие головешки, пытаясь извлечь из них огонь для утреннего кофе, сверху спустился десятник Эда Тепано, чтобы показать нам путь к точкам, которые я наметил для бурения. Поистине необычная прогулка! Ступив на пружинящий ковер, мы сперва должны были пробиваться сквозь дремучий лес — камыш ростом с одноэтажный дом стоял густо, как щетина в щетке. Сочные стебли коренились в мощных пластах мертвых волокон, которые то и дело предательски расступались. Чтобы не провалиться в очередную волчью яму, приходилось все время делать свежий настил, нагибая зеленый камыш. Но вот пройдена баррикада у берега, и нам открылся вид на все болото — будто пестрое одеяло из коричневых, желтых, зеленых, синих и черных лоскутов.
Дальше опора стала совсем ненадежной. Местами мы шагали вброд по шаткой основе, местами на каждом шагу погружались по колено в ил и мох, все булькало, хлюпало — скорей выдергивай ногу, не то застрянешь! Тут и там торф прорезали канавы с бурой водой, через которые надо было прыгать, а трясина под ногами качается так, что даже жутко. Попадались купы высоченного камыша, и, выбравшись из одной такой рощи, мы с Тепано и Туром вдруг провалились с головой в окошко, прикрытое сплошным слоем ряски. Тепано успокоил нас, мол, здесь нигде не засасывает, и, если умеешь плавать, бояться нечего. Облепленные илом и ряской, мы скоро стали похожи на водяных, к тому же в закрытой со всех сторон котловине солнце нещадно припекало, и соблазн искупаться в бурой болотной воде взял верх. У поверхности вода была теплая, по поглубже — как лед. Тепано заклинал нас не пырять: один пасхалец нырнул здесь и больше не вынырнул — заблудился под трясиной.
Мы никак не могли найти подходящего места для бурения. Бур пронизывал насквозь трясину и уходил в воду. Сплетение мертвых стеблей достигало в толщину и трех, и четырех метров. Пробовали делать промеры в окошках, но дна нигде не достали: каждый раз лот ложился на всплывшую дернину. Тепано рассказал, что окошки все время кочуют по болоту и меняют свои очертания. Все непрерывно перемещалось в этом адском котле.
Еще до вечера Тепано отправился обратно через гребень кратера, Фотограф ушел с ним, мы же с Туром остались еще на несколько дней, надеясь взять более удачные пробы. Теперь мы знали тайны кратерного болота, научились по цвету и виду трясины угадывать, что нас ждет впереди.
На следующий день, пройдя через все болото до противоположной стены кратера, мы вдруг увидели на краю трясины каменную кладку высотой метра в четыре, густо поросшую травой и кустарником. Мы вскарабкались наверх и очутились на старинной искусственной платформе.
На склоне выстроились террасами одна над другой еще четыре-пять таких кладок. Продолжая разведку, мы отыскали низкие квадратные входы в подземные каменные жилища, подобные которым до сих пор видели только в разрушенном селении птицечеловеков — Оронго.
Так, мы невзначай открыли старинные развалины, неизвестные даже самим пасхальцам, во всяком случае они ни разу не рассказывали про них белым. Многие камни были покрыты почти стершимися контурными и рельефными изображениями людей, птиц и мифических животных, гротескных лиц и магических глаз. Лучше всего сохранились два птицечеловека и четвероногое животное с человечьей головой. Террасы были построены для земледелия, и у подножия нижней стены мы взяли на краю болота много проб торфа.
На четвертый день, когда мы сидели, запечатывая пробирки расплавленным парафином, к нам спустился капитан Хартмарк и сообщил, что Арне сделал новое открытие в Рано Рараку. Он откопал торс огромной статуи, которая была врыта в землю почти до подбородка, и оказалось, что на груди у нее высечено изображение большого камышового судна с тремя мачтами и парусами. С палубы тянется длинный канат к черепахе на животе изваяния.
Мы собрали свои вещи и покинули чрево Рано Као. Тур-младший перебрался в развалины Оронго, а я отправился на джипе к Рано Рараку. Арне показал мне свою находку. Его окружали пасхальцы; которые с благоговением и гордостью любовались древним судном на животе моаи. Они не сомневались, что это корабль самого Хоту Матуа, ведь он прибыл на остров во главе нескольких сот человек на двух кораблях, таких вместительных, что злейший враг Хоту Матуа — Орон сумел спрятаться на борту одного из них и доехал зайцем. Теперь на острове нет хону — черепах, но во времена Хоту Матуа один из его людей был даже ранен на берегу Анакены во время охоты на большую черепаху.
Пасхальцы наперебой принялись рассказывать о подвигах предков, и я услышал обрывки известных легенд про Хоту Матуа, записанных патером Русселом и судовым казначеем Томсоном еще в конце прошлого столетия. Мы и сами видели, что это не европейский корабль, а какое-то необычное судно, только трудно было представить себе, чтобы древние пасхальские ваятели строили такие большие многомачтовые суда. Но разве кто-нибудь поверил бы, что эти самые люди создавали гигантских идолов высотой с четырехэтажный дом, не будь материал таким крепким, на века? И ведь эти неукротимые гении инженерного искусства были не только ваятелями, но и замечательными мореплавателями, они сумели проложить путь в самый уединенный уголок на свете, где затем из столетия в столетие без помех вытесывали свои статуи. Если они, располагая камышом тотора, вязали из него маленькие плотики, то так ли уж странно, что они делали из него большие мореходные плоты?
Когда на Пасхи впервые прибыли европейцы, они не увидели там судостроителей, но ведь они не застали и ваятелей. К этому времени пасхальцы делали только узкие крохотные лодчонки на два — четыре человека, рассчитанные на тихую погоду, да еще меньшие плоты из камыша. Но европейцы попали на остров в третий период, это была варварская пора, когда война и распри совершенно парализовали древнюю культуру, а кровавые усобицы исключали всякую возможность сотрудничества родовых групп. Пасхальцы предпочитали не уходить далеко от своих подземных убежищ. Естественно, в таких условиях люди не собирались вместе, чтобы построить суда. Вот почему науке известны лишь два вида неказистых пасхальских суденышек — маленький полинезийский аутриггер вака ама и небольшой южноамериканский камышовый плот пора. Оба настолько малы, что не могли доставить людей на самый уединенный островок в мире. Но легенды пасхальцев сохранили описания огромных судов, совершавших дальние плавания в пору расцвета культуры предков. В прошлом веке патер Руссел записал рассказ о громадных судах на четыреста пассажиров. Нос корабля был изогнут, как лебединая шея; ахтерштевень высотой равнялся носу и делился надвое. Точно такие же суда можно увидеть на древнеперуанских кувшинах. Но в преданиях острова Пасхи идет речь и о других древних судах. Патер Себастиан слышал о громадном судне вроде плота или баржи, которое называлось вака поепое и тоже использовалось, когда в далекий путь отправлялось много людей.
После того как Эд и Арне независимо друг от друга нашли изображения камышовых судов, мы стали более придирчиво изучать каждую фигуру, напоминающую лодку. На статуях и на скалах в каменоломне оказалось много таких изображений с четко различимыми связками камыша. Биллу попалась лодка с мачтой и прямым парусом; Карл обнаружил на животе поверженной десятиметровой статуи камышовую лодку, мачта которой пересекала круглый пуп идола; Эд открыл в Оронго фреску — трехмачтовый корабль с маленьким круглым парусом на средней мачте.
Случай позаботился о том, чтобы мы получили еще более убедительные доказательства того, что такие большие суда были на самом деле. В разных концах острова мы встречали широкие мощеные дороги, обрывающиеся в море. Эти загадочные дороги породили множество домыслов и фантастических теорий. На них опирались все те, кто считает остров Пасхи остатком затонувшего материка. Дескать, мощеные дороги продолжаются на дне моря и по ним можно дойти до развалин затонувшего царства My.
И правда, что нам мешало совершить прогулку по подводной мостовой? В экспедиции был водолаз, и теперь вместе с ним мы отправились к ближайшей дорого, что обрывалась у моря. Надо было видеть, как он в зеленом гидрокостюме и маске с хоботом зашлепал широкими ластами по магистрали, ведущей в страну My. Держа в одной руке камеру в оранжевом боксе, смахивающем на корабельный фонарь, он сделал другой рукой элегантный прощальный жест и ступил в воду: будьте спокойны, он доберется до My! Вот уже видно лишь баллон на спине да шлепающие по воде ласты, потом он совсем скрылся, и только лопающиеся на поверхности пузырьки воздуха говорили нам, куда он держит путь.
Похоже, напрямик в My не пройдешь… Пузыри повернули сперва влево, затем направо и пошли описывать круги и спирали. Вот шлем с хоботом высунулся из воды — водолаз проверил, где кончается дорога на берегу, и опять поплыл зигзагами под водой, Наконец он сдался, вышел из воды и попал под град вопросов, — Что, поленились поставить указатели? — Неужто не нашлось русалочки показать тебе дорогу? Водолаз доложил, что никакой дороги не видел. Мостовая доходит только до воды, дальше идут карнизы, камни, грибовидные кораллы и глубокие трещины. Подводный склон обрывается в синюю пучину, там ему встретились какие-то здоровенные рыбины.
Мы не очень удивились. Океанографы уже давно по пробам грунта в Тихом океане определили, что в полинезийской области, сколько существует человек, суша не поднималась и не опускалась.
Я снова обратился к пасхальцам. Никто из них не помнил, для чего употреблялись спускающиеся к морю мощеные дороги, и я узнал только, что их называли апапа. Но апапа означает «разгружать». Это подтверждало нашу догадку: дорога вела к месту, где разгружали и вытаскивали на берег большие морские суда. Одна апапа кончается в мелководной бухте на южном берегу острова, у подножия высокой ритуальной платформы. Бухта настолько загромождена камнями, что древним мореплавателям пришлось расчистить широкий проход к причалу. Прямо посреди фарватера лежат три огромных красных «парика», причем два из них так близко друг от друга, что они явно находились на одном судне или на самой корме и на самом носу двух шедших друг за другом судов. Но это должны были быть внушительные суда!
Таково было первое обнаруженное нами указание на то, что ваятели доставляли часть своих тяжелых грузов морем, идя вдоль побережья острова. Выходит, у них в самом деле были суда, способные поднять полтора десятка тонн груза или двести человек. Потом мы нашли свидетельства того, что и некоторые статуи были перевезены по морю в места, куда с таким грузом можно было добраться только на широком плоту из камыша или бревен.
Пока мы по кусочкам восстанавливали картину удивительных морских достижений древних пасхальцев, четыре старика неутомимо заготавливали тотору в Рано Рараку. Наконец, просушив камыш, они быстро связали из него каждый свою пора. Особый способ вязки придал лодкам изогнутую, заостренную с одного конца форму, так что они напоминали огромный клык. Удивительное это было зрелище, когда старики понесли их к воде, тем более удивительное, что у них получилась точная копия своеобразной одноместной лодки, которая много столетий отличала приморские культуры Перу. Даже материал тот же — южноамериканский пресноводный камыш.
Когда старики принялись вязать лодку побольше, на двоих, руководство взял на себя Тимотео. Остальные трое без его указаний просто не знали, что делать. Я спросил, чем это объясняется. Мне ответили, что Тимотео — старший, поэтому он один знает, как должна выглядеть такая лодка. Ответ меня слегка озадачил, но лишь потом мне начал открываться смысл такой монополии.
Двухместная лодка, когда ее спустили на воду в Анакене, оказалась поразительно похожей на камышовые лодки озера Титикака, отличаясь от них лишь тем, что нос и ахтерштевень, заостряясь, поднимались косо вверх, как на самых древних лодках перуанского побережья. Двое старших братьев прыгнули в лодку, каждый со своим веслом, и через бурлящий прибой легко вышли в открытое море. Камышовая лодка извивалась, переваливая через волны, будто надувной матрац, и гребцы чувствовали себя очень надежно. Тут и два других брата прыгнули в прибой с одноместными пора и смело вступили в поединок с морем. Лежа на животе на широком конце огромного «клыка», они загребали руками и работали ногами.
Двухместная лодка так уверенно и лихо справлялась с волнами, что после первого испытания братья уселись на ней вчетвером и в четыре весла вывели ее в океан.
Вместе со мной на берегу стояли патер Себастиан и бургомистр, и все трое мы были одинаково поражены и восхищены. Позади нас поднялась выше палаток спина исполинской статуи длинноухих, но сейчас бургомистр видел только золотистое суденышко и четырех гребцов. У него даже слезы выступили на глазах.
— Наши деды рассказывали про такие лодки, именно такие, — сказал он, — но мы сами видим их в первый раз… Смотришь, и предки сразу как-то ближе. Вот здесь чувствую! — добавил он, взволнованно ударяя себя в грудь.
Когда двухместная лодка Тимотео вернулась, один из самых рослых среди наших ребят вскочил на корму — и хоть бы что, осадка осталась прежней. Но если наскоро связанная лодчонка выдерживала пять человек, то что могло помешать древним строителям нарезать в трех кратерах достаточно камыша для больших судов?
Патер Себастиан страшно заинтересовался этим опытом. Старики описывали ему такие лодки, но только теперь он по-настоящему понял, о чем шла речь. И патер вспомнил, что ему показывали изображение лодки в пещере на Пойке.
— Это вот рыбацкая лодка, — объяснил бургомистр, показывая на изделие братьев Пакарати. — А представляете себе, какие суда были у древних королей, когда они выходили в дальние плавания!
Может быть, он знает, позволяли ли размеры этих судов употреблять паруса? С удивлением я услышал в ответ, что предки пасхальцев использовали паруса из циновок. И этот поразительный человек начертил на песке парус с вертикальными полосками, изображающими камыш. Дескать, сделать такой парус проще простого — связывай стебли вместе, как это делал Доминго на днях, изготовляя для меня циновку.
Я хорошо знал, что на озере Титикака по сей день ходят лодки из тоторы с камышовыми парусами, с той лишь разницей, что стебли располагаются в парусе поперек.
— Откуда ты знаешь, что у них были камышовые паруса? — недоуменно спросил я.
— Ха, дон Педро много чего знает, — гордо ответил он с хитроватой улыбкой.
Это было как раз в те дни, когда Эстеван еще приносил мне родовые сокровища. А в ночь после испытания лодок и Лазарь впервые вручил мне каменную голову из тайника, потом, увлеченный последними событиями, не выдержал и рассказал, что в его пещере кроме других изделий лежат каменные модели судов, причем некоторые напоминают лодки, сделанные братьями Пакарати.
Я решил рискнуть — ведь жена Эстевана просила его узнать у меня, что именно мне хотелось бы получить из подземного тайника. Узнав от Лазаря, что в его пещере есть модели судов, я надумал, так сказать, произвести выстрел вслепую: улучив минуту, отвел Эстевана в сторонку и попросил его передать жене: не отдаст ли она мне лодки? Эстеван заметно удивился, однако после работы поскакал верхом в деревню. А ночью он явился ко мне с мешком, в котором лежало пять чудесных каменных скульптур. Первой он извлек обернутую в сухие банановые листья великолепную серповидную модель кораблика. И сказал, что, по словам жены, в пещере есть еще более искусно выполненная модель. На ней тоже показана вязка, нос и корма заострены, подняты кверху и к тому же украшены головами богов.
Я слушал его, сидя как на иголках, ведь как раз в эту ночь я пригласил Лазаря и бургомистра, чтобы вместе с ними обойти по кругу место с заветным китом. И когда Эстеван шмыгнул из палатки наружу и пропал во тьме, я, естественно, не мог предвидеть, что его жена, опасаясь своего аку-аку, надолго откажется давать что-нибудь для меня.
Лазарь в ту ночь не смог сходить в свой тайник за другим корабликом, ибо после того, как они с бургомистром, совершив под моим водительством магический ритуал, вернулись к своим спящим товарищам в пещеру Хоту Матуа, дон Педро до утра не смыкал глаз, наблюдая загадочные огоньки и прочие знамения. Зато на следующий день, когда были найдены все киты, Лазарь сумел ночью выбраться из пещеры. Один из его друзей проснулся и живо подобрал ноги, потому что у пасхальцев считается дурной приметой, если через них перешагивают. Он спросил Лазаря, куда тот собрался, и Лазарь ответил, что ему прихватило живот. А за скалой по соседству стоял оседланный конь, который быстро домчал хозяина до пещеры в Ханга-о-Тео.
Рано утром в дверь моей палатки просунули мешок, а затем появился и Лазарь. Сев на корточках на полу, он с гордостью достал из мешка каменную модель одноместной пора в виде клыка. За лодкой последовало чудище, смахивающее на аллигатора, и красная чаша с тремя человеческими головами по краю. Лазарь сообщил, что в пещере осталось еще три лодки, но они не так похожи на лодку Тимотео. Я щедро его одарил и попросил в следующий раз все-таки захватить остальные лодки. Он пришел с ними спустя три ночи. Одна модель изображала настоящий корабль с широкой палубой и загнутыми вверх носом и кормой, причем палуба и борта набраны из толстых связок камыша. Вторая модель, плоская и широкая, представляла вака поепое — то ли плот, то ли баржа с высеченными в камне мачтой и парусом и двумя непонятными выступами на палубе впереди. Третья походила скорее на длинное блюдо, чем на судно, но подразумевался камыш, и посередине было отверстие для мачты. Лицом к этому отверстию во впадинах на носу и на корме лежали причудливые головы. У одной головы огромные надутые щеки и губы сложены трубочкой — этакий херувим, раздувающий парус; волосы сливались с камышом на бортах. Скульптура явно была старинная, мотив и стиль — совсем чуждые для острова Пасхи. На мои попытки что-нибудь выяснить Лазарь ничего не мог ответить, только разводил руками. Дескать, так сделано, и все тут. Но в пещере осталась еще куча удивительных вещей, и так как Лазарь уже убедился, что ничего страшного не происходит, он обещал как-нибудь взять меня с собой, когда уйдет военный корабль. Только чтобы никто в деревне об этом не знал.
Бургомистр мне пока ничего не приносил, если не считать повторяющие друг друга фигурки из дерева. Накануне прихода «Пинто» я пригласил его вечером к себе в палатку. Надо было использовать последний шанс — ведь когда судно уйдет, оно увезет с собой бургомистра, а вход в его тайники не знает больше никто на острове, даже его жена. У меня был приготовлен для дона Педро приятный сюрприз. Отчасти мною руководили чисто эгоистические побуждения — может быть, он решит ответить щедростью на щедрость, отчасти же мне хотелось выразить свое искреннее расположение к человеку, от которого мы столько узнали.
Я плотно закрыл палатку, прикрутил лампу и в полумраке повернулся к своему гостю. Мои приготовления явно возымели действие, дон Педро даже оробел от всей этой таинственности. Шепотом я сообщил ему, что мой аку-аку предупредил меня: надо как следует снарядить бургомистра в его первое путешествие за пределы острова. Дескать, аку-аку объяснил мне, в чем именно нуждается дон Педро, и я решил последовать его
совету.
После такого вступления я вытащил и вручил бургомистру мой лучший чемодан, в который у него на глазах положил дорожный плед, простыни, полотенца, шерстяной свитер, две пары брюк защитного цвета, две рубахи, галстуки, носки, носовые платки, ботинки и различные предметы туалета — от расчески и мыла до зубной щетки и бритвенного прибора. Кроме того, бургомистр получил сумку с котелками и походным снаряжением, чтобы он в случае чего мог сам готовить себе еду, несколько картонов своих любимых сигарет и бумажник с чилийскими песо на то время, что ему предстояло провести в далеком неведомом краю. Одно из лучших платьев Ивон и детскую одежду я ему дал, чтобы он мог сделать прощальный подарок жене. И наконец, я достал чучело южноамериканского кайманчика с локоть длиной, случайно купленное у одного негра в Панаме. Нечто похожее, только из камня мне приносили из своих пещер Эстеван и Лазарь; кроме того, на Пасхи вырезают этого зверя из дерева, называя его моко. И он присутствует в мифах по всей Полинезии, хотя единственное животное на островах, которое похоже на него, — малюсенькая ящерица. Поэтому многие считают, что пасхальские моко отражают воспоминание о каймане, с которым древние мореплаватели встречались в тропическом приморье Южной Америки.
Я дал чучело бургомистру — мол, положи его в свою пещеру, и пусть сторожит ее, пока ты сам будешь на материке.
Обилие подарков поразило бургомистра, он даже рот раскрыл, а когда появилось чучело, дон Педро совсем разволновался и возбужденным шепотом сообщил мне, что в его пещере есть точно такой зверь из камня и он его принесет мне! После чего дон Педро окончательно смешался и только тряс мне руку и твердил, что мой аку-аку «муи буэно, муи, муи, муи буэно».
Была уже ночь, когда осчастливленный бургомистр выбрался из палатки и кликнул своего верного друга Лазаря, чтобы тот помог ему донести вещи до стоявших неподалеку коней. И друзья поскакали вдогонку за остальными «длинноухими», которые уже отправились в деревню.
Таким образом, мудреная загадка подземных тайников оставалась нерешенной, и плечистый великан еще стоял набекрень, униженно уткнувшись носом в груду камней возле наших палаток, когда Анакенская долина снова опустела. «Длинноухие» уехали домой, где их завтра ожидала другая работа и ежегодное торжество, а мы, оставив палатки, перебрались на сверкающее белой краской экспедиционное судно, чтобы выйти в море навстречу «Пинто».
Глава седьмая. Встреча с немыми сторожами родовых пещер
Солнце едва успело подняться над морем, расписав прибрежные скалы утренним золотом и волшебными тенями, когда большой чилийский военный транспорт показался на горизонте. Плоский, широкий, однообразно серый, с металлической вавилонской башней посередине, он надвигался все ближе и ближе — первый привет внешнего мира, первое свидетельство того, что вдали, за всеми горизонтами по-прежнему лежит суша. Ров Ико занесло песком, человек сменил одно оружие на другое.
Мы встретили «Пинто» сразу за птичьими островками. Палубы и все надстройки великана были облеплены людьми. Как только мы поравнялись, капитан Хартмарк посигналил сиреной, и мы приспустили кормовой флаг, приветствуя наших хозяев. В ответ последовал салют из одного орудия, и на грот-мачте военного корабля взвился норвежский флаг. Замечательное радушие! Мы описали полукруг, и маленький траулер, выжимая всю мощность из своей машины, проводил миролюбивого серого великана до якорной стоянки у деревни Хангароа. А там у мола уже собралось все население. Над островом гулко раскатился салют «Пинто» — двадцать один выстрел, затем от берега отчалил катер с губернатором, который явился на борт приветствовать капитана «Пинто» в протекторате военно-морского флота.
Через двадцать минут после губернатора я, как было условлено, тоже отправился на «Пинто» вместе с капитаном Хартмарком и врачом экспедиции. Нас приняли необычайно сердечно. Когда наш катер пришвартовался, трубач сыграл фанфару; у трапа, встречая гостей, стояли капитан «Пинто» и губернатор. А в салоне капитана нас представили адмиралу чилийской санитарной службы и американскому военно-морскому атташе с супругой. Американец прибыл, чтобы выяснить, нельзя ли построить на острове Пасхи большой аэродром для воздушной трассы между Южной Америкой и Австралией. За коктейлем я в короткой речи поблагодарил за замечательное гостеприимство, оказанное нам губернатором и его людьми, а капитан «Пинто» тепло пожелал нам на будущее таких же успехов, как уже достигнутые. Он предложил поделиться с нами припасами, если мы в чем-нибудь нуждаемся, и велел принести два мешка почты, на которые набросились с жадностью наш шкипер и врач.
На этом вся немудреная официальная часть кончилась, и можно было начинать приятную беседу. Но вот опять открылась дверь, и в салон следом за щеголявшим отглаженной рубахой с галстуком бургомистром вошло полдюжины представителей островитян, в том числе Лазарь. Дон Педро решительно прошагал прямо к сверкающему золотыми галунами суровому капитану и крепко пожал ему руку. Горячо жестикулируя, он звонким голосом объявил нам, что вот это настоящий капитан, вот это да: он первый изо всех салютовал, подойдя к острову! Затем бургомистр вытянулся в струнку, остальные пасхальцы тоже стали руки по швам, и дон Педро лихо исполнил чилийский гимн, дыша в лицо капитану. А кончился гимн, и строй поломался, свита бургомистра превратилась в джаз-банд. Вращая коленями и плечами, они грянули песню о своем короле Хоту Матуа, как он высадился на берег Анакены. Не успела отзвучать последняя строфа, как глаза бургомистра остановились на мне, он замер, словно кот на бегу, и с жаром воскликнул, показывая на меня:
— Ми амиго, сеньор Кон-Тики!
И будто по сигналу вся компания сунула руки в карманы, вытащила пачки американских сигарет разных марок и дружно предъявила их капитану «Пинто»: вот, мол, какой товар нам привезли, учитесь!
Капитан все это выслушал терпеливо, со стоическим спокойствием, а когда снова внесли коктейли и пасхальцам предложили угощаться, глаза бургомистра радостно засияли: нет, все-таки молодец этот капитан, ничего, что его сигареты похуже сигарет Кон-Тики. С легким испугом я смотрел, как бургомистр одним глотком опустошил рюмку, а он гордо глянул на меня и успокоительно кивнул, дескать, я могу быть уверен, дон Педро понимает толк в хорошем вине. После чего вся его компания, премного довольная, покинула салон и пошла осматривать корабль.
Затем я увидел бургомистра уже в офицерской кают-компании, где он стоял возле бара, окруженный восхищенными слушателями. Среди пассажиров было много видных лиц, в том число профессора Вильгельм и Пенья, которые вместе с группой сту-дентов-археологов хотели осмотреть наши раскопки. Мы были знакомы еще по Чили, и они заключили меня в свои по-южному горячие объятия. Оба профессора и студенты с увлечением выслушали мой рассказ об открытии различных периодов в развитии пасхальской культуры и о раскопанных нами необычных статуях. В этой беседе я не решился говорить об удивительных скульптурах из подземных тайников. Одно неосторожное слово могло сокрушить все мои надежды когда-либо раскрыть секрет родовых пещер. Мой замысел проникнуть в такой тайник буквально висел на волоске. Если сейчас пасхальцы что-то проведают, они испугаются, и тогда их уста, а с ними и пещеры будут закрыты семью печатями.
Кончив рассказ, я собрался уходить, и вдруг меня словно громом поразило. От бара до меня донесся голос бургомистра, звучащий как-то необычно звонко, а когда я увидел, как дон Педро ставит пустой бокал, то понял, что стойка явно двоится у него в глазах. Громко, отчетливо бургомистр объявил во всеуслышание: — Друзья мои, я богатый человек. У меня есть пещера. Я замер, ожидая, что последует дальше. Ничего не последовало. Остальные продолжали разговаривать о совершенно других вещах, а бургомистр ничего больше не сказал. Наверно, не впервые он проговаривался за рюмкой вина. Но его слов то ли не слышали, то ли принимали их за пьяную болтовню. Да и всякому ли понятно: что удивительного, если у человека «есть пещера». Так или иначе, было похоже, что бургомистр, опомнившись, сам испугался того, что наговорил: не успел я вернуться с «Пинто» на наше судно, как он тотчас сел в лодку и отправился на берег.
В этом году резные деревянные изделия, предложенные команде и пассажирам «Пинто», не блистали качеством. Все лучшее давно уже выменяли члены экспедиции. Поэтому профессор Пенья направился прямо в домик бургомистра, где и увидел богатый выбор законченных и полузаконченных скульптур превосходной работы. Однако дон Педро отказался их продать, дескать, они вырезаны для Кон-Тики, и вообще у него столько заказов от людей Кон-Тики, что дай бог управиться. И Пенья остался ни с чем. А дон Педро принялся рассказывать, какое счастье сопутствует Кон-Тики: стоит его людям перевернуть камень или копнуть землю, и непременно обнаружится что-нибудь замечательное. Пенья терпеливо выслушал и это, но хмель еще не совсем оставил бургомистра, и он все больше расходился, расписывая находки людей Кон-Тики. Под конец профессор призадумался. Слушая бургомистра, можно было подумать, что на Пасхи трава растет на сплошном слое редких изделий. Дон Педро забыл сказать, что в земле мы из действительно ценных памятников нашли только развалины и изваяния, причем ничего не тронули. Поэтому Пенья вправе был заключить, что трюмы экспедиционного судна набиты редчайшими образцами и экспонатами, добычей археологов, которые первыми надумали вести раскопки на безлесном острове.
Вечером профессор Пенья второй раз сошел на берег, причем с какой-то телеграммой в руках. Несколько человек из тех, кому он показал эту телеграмму, поспешили ко мне и испуганно рассказали, что она подписана министром просвещения Чили, который уполномочил Пенью конфисковать весь археологический материал экспедиции и привезти с собой на «Пинто».
Губернатор был потрясен, капитан «Пинто» бессильно развел руками, патер Себастиан не мог ничего понять. Если Пенья в самом деле наделен полномочиями от министра, никто на острове не сможет ему помешать. Придется экспедиции отдать все добытое археологами из земли за эти месяцы вплоть до последнего кусочка кости и образца древесного угля. Наши чилийские друзья готовы были сделать все возможное, чтобы выяснить, в чем дело, и было решено пригласить профессора Пенью на конференцию круглого стола в маленьком кабинете патера Себастиана. Все от души надеялись, что будет найден выход и материалы экспедиции не конфискуют.
Тем временем о телеграмме прослышали и пасхальцы. Возмущенные, они пришли ко мне и заверили, что никто не имеет права отнимать у меня вещи, купленные у них, они сами распоряжаются своим имуществом. Эстеван и Лазарь особенно волновались за скульптуры, которые я от них получил. Правда, Лазарь считал, что мне достаточно призвать на помощь своего аку-аку, и тогда никто ничего не тронет на моем корабле. Бургомистр страшно расстроился, сознавая, что это он во всем виноват. Но ничего, он пойдет к самому Пенье и скажет, что у меня на борту есть только такие вещи, которые я купил у владельцев, то есть у жителей деревни, что я ни одной находки не присвоил!
— Мы имеем право отдавать и продавать свои вещи, кому захотим, — повторил дон Педро и отправился разыскивать Пенью. Одновременно мы решили, что командир «Пинто» объедет остров со свитой и познакомится с работой экспедиции, а уже потом соберем конференцию. Ведь корабль все равно простоит в бухте больше недели. Пенья со своими студентами совершит верховую экскурсию с Гонсало в качестве гида, а потом они под наблюдением Билла приступят к самостоятельным раскопкам на поляне Тепеу, где в прошлом стояли камышовые хижины.
На следующий день море разбушевалось, накат с ревом разбивался о скалы. Волнение не давало высадиться на берег тем, кто оставался на «Пинто», и не пускало обратно на корабль тех, кто накануне переправился на остров. Последние нашли приют у патера Себастиана, который был для них сказочной фигурой, некоронованным королем острова Пасхи. И они до того замучили старого священника вопросами и фотографированием, что он в конце концов не выдержал и сбежал из дому. Придя ко мне, патер спросил, нельзя ли отправиться на экспедиционное судно — там хоть посидим спокойно, отдохнем от толкучки. Прибой не страшен, найдем кого-нибудь знающего фарватер, и он проведет нас между рифами.
На молу, где кончала свой бег череда высоких бурлящих волн, мы увидели расстроенного бургомистра. Он попросил нас захватить и его, дескать, ему нужно переговорить со мной.
— Присоединяйтесь к нам, дон Педро, — приветливо сказал патер Себастиан, подобрал подол сутаны и, опираясь на руку капитана, шагнул в пляшущий на волнах катер.
Наши уже позавтракали, и стюард пригласил нас к столу, предложив бутерброды. Патер Себастиан любил поесть, а бутерброды с пивом ему особенно нравились. Я тоже на аппетит не жалуюсь и в ряду материальных благ очень высоко ставлю добрую трапезу. Гости составили мне достойную компанию, ели за милую душу, явно наслаждаясь жизнью, хотя корабль медленно покачивался на волнах.
Пиво у нас было в жестяных банках, и патер Себастиан кивком дал понять, что можно дать банку бургомистру, — ведь покупает же он вино на «Пинто». Бургомистр страшно обрадовался и продолжал налегать на бутерброды, подливая себе из банки пива в стакан. Но патер Себастиан понемногу сбавил темп, потом, смущенно улыбаясь, попросил извинения: он не ожидал, что качка окажется такой сильной. Наш капитан проводил его на палубу, подышать свежим воздухом у борта, а дон Педро спокойно положил себе на тарелку новую порцию отличной закуски. Как только мы остались одни, он подвинулся ко мне и, не переставая жевать, повел речь об аку-аку. Мол, уж мне-то нечего бояться, что у меня что-нибудь отберут: разве наши объединенные аку-аку не задержали на целый день большой военный корабль?!
В свою очередь я похвастался шепотом, что узнал от своего аку-аку, какие вещи кроме уже обещанного мне моко хранятся в пещере бургомистра. Полагая, что сходные для некоторых пещерных скульптур Эстевана и Лазаря черты могут быть присущи и каким-то изделиям в пещере бургомистра, я очень приблизительно их описал. Дон Педро опешил и на миг даже забыл про еду. Неужели мой аку-аку побывал в его тайнике? Признав, что я не ошибся, бургомистр стал допытываться: что еще я узнал от своего аку-аку? Больше ничего, ответил я, ведь дон Педро сам собирался до отъезда посвятить меня во все тайны своей пещеры. Он успокоился и примолк. Вошел стюард, принес еще бутербродов. Бургомистр опять наложил себе тарелку, предаваясь дотоле неизведанным радостям холодных закусок. Взялся за банку с пивом и печально посмотрел на меня: пусто. Я как раз хотел выйти на палубу, спросить патера Себастиана, как он себя чувствует, и тут мне на глаза попалась банка с пивом, оставленная стюардом на бочке возле двери. Выходя, я поставил эту банку перед доном Педро, который расправлялся с бутербродами, а пустую выбросил за борт.
Патер Себастиан совершенно оправился на свежем воздухе, и мы разговорились с ним; вдруг из кают-компании донесся вопль ужаса.
В три прыжка я очутился у двери и увидел прижавшегося к переборке бургомистра, который с искаженным лицом и вытаращенными глазами показывал рукой на банку с пивом.
— Кто поставил ее здесь, кто ее поставил! — кричал он диким голосом.
Неужели стюард принес плохое пиво? Нам уже попадались банки с забродившим пивом, может быть, бургомистр решил, что мы задумали его отравить? Я понюхал пиво.
— Кто ее поставил, все банки были пустые, когда ты уходил! — надрывался бургомистр, словно его осаждали духи.
И тут меня осенило: да он, похоже, не заметил, как я заменил пустую банку полной!
— А что, после меня сюда никто не заходил? — спросил я осторожно. — Нет, никто!
— Ну, тогда это мой аку-аку сделал.
Бургомистр и не подумал сомневаться. Вот это аку-аку, он такого еще никогда не видел! Дон Педро поглядел на меня с завистью: невидимый слуга подносит мне пиво, стоит только пожелать! Понемногу он отошел и снова принялся за еду, но все время глядел в оба — не случится ли еще что-нибудь таинственное. Остаток масла он завернул в бумажную салфетку и сунул в карман, после чего, сытый и довольный, вышел к нам на палубу. Тем временем капитан снялся с якоря и осторожно подвел судно ближе к берегу под прикрытие маленького мыса.
Случай с пивом поразил бургомистра куда больше, чем каменные киты и все прочее. И когда мы под вечер, оседлав прибой, съехали на берег, он отвел меня в сторонку и шепотом сообщил, что аку-аку упорно уговаривает его сходить в пещеру и взять что-нибудь для сеньора Кон-Тики. Он и сам не прочь, но сперва надо получить согласие своей бабушки. А я и не знал, что у него есть бабушка! Где же она находится?
— Да там, за Ханга Пико, под цементной плитой у самой дороги, — ответил бургомистр.
Я оторопел, представив себе старую женщину, придавленную упавшей плитой, но тут же сообразил, что покойная бабушка попросту похоронена около Ханга Пико. Бургомистр доверительно объяснил, что днем или при луне ее спрашивать никак нельзя, только в полной темноте. Но он при первом же подходящем случае сходит туда и, если она разрешит, сделает, как велит аку-аку, — наведается в пещеру.
На следующий день мы подняли якорь и вернулись к лагерю в Анакене, а команда «Пинто» приступила к разгрузке. Гонсало повел на экскурсию профессора Пенью и чилийских студентов; им давали объяснения наши археологи, временно оставшиеся без рабочих. Мы вели светскую жизнь: то обед на «Пинто» для всех нас, то прием в честь командира корабля со свитой у губернатора, а затем и в Анакене. Когда в лагерь прибыл Пенья со своей кавалькадой, снова состоялся пир, и гости остались у нас ночевать. Один из студентов-археологов, боливиец, пришел в восторг при виде красной колонновидной скульптуры в Винапу и коленопреклоненного великана у подножия Рано Рараку: он вел раскопки в Тиауанако и тотчас узнал в наших находках типы изваяний, которые видел у себя на родине.
У Пеньи было превосходное настроение, все ему страшно понравилось, однако он потихоньку сообщил мне, что, к сожалению, прибыл с «неприятной миссией» и разыскивал меня, чтобы назначить встречу и обсудить одну весьма досадную телеграмму. Мы назначили встречу и расстались добрыми друзьями.
Дня через два мне передали, что бургомистр просит прислать в деревню джип за «тяжелым мешком с очень важными вещами». Капитан Хартмарк поехал за мешком; он должен был также захватить трех монахинь, которые собирались уезжать на «Пинто» и хотели сперва посмотреть на почти воздвигнутую статую.
И вот вернулся джип, битком набитый монашками и священником с «Пинто», а поверх втиснутого в багажник огромного мешка сидели с непроницаемым видом дон Педро и Лазарь. Гости пошли смотреть идола, а пасхальцы, волоча мешок, явились в мою палатку.
Бургомистр наконец-то поддался! Он побывал вместе с бабушкой в пещере и до сих пор не остыл, чувствовалось сильное возбуждение. Лазарь, напротив, явно чувствовал облегчение и дышал как-то свободнее, убедившись, что не он один посягнул на сокровища родовых пещер.
Сколько страху оба натерпелись, когда погрузили в машину мешок и вдруг услышали, что капитан еще должен забрать монахинь! Но все обошлось хорошо, им сопутствовало счастье.
В мешке отдельно были завернуты пять резных камней, которые Лазарь взял уже из своей второй пещеры, расположенной в Винапу. А еще тринадцать скульптур — лучшие изо всех, что я пока видел на острове, — были из пещеры бургомистра. Одна изображала голову собаки с оскаленной пастью и скошенными дикими глазами, не столько даже собачьими, сколько волчьими или лисьими. Великолепная вещь, я не мог на нее наглядеться. Собак или собакоподобных тварей оказалось несколько, из них одна с такой длинной мордой и вытянутым телом и хвостом, что ее можно бы принять за крокодила, если бы не прямые ноги. Был тут, впрочем, и ползущий моко с широкой головой, огромной пастью и зубчатым гребнем вдоль спины — вылитый кайман; были птицы, птицечеловеки и причудливая каменная голова. Некоторые из скульптур Лазаря тоже поражали своеобразием — например, камень с рельефным изображением двух свившихся вместе змей.
Пасхальцы считали меня всеведущим, поэтому мне надо было строго следить за собой, чтобы глупым вопросом не выдать своего невежества. Но тут я увлекся настолько, что позабыл про осторожность и спросил, а на что, собственно, нужны эти камни. К счастью, все обошлось.
— Они дают силу тем, кого изображают, — взволнованным шепотом ответил бургомистр.
Он взял в руки очень реалистичное изображение омара, вернее, тихоокеанского лангуста — клешни изогнуты под животом, над спинным щитком свисают длинные усы.
— Вот этот камень дает силу лангусту, чтобы его было больше в море у наших берегов.
Показывая на змей, он объяснил, что двойные фигуры дают вдвое больше силы. Зная, что змей на здешних островах нет, я нарочно спросил, придает ли эта скульптура удвоенную силу угрю? И услышав в ответ, что это вовсе не угорь, ведь у этих тварей широкая голова и узкая шея, это наземные животные вроде тех, которых чилийцы называют «кулебра». Лазарь добавил, что огромное животное такого же рода вырублено в скале на пути к долине Ханга-о-Тео.
Тут я вспомнил, что патер Себастиан уже говорил мне про этот барельеф и просил осмотреть его вместе с археологами. Эрория могла нас туда провести, но мне до сих пор было недосуг.
Лазарь вдруг радостно заметил, что впервые на острове оказалось возможным открыто говорить между собой о таких вещах. Сначала он рассказал бургомистру, что несколько раз ходил в пещеру за скульптурами для меня, тогда тот ответил ему, что решил сделать то же самое. Доверившись друг другу, они выяснили, что в их пещерах есть много сходных предметов. Я знал, что некогда в Полинезии приписывали магическую силу человеческому волосу. Бургомистр и Лазарь подтвердили это в одной из наших прошлых бесед, а теперь я услышал, что в пещере бургомистра хранятся в каменной чаше пряди волос всех покойников из его рода, в том числе и его рыжеволосой дочери. Сделав страшное лицо, дон Педро с дрожью в голосе сообщил нам, что у него в пещере лежит голова, настоящая голова. Черепа попадались нам на острове часто, поэтому я понял, что речь идет не о них, и спросил, подразумевает ли он каменную голову. Нет, ничего подобного, голова настоящая, человеческая, пояснил он с содроганием и, жутко осклабившись, дернул себя за волосы.
На некоторых полинезийских островах находили в склепах высушенные головы — может быть, и у него есть такой экспонат?..
Лазарь сказал, что в двух пещерах, где он побывал, нет ни волос, ни голов, только черепа и кости его предков.
Бургомистр поведал, что всего на острове не меньше пятнадцати «действующих» родовых пещер, а забытых тайников несравненно больше. Насколько ему известно, такие пещеры имели только те пасхальцы, в чьих жилах текла кровь длинноухих. У чистокровных короткоухих пещер как будто не было. Свою главную пещеру дон Педро унаследовал по прямой линии от Оророины, единственного длинноухого, оставшегося в живых после битвы у рва Ико. Пещеру бургомистру передал его отец, который принял ее от своего отца, а тот от своего — и так далее. А прятать сокровища в подземных тайниках повелось еще в те смутные времена, когда Оророина и другие длинноухие воевали с короткоухими.
С пяти лет Педро работал вместе со старшими и учился у них, но только в пятнадцать лет он завоевал доверие отца настолько, что тот счел его достойным увидеть реликвии. С отцом он в тот раз дошел почти до самой пещеры, и отец кое-что вынес и ему показал. Одиннадцать поколений вот так передавали друг другу секрет.
Бургомистр помолчал, потом добавил:
— Я в первый раз об этом рассказываю: прежде чем ввести меня в пещеру, отец отрезал у меня прядь волос.
Он дернул себя за волосы, при этом Лазарь так пристально следил за всеми его движениями, что было ясно — для него это такая же новость, как для меня.
Отец Педро завернул отрезанную прядь в кусочек бананового листа и обмотал веревочкой. Потом завязал на веревочке одиннадцать узлов, отнес сверточек в пещеру и положил в каменную чашу, которую накрыл другой чашей. Волосы рядовых членов рода хранятся в другой чаше, в этой же лежат только одиннадцать прядей, большинство рыжие. На первой веревочка с одним узлом, это волосы Оророины, на второй, с волосами сына Оророины, веревочка с двумя узлами — и так далее. Сверточек с волосами отца бургомистра обмотан веревочкой с десятью узлами, а в последнем, с одиннадцатью узелками, лежат волосы дона Педро. Положив в чашу его прядь, отец посвятил Педро в тайны пещеры. Сперва состоялась церемония для сторожащего вход аку-аку, чтобы знал, что теперь еще один человек получил право переступать тайную черту. И мальчик впервые увидел древнюю пещеру Оророины.
Несколько десятков лет дон Педро один хранил секрет, но теперь перед ним встала почти неразрешимая проблема. Его собственный сын, рыжеволосый Хуан — «дитя своего времени», он не ценит старины. Он уже взрослый, женат, но все равно на него нельзя положиться в таких секретных и серьезных делах. Если Хуан узнает, где пещера, он не устоит против соблазна разбогатеть и продаст сокровища тайника людям с первой же увеселительной яхты. Придется, пожалуй, передать пещеру младшему брату Атану Атану — у того сердце чистое, доброе, и он уважает слово предков.
Мы ждали к обеду гостей с военного корабля, поэтому пришлось заканчивать беседу. Бургомистр сказал в заключение, что отныне мы трое объединены братством, это относится и к нашим аку-аку, которые тоже присутствуют здесь.
— Мой стоит вот тут. — Дон Педро показал пальцем на невидимую точку слева от себя, на уровне колена.
Мы выбрались из палатки, и аку-аку, видимо, семенили вместе с нами, если только эта невидимая мелюзга не проходила прямо сквозь стенки. Известна поразительная способность аку-аку перемещаться в пространстве: по словам бургомистра, его аку-аку в две-три минуты мог попасть в Чили и вернуться обратно.
Бургомистр проинструктировал Лазаря, как за один день завершить подъем статуи, когда сам дон Педро уедет на «Пинто» и руководить этой работой будет Лазарь. Тут подъехали на джипах гости, а после обеда я поехал с ними в деревню, чтобы, как было условлено, провести совещание с профессором Пенья в домике патера Себастиана. Сам патер лежал с температурой, но в его кабинете было тесно от множества людей.
Поскольку капитан «Пинто» олицетворял верховную власть на острове, он и открыл совещание. Он, как и губернатор, все время сочувственно относился к нам, особенно после того, как сам посмотрел работу археологов. Мы услышали, что он хочет связаться по радио с командованием военно-морских сил, запросить для нас разрешение увезти с острова статую. Капитан знал, что мы уже ходатайствовали и получили отказ, так как статуи охраняются государством, но ведь мы открыли столько неучтенных раньше идолов, что после нас их все равно окажется больше, чем было до нашего приезда. Рядом с капитаном и его адъютантом сидели губернатор, профессор Вильгельм, профессор Пенья с одним студентом, дальше — наш «офицер связи» Гонсало, Эд и я.
Пенья начал с того, что выразил свою благодарность и восхищение работой, которую проделала экспедиция, потом со словами сожаления предъявил свое полномочие конфисковать все паши археологические материалы. Тотчас поднялся профессор Вильгельм, всемирно известный антрополог, и выступил в нашу защиту. Объяснил, что без лабораторной обработки материалов археологи экспедиции не смогут завершить исследование. И почему никто не предупредил Хейердала, ведь он еще до начала экспедиции на Пасхи приезжал в Чили, чтобы разрешить все проблемы?
Верно, сказал Пенья, но произошло досадное недоразумение: разрешение дало министерство иностранных дел, а на самом деле компетенция в этом вопросе принадлежит министерству просвещения.
Я возразил, что и к министру просвещения тоже ходил, он принял меня чрезвычайно любезно и просил сообщить ему, если возникнут трудности и мне понадобится помощь.
Вильгельм немедленно сказал, что все готовы помочь, надо только найти законный путь. И его можно найти, так как закон, составленный с участием его, профессора Вильгельма, оставляет для этого лазейку.
Слова попросил студент. Он заявил, что конфискацию произвести необходимо, потому что в чилийских музеях слишком мало экспонатов с острова Пасхи. «У нас меньше пасхальского материала, чем у кого-либо», — заявил он, и Пенья утвердительно кивнул.
Поддержанный Эдом и Гонсало, я повторил, что экспедиция обнаружила изваяния и стены, которые осмотрела экскурсия. Мы раскопали и отчасти реконструировали эти объекты. Остальное это главным образом кости, древесный уголь, обломки древних орудий, не очень завидный материал для музейных витрин, зато необходимый археологам для изучения прошлого острова Пасхи. Все, что мы нашли, будет описано в научном отчете, а не войдет в отчет — значит, не представляет никакой ценности. Поэтому я предложил, чтобы нам разрешили увезти собранный материал, а после его обработки и публикации представители Чили отберут все, что им нужно.
Пенья и студенты подхватили эту мысль, мол, они как раз об этом и думали, и очень хорошо, что предложение исходит от меня.
Я добавил, что мы не нашли никаких поддающихся переноске музейных сокровищ, но пасхальцы принесли мне много диковин, которые составляли их личную собственность.
— Нас не интересует то, что вам принесли пасхальцы, — сказал Пенья, — разве что (он с улыбкой пододвинулся поближе) вы получили от них ронго-ронго!
— Нет, ронго-ронго мне не приносили, — ответил я, — зато передали множество других изделий.
— Это меня не касается, — сказал Пенья. — Я сюда прибыл не как таможенник. То, что вы купили у пасхальцев, это и мы можем купить. Нас касается лишь то, что вы сами нашли в земле, потому что до вас тут никто не занимался раскопками.
Здесь же было составлено письменное соглашение, лишающее меня постоянного права собственности только на тот археологический материал, который был добыт из земли экспедицией. Я предложил Пенье осмотреть все наши коллекции — как то, что мы нашли, так и то, что получили в подарок или купили. На этом совещание закончилось. Мои товарищи остались переписывать начисто соглашение, а я вышел в ночную тьму, где меня дожидались с джипом капитан и механик. Забираясь в машину, я вздрогнул, заметив, что кто-то неподвижно стоит рядом. Это был Лазарь. Я шепнул ему, что все в порядке, но оп прервал меня:
— Знаю. Я притаился у окна и все слышал. Если бы маленький толстяк пригрезился что-нибудь взять у тебя, я бы сбегал к бургомистру, и мы привели бы сюда двести человек!
Слава богу, что мы с Пеньей договорились, подумал я, а вслух сказал Лазарю, чтобы он никогда не затевал ничего подобного. Дальше нам встретился сам бургомистр; он стоял у своей калитки и явно нервничал.
— Только не горячись, не горячись, — заговорил он при виде меня, очевидно считая, что я взбудоражен не меньше его. — Ну, что там было?
Услышав, что никто не посягает на мои моаи кава-кава, дон Педро приосанился.
— Вот видишь! — Он торжествующе ударил себя в грудь. — Наши объединенные аку-аку!
Затем он учтиво попросил шкипера и механика обождать в джипе: ему нужно поговорить со мной и Лазарем. Войдя в комнату, я увидел круглый стол, три стула и шкаф в углу. Хозяин прибавил фитиль в керосиновой лампе и достал купленную на «Пинто» бутылку вина. Наполнив три рюмки, он предложил нам плеснуть вина на пальцы и помазать им волосы «на счастье»; остальное мы выпили. Бургомистр затеял одно дело. Ночь выдалась темная, безлунная. Лазарь побудет с теми, что ждут в джипе, а дон Педро проводит меня к бабушке — может быть, она разрешит сводить меня в пещеру. Я согласился, и мы вышли с благоухающими вином головами.
Мы проехали на джипе до развилка перед домиком губернатора, свернули на колею, ведущую к молу, остановились и погасили фары; теперь только звезды мерцали во мраке. Немного погодя мимо проехало несколько пасхальцев. Я едва различил их, хотя копыта процокали совсем рядом с джипом. Как только они исчезли, бургомистр объявил, что мы с ним пойдем на пригорок изучать звезды. Шкипер и механик сделали вид, будто поверили.
Сойдя с дороги вправо, мы вдвоем продолжали идти до тех пор, пока в темноте не показалась груда камней, что-то вроде старой стены. Бургомистр остановился и шепотом предупредил меня, что по ту сторону камней не сможет говорить со мной, будем объясняться знаками. Крадучись, он прошел еще полсотни метров; я осторожно следовал за ним. Мы очутились перед какой-то неровной светлой плитой — может быть, просто цемент размазан, в темноте не разберешь. Бургомистр опять остановился, показал на землю перед собой и низко поклонился, держа руки ладонями вперед. Решив, что он ожидает того же от меня, я стал рядом и постарался возможно точнее воспроизвести его движения. Затем бургомистр бесшумно обошел вокруг светлой плиты. Идя за ним, я разглядел, что тут протоптана настоящая дорожка. Возвратившись в точку, откуда начали, мы снова отвесили низкий поклон с вытянутыми вперед руками. Это повторилось три раза, после чего бургомистр замер на месте — темный силуэт на фоне звездного неба, руки сложены на груди, глаза устремлены на светлое пятно у ног. Я сделал то же. Вдалеке был виден рой огоньков, там стоял на якоре военный корабль.
Меня глубоко взволновало происходящее. Словно я с острова Пасхи вдруг перенесся в неизведанную часть света и наблюдал ритуал столетней давности. И вместе с тем я все время помнил, что замершая рядом со мной черная фигура — местный бургомистр, миролюбивый человек с прозаическими усиками, а сейчас к тому же и с галстуком — одним из моих галстуков — на шее. Он не двигался и ничего не говорил, только стоял, сосредоточившись на какой-то мысли, будто пытался что-то или кого-то загипнотизировать.
Кажется, без моего аку-аку тут не обойдется… В самом деле, пусть уломает упрямую бабку и передаст, что она согласна. Я открыл рот и пробормотал что-то неразборчивое. Этого не надо было делать.
— Все, она исчезла, — прервал меня бургомистр и внезапно пустился бежать.
Я поспешил вдогонку за ним, чтобы не потерять его из виду. Миновав груду камней, дон Педро остановился. — Она сказала «да», — вымолвил я.
— Она сказала «нет», — тяжело дыша, возразил бургомистр. И он повторил то, что говорил уже столько раз: мол, его аку-аку все время твердит «да, да». Вытащив из кармана коробок спичек, он высыпал содержимое на ладонь.
— Вот так, говорит мне мой аку-аку, ты должен опорожнить свою пещеру для сеньора Кон-Тики, а бабушка все «нет» да «нет».
Трижды он спрашивал ее, и все три раза она возражала. Но теперь она сказала ему, чтобы он отправился на «Пинто» на материк и потом, когда вернется, подарил сеньору Кон-Тики одну из пещер со всем, что в ней есть.
Мы долго стояли и торговались, что же все-таки сказала бабушка. В конце концов дон Педро согласился спросить ее еще раз, но только один и не сегодня. А до отплытия «Пинто» оставались уже считанные дни.
Прошло два дня, бургомистр не подавал признаков жизни, и я снова поехал к нему. Он сидел вместе с Лазарем за бутылкой вина в своей маленькой комнатушке с круглым столом. Бургомистр поспешил объяснить, что сегодня у Лазаря счастливый день — он решил за два дня до отъезда экспедиции с острова показать мне одну из своих пещер. А вот для бургомистра день выдался несчастливый. Бабушка все твердит «нет», да к тому же братья уверяют, что он непременно помрет, если сводит меня в пещеру, а ведь он старший, ему умирать нельзя. А тут еще пасхальцы объявили забастовку, отказываются разгружать «Пинто», требуют прибавки. Только что бургомистру передали, что его путешествие на материк не состоится, если он не сумеет прекратить забастовку.
Тем временем забастовка охватила и овцеферму военно-морских сил, остались без присмотра ветряные мельницы, которым полагалось качать солоноватую воду из древних колодцев для десятков тысяч овец. Отплытие «Пинто» задерживалось, и чилийцы с корабля использовали это время, чтобы помочь нашей экспедиции. Профессор Вильгельм спас собранные нами драгоценные образцы крови — дал нам консервирующую жидкость взамен наших собственных запасов, которые погибли, когда жара вышибла резиновые пробки из пробирок врача. Радисты «Пинто» оживили наш радар, который после долгой безупречной службы вдруг отказал; механика и стюарда тоже основательно выручили коллеги с военного корабля, на полгода обеспечив нас каждый по своему ведомству всем необходимым.
Несмотря на забастовку и прочие помехи, катер «Пинто» неустанно сновал между кораблем и берегом; туда — с мешками сахара и муки, обратно — с тюками шерсти. Наконец, был назначен день отплытия.
Накануне мы опять перевели свое судно из Анакенской бухты и стали на якорь около военного корабля. Пенья во время этого перехода был у нас на борту, изучал коллекции археологов. Как только он ступил на палубу, я пригласил его в каюту и вручил конверт на имя министра просвещения с подробным отчетом о работах экспедиции по день прибытия «Пинто». Сам Пенья получил копию отчета, которую я попросил его тут же прочитать. В частности, там подробно описывались различные типы диковинных скульптур, полученных мной на острове, и указывалось, что пасхальцы выдают эти скульптуры за наследство, хранящееся в подземных тайниках. Пенья спросил, бывал ли я сам в такой пещере. Я ответил, что не бывал, но рассчитываю побывать после ухода «Пинто». Не вдаваясь больше в этот вопрос, Пенья поблагодарил за отчет и попросил показать ему ящики с тем, что нашли археологи.
Мы спустились на фордек, где штурман заблаговременно собрал ящики археологов. Вскрыли два ящика, Пенья убедился, что в них лежат полиэтиленовые мешочки с древесным углем, обломки обожженных костей и осколки камня, и на этом кончил проверку. Еле-еле удалось уговорить его пройти в мой личный склад, где лежали на полках коробки с тем, что мне принесли пасхальцы. Поскольку «Пинто» уходил на другой день, я был почти уверен, что никто из чилийцев не успеет проговориться в деревне.
Я вынул из коробки каменную голову с грозно оскаленными зубами. Пенья вздрогнул и выхватил скульптуру у меня из рук. Он никогда не видел ничего подобного среди экспонатов с острова Пасхи. На раскопках тоже находили такие головы?
Нет, не находили. Все скульптуры этого рода я получил от пасхальцев.
У Пеньи тотчас пропал всякий интерес к каменной голове, и он положил ее обратно в коробку. Взгляд его с восхищением обратился на большого деревянного моаи кава-кава, в котором он узнал работу бургомистра. Профессор выразил сожаление, что из-за недоразумения с забастовкой этот мастер резьбы не поедет с ними на материк, — вряд ли кто-нибудь еще на острове может рассказать столько интересных вещей.
Пенья наотрез отказался продолжать осмотр — дескать, эти предметы его не касаются. Тем временем мы бросили якорь около «Пинто», д его командир прибыл к нам на катере вместе с прочими нашими друзьями, чтобы проститься. Ко мне и Пенье подошли его ассистент и еще двое студентов. Я подчеркнуто серьезно обратился к ним и попросил их внимательно выслушать и запомнить то, что я скажу. И заявил, что среди пасхальцев есть люди, знающие очень важные секреты.
— Братья Пакарати, — живо вставил один из моих собеседников.
— Возможно, но и бургомистр тоже, и еще кое-кто, — добавил я и объяснил, что речь идет об отмирающих обычаях и суевериях. И кроме того, я уверен, что пасхальцы знают подземные тайники с мелкими скульптурами, хотя мне еще не удалось побывать в такой пещере.
Один из студентов вмешался и посоветовал мне не придавать слишком большого значения всем этим легендам и прочей болтовне пасхальцев, другой, хитро улыбаясь, сказал, что островитяне — мастера изготовлять подделки. Я снова попросил их запомнить мои слова: на острове есть тайники со скульптурами. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы увидеть хотя бы один тайник, если же это мне не удастся, их долг добиться скорейшей отправки на остров этнолога, который принял бы от меня эстафету.
Кто-то согласно кивал, кто-то улыбался, а профессор Пенья, весело смеясь, похлопал меня по плечу. Он предлагал пасхальцам сто тысяч песо, то есть двести долларов, за ронго-ронго — безуспешно. Один из студентов возразил ему: останься «Пинто» еще на пять дней, он получил бы ронго-ронго из потайной пещеры!
Гости с «Пинто» и из деревни все прибывали, и мы прекратили этот разговор. Я раскрыл все свои карты, хотят — верят, хотят — нет…
На следующий день «Пинто» ушел. С ним уехал наш аквалангист, который, ныряя в нерабочее время, забрался слишком глубоко и порвал барабанные перепонки. Грустно было расставаться с одним из членов нашей группы, но на его место пришел отличный парень — молодой чилийский студент Эдуарде Санчес, прибывший на «Пинто». Новый участник экспедиции должен был помогать археологам на суше, а на судне работать юнгой. Они с Гонсало были старые, закадычные друзья, и лучших работников мы не могли себе пожелать.
Провожая вдоль острова серого бронированного великана, мы шли в левом кильватере. Теперь у нас было много друзей среди тех, кто махал нам с широкой кормы «Пинто» и выступов высокой башни. На закате мы послали им прощальный привет сиреной и флагами. Далеко на западе над морем еще пламенели последние залпы солнца, когда маленький траулер лег на другой курс и пошел вдоль темного скалистого берега, а военный корабль заскользил к напоминающим бомбовые разрывы фиолетовым вечерним облакам на востоке.
И вот мы опять один на один в ночи с удивительным маленьким островком. Его обитатели укладывались спать в своей деревне на другом берегу, а здесь только одинокие аку-аку стерегли таинственные камни на темных карнизах, да в Анакенском лагере мигал фонарь нашего сторожа.
Скрылся последний огонек «Пинто», и корабль словно канул в небытие. Внешний мир как бы не существует для пасхальцев, пока он сам их не удостоит своим вниманием. Слухи о зеленых пальмах Таити или больших домах Чили многим кажутся заманчивыми, но жизнь по ту сторону горизонта для них все равно что загробная жизнь, нечто далекое и нереальное, происходящее где-то там, за голубым небосводом, куда не проникает взгляд. Для своего коренного населения остров Пасхи поистине Пуп Вселенной. Прочные родовые узы
привязывают их к неколебимой, надежной точке посреди Мирового океана, подлинному центру мира. Далеко на западе и на востоке лежат могущественные государства — Чили, США, Норвегия, Таити. А Пуп Вселенной торчит из моря там, где встречаются восток и запад, север и юг — то есть в центре мира.
После ухода «Пинто» жизнь на острове быстро вошла в обычную колею. Коконго еще не успела распространиться. Коконго — великое бедствие, непременный спутник контакта с материком. Она появляется и исчезает с неумолимым постоянством. После визита военного корабля месяц-два в деревне свирепствует грипп, который дает осложнения на голову, грудь, желудок. Болеют все, инфекция никого не минует, и ни один год не обходится без смертных случаев. Правда, в этом году коконго поначалу проявляла небывалую кротость. Пасхальцы тотчас нашли объяснение: это наша экспедиция принесла счастье. Недаром, когда мы пришли, вообще никто не заболел.
Губернатор и патер Себастиан отпустили наших рабочих, и археологи возобновили раскопки. Эд снова отправился в Оронго, где к приходу «Пинто» было открыто немало нового. Вскрыв небольшую, плохой кладки аху около поселения птицечеловеков, он обнаружил, что она построена на развалинах старинного сооружения, которое было сложено из искусно обтесанных камней в классическом инкском стиле. Сняли весь дерн и почву на прилегающем участке, и оказалось, что древняя стена соединялась рядом камней с найденным ранее улыбающимся идолом. Торчащие кругом камни украшало изображение больших круглых глаз, напоминающих символ солнца, и, когда Эд в центре комплекса нашел нарочито выдолбленные в скале ямки, у него родилась одна догадка.
Двадцать первого декабря, в день летнего солнцестояния в южном полушарии, Эд вместе с капитаном Хартмарком задолго до восхода солнца стоял наготове около шеста, воткнутого в одну из ямок. Как только в противоположной стороне огромного котлована над гребнем кратера поднялось светило, на другую ямку, как и думал Эд, легла четкая тень. Впервые в Полинезии была обнаружена культовая солнечная обсерватория!
Губернатор обещал нам, что в день зимнего солнцестояния на рассвете придет в обсерваторию; ведь нас тогда уже не будет на острове. Эд показал ему ямку, на которую, по его расчетам, должна пасть тень. Так оно и вышло. Билл тоже стоял двадцать первого декабря с приборами и инструментами на раскопанной им большой аху классического инкского стиля в Винапу. И установил, что солнечный свет падает на нее под прямым углом. Эти наблюдения снова заставили нас вспомнить про древних строителей Южной Америки — ведь инки и их предшественники в Перу были солнцепоклонниками. А открытия Билла продолжались. Место, где обнаружили и подняли на ноги красную колонновидную статую, представляло собой огромную культовую площадку, выемку около полутораста метров в длину и ста двадцати в ширину, некогда окруженную высоким земляным валом, который отчетливо видно и теперь. (Кстати, тиауанакская красная статуя тоже лежала на такой прямоугольной культовой площадке.) Собранные нами по соседству угли — след разведенного человеком костра — показали при радиоактивном анализе в лаборатории, что костер горел около 800 года нашей эры. А у фасада стены Билл откопал остатки древнего крематория, здесь было сожжено и погребено много покойников подчас вместе с рыболовными снастями. Прежде археологи не знали о кремациях на острове Пасхи. Наши открытия шли вразрез с тем, что было известно науке.
Карл наносил на карту и изучал древние сооружения. В совершенной кладке аху Пито те Кура, подле которой лежит самая большая из когда-либо воздвигнутых на Пасхи статуй, он открыл погребальную камеру. Между истлевшими костями лежали две замечательно красивые серьги длинноухих, сделанные из ядра огромных раковин.
Бригады рабочих, подчиненные Арне, находили интересные вещи как внутри, так и снаружи кратера Рано Рараку. Теперь он решил заложить разрез и вскрыть один из округлых бугров у подножия вулкана. Бугры эти настолько высокие, что пасхальцы присвоили им имена, а ученые считали их природными образованиями. Мы же выяснили, что они созданы человеком: это отвалы, которые росли по мере того, как из каменоломни сносили щебень в больших корзинах. Случай подарил нам уникальную возможность научно датировать работы ваятелей по головешкам от костров и обломкам рубил, найденных нами в отвалах. Радиоактивный анализ головешек позволяет определить их возраст, и мы узнали, что в этот отвал щебень из каменоломни продолжал поступать около 1470 года, за двести лет до того, как во рве длинноухих запылал роковой костер.
Итак, «Пинто» ушел, но вождь длинноухих остался. В разных концах острова возобновились работы, а дон Педро сидел на своем крыльце и наводил блеск на орлиный нос очередной деревянной фигуры. Девиз «Не горячись» помог ему быстро примириться с крушением мечты о путешествии на материк. Взамен я с согласия губернатора пообещал бургомистру взять его с собой на Таити, Хива-Оа и в Панаму, когда мы двинемся дальше, и он почувствовал себя на седьмом небе. Разве не очевидно, что ему сопутствует счастье! Приободрившись, он отправился на новое свидание с бабушкой, но она продолжала упорствовать. Ночью аку-аку никак не давал ему спать, все твердил наперекор бабушке: «Ступай в пещеру, ступай в пещеру». В конце концов дон Педро не выдержал — встал и пошел в пещеру. По пути его никто не видел, ни разу не пришлось прятаться. А это считалось хорошей приметой. Войдя в тайник, он схватил зубастую звериную голову из камня, но аку-аку сказал: «Возьми еще, возьми еще», и кончилось тем, что бургомистр вынес из пещеры целую кучу скульптур. Он сообщил мне, что они ждут меня в укромном месте; я должен приехать за ними, как только стемнеет.
Моему взору предстали какие-то диковинные мифические животные. Было несколько вариантов зверя с длинной шеей и вытянутой мордой, причем в пасти вверху и внизу было только по три зуба. Самым великолепным экспонатом оказался широкий круглый корабль из камыша — этакий мощный ковчег. В отверстия на горбатой палубе вставлены три мачты с толстыми шершавыми парусами из камня. Корабль больше всего напоминал кондитерский шедевр, только из застывшей лавы вместо сдобного теста.
— Теперь ты видишь, как я узнал, что паруса тоже делали из камыша, — гордо произнес бургомистр, показывая на вертикальные полосы, которые изображали стебли.
Я заметил, что бургомистр покашливает — к нему подбиралась коконго. Сам же владелец «пряничного» корабля радостно сообщил, что в этом году коконго на редкость мягкая. Правда, пока он кашляет, ему все равно нельзя ходить в пещеру, это может принести несчастье. Прежде больные старики иной раз забирались в тайник, но это делалось нарочно, чтобы спрятаться и умереть там.
Когда возобновились работы в Анакене, бригаду «длинноухих» вместо заболевшего дона Педро возглавил Лазарь. Он чувствовал себя превосходно, легко вскарабкался на стену и уверенно подавал команды. И вот, наконец, на восемнадцатый день с начала подъема великан под грохот осыпающихся камней выпрямился и замер в вертикальном положении.
На море разыгрался шторм, и пришлось шкиперу увести траулер ближе к деревне, на два-три дня укрыть его за островом. А когда погода наладилась и судно вернулось на свое место у скал возле нашего лагеря, моя переносная радиостанция приняла сообщение капитана: он захватил из деревни пассажира, который непременно хочет мне что-то показать. Катер доставил меня на судно, и я увидел моего молодого друга Эстевана. Он явно приготовил мне сюрприз, и улыбка его опять была мальчишески счастливой, таким я не видел его с тех пор, как его жена отказалась приносить скульптуры из пещеры. Заметно волнуясь, Эстеван учтиво спросил, не найдется ли на корабле уголка потемнее, он должен посвятить меня в очень важную тайну. Я провел его в свою каюту и опустил шторы. Такое затемнение вполне устраивало Эстевана. Он на минуту вышел и вернулся с двумя огромными узлами. Закрыл поплотнее дверь и попросил меня отойти в сторонку и смотреть.
В темноте я едва различал его силуэт. Вот он нагнулся и что-то достал из узлов. Я ожидал увидеть что-нибудь светящееся, раз ему понадобилось затемнение. Но извлеченный из узла предмет совсем не выделялся во мраке. Я заметил, что Эстеван надевает его на себя. Может быть, маска или еще какое-нибудь убранство для танца? На голове Эстевана с обеих сторон как будто болталось что-то вроде длинных ушей; но, возможно, мне это почудилось. Затем он извлек из узлов еще два больших предмета, один положил на пол, другой — на кушетку около моей койки, — сел на корточки, положил руки на предмет, лежащий на полу, так, словно ему предстоял откровенный разговор с близким другом, и забормотал что-то по-полннезийски.
Голос Эстевана звучал мягко, мелодично, но он говорил так взволнованно и серьезно, что заразил меня своим настроением. Внезапно я сообразил, что речь идет не о том, чтобы посвятить меня в какие-то тайны; на моих глазах молодой симпатичный пасхалец совершал важный языческий ритуал. Его волнение росло, он все больше увлекался, и, когда объяснение с первым предметом кончилось и Эстеван взял руками второй, он был уже так растроган, что начал всхлипывать. Я не мог разобрать слов, уловил только несколько раз свое имя. Речь Эстевана все чаще прерывалась, он с трудом удерживался от рыданий. И в конце концов разрыдался так горько, будто потерял лучшего друга. Мне было не по себе, хотелось заговорить с Эстеваном, утешить его, выяснить, в чем дело. Но я решил, что разумнее всего пока не вмешиваться.
Наконец Эстеван взял себя в руки и начал снимать свой наряд. Потом попросил меня сделать, чтобы было светло, и я поднял шторы. На его серьезном лице пробивалась улыбка, но глаза были еще красные от слез, и пришлось вручить ему носовой платок. А вообще он заметно повеселел, словно избавился от дурного сна.
Я осмотрел снятый им наряд. Это был толстый синий с черным вязаный свитер и черная меховая шапка-ушанка, полученная, очевидно, от проезжего китобоя. На полу сидела большая собака из красного камня, которую так прилежно чистили и скребли, что она стала похожа на оплывшую шоколадную фигуру. А на кушетке лежала дьявольская личина, сам Сатана в образе зверя, горбатый, с острой бородкой и ехидно оскаленным ртом. Эта скульптура была высечена из гораздо более твердой серой породы и в отличие от стершейся собаки превосходно сохранилась.
Почтительно, чуть ли не ласково Эстеван указал на скульптуру на кушетке и объяснил, что, по словам жены, она из двух самая могущественная. Всего пещеру жены охраняли четыре сторожа; два других, которые остались на посту, — большие каменные головы с какими-то диковинными фигурами на макушке. Эстеван принес тех, которые разгневались на его жену за то, что она вынесла столько скульптур из своей части пещеры. С тех самых пор ее преследует болезнь, и вот она решила передать мне сердитых сторожей: может быть, подобреют, как опять соединятся с подчиненными им камнями.
Сверх того Эстеван принес пять «рядовых» скульптур из той же группы, в том числе двуглавое чудище куда грознее на вид, чем невинный чистенький песик, который мирно таращил на нас глаза с коврика перед койкой. В пещере осталось еще несколько фигур, чьи сторожа перешли ко мне. К ним относился и уже знакомый мне по описанию Эстевана большой корабль с головами идолов на носу и на корме. Теперь все это будет моим.
Я спросил, нельзя ли мне самому сходить за ними в пещеру. Эстеван предложил вдвоем попытаться уговорить его жену. Я обещал как-нибудь вечером зайти к ним, а заодно и врача захвачу, пусть посмотрит, что за болезнь донимает жену Эстевана.
Затем Эстеван опять повернулся к своим приятелям — собаке на полу и черту на кушетке — и твердо заявил, что теперь оба сторожа по всем правилам переданы мне. Он сделал все, как его учила жена. Точно так же передавал ей пещеру ее отец, а ему — дед.
Отныне я отвечаю за сторожей. Если мне понадобится отдать их другому человеку, я должен сделать это так, как только что сделал Эстеван, причем лучше всего одеться во все темное. Я могу показывать сторожей кому угодно на судне, но никто из пасхальцев не должен их видеть. Не позже чем через три месяца их надо вымыть, а потом чистить четыре раза в год. Мало смыть пыль и плесень, надо хорошенько вычищать паутину из ямочек и каждый год выкуривать насекомых, которые откладывают в них личинки.
Как только я убрал двух сторожей и их подопечных, Эстеван облегченно вздохнул, словно с его молодых плеч сняли огромное бремя. Объяснил, что сам-то он добрый христианин, но его непросвещенные предки якшались с бесами. Нелегко приходится тем, кто унаследовал этих бесов и выполняет неприятный долг, поневоле неся ответ за причуды своих дедов и прадедов.
Выходит, он принес мне двух бесов? Да, по-испански их, пожалуй, вернее всего называть именно так, хотя предки называли их аку-аку.
Итак, у меня на судне появились два аку-аку… Эстеван не скрывал, что, будь его воля, я получил бы не только тех двух, которые еще остались в пещере, но и всех аку-аку со всего острова. Хоть бы они все до единого перебрались на судно и уехали навсегда, чтобы пасхальцам не надо было больше думать об этой нечисти! Теперь жители острова христиане, они ни за что не стали бы связываться с аку-аку, не будь им это предписано под страхом болезни и смерти.
В школе Эстевана обучили грамоте, и теперь он аккуратными буквами записал на бумажке слова, которые говорил в темноте. И объяснил, что такую же формулу я должен произнести, если кому-то захочу передать сторожей пещеры, только имя надо поменять. На бумажке было написано:
Ко ау Ко Кон Тики хе Атуа Хива Хуа вири маи те и Ка уру атуа на Ки те Канга Эину Эхораие Эхити Ка пура Эураурага те Махинаэе. Ка эа Коруа Какаи Кахака хоа ите уму моа ите уму кокома оте атуа хива.
Ко Кон Тики мо хату О Ко иа То Коро Ва Ка Тере Ко хахо Когао Вари оне ана Кена О Те Атуа хива Ко Кон Тики.
Эстеван не смог дать точного перевода, но смысл сводится к тому, что я, господин из внешнего мира, прибыл оттуда со своими людьми сюда, здесь позаботился о том, чтобы четверых аку-аку, по имени Эину Эхораие, Эхити Ка пура, Эураурага и Махинаэе, накормили потрохами петуха, изжаренного в земляной печи перед входом в пещеру О Ко иа, а мой корабль в это время стоял, качаясь, на якоре у песчаных берегов Анакены.
Я понял, что Эстеван и его жена сами от моего имени угостили аку-аку потрохами около родовой пещеры.
Через два-три дня мы с врачом выбрали время, чтобы съездить в деревню. Нам удалось незаметно для соседей пробраться в хижину Эстевана. Маленький стол с огромным букетом цветов в вазе, два табурета и две скамейки — вот и вся обстановка; да у стены за занавеской, очевидно, стояла кровать. Мебель и стены были покрашены голубой и белой краской, все сверкало чистотой.
Из-за занавески вышла жена Эстевана, бледная, стройная красавица, черноволосая, со строгими, умными глазами. Здороваясь с нами, эта босая молодая женщина с осанкой королевы держалась скромно, но с очень большим достоинством. Ее познания в испанском языке были скудны, и Эстеван помогал нам объясняться. Хозяева извинились, что не могут предложить нам стульев, но нас вполне устраивали скамейки.
Я внимательно рассматривал тихую молодую островитянку, которая села напротив меня, сложив руки на коленях. Не такой представлялась мне волевая жена Эстевана — я ожидал увидеть настоящую амазонку. Она спокойно и толково ответила на вопросы врача, и он определил у нее какую-то женскую болезнь, которую без труда могли излечить в местной больнице.
Эстеван сам заговорил о пещере. Тихо и приветливо, с неизменным достоинством его жена ответила на мои вопросы. Отец говорил ей, что, если в родовую пещеру проникнет посторонний человек, кто-нибудь из ее близких умрет. Она не хочет умирать, и не хочет накликать беду на Эстевана. Вот почему она не может сводить меня в пещеру.
Переубедить ее оказалось невозможно. Эстеван огорченно добавил, что в прошлый раз, когда он пытался ее уговорить, она двое суток проплакала. Видя, как близко к сердцу она это принимает, я сдался.
Но может быть, она снимет для нас фотографию в пещере, если мы ее научим, как это сделать? Нет, это тоже исключено, ведь тогда посторонние смогут увидеть на снимке пещеру, а на нее наложено табу.
Н-да, сплошное разочарование… В конце концов я без всякой надежды на успех спросил: нельзя ли перенести все содержимое пещеры в дом, чтобы мы могли здесь сфотографировать оставшиеся предметы? К моему удивлению, она тотчас сказала «да». Камни сфотографировать можно. Еще больше меня удивил Эстеван, предложив жене временно поместить скульптуры в другую пещеру, в саду около дома. Правда, ход в эту пещеру тоже тайна, но на нее не наложено табу, так что я могу там фотографировать. Жена и тут согласилась, только добавила, что двух оставшихся сторожей трогать нельзя. Супруги заметно огорчились, когда я покачал головой и сказал, что другая пещера мне не нужна, все дело в том, чтобы увидеть именно родовой склеп. Мы сошлись на том, что скульптуры перенесут в дом и дадут мне знать об этом.
Напоследок, уже перед тем как уходить, я спросил жену Эстевана, кто вычесал эти скульптуры — не отец ли? Нет, отец помогал делать только некоторые из них. Большинство вытесано ее дедом Раймунди Уки (имя, полученное им, когда пасхальцев крестили), который умер в возрасте ста восьми лет. Она была совсем маленькой, когда дед работал над скульптурами и обучал ее отца. На первых порах деду, насколько она знает по рассказам, помогал «советами» прадед. Она не могла сказать, когда точно начали использовать эту пещеру как тайник, но некоторые изделия считались очень старинными. В основном же собрание пополнилось во времена деда.
Так мы узнали, что по крайней мере одна из загадочных пасхальских пещер не была неприкосновенным складом, мертворожденной сокровищницей поры первых междоусобных войн, а проходила какие-то ступени развития. Возможно, тайник, принадлежащий жене Эстевана, дольше всех пополнялся новыми вещами, но он же и первым начал разбазариваться. И тем не менее, покидая домик молодой четы, я чувствовал, что этой пещеры мне не видать.
Глава восьмая. В подземные тайники острова Пасхи
Вечером на закате мы с Лазарем бок о бок ехали верхом по древней, заросшей травой дороге от каменоломни Рано Рараку к лагерю в Анакене. Позади нас, багровый в лучах заходящего солнца, высился вулкан, впереди простиралась расписанная длинными тенями равнина с россыпью камней. Море и небо были во власти вечерней истомы, все вокруг дышало покоем. С нами вместе двигались, точно повторяя каждый наш жест, две гротескные карикатуры всадников — наши тени. У меня опять было такое чувство, словно мы в одиночестве странствуем по луне.
Я придержал коня и обернулся: подле двух теней вдруг появилась третья. За нами следовал незнакомый всадник. Длинный, худой и бледный, он глядел на нас сурово, будто сама смерть. Чужак беззвучно остановился в ту же секунду, когда мы осадили коней, но стоило нам двинуться дальше, как и третья тень заскользила по земле вперед. В этом человеке, во всем его поведении было что-то странное. Над качающимися головами лошадей Лазарь вполголоса сказал мне, что это брат здешнего звонаря едет за нами. Накануне он говорил с Лазарем и заявил, что хочет работать у меня, причем готов делать все бесплатно. Совсем странно… Почему-то мне не хотелось видеть этого мрачного всадника в числе своих сотрудников.
Я чувствовал его взгляд на своем затылке. Он не догонял нас, когда мы замедляли ход, но и не отставал, если наши кони ускоряли шаг. Уголком глаза я все время видел длинную тонконогую тень, она сопровождала нас километр за километром до самого лагеря, где все тени слились и растворились в ночи, когда солнце ушло за гору.
По мнению Лазаря, вряд ли всадник слышал наш разговор. А говорил я о том, что недалеко то время, когда тайные туннели и прочие подземные хранилища смогут находить особым прибором, отмечающим пустоты. Мой рассказ явно поразил Лазаря. На пути от Рано Рараку до Анакены он показал много мест, где стоило бы пройти с таким прибором: есть пещеры, но в наше время никто не знает хода в них. С нескрываемой тревогой Лазарь сказал, что достаточно пройти с таким детектором по деревне, чтобы разбогатеть. Ведь от северной окраины почти до самого берега на триста метров простирается тайная пещера, собственность одного из последних королей. Один пасхалец нашел ее, но, хотя он вынес лишь несколько громадных наконечников от копий, аку-аку много ночей подряд кусали его и кололи, пока не замучили до смерти.
На следующее утро, выйдя из палатки, я сразу увидел нашего вчерашнего спутника. Лежа на траве за оградой, напротив входа в палатку, он пристально глядел на меня. Полицейские Николас и Касимиро давно перестали нас охранять, все равно никто не посягал на лагерное имущество.
Весь день худой человек, не произнося ни слова и не предпринимая никаких действий, ходил за мной на почтительном удалении, как верный пес. И когда снова спустилась ночь и все в лагере легли спать, я заметил, что он сидит в темноте на аху по соседству с моей палаткой.
Ночью прошел сильнейший ливень. Пасхальцы страшно обрадовались, потому что запасы воды в деревне кончились и приходилось носить воду из пещер и с кратерного болота. И вот в самый разгар засухи разверзлись хляби небесные. Это ли не хорошая примета! Правда, для нас, обитателей палаток, это был чистый потоп. Едва прекратился дождь, как дорога преобразилась в шоколадного цвета поток и в два счета превратила лагерную площадку в озеро. Меня разбудил счастливый голосок Аннет, которая кричала по-полинезийски: «Гляди, мама, гляди!» Она радостно показывала пальчиком на свой горшок, который поплыл, описывая круги между раскладушками. Я отнюдь не разделял ее восторга, когда обнаружил, что наша одежда, чемоданы и прочее имущество утонули.
Снаружи журчал быстрый поток, в палатках звучали проклятия и смех. Кухонный тент сорвало, ящики для примусов были доверху наполнены водой, кругом плавали продукты. Кок и стюард стояли в месиве из муки и сахара и ломом вырубали канавку в полу, чтобы был сток для воды. Фотограф сложил пленку и аппараты на кровати; моряки вычерпывали воду из палаток кувшинами и ведрами, словно спасали тонущий корабль. Мы живо вырыли канаву, перегородили дорогу плотиной и отвели поток в сторону. В разгар суматохи меня пришли поздравить сияющие от радости «длинноухие», которые благополучно отсиделись в сухой пещере. Хорошая примета! Теперь надолго хватит воды и людям, и скоту. Шкипер тоже был доволен: на судне удалось собрать несколько тонн дождевой воды. За одну ночь — полный танк! Ливень усмирил ветер, и многодневное волнение на море улеглось.
Но один человек остался в пещере «длинноухих», он лежал и корчился от острой боли. В эту ненастную ночь он впервые ходил в свой родовой тайник за скульптурами. Я узнал об этом только на следующий день, когда мы с врачом поздно ночью вернулись от Эстевана и его жены.
Прежде чем войти в палатку, я постоял и полюбовался силуэтом воздвигнутого великана на фоне переливающегося звездами южного неба. Вдруг из тьмы появился Лазарь, и по лицу его я сразу понял, что случилась какая-то беда. Он сообщил, что брат звонаря, тот самый худой всадник, лежит при смерти в пещере Хоту Матуа. Нужен доктор!
Врач уже приготовился влезть в спальный мешок, но мы заставили его одеться, и все втроем поспешили через долину в пещеру. По дороге Лазарь поделился со мной тем, что ему рассказал больной. Дескать, у пего есть пещера, и он ходил в нее под ливнем и достал много предметов, которые уложил в мешок и спрятал между камнями на горе над Анакенской долиной. А под утро ему вдруг стало худо. Дальше — больше, и теперь его рвет, он корчится и жалуется на дикие рези в животе. Он сказал по секрету Лазарю, где спрятан мешок, и попросил отнести вещи мне, если сам умрет.
В пещере, тщетно пытаясь уснуть, лежали вповалку наши рабочие. У задней стенки я увидел бледного верзилу — щеки впалые, вид такой, что хоть в гроб клади. Он тяжело дышал, стонал и корчился. Его товарищи испуганно смотрели, Когда врач крутил костлявого больного и пичкал его пилюлями. Потом доктор сходил в лагерь за новой порцией лекарств, постепенно больной начал успокаиваться, боли прошли, опасность миновала.
Когда мы наконец покинули пещеру, бедняга успел настолько оправиться, что потихоньку выбрался наружу и исчез в темноте. Он отправился прямиком на гору, взял мешок и помчался с ним в тайник, чтобы поскорее положить все на место и отвести от себя гнев аку-аку. Оставив там тяжелое бремя, он вернулся в деревню и рассказал друзьям, что был на волосок от смерти. Врач объяснил мне, что у него были всего-навсего сильные колики.
Болезненный брат звонаря промелькнул, будто метеор в мочи, но ливень и исцеление умирающего произвели сильное впечатление на жильцов пещеры. И когда я уже под утро вернулся в палатку, на моей кровати лежала вытесанная из камня оскаленная голова кошки — то ли льва, то ли пумы. Чиркнув спичкой, я увидел, что Ивон не спит. Она рассказала, что несколько минут назад приходил какой-то пасхалец и просунул каменную голову в палатку. Кажется, это был младший брат бургомистра.
Совершенно верно: на следующий день ко мне пришел усатый коротыш с карими оленьими глазами — человек с золотым сердцем, который помог бургомистру, Лазарю и мне перевернуть первый камень с изображением кита. Избавившись от своих страхов, Лазарь давно старался ободрить Атана, тоже владеющего подземным тайником. И тот даже сказал ему, что хочет спросить своего старшего брата, бургомистра — может быть, он разрешит ому принести что-нибудь из пещеры для сеньора Кон-Тики.
Выглянув раз-другой из палатки и убедившись, что никто не подслушивает, Атан откровенно и прямо рассказал мне все, что знал. Я услышал, что он чистокровный «длинноухий», их четверо братьев: старший, глава рода — бургомистр Педро Атан, далее Хуан Атан, Эстеван Атан и, наконец, Атан Атан, которого в честь одного из предков нарекли еще Харе Каи Хива. Каждый из братьев получил по пещере от богатого отца. Атану как младшему досталась самая маленькая, в ней всего шестьдесят скульптур. Он ничего не знает про тайники старших братьев, а они распоряжаются его пещерой наравне с ним. Отцу эта пещера досталась от Мариа Мата Поепое, который унаследовал ее от Атамо Уху, а тот от Харе Каи Хива, автора всех скульптур.
Я знал имя Харе Каи Хива — он значился в родословной бургомистра и происходил по прямой линии от Оророины, единственного длинноухого, уцелевшего после битвы на Пойке.
На мой вопрос о кошачьей голове Атан как-то неуверенно ответил, что это изображение морского льва — они изредка встречаются у берегов острова. Но ведь у морских львов нет ушей, возразил я. Верно, сказал Атан, по, может быть, во времена Харэ Каи Хива были другие морские львы?
Атана сильно тревожила опасность того, что его пещеру смогут в будущем найти «машиной»; об этом ему рассказал Лазарь. Если бы братья позволили, он предпочел бы вовсе избавиться от своего клада. Как добрый христианин он считал, что лучше всего возложить ответственность на надежно охраняемый музей. Прямой и простодушный Атан Атан легко поддавался воздействию. К тому же последние события так его поразили, что он и не нуждался в особенной обработке. И через три дня Атан пригласил меня в свою скромную хибарку на краю деревни, где шепотом рассказал мне, что его старая тетка Таху-таху и два старших брата, Педро и Хуан, уже разрешили ему передать пещеру мне. Осталось только получить согласие Эстевана Атана, и тут нужна моя помощь. Пока я дожидался при свете стеариновой свечи, Атан потихоньку сходил за братом в соседний дом. Когда вошел третий брат, я сразу убедился, что еще ни разу не встречал его. Изо всей четверки он один не работал у меня. Атан доверительно рассказал мне, что Эстеван возглавляет команду, которая построила лодку, и только ждет случая бежать на Таити, когда уйдет наш корабль и некому будет их перехватить. Эстеван смешался, но не стал запираться. Он еще ни разу не выходил в море, но старики научили его разбираться в звездах, и он отлично сумеет найти путь в океане.
Так вот он — известный всей деревне кандидат в шкиперы, очередной таитянский беглец! Лет тридцати, красивый, статный, тонкие, решительные губы, открытый взгляд. Как и остальные братья, Эстеван сильно отличался от обычного пасхальского типа, в Европе с первого взгляда никто не узнал бы в нем чужеземца. А между тем он был настоящий «длинноухий», прямой потомок Оророины.
«Деревенский шкипер» Эстеван Атан был человек любознательный, он долго расспрашивал меня про плавание плота «Кон-Тики» и про дальние страны. Уже поздно ночью младшему Атану удалось перевести разговор на предков и на родовые пещеры. Эстеван охотно поддержал эту тему, и постепенно выяснилось, что у него в пещере хранится около ста скульптур, когда-то был даже небольшой кофейного цвета кувшин из ипу маенго, но он разбился. А всего дороже «книга», страницы которой исписаны ронго-ронго. Кроме него, никто из пасхальцев не видел этой «книги». Далее я услышал, что главный начальник над пещерами рода их старая тетка Таху-таху; она умеет колдовать и якшается с дьяволом. У нее есть очень важная пещера, которая со временем перейдет к их двоюродному брату. Старая Таху-таху хорошо относилась ко мне, я ей дал черный материал на платье и другие подарки, когда она приходила в Анакену и плясала для «длинноухих».
После этого мне довелось пережить несколько волнующих дней. Сначала в лагерь дошла весть о том, что младший Атан попал в больницу — заражение крови. Но тут же от Лазаря поступило новое сообщение: врач вскрыл нарыв на пальце у Атана, удача не изменила моему другу, все хорошо. И наконец, мне намеками дали знать, что Атан ждет меня в своей хижине.
Поздно вечером, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я подъехал к церкви и зашел к патеру Себастиану. Услышав, о чем идет речь, он сразу загорелся. Ему страшно хотелось увидеть хоть один из этих подземных тайников, о которых ходило столько слухов, но которые он считал бесповоротно утраченными. Вместе с тем он понимал, что ему-то все равно не на что рассчитывать. И патер Себастиан взял с меня обещание, что я с ним поделюсь, как только что-нибудь увижу. Пусть это будет даже среди ночи, я должен его разбудить, если окажусь где-нибудь поблизости.
От дома патера до Атана я добирался в полной темноте закоулками вдоль каменной ограды. Отыскав на ощупь калитку, вошел и постучал в низенькую дверь лачуги. Атан с перевязанной бинтом рукой отворил мне и тут же закрыл дверь поплотнее. Мы сели друг против друга за столик, на котором горела свеча. Под скатертью что-то лежало, Атан отдернул ее, и я увидел осклабившуюся мертвую голову. Она была из камня, до жути правдоподобная: оскал зубов, торчащие скулы, пустые темные глазницы, дыры ноздрей… На черепе — две непонятные ямки шириной с ноготь большого пальца.
— Принимай, — сказал Атан, указывая пальцем на мертвую голову. — Вот ключ от пещеры, теперь она твоя.
От неожиданности я не мог сообразить, как себя повести. Впрочем, Атан волновался не меньше моего и сам пришел мне на помощь, прежде чем я успел сказать что-нибудь невпопад. Показывая на ямочки на черепе, он объяснил, что в них лежал порошок из костей аку-аку, смертоносный для всякого, кто посмел бы притронуться к «ключу». Но бабка Таху-таху сходила в пещеру и убрала костяную муку, всю до последней крупинки, так что мне ничто не грозит. Дальше Атан сказал, что мертвую голову — он все время называл ее «ключом» — я должен пока хранить у себя под кроватью, а через два дня мы пойдем в пещеру, и тогда надо будет захватить «ключ» с собой.
Мне навсегда врезалось в память лицо Атана в неверном пламени свечи и рядом серая каменная голова… С легкой жутью смотрел я, как тень моей руки дотянулась до осклабившегося «ключа», который отныне перешел в мое владение. Слабый звук наших голосов и свет свечи, казалось, терялись, не дойдя до стен лачуги. Но снаружи время от времени доносился цокот копыт.
Вверх и вниз по склону проезжал то один, то другой… Ночью в деревне шла какая-то своя таинственная жизнь.
Атан попросил меня устроить ему в день перед посещением тайника курандо — угощение «на счастье». В свою очередь я спросил, можно ли мне будет взять с собой друга в пещеру. Он было заколебался, но потом рассудил, что пещера теперь моя и я все равно оттуда все вынесу, так, наверно, ничего страшного в этом не будет. Когда же я объяснил, что подразумевал Эда, Атан совсем успокоился, потому что слышал о нем только хорошее от своего брата Хуана, который работал у Эда на раскопках в Оронго. Правда, число «три» неудачное, тогда уж надо захватить еще кого-нибудь, и он предложил другого из своих братьев — Эстевана, «деревенского шкипера». Мне удалось настоять на том, чтобы с нами пошел также фотограф. В ответ Атан сказал, что возьмет еще кого-то из своих, чтобы нас было шестеро. Дескать, два, четыре, шесть — счастливые числа. Но дольше никого не надо брать, не то мы, сами того не желая, можем разгневать аку-аку, охраняющих пещеру.
В назначенный день капитан Хартмарк съездил в деревню и привез самого Атана Атана, его брата и их молодого друга Энлике Теао, одного из «длинноухих», которые работали под началом бургомистра.
Обед уже прошел, поэтому мы сидели один за столом, на котором стюард расставил для пас холодные закуски. «Деревенский шкипер» робко попросил меня преподнести «на счастье» небольшой подарок Атану, а также их тетке Таху-таху — она разрешила передать пещеру и рано утром сама изжарила у входа в тайник курицу для аку-аку.
Прежде чем приступать к еде, пасхальцы перекрестились и прочли коротенькую молитву. Атан простодушно посмотрел на меня и объяснил, что это «отра коса апарте» — само по себе. Потом наклонился через стол к нам и шепотом предупредил, что до еды каждый из нас должен громко сказать по-полинезийски:
— Я «длинноухий» из Норвегии. Я ем приготовленное в норвежской земляной печи «длинноухих».
Произнеся эту формулу, мы продолжали разговор шепотом. С некоторым опозданием я сообразил, что наша трапеза — ритуал в честь аку-аку, и слова, намекающие на наше родство, говорились для них. Мне было известно, что Атан оставил версию об исходе древнейшего населения острова из Австрии; теперь он и другие «длинноухие» не сомневались, что во всяком случае их род вышел из Норвегии. Эта мысль утвердилась в их умах после того, как они увидели в составе нашей команды матроса богатырского сложения с огненно-рыжими волосами. И теперь, во время курандо, очевидно, пришла пора посвятить аку-аку в тайну этого несколько замысловатого родства.
В столовую зашел Эд с каким-то известием для меня, и я спросил пасхальцев, нельзя ли ему тоже присоединиться к курандо, ведь и он пойдет в пещеру. И Эд произнес по-полинезийски с типичным американским акцентом, что он-де «длинноухий» из Норвегии, который ест приготовленное в норвежской земляной печи «длинноухих».
Продолжая с торжественным видом есть, мы разговаривали хриплым шепотом. Предмет застольной беседы — духи и пещеры — был для нас с Эдом так же непривычен, как для наших гостей закуски, расставленные на столе. Атан брал масло лопаточкой для резки сыра, лимон клал не в чай, а на хлеб и ел все с большим аппетитом. Насытившись, три пасхальца пошли отдохнуть в свободную палатку. До ночи, когда нам предстояло выступить в тайный поход, было еще долго.
Часа через два после того, как стемнело, пришел Атан и сказал, что можно выходить. По тому, как строго и важно он держался, было ясно, что передача пещеры для него большое событие. Да я и сам, заходя в палатку, чтобы попрощаться с Ивон и вытащить из брезентового мешка под кроватью осклабившуюся мертвую голову с ямкой во лбу, чувствовал себя так, словно мне предстояло долгое необычное путешествие. Я не представлял себе, как надо оперировать магическим ключом, и никто не мог меня наставить на этот счет. Впервые такой камень попал в руки к совершенно непосвященному человеку. Захватив полную сумку подарков от Ивон для старой Таху-таху, я выбрался из палатки в ночной мрак и предупредил Эда и фотографа, что пора трогаться.
Нам предстояло сперва проехать на машине мимо уединенной овцефермы на горе посреди острова, а между Ваитеа и деревней сойти с машины и продолжать путь пешком. Для отвода глаз багажник загрузили узлами с грязным бельем. Шкипер довез нас до Ваитеа, сошел и сдал белье Аналоле — так звали управительницу овцефермы, которая вместе со своими подругами подрядилась стирать для нас. Сюда подходил единственный на острове водопровод от заболоченного кратерного озера Рано Арои.
Сменивший Хартмарка за рулем фотограф повез нас — троих пасхальцев. Эда и меня — дальше. До сих пор небо было ясное, сверкали звезды, но тут вдруг полил дождь. Атан, с чрезвычайно серьезным видом восседавший на инструментальном ящике между мной и фотографом, встревожился и зашептал что-то насчет важности «хороших примет». «Деревенский шкипер» мрачно буркнул Эду, что ветер как будто меняется. Пойди пойми, из-за чего они так нервничают, — то ли чего-то опасаются, то ли заранее переживают серьезность предстоящего. Я боялся, как бы что-нибудь не заставило их в последнюю минуту отступиться, как это сделал брат звонаря.
Эд и его два соседа на заднем сиденье примолкли. Фотограф поневоле молчал: он не понимал ни по-испански, ни по-полинезийски и мог объясняться с пасхальцами лишь на международном языке жестов. Вдруг он остановил машину и пошел проверить колеса. Братья Атан страшно перепугались и стали выяснять, в чем дело. Видя, как они нервничают, остерегаясь дурных примет, я начал их успокаивать, дескать, все в порядке, хотя сам отчаянно боялся, как бы джип нас не подвел. Тем более что фотограф, не подозревая, о чем идет речь, озабоченно принялся мне объяснять и показывать, что мотор барахлит, кажется только три цилиндра работают. Впрочем, машина затряслась дальше по разбитой колее, и между тучами над нами проглянули звезды. Тем не менее братья заметно волновались. И когда мы доехали до места, где должны были оставить машину, Атан вдруг передумал. Дескать, лучше доедем до Хангароа и подождем у него в доме, пока все в деревне не уснут.
Когда же мы подъехали к деревне, он опять передумал и объявил, что аку-аку велел ехать к дому брата. С включенными фарами мы пересекли деревню, возле церкви свернули к берегу и проехали немного вдоль каменной ограды. Здесь нас попросили выключить фары и остановиться. Оставив Энлике Теао присматривать за машиной, мы перелезли через ограду и под моросящим дождем зашагали по широкой каменистой площадке. Мелкие камни лежали так густо, что неизвестно, куда ступать в темноте. Уважая возраст фотографа, Атан предложил ему опереться на его плечо, чтобы не оступиться. А Эду снова и снова говорил шепотом, что друзья могут без опаски идти по его земле. Ведь у него доброе сердце, поэтому его аку-аку позаботится о том, чтобы с теми, кто проходит через его участок, не приключилось никакой беды. И Атан простодушно добавил, что он всегда старается быть добрым, делится едой с теми, у кого нет, отзывается на все просьбы о помощи. Поэтому его аку-аку им доволен.
Среди россыпи камней стояла беленая лачуга. «Деревенский шкипер» осторожно постучал в дверь, потом в окно, наконец разбудил жену, дверь открылась, и мы увидели суровую полинезийскую красавицу лет тридцати, подлинное дитя природы; длинные волосы цвета воронова крыла облекали чудесную фигуру. Гордящийся своими предками «длинноухий» нашел среди «короткоухих» достойную продолжательницу рода.
К маленькому столу посредине комнаты придвинули две скамьи, и красавица хозяйка, бесшумной тенью скользя около нас, поставила на него огарок свечи. «Деревенский шкипер» вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с плотным бумажным мешком из-под цемента. Из этого мешка он достал толстую тетрадь без обложки и положил перед нами. Тетрадь первоначально предназначалась для чилийских школьников, но нашла совсем другое применение: пожелтевшие страницы были испещрены знаками ронго-ронго — тщательно нарисованными фигурками птицечеловеков и другими загадочными символами, в которых мы тотчас узнали своеобразное рисуночное письмо острова Пасхи.
Перелистывая тетрадь, мы убедились, что одни страницы заполнены только непонятными иероглифами, другие же представляли собой как бы словарик: слева — колонка письмен ронго-ронго, а справа неуклюжими латинскими буквами — толкование каждого знака на рапануйском диалекте. Мы сидели и смотрели на освещенную свечой ветхую тетрадь, не зная, что и говорить. Было очевидно, что это не подделка, выполненная рукой Эстевана. И столь же очевидно, что, если писавший эти загадочные значки в самом деле знал секрет письменности ронго-ронго, простенькая тетрадь без обложки представляла собой огромную ценность, открывая неслыханные перспективы для толкования не расшифрованных древних письмен острова Пасхи.
Прочтя вверху одной страницы год «1936», я спросил «деревенского шкипера», откуда у него эта замечательная тетрадь. Он ответил, что ему вручил ее отец за год до смерти. Сам отец не владел ни древним, ни современным письмом, и, однако, именно он, по его словам, переписал все знаки из еще более старой тетради, которая была составлена его отцом, но пришла в негодность. А дед «деревенского шкипера» был человек ученый, он умел но только декламировать ронго-ронго, но и вырезать их на деревянных дощечках. В то время на острове было несколько человек, научившихся грамоте в Перу, куда их увозили в рабство. Один из них и помог старику записать толкование священных знаков, которые быстро стали забываться молодежью после набега работорговцев, когда погибло большинство знатоков древнего письма.
Атан и жена Эстевана были поражены не меньше нас. Владелец тетради гордо сообщил, что до сих пор никому ее но показывал. Хранил в пещере, в бумажном мешке и доставал только, когда хотел вспомнить отца. Решил было сделать новый список, потому что тетрадь уже начала рассыпаться, но убедился, что перерисовать все значки, занимающие сорок одну страницу, — адский труд. Я предложил дать на время тетрадь фотографу, чтобы тот сделал точную фотокопию. После долгих уговоров Эстеван с большой неохотой согласился на это.
[1]
Было уже довольно поздно по местным понятиям, и я спросил, не пора ли нам двигаться дальше. «Деревенский шкипер» ответил, что время терпит, он узнает, когда будет одиннадцать часов: тогда замычит определенная корова. Правда, я
так и не услышал никакого мычания, тем не менее мы вскоре встали из-за стола, и черноволосая вахина проводила нас со свечой до двери. Атан снова помог фотографу пройти через камни, и вот уже мы опять около джипа. Энлике, оставленный для охраны, крепко спал, навалившись на руль. Мы растолкали его и поехали было по колее к лепрозорию, но тут же свернули на какую-то коровью тропу. Не видно ни зги, дорога — одно название, и Атан все время сидел с вытянутой рукой, будто регулировщик, показывая, куда ехать. О заражении крови напоминала только белая тряпица у него на пальце, которая теперь оказалась очень кстати.
Через полчаса, миновав Пупа Пау с древней каменоломней, мы по знаку Атана остановились и вышли из джипа. После долгой тряски на ухабах приятно было размять ноги. Далеко-далеко затаилась во мраке притихшая деревня. Дождь прекратился, тучи отступали под натиском звезд. «Деревенский шкипер» посмотрел вверх и прошептал, что это хорошая примета. Такая реплика в устах пасхальца в разгар засухи показалась нам с Эдом очень странной. Обычно в это время года здешние жители, где бы они ни находились и чем бы ни были заняты, рады каждому дождю. Младший Атан горячо подхватил, что все будет хорошо, он уверен, ведь его тетка Таху-таху наделена большой силой мана, а она не только все подготовила и рассказала ему, что и как делать, но самолично испекла положенное угощение в земляной печи у пещеры.
Первым делом нам надо было перелезть через высокую каменную ограду. Заботясь о фотографе, Атан забрал у него все снаряжение и не спускал с него глаз. Я отчаянно боялся, как бы кто-нибудь не упал, — это непременно будет сочтено дурной приметой! За оградой начиналась едва заметная узкая тропка. Меня попросили идти первым и светить фонариком. Вдруг фонарик потух, и мне пришлось остановиться. Братья перетрусили и испуганно спросили, в чем дело. Ничего особенного, сказал я, и принялся трясти фонарик. В конце концов появился слабый накал, и я зашагал дальше, но братья продолжали нервничать, пока фотограф не сунул мне потихоньку свой исправный фонарик взамен моего.
Высокая кукуруза чередовалась с каменистыми прогалинами. Место это, как мне потом сказал Атан, называется Матамеа — пасхальское имя планеты Марс. Я пытался хоть как-то сориентироваться, но в кромешном мраке за кругом света у самых ног ничего не видел, приметил только силуэты трех круглых вершин на фоне звездного неба. Одна возвышалась впереди, две другие — справа от нас.
Шесть человек молча шагали в ночи — странное шествие, причудливое смешение прошлого и настоящего… Я возглавлял колонну, неся в ультрасовременной сумке тетрадь с древними письменами, а в почтовом мешке с печатью Королевского норвежского департамента иностранных дел — осклабившийся каменный череп. За мной, с фотоаппаратурой и пустыми коробками, гуськом шатали остальные.
На поляне с высокой жухлой травой Атан шепотом попросил меня остановиться и выключить фонарик. Эстеван отошел влево шагов на пятьдесят и, стоя спиной к нам, медленно заговорил на полинезийском языке. Хотя он явно сдерживал голос, речь его как-то особенно звонко разносилась в ночи, в ней была размеренная певучесть. Да и к чему повышать голос, если в траве перед ним не было ни души, только его спина черным силуэтом выступала на фоне звездного неба на западе. С округлившимися глазами Атан прошептал, что брат обращается к местным аку-аку, чтобы заручиться их благоволением. Возвратившись к нам, «деревенский шкипер» строго-настрого велел всем говорить только шепотом, когда мы сойдем с тропы. И ни в коем случае нельзя улыбаться, лицо все время должно быть серьезным.
Снова меня попросили идти первым примерно туда, где произносил свой монолог Эстеван. Мы шли по редкой высокой траве, пока «деревенский шкипер» не остановился. Присев на корточки, он стал раскапывать руками песок. Я увидел блестящий зеленый банановый лист и понял, что Таху-таху именно здесь побывала рано утром, чтобы сделать так называемую уму — полинезийскую земляную печь. Под зеленым листом лежал другой, потемнее и посочнее, за ним еще и еще, и вот показалось белое мясо курицы, запеченной вместе с тремя бататами, а наших ноздрей коснулся чудесный запах, от которого у меня сразу появились слюнки во рту. Вся ночь обрела какой-то особый аромат…
Пока раскрывалась печь, Атан сидел как на иголках, а убедившись, что курица и гарнир удались, облегченно вздохнул. Земляная печь Таху-таху сработала на славу — это добрая примета!
Сидя на корточках вокруг уму, мы благоговейно вдыхали восхитительный запах. Шепотом мне предложили отломить у курицы жирную гузку и съесть ее, говоря при этом вслух на рапануйском языке:
— Хекаи ите уму паре хаонга такапу Ханау эепе каи норуэго.
Как я потом убедился, пасхальцы сами не знают перевода некоторых старинных слов этой формулы. А общий смысл ее: съедим приготовленное в норвежской земляной печи «длинноухих» и обретем силу мана, чтобы войти в пещеру.
Братья все еще продолжали нервничать, и я из кожи вон лез, стараясь, во-первых, верно прочесть не совсем вразумительную скороговорку, во-вторых, не посрамить своих учителей по зоологии и разобраться в анатомии скорченной и общипанной курицы. Наконец мне удалось нащупать ту самую часть, где находится гузка. Кстати, потом я обратил внимание, что почему-то голова и лапы курицы не были отрезаны. Сломанные в суставах ноги были прижаты к тушке снизу, а шея с головой положены набок. Только клюв был отсечен у основания; я вспомнил рассказ бургомистра о том, что, поколдовав над куриным клювом, можно погубить своего врага…
Итак, я оторвал гузку, сунул ее в рот и принялся жевать. Совсем недурно! Затем мне предложили кусочек батата. Еще лучше! Только как мне быть с оставшейся во рту косточкой — глотать ее или выплюнуть? Как бы не опростоволоситься! Я сосал косточку, пока Энлике не показал мне знаком, что ее можно выплюнуть, но тут вмешался Атан и попросил положить ее на банановый лист.
Дальше я должен был отломить и дать каждому по кусочку цыпленка и батата, причем мы вместе с угощаемым повторяли замысловатую скороговорку. Первым был фотограф, который вообще ни слова не понимал из ритуальной формулы, и я здорово боялся за него, но он пробормотал что-то такое неразборчив вое, что, если что-нибудь и наврал, все равно не понять. Эд еще проще вышел из положения: сразу слопал свой кусок, как только я произнес хитрое заклинание.
Выдержав это испытание, я уже начал спрашивать себя, неужели вся моя доля в аппетитно пахнущем курчонке так и ограничится гузкой? И как же обрадовал меня Атан, когда прошептал, что аку-аку довольны, наблюдая трапезу, и можно не стесняться, доесть все «на счастье».
Никогда еще еда не пахла для меня так вкусно. И никогда раньше мне не доводилось отведывать курицы с бататами, приготовленной так замечательно в банановых листьях в земляной печи. Старая плясунья Таху-таху и впрямь показала себя чародейкой. Без всяких там кулинарных книг и специй она сумела превзойти самого искусного шеф-повара. Зато и ресторан был такой, что больше нигде не найдешь! Над головой сверкающий звездами свод, обои сотканы из колышущейся травы, блюда приправлены запахом степного простора и прогоревшего костра.
Но как ни наслаждались мы, сидя в кружок, сочным курчонком, не мы были почетными гостями на пиру. Ритуал происходил в честь гостей, у которых не было ни желудка, ни, естественно, такого волчьего аппетита, как у нас. Им довольно было видеть, как мы уплетаем за обе щеки. Мне было даже немножко жаль сидевших кругом в траве аку-аку. Во всяком случае если они наделены обонянием. Тут Атан шепотом велел нам бросать через плечо обглоданные косточки, приговаривая: «Ешь, родовой аку-аку!»
К аку-аку полагалось обращаться вслух, а говорить между собой — только шепотом. Видно, наши сотрапезники вдобавок к кишечным неурядицам были туговаты на ухо, и самым развитым чувством у них было зрение.
В разгар трапезы послышалось громкое жужжание, и прямо на курице приземлилась противная зеленая навозная муха. Я хотел согнать паразитку, но боязнь совершить какой-нибудь промах удержала меня. И слава богу, потому что Атан уставился на муху и радостно прошептал: — Аку-аку поет, это хорошая примета.
По ходу трапезы он явно становился веселее. Напоследок, когда оставался только кусок батата, я получил указание раскрошить его и бросить крошки на землю, на банановые листья и на кострище.
После этого Атан объявил шепотом, что все в порядке, встал и попросил меня взять «ключ» — сейчас мы откроем вход в пещеру. Кажется, я еще никогда в жизни не волновался так, гадая, что мне предстоит увидеть.
Пройдя всего пятнадцать-двадцать шагов на запад, Атан остановился. Мы присели на корточки. Я держал на коленях осклабившуюся мертвую голову.
— Ну, спроси-ка своего аку-аку, где вход, — вдруг чуть не с вызовом прошептал Атан.
Я растерялся. Место ровное, как паркет, кругом ни одной горки, и только вдали россыпь звезд раздвигают черные силуэты трех вершин. Пещера — где тут быть пещере? Если бы был хоть один бугорок размером с собачью будку…
— Нет, — сказал я. — Я не могу этого делать. Не годится спрашивать аку-аку про вход в владения другого человека.
К счастью, Атан был согласен со мной. Он показал пальцем на землю у наших ног. Я пригляделся: носки моих ботинок упирались в засыпанный песком и сухой травой плоский камень, ничем не отличающийся от десятка миллионов других камней вокруг. Атан шепотом попросил меня наклониться, держа перед собой мертвую голову, и громко произнести; — Открой ворота в пещеру!
Я послушался, хотя при этом чувствовал себя последним дураком. С каменным черепом в руках я нагнулся и произнес подсказанный мне Атаном магический пароль:
— Матаки ите ана кахаата маи!
После этого Атан взял у меня мертвую голову и предложил «войти». Я стряхнул с камня песок и солому; он был с поднос величиной. Затем я раскачал его, откинул в сторону и увидел зияющее черное отверстие, однако слишком узкое, чтобы в него мог протиснуться человек. Крайне осторожно, стараясь не сыпать в отверстие песком, я одну за другой раздвинул четыре плиты, подстилавшие первую. И ход в конце концов оказался впору для не слишком упитанного человека. — Входи теперь, — велел Атан. Я сел, свесив ноги. В черной яме разглядеть что-нибудь было невозможно, поэтому я уперся локтями в края, протиснулся и замахал ногами в воздухе, нащупывая дно. Так и не найдя его, я по знаку Атана отпустил руки и провалился в неведомое. Меня еще поразило ощущение чего-то знакомого, и мгновенно вспомнилась ночь во время войны, когда я точно так же сидел, свесив ноги в темную дыру. В тот раз команду отпустить руки мне подал сержант, но тогда у меня за спиной был парашют, и я знал, что приземлюсь среди друзей на тренировочном поле в Англии. Теперь же один только Атан, глядящий на меня своими огромными диковатыми глазами, знал, где я приземлюсь, а он явно был не очень-то уверен в дружелюбии подземных аку-аку…
Я полетел в мрак, но полет был недолог, и йоги мои уперлись во что-то мягкое, пружинистое. Я не видел ни зги и не понимал, на чем стою. Лишь над головой было на чем остановиться взгляду: круглое отверстие, и в нем несколько мерцающих звездочек. Их накрыла черпая тень — голова и рука, которая протягивала мне карманный фонарик. Я дотянулся до этой руки и, когда зажег фонарик, увидел подле ног два белых черепа. Через висок одного из них сбегала вниз какая-то ядовито-зеленая полоска, и у обоих лежали на макушке угрожающего вида копейные наконечники из черного обсидиана. Оказалось, что я стою на толстой и мягкой, как матрац, циновке из желтого камыша тотора, сплетенного с крученым лубом. Справа совсем близко была каменная стена. В этом месте пещера была всего два-три метра в ширину, но подземная полость уходила влево, и там, насколько слабый свет фонарика мог рассеять мглу, я видел уставившиеся на меня гротескные рожи, какие-то фигурки… Они были расставлены вдоль стен на таких же циновках.
Долго смотреть не пришлось, потому что в эту минуту Атан подал мне «ключ». Потом он сам стал протискиваться через ход. При этом я различил, что прямо надо мной потолок сложен из окаймляющих отверстие больших плит; дальше шла естественная кровля с круглыми натеками затвердевшей лавы.
Я подвинулся, освобождая место для Атана. Соскочив на пружинистую циновку, он раньше всего почтительно приветствовал оба черепа, потом еще и лежащую чуть дальше каменную голову — копию той, которую я держал в руках. Выполняя наставления Атана, я положил «ключ» рядом со вторым сторожем и тихо сказал, что я «длинноухий» из Норвегии, пришел сюда со своим братом. Потом он показал мне, что тетка убрала также магическую костяную муку из ямки во втором каменном черепе. Оглядев всю пещеру, Атан прошептал, что нам больше нечего опасаться. Тетка все сделала, и он точно следовал ее указаниям, аку-аку довольны.
Я посветил в один, в другой угол; в свете фонарика проходили чередой причудливые каменные фигуры и дьявольские рожи.
— Это твой дом, — заверил меня Атан. — Можешь свободно ходить в нем.
Он добавил, что пещера называется Раакау, а слово раакау, насколько ему известно, — одно из названии луны. Освобождая место для фотографа и Эда, мы с Атаном продвинулись в глубь пещеры по тесному проходу между двумя широкими каменными карнизами. Карнизы покрывали желтые камышовые циновки, а на них в ряд стояли затейливые скульптуры. Пещера была совсем не длинной, несколько метров, и путь преграждала бугристая стена. Тем не менее «лунный» тайник Атана представлял собой подлинную сокровищницу. Любой антиквар позеленел бы от зависти при виде таких диковин, такого собрания изделий никому не ведомого первобытного искусства. Ни в одном музее мира не было таких скульптур: что ни предмет, то этнографическая новинка, отражающая удивительный, сокровенный духовный мир пасхальцев, их прихотливую фантазию. Какую фигуру ни возьми, не похожа на то, с чем мы были знакомы раньше. Я узнал только один традиционный пасхальский мотив — птицечеловека с крючковатым клювом и сложенными на спине руками. Но обычно его делали из дерева, никто еще не видел каменную статуэтку тангата ману. Были тут и маленькие каменные модели своеобразных пасхальских весел. Да всего и не перечислишь: люди и звери, птицы и рыбы, пресмыкающиеся и моллюски и даже какие-то невероятные гибриды. И групповые композиции, например два птицечеловека по бокам мифической кошки. А то какой-нибудь несуразный скорченный урод с кое-как присобаченной головой или вовсе что-нибудь непонятное.
Между карнизами на полу было настлано сено. Атан рассказал, что раньше, когда он был еще мальчишкой, за пещерой смотрела Таху-таху, его тетка. Она и теперь ходит сюда ночевать, когда грустит и тоскует по ушедшим. Сегодня утром она приходила чистить камни. И впрямь две скульптуры были сырые на вид.
Постепенно напряжение покидало Атана, и через полчаса он вдруг обратился ко мне полным голосом:
— Теперь все в порядке, мы можем говорить и делать, что хотим, в твоем доме, брат.
Судя по всему, Атан считал, что ему теперь ничто не грозит. Он точно выполнил все указания тетки, пещера со всеми ее радостями, опасностями и обязанностями передана по правилам, отныне вся ответственность лежит на мне. Его тревога пошла на убыль, когда вскрыли приготовленную теткой земляную печь и все оказалось в порядке. А теперь, разделавшись с нечистой силой, он окончательно успокоился. Я не совсем понимал, то ли все дело в том, что он возложил ответственность на меня, то ли аку-аку, по его мнению, сложили свои полномочия здесь и перебрались в более укромный уголок. Во всяком случае, если не считать явно почтительного отношения к камням, Атан держался совсем свободно. Он только попросил нас не трогать человеческие черепа — они принадлежали умершим членам его рода. А скульптур можно уносить столько, сколько войдет в наши коробки.
Было около полуночи, когда мы спустились в пещеру, а выбрались мы из нее в два часа. Хорошо было выйти на волю из подземелья и полной грудью вдохнуть свежий ночной воздух. «Деревенский шкипер» принес отличный арбуз, с которым мы живо расправились. Отверстие в земле прикрыли, но маскировать песком и соломой не стали: завтра паши люди придут за остальными камнями.
На пути домой мы спугнули незримый табун лошадей; стук копыт глухой барабанной дробью отдался в ночи. Людей мы не встретили и огней не видели. Атан уже не опекал фотографа, и тот сам ковылял по камням. Очевидно, нас больше не окружали притаившиеся аку-аку.
Эд спросил Атана, что оп думает делать со своей пещерой теперь, когда в ней не будет скульптур.
— Пещеру я оставлю за собой, — ответил Атан. — Пригодится, если будет война.
В ту ночь мне было не до сна. Свет керосинового фонаря падал на мой дневник, пока небо на востоке не зарделось рассветным румянцем, и я только самую малость успел вздремнуть до того, как стюард застучал в сковороду — новый день, новые хлопоты! Лазарь уже был тут как тут и, снедаемый любопытством, вертелся около меня, пока я умывался за палатками.
Бургомистр однажды рассказывал мне, что, если в тайную пещеру придут сразу несколько человек, аку-аку ее покинут. А без аку-аку конец волшебству, охраняющему тайну входа, любой прохожий сможет его обнаружить. Что ж, это суеверие не лишено практического смысла, ведь на Пасхи, как нигде, справедливо правило: что известно одному, того больше никто не знает, что известно двоим — знают все. Не успели Энлике предупредить, что он пойдет в пещеру Атана, как он поспешил похвастаться Лазарю — и пошли шептаться по всей деревне.
Дня за два, за три до этого Лазарь рано утром, еще затемно принес мне пещерные скульптуры. Заметно нервничая, он молча достал из мешка большую птицу. Я увидел вылитого пингвина в натуральную величину, и был поражен, ведь за пределами областей, прилегающих к холодной Антарктике, пингвины встречаются только на Галапагосских островах. Тем временем Лазарь снова полез в мешок и вытащил голову какой-то мифической птицы с зубастым клювом. Дальше последовала звериная голова с сильно поцарапанным носом.
Лазарь долго сидел тогда и угрюмо смотрел на меня, не произнося ни слова. Когда он наконец заговорил, то рассказал мне, что ночью был на волосок от смерти. Он дважды спускался за скульптурами в свою пещеру на обрыве, и, когда карабкался вверх второй раз, у него под рукой обломился камень. Изогнувшись и судорожно махая руками, он качался над сорокаметровой пропастью, чудом ему удалось зацепиться левой рукой за другой выступ, он удержался и потом осторожно преодолел пятнадцать метров до края обрыва. Выбравшись наверх, он сел и крепко задумался: почему произошел несчастный случай? Может быть, нельзя выносить камни из пещеры?
По пути обратно в Анакену Лазарь снова и снова задавал себе этот вопрос, и теперь, явно обеспокоенный, спросил меня о том же.
— Но ведь это безумие, лазить ночью в одиночку по отвесной скале! — сказал я. — Будто сам не понимаешь, как это опасно.
Мои слова не произвели на него впечатления, он только скептически посмотрел на меня. Он всегда так лазил — только один, и только ночью!
— И вообще, какой же это несчастный случай, наоборот, тебе здорово повезло, ты зацепился за другой выступ! — добавил я.
Этот довод подействовал, Лазарь глядел уже не так мрачно. В самом деле, ведь он не сорвался, напротив, все обошлось на редкость удачно, и вот он сидит здесь, целый, невредимый. Но этот страх, эта тревога на душе?..
На это было не так просто ответить… Я смотрел на лежащие на кровати скульптуры: как и прежние, полученные мной от Лазаря, они не подвергались ни чистке, ни мытью, но у зверя с оскаленной пастью была глубокая царапина на носу. Я показал на нее Лазарю, он озабоченно поглядел на светлую метину.
— По-твоему, ты хорошо обращаешься со своими камнями? — попытался я перевести разговор на другое. — А если бы тебя вместе с бургомистром затолкать в один мешок и хорошенько потрясти? Хоть бы травой переложил!
Лазарь почувствовал себя виноватым и даже как будто склонился к тому, что именно в этом корень его душевных переживаний. Тем не менее мы условились, что он не будет больше один ходить в пещеру за камнями. Видно, ночью лазить туда слишком опасно. Лазарь покидал палатку заметно повеселевший, готовый считать неприятное ночное происшествие еще одной хорошей приметой.
Потом была та ночь, когда мы собирались в пещеру Атана, и Лазарь нетерпеливо бродил во тьме вокруг палаток, пока не улучил минуту и, оказавшись со мной наедине, не объявил, что знает о нашем плане и сам тоже решил сводить меня в свою пещеру, после того как я побываю у Атана.
И вот теперь, наутро после нашей вылазки, я еще только нагнулся над умывальным тазом, а он уже здесь, торопится переговорить со мной и выяснить, что и как. Он не стал меня расспрашивать, только убедился, что ночью ни с кем из нас не случилось никакой беды, и ушел, предоставив мне гадать, какое же все-таки решение он примет.
Вместе с другими «длинноухими» Лазарь в эти дни работал у Арне в Рано Рараку, но после работы они садились на коней и ехали на ночь в пещеру Хоту Матуа. Мы выдавали всем рабочим-пасхальцам ежедневный паек, а временно обосновавшиеся в Анакенской долине сверх того получали добавку на нашей кухне. Однако сегодня Лазарю, похоже, этого оказалось мало. Под вечер он тихонько подошел ко мне и попросил курицу, живую курицу.
Пасхальцы то и дело несли мне в подарок живых цыплят. Те, которые не кудахтали и не кукарекали на заре, привольно разгуливали у нас между палатками, остальные же таинственным образом исчезали. Поговаривали, будто кто-то видел, как фотограф в предрассветный час босиком, в пижаме куда-то крался с малокалиберной винтовкой в руках… Во всяком случае он неустанно проклинал островитян, наводняющих лагерь горластыми петухами и квохчущими курами.
Я смекнул, что Лазарь что-то затевает, и велел стюарду дать ему курицу. Стюард самолично подкрался к стае кур за палатками, плюхнулся на живот в гущу истошно кудахтающих хохлаток и схватил на лету пару бегущих ног. Сияя от радости, Лазарь пришел показать мне добычу.
— Хорошая примета, — шепотом сообщил он. — Стюард поймал белую курицу!
Потом, уже уходя, спросил меня, сможем ли мы завтра отправиться на катере вдоль побережья — он готов показать мне свою пещеру. В тот же вечер шкипер съездил в деревню за Биллом, которого Лазарь тоже согласился взять; еще я договорился, что с нами поедет фотограф.
Утром следующего дня мы собрались на борту экспедиционного судна; залив был как зеркало. Лазарь спустился со мной в трюм — надо же что-то положить в пещеру взамен камней, чтобы не пустовала! Он попросил два целых рулона материала и еще в придачу какой-нибудь маленький предмет, все равно какой. Материал выбирал очень тщательно, что же касается маленького предмета, то сразу согласился, когда я предложил ему ножницы. Я сообразил, что материал предназначается для его сестер, а ножницы, видно, для аку-аку — хватит с него!
В катер кроме нас четверых сели старший механик и моторист; они должны были подбросить нас туда, куда укажет Лазарь. Мы пошли на запад мимо скал северного побережья, радуясь тихому морю и предвкушая легкую высадку на берег. Но, удалившись от Анакены, с удивлением заметили, что нас начинает довольно сильно качать. А Лазарь принял это как должное. Судорожно цепляясь за банку, он с остекленевшими глазами доложил нам, что аку-аку всегда нагоняют волну, когда кто-нибудь направляется в пещеру.
Под крутыми откосами тянулось сплошное беспорядочное нагромождение глыб застывшей лавы, о которые разбивался прибой. Лазарь обратил наше внимание на участок длиной в полсотни метров между двумя осыпями: здесь его бабушка, занимаясь рыбной ловлей, однажды застигла врасплох другую женщину, когда та мыла и сушила пещерные скульптуры. Не подавая виду, бабушка прошла мимо, а когда она вскоре вернулась, та женщина уже сидела и ловила рыбу, скульптур не было видно. Так что где-то тут явно тоже есть потакая пещера.
После этого мы миновали ветряную мельницу в долине Хангао-Тео. Некогда здесь было большое селение, но долина давно обезлюдела. Дальше Лазарь отмерил жестами примерно стометровую полосу и объяснил, что в этом районе находится подземный тайник, куда его двоюродный брат Альберте Ика ходил за драгоценными дощечками ронго-ронго, по аку-аку тут же заставил его отнести их обратно.
Вдруг на лице Лазаря отразился испуг — он приметил людей на берегу. Мы ничего не могли разглядеть, но Лазарь, который днем видел, как орел, а ночью, как сова, утверждал, что на камне сидят четыре человека. Зачем они сюда пришли, что тут делают? Он не сводил глаз с камня, пока тот не исчез за очередным мысом. А волна становилась все круче, и нам стало ясно, что сейчас лучше и не пытаться подходить к берегу. Мы сделали несколько кругов над обрывом, и Лазарь попытался нам показать карниз, где был вход в его пещеру. Мы решили, что тоже видим ее, но, когда стали проверять друг друга, оказалось, что каждый подразумевает другое место, и в конце концов мы сдались. Механик развернул катер, и, прыгая по крутым волнам, мы сквозь соленые брызги пошли обратно. Хотя ветер ничуть не усилился, лишь немного сместился, море все больше разгуливалось. Идти прямо было невозможно, рулевой то и дело разворачивал катер, чтобы встретить носом идущий с океана особенно высокий вал с белым гребнем. Лазарь не произносил ни слова, только крепко держался за поручни. В липнущей к телу промокшей одежде, не поспевая вытирать сбегающие по волосам и лицу соленые струйки, мы напряженно следили за рулевым и за подбирающимися к нам волнами.
Снова показалась мельница Ханга-о-Тео, и тут мы все увидели на краю плато четыре точки — четыре человека. Трое сели на коней и направились в ту же сторону, в какую шли мы, четвертый помчался галопом к деревне.
— Это брат того самого Альберте поскакал, — сообщил Лазарь; он явно был удивлен. — Остальные, должно быть, его сыновья.
Вскоре мы потеряли всадников из виду, и долго размышлять, что они тут делали, нам не пришлось — показалось экспедиционное судно. Его тоже заметно качало. Бурлящие волны не отставали от нас и в Анакенской бухте, где они с ревом разбивались о берег.
Лазарь поспешил прыгнуть на сушу так, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Мы молча побрели в лагерь, мокрые, как утопленные котята. Билл, такой же угрюмый как Лазарь, снял забрызганные морской водой очки и пытался протереть их мокрым платком. Он признался мне, что чуть не отдал богу душу от морской болезни, но не показал виду, боясь, как бы Лазарь не усмотрел в этом дурной приметы…
После второго завтрака мы снова отправились в путь, но теперь уже верхом вдоль северного побережья, по древней дороге, петляющей между грудами камня на плато. После скрипучей мельницы в Ханга-о-Тео нам попался мощеный участок, очень похожий на какую-нибудь инкскую дорогу в Перу. Вскоре Лазарь, сойдя с коня, подвел нас к скале и показал горельефное изображение огромной змеи с круглыми углублениями вдоль всей спины. Это была та самая змея, о которой он нам прежде говорил и которую видел патер Себастиан. Билл одновременно был восхищен и озадачен: на этих островах нет змей, откуда древние ваятели взяли мотив?
Затем мы миновали каменного великана, которого бросили, не дотащив самую малость до аху на берегу. При мысли о трудностях, стоявших перед древними, мне даже стало страшно: семь километров от Рано Рараку по прямой, а на самом деле, учитывая сильно пересеченную местность, где и верхом-то проехать не просто, неизмеримо больше… Мы свернули с древней дороги и через каменистое поле направились к обрыву. Море по-прежнему было исчерчено пенистыми гребнями. Когда мы пересекали высохший ручей, у меня лопнуло стремя, но я ухитрился его спрятать, прежде чем Лазарь что-либо заметил. Дальше я ехал с одним стременем, а промоины следовали одна за другой.
Только теперь, когда осталось совсем немного до места, Лазарь начал заметно нервничать. Подхлестнув прутиком своего коня, он попросил меня прибавить ходу, чтобы мы опередили остальных двоих. Мы оторвались метров на двести, когда же подъехали к двум огромным лавовым глыбам, Лазарь соскочил с коня, привязал его и предложил мне сделать то же. Потом живо сдернул с себя рубаху и штаны. Захватил веревку и, сбегая в одних трусах босиком по откосу к обрыву, попросил меня побыстрее раздеваться и догонять его с курицей. Я не представлял себе, где у него лежит курица, а на мой вопрос он почти сердито буркнул что-то невразумительное. Увидев, что к его седлу привязана старая сумка, я схватил ее и поспешил следом за ним, тоже босой и в трусах. Наши спутники еще петляли между камнями метрах в ста от нас.
На краю обрыва я догнал Лазаря. Не оборачиваясь, он велел мне съесть гузку и дать ему кусочек мяса, когда он вернется. А сам скрылся за краем обрыва, оставив без ответа мой недоуменный вопрос: есть ли мне гузку сейчас или подождать его?
Ощипанная и зажаренная курица лежала в сумке, завернутая в банановые листья. Я не сразу разобрал, где перед и где зад, и только-только успел оторвать гузку, когда снова показался Лазарь. Сунув в рот свою долю, я подал ему кусок белого мяса, и он стал жадно его поедать, все время озираясь по сторонам. Вот так ритуал — на краю пропасти, в одних трусах!
Подъехали наши друзья и тоже спешились. Лазарь попросил меня положить несколько кусочков куриного мяса на камень, потом, уже не такой озабоченный, сказал, что можно спокойно доедать курицу вместе с двумя нашими товарищами.
Сам же он не мог ни минуты сидеть на место, все торопился. Накинул веревку петлей на круглый камень, соединенный со скалой только комом высохшей глины, и сбросил конец вниз. Миг, и уже исчез снова за краем обрыва, не проверив надежность веревки, — сам-то он в ней не нуждался! Глядя на него сверху, я осторожно спросил, можно ли на нее положиться. Оп только удивленно посмотрел на меня и ответил, что ему она вообще не нужна, а мне-то чего бояться, со мной ничего не может случиться!
Да, не всегда выгодно слыть сверхъестественным существом…
Веревка была бы мне очень кстати, но, зная как скверно она закреплена, я не решался браться за нее. И в одних трусах я полез вниз за Лазарем, держа в зубах завернутые в бумагу ножницы, которые он велел мне непременно захватить.
Я далеко не альпинист, и мне все это страшно не нравилось. Осторожно спуская ноги вниз, я уперся кончиками пальцев в узенькую полочку, но руками не за что было ухватиться. У подножия обрыва, в сорока — пятидесяти метрах под нами, рокотала между острыми камнями вода, кипела пена. Как будто зеленое морское чудовище яростно фыркало и облизывало языками-струями зубастые лавовые челюсти, готовые схватить все, что только свалится сверху. Не больно-то приятно попасть в эти челюсти… А значит, покрепче прижимайся к скале — одно неосторожное движение, и равновесие нарушится. Лазарь, будто канатоходец, легко и уверенно шел боком по карнизу, показывая мне путь. А у меня вдруг пропал всякий интерес к его пещере, и я проклинал всех аку-аку на острове, включая своего собственного, из-за которых влип в такую историю. Я предпочел бы, пока не поздно, вернуться наверх, на плато. Да пет, не годится это… И я, судорожно прижимаясь одной щекой, животом и обеими руками к скале, медленно последовал за Лазарем вниз по наклонному карнизу.
Никогда в жизни не полезу больше в трусах по лавовой стенке! Малейшая неровность — петли цепляются и держат тебя; без конца приходилось тянуть и дергать, чтобы освободиться. Если Лазарю нужен был в сторожа особенно зловредный аку-аку, этому сторожу следовало бы сидеть именно здесь и в самые критические минуты дергать за трусы людей, старающихся тенью проскользнуть мимо. Так или иначе мне каждый шаг давался с бою, а Лазарь легко шел вперед на цыпочках и хоть бы раз поцарапался.
Спускаясь зигзагом, мы на следующем карнизе опять встретились с нашей веревкой. Всеми пальцами рук и ног я цеплялся за скалу, стараясь поменьше нагружать веревку, и наконец добрался до полки, где стоял Лазарь. А он, прямой, как оловянный солдатик, врос в стенку и явно не собирался двигаться дальше. Нашел место для стоянки, хуже не выдумаешь: ширина уступчика три ладони, длина — только-только двоим стать рядом.
А где же пещера? Лазарь молча глядит на меня, и не поймешь, что у него на душе. Вдруг оп протянул мне свою пятерню:
— Дай руку!
Нашел время руку просить! Стоя в рваных трусах, сжимая в зубах ножницы, я изо всех сил держался за скалу. Что поделаешь: я еще плотнее прижался к острым граням, которые царапали кожу, будто кораллы, и протянул Лазарю правую руку. Он стиснул ее в крепком рукопожатии.
— Обещай мне — пока будешь на острове, никому ни слова о том, что сейчас будет, — настойчиво произнес он. — Своим людям можешь сказать, но только чтобы они не проговорились.
Не выпуская моей руки, он объяснил, что сестры ему житья не дадут, если что-нибудь проведают. Вот уеду с острова, тогда могу говорить сколько угодно. Даже если потом, когда опять придет «Пинто», весть об этом дойдет до деревни, он отговорится, дескать, сделал копии, и через месяц-другой все забудется.
Я пообещал, что не выдам его, тогда он отпустил мою руку и предложил посмотреть вниз. Я нагнулся, сколько хватило храбрости, и с содроганием обозрел купающиеся в водоворотах острые камни. Метрах в двух ниже нас я заметил полочку вроде той, на которой мы стояли; дальше шла отвесная стена до самого моря.
— Ну, что, где вход? — горделиво спросил Лазарь.
— Не могу угадать, — признался я, мечтая лишь о том, чтобы все это поскорее кончилось.
— Да он там, у тебя под ногами. — Он показал на полочку внизу.
Держась за его руку, я нагнулся еще дальше. Ничего не видно. — Теперь слушай, что надо делать, чтобы попасть в пещеру, — сказал Лазарь.
И последовал инструктаж, подобный которому я слышал разве что тогда, когда много лет назад впервые пришел на курсы танцев.
Я должен был, начиная с правой ноги, выполнить строго определенный ряд шагов с полуоборотами, а в заключение присесть и лечь на живот. После объяснения Лазарь продемонстрировал все на трудного танца, который надо было исполнить на пути в пещеру. Я смотрел, куда он ставит ноги, куда кладет руки, как поворачивается на полочке, опускается на колени и ложится на живот. В воздухе мелькнули болтающиеся ноги, и мой учитель исчез. Очутившись в одиночестве, я почему-то особенно явственно услышал грозный рев прибоя.
В это время на самом краю протянувшегося дальше на запад обрыва в нескольких стах метрах от меня показался фотограф. Используя свет предзакатного солнца, он что-то снимал. Сверкали белыми гребнями волны там, где мы утром кружили на катере, тщетно высматривая пещеру.
Но вот на полочке внизу появилась рука с устрашающей каменной головой, дальше последовали голова и тело самого Лазаря.
Медленно повторив в обратном порядке все положенные шаги и повороты, он снова очутился на выступе рядом со мной. — Ключ, — буркнул он, протягивая мне каменную голову. И опять мне пришлось поплотнее прижаться к скале: Лазарь попросил дать ему завернутые в бумагу ножницы, и надо было вынуть их изо рта, в это же время другой рукой принимая «ключ». Роль ключа исполняла бородатая голова с большими глазами навыкате и какими-то завораживающими чертами лица. От затылка горизонтально, как у животного, шла длинная шея.
Лазарь сказал, чтобы я положил «ключ» на выступе возле моей головы, и пришла моя очередь исполнить малоприятный танец. Точки опоры были так малы, а границы для маневра, предписанные законом земного притяжения, настолько узки, что я быстро осознал практическую целесообразность скрупулезного выполнения всех инструкций Лазаря. Наконец, я после заключительного оборота опустился на четвереньки на нижнем карнизе и только теперь увидел скрытое под выступом входное отверстие. Оно было так мало, что я никогда бы не поверил, что в него может пролезть человек.
Чтобы открыть эту пещеру, — надо было долго жить поблизости и хорошо изучить каждый дюйм местности. Со слов Лазаря я впал, что пещера называется Моту Таваке — «Утес тропической птицы», а плато до подножия Маи-матаа — Омохи. Прежде пещера принадлежала Хатуи, прадеду Лазаря по матери.
Итак, я стоял на четвереньках на крохотном выступе, а ход в пещеру открывался на другом, еще меньшем выступе рядом со мной. Наклонясь вперед, я дотянулся до него и просунул руки и голову в отверстие. Ноги в это время еще лежали на первой полочке, а живот повис в воздухе над пропастью. Вход оказался настолько тесным, что я несколько раз выползал из трусов. Острые голые грани скалы нещадно царапали спину и бедра.
Сперва я видел только страшно узкий проход и где-то впереди слабый свет. Мне не сразу удалось подтянуть ноги, и некоторое время я болтал ими в воздухе над пропастью. Потом наконец почувствовал, что туннель немного раздался, но только в ширину, а сверху меня все так же прижимало к полу. Постепенно я стал различать очертания пещеры и вдруг около самого уха увидел скульптуру — спаривающихся черепах. Напротив стояла статуэтка, повторяющая облик великанов из кратера Рано Рараку. Дальше стало просторнее, я смог даже сесть и окинуть взглядом подземную полость, в которую через какое-то отверстие проникал слабый свет.
Вдоль стен прямо на камне плотными рядами стояли и лежали причудливые скульптуры. Ни циновок, ни сена здесь не было. Метрах в пяти-шести передо мной путь преграждала большая фигура мужского пола. Слегка присев, истукан угрожающе поднял руки над головой. Его окружало множество других скульптур, а за ним на наклонном карнизе лежали два скелета. Тусклый свет падал на истлевшие кости из крохотного отверстия в стене справа, позволяя различить внутренность этой жутковатой сокровищницы.
Вдруг рядом послышалось чье-то дыхание. Но я ошибся, это дышал Лазарь, который в эту минуту начал протискиваться в пещеру. Поразительная акустика — я отчетливо слышал, как он задевает кожей острые камни.
Никаких ритуалов больше не последовало, он одолел туннель и сел на корточках рядом со мной. Сверкая в темноте белками глаз и зубами, Лазарь напоминал негра. В его поведении были знакомые мне ноты, точно так он держался, когда ночью приходил в мою палатку.
Лазарь показал на рослого идола с предупреждающе поднятыми руками — этакий регулировщик, командующий роем таинственных созданий, которые выстроились вдоль стен пещеры до входа.
— Это самый главный камень, — объяснил он. — Вождь пещерного парода, древний король.
В остальном Лазарь обнаружил поразительное неведение. Ни все вопросы о других фигурах он лишь пожимал плечами и говорил: «Не знаю». Только два каменных диска с симметрично расположенными символическими знаками вызвали другую реакцию: он объяснил, что они изображают солнце и луну. Хотя от нас не требовалось, чтобы мы говорили шепотом, вся обстановка и акустика заставляли нас понизить голос.
Побыв со мной, Лазарь отправился за Биллом; фотографа я не хотел заставлять заниматься воздушной гимнастикой. Через некоторое время я услышал голос Билла — он тихо бранился в узком проходе. Его, уроженца Скалистых гор, не пугали обрывы и пропасти, но такой крысиной норы он и в Вайоминге не видал. Протиснувшись в пещеру, он сел, молча озираясь в полумраке. Постепенно глаза его привыкли, и вдруг у него вырвался громкий возглас: Билл увидел скульптуры. Подоспел Лазарь, он принес фонарик, и мы смогли как следует рассмотреть каждую фигуру.
Если у Атана многие камни были поцарапаны и носили явные следы чистки и мытья, то фигуры в тайнике Лазаря не имели никаких повреждений. Пещера Атана, с циновками на карнизах и сеном на полу, напоминала сокровенное убежище чародея, а тут мы словно попали в старый заброшенный склад.
Мы спросили Лазаря, моет ли он скульптуры.
Нет, в этом нет нужды, воздух тут благодаря сквозняку сухой, и плесень не растет.
Из маленького отверстия тянуло сухим холодком, и на твердых стенах мы не заметили ни пятнышка зелени, не было ее и на истлевших костях. А у Атана на стене под входом рос тонкий слой мягкого зеленого мха.
Время в пещере летело незаметно. Мы отобрали несколько самых интересных скульптур. Лазарь с Биллом первыми выбрались наружу, чтобы принять их, а на мою долю выпало протолкнуть камни через узкий туннель и не поцарапать их. Это оказалось не так-то просто. Ведь у меня в руках еще был фонарик, и надо самому подтягиваться следом! Только теперь я в полной мере оценил ловкость Лазаря, который один лазил тут по ночам и лишь однажды поцарапал нос каменной морды.
Мало-помалу, толкая перед собой несколько скульптур, я добрался до выхода и услышал тревожные возгласы. Это был голос Билла, но из-за рева прибоя я не разбирал слов. Скульптуры загораживали выход, но мне казалось, что я смутно различаю руку Лазаря, когда он их принимает. Вдруг до меня дошло, в чем дело: снаружи было темно, наступила ночь.
Один за другим Лазарь вытащил камни и передал их наверх Биллу. Как только освободился проход, я вылез на волю — и не узнал места. В тусклом свете лунного серпа еле-еле различались очертания скалы.
Стоя после жуткого подъема на краю плато, я почувствовал, что меня знобит и колени слегка дрожат. Попробовал свалить на холод — ведь и правда было холодно, сперва в пещере, потом на обрыве, где меня, полуголого, обдувал ночной ветерок. Пока мы с Биллом карабкались вверх, Лазарь успел сделать еще один заход в пещеру, чтобы спрятать два рулона ткани. Мигом одевшись, мы насладились горячим кофе из термоса и похвастались перед фотографом нашим уловом. Я заметил, что Лазарь покашливает; да и Билл потихоньку признался мне, что ему нездоровится. Оба мы знали, что в последние дни завезенная на «Пинто» коконго заметно распространилась в деревне. До сих пор эпидемия была намного слабее обычного, но теперь как будто начала принимать серьезный характер. Будет совсем некстати, если Лазарь или Билл заболеют: вместо того чтобы постепенно одолеть свой страх перед аку-аку и табу, Лазарь станет еще более суеверным. На Билле была штормовка, я отдал Лазарю свою и сам понес мешок с драгоценными скульптурами.
Прежде чем идти к лошадям, Лазарь тщательно проверил, не осталось ли после нас клочка бумаги или каких-нибудь других следов. После этого наш маленький караван двинулся домой в тусклом лунном свете. Мешок был тяжелый, а местность неровная, и мне стоило больших трудов с одним только стременем удерживаться в седле. Но когда мы наконец выбрались на древнюю дорогу, я поравнялся с Лазарем и сказал ему — вот, мол, никаких злых аку-аку в пещере не оказалось.
— Это потому, что
я спустился первым и сказал нужные слова, — спокойно ответил он.
Что это были за слова, я так и не узнал. Не узнал также, зачем надо раздеваться перед спуском в пещеру, где так сквозит. Разве что аку-аку старомодный и привык к гостям в набедренных повязках… Спросить я не решился, ведь Лазарь считал, что я не меньше его, если не больше знаю об аку-аку.
Мы ехали молча; копыта звонко простучали по мощеному участку. Потом послышался пронзительный скрип мельницы в Ханга-о-Тео. Беспокойные тучи то и дело закрывали месяц, который с любопытством заглядывал в мой мешок, ночь была полна таинственности. Ветер нес прохладу, и мы поторапливали копей, не стали даже поить их возле мельницы. Потому что Лазарь кашлял.
Глава девятая. Среди богов и демонов в пасхальской преисподней
В те самые дни, когда для нас открылся вход в тайные пещеры, по острову Пасхи рука об руку с аку-аку бродило коварное привидение. Оно явилось в деревню несколько недель назад и исправно навещало дом за домом, не признавая никаких запоров. Все более назойливое, оно стало являться и среди наших людей в Анакенском лагере. Через нос и рот проникало в тело и принималось бесчинствовать. Оно добралось до острова «зайцем» на «Пинто» и прокралось на берег под именем коконго.
Бургомистр успел всего два раза сходить в пещеру за камнями, когда коконго вошла в его дом. Несколько дней он крепился, потом слег. Когда я пришел его навестить, дон Педро, весело улыбаясь, сказал, что обычно коконго куда злее, он скоро поправится. Неделю спустя я снова собрался проведать бургомистра. Теперь он уже лежал в деревенской больнице. Я познакомился с новым врачом, который прибыл на «Пинто» на смену старому, потом меня провели в маленькую палату с кашляющими жертвами коконго. Где же бургомистр? Я начал было беспокоиться, но тут на кровати в углу поднялся на локте тощий старец и прохрипел:
— Сеньор Кон-Тики, здесь я!
Я узнал дона Педро, и мне стало страшно.
— Воспаление легких, — прошептал врач. — Чуть не погиб, но я надеюсь, мы его спасем.
Тонкие губы на посеревшем, осунувшемся лице через силу улыбались. Вялым жестом бургомистр подозвал меня и прошептал на ухо:
— Все будет хорошо. Вот поправлюсь, мы вместе большие дела сделаем. Вчера от коконго умерла моя внучка. Она укажет мне путь с неба. Я понимаю, это вовсе не возмездие. Погоди, сеньор, мы совершим большие дела.
Я выходил из больницы страшно расстроенный. Видеть жизнерадостного бургомистра в таком состоянии было ужасно. И как-то странно он себя вел, как понимать его слова? Или диковатый взгляд и бессвязные речи дона Педро объясняются температурой? Конечно, это кстати, что столь суеверный человек не считает болезнь возмездием аку-аку, но уж очень неожиданно.
Шли дни. Внучка бургомистра оказалась на этот раз единственной, кого коконго унесла в могилу. Сам он быстро поправился и вернулся домой. И встретил меня все той же странной улыбкой, когда я снова его навестил. Жара у него не было, однако он повторил то, что говорил мне в больнице.
Бургомистр был еще слишком слаб, чтобы вернуться в Анакену, к нам и своим друзьям в пещере. Несколько недель он провел дома, с женой, и мы посылали ему масло и другие высококалорийные продукты, чтобы он побыстрее набрал вес.
Младший брат бургомистра Атан оказался удачливее. Коконго вовсе не коснулась его в этом году, и он совсем перестал верить в строгость аку-аку. Избавившись от обязанностей и угроз, связанных с пещерой, он вздохнул полной грудью. Вместо кары Атан получил вознаграждение, причем такое, что теперь его семья надолго была обеспечена. Он стал, по местным понятиям, состоятельным человеком; правда, одежду и деньги спрятал в природном сейфе под землей. Тяжелую болезнь бургомистра Атан отнюдь не считал возмездием, он даже не подозревал, что брат приносил мне скульптуры, и все советовал спросить бургомистра про его пещеру, как только тот выздоровеет. Ведь пещера дона Педро — самая главная изо всех…
Лазарь чудом разминулся с болезнью. После верховой поездки к тайнику он утром чуть свет явился к моей палатке и, покашливая, хриплым голосом спросил, как я себя чувствую. — Превосходно, — ответил я и увидел, как он сразу повеселел. Хорошо, что не спросил про Билла, — тот чувствовал себя довольно скверно…
Два-три дня Лазарь кашлял и глотал лекарства, но затем совершенно оправился, обойдясь даже без постельного режима. Ему и его сестрам тоже досталось щедрое вознаграждение.
Пока деревенский врач сражался с коконго в Хангароа, у нашего доктора был полон рот хлопот с рабочими экспедиции, которых насчитывалось уже около ста. Мы запасли вдоволь антибиотиков и других лекарств, и они нам очень пригодились. К тому же пасхальцы обожали таблетки от головной боли и могли есть их, как монпасье. Один за другим мы успешно отбивали штурмы коконго, и постепенно она унялась. Но беда редко приходит одна.
Как раз в эти дни в деревне произошел случай, который вызвал немалый переполох.
За день до того, как коконго принялась за бургомистра, он сидел у себя дома с кучей скульптур из пещеры и ждал, когда за ним приедет джип. И дважды пережил сильный испуг. Особенно когда шкипер подкатил к его дому с двумя монахинями в машине; ведь у дона Атана лежали в мешках языческие камни… А еще раньше в комнату неожиданно вошел Гонсало и увидел каменного омара, которого бургомистр не успел спрятать.
— Эта штука старинная, — сказал Гонсало, живо поднимая с пола скульптуру.
— Нет, она новая, — соврал бургомистр.
— Ведь я вижу, что старая.
— Я ее нарочно так сделал, — настаивал бургомистр.
Пришлось Гонсало сдаться.
Приехав в лагерь, бургомистр тотчас рассказал мне про эпизод с Гонсало и еще раз попросил ни в коем случае никому не говорить, что он вынес камни из родовой пещеры.
— Сеньор Гонсало явно что-то проведал, — встревоженно сказал он. — Он никак не хотел мне верить, когда я сказал, что сам сделал омара.
Вскоре пришел Гонсало и тоже рассказал мне про случай в доме бургомистра. Он был уверен, что разгадал ребус с пещерами.
— Бургомистр обманывает тебя, — заявил Гонсало. — Я видел у него потрясающего омара, и дон Педро признался, что сам его сделал. Так что смотри, не попадись на удочку, если он скажет, что омар из пещеры.
Гонсало немало удивился, услышав от меня, что бургомистр уже отдал мне омара и к тому же рассказал про их встречу.
Так или иначе бургомистр насторожился и для страховки продолжал всем твердить, что сам делает особого рода каменные скульптуры. Когда по деревне пошла коконго и он слег, к нему вечером наведались Гонсало и Эд. У калитки они встретили зятя бургомистра Риро-роко, который с ходу начал громко расхваливать умение дона Педро делать каменные фигуры. Дескать, у бургомистра есть специальный инструмент, чтобы вытесывать омаров, зверей и лодки, а готовые скульптуры он моет в воде и натирает банановыми листьями, так что они выглядят старыми.
Все это Риро-роко выложил по своему почину — ни Эд, ни Гонсало его не спрашивали про скульптуры. И, пораженные таким признанием, они сразу поделились со мной. Бургомистр лежал с высокой температурой, он физически не мог ни сходить в пещеру за скульптурами, ни изваять новые, однако Гонсало, живя в деревне (он в это время работал с Биллом в Винапу), чутко прислушивался к разговорам пасхальцев в надежде выяснить что-нибудь еще.
В эти дни красавица жена молодого Эстевана, выйдя из больницы после успешного лечения, каждую ночь наведывалась с мужем в пещеру за причудливыми фигурами, которые они складывали у себя в сарае. Я не настаивал больше на том, чтобы они сводили меня в ее родовую пещеру. За это она рассказала мне важные вещи про некоторые камни.
Гонсало знал от меня, что я жду целую партию скульптур из пещеры жены Эстевана. Как-то вечером, бродя вокруг их дома, он увидел груду камня на соседнем участке. И сразу в душе его созрело подозрение. Заключив, что это сырье для фигур, он решил немедленно действовать — ковать железо, пока горячо.
В тот день в деревне произошло несчастье. Одна женщина топила свиное сало в котле возле хижины, а ее ребенок играл тут же. И надо было случиться так, что малыш упал и угодил головой прямо в котел. Мать побежала с ним в больницу, и теперь он, весь в бинтах, лежал там.
На следующий день ко мне с мрачным видом подошел Энлике — тот, что потом ходил с нами в пещеру Атана. Он недавно сам приносил мне в мешке камни из своего тайника. Энлике приходился дядей пострадавшему малышу, и я ждал, что он обвинит меня в несчастье, ведь я уговорил его вынести скульптуры из пещеры! Да, худо… На Пасхи чуть не все так или иначе родня, и любой казус может быть истолкован как прямое или косвенной возмездие нарушителю древних запретов.
Энлике отозвал меня за стену, на которой стоял поднятый идол.
— Беда, — вполголоса заговорил он. — В деревне прямо скандал. Эстеван с женой не выходят из дому, все время плачут. Сеньор Гонсало сказал, что они обманули сеньора Кон-Тики, сами делали фигуры.
— Ерунда, — ответил я. — Нашли из-за чего слезы лить. Скачи к Эстевану и скажи им, что все в порядке. Я не сержусь.
— Нет, не в порядке, — озабоченно возразил Энлике. — Скоро вся деревня разъярится. Если камни новые, все набросятся на Эстевана с женой за то, что они хотели обмануть сеньора Кон-Тики. А если камни старые, люди еще больше рассердятся: зачем выдали тайну своей пещеры! Теперь все будут злы на них.
О пострадавшем малыше Энлике не сказал ни слова. Очевидно, считал это бедой не своей, а брата. Брат же, хотя у него, как я выяснил потом, тоже была пещера, мне камней не приносил.
В тот день я вечером препарировал образцы с кратерного озера и не мог оставить лагерь, но назавтра шкипер ночью отвез меня в деревню, и мы зашли к Эстевану. Хозяин дома сидел на лавке, жена лежала в постели, и у обоих глаза были опухшие от слез. Мы тепло поздоровались, но Эстеван не смог даже ответить, опять разразился слезами. Наконец сказал, что они вот уже двое суток не едят и не спят, только плачут. Потому что сеньор Гонсало заявил, будто Эстеван сделал фальшивые скульптуры, чтобы обмануть сеньора Кон-Тики. Сеньор Гонсало увидел груду камней на участке соседа и решил, что это Эстеван их заготовил для поделок. А того он не видел, что сосед пристраивал дом сзади и камни нужны были для кладки.
Я постарался, как мог, успокоить и утешить обоих, вручил им подарки. Когда мы уходили, они обещали поесть, потом лечь спать и попытаться забыть всю эту историю.
А мы со шкипером, проехав немного дальше, постучались к бургомистру. Дон Педро лежал в постели совсем расстроенный. К нему наведывалась его могущественная тетка Таху-таху, она была страшно сердитая и сказала, что он хороший парень и сеньор Кон-Тики тоже хороший, так нечего продавать сеньору Кон-Тики подделки, об этом ходит слух в деревне. И дон Педро не мог ей возразить, что дал мне старинные камни, ведь он еще не получил ее разрешения выносить что-либо из родовой пещеры Оророины. Поэтому он отговорился тем, что сейчас болеет и все ей объяснит, как только поправится.
— Другие недолго сердятся, — продолжал бургомистр, — а такие старые люди, как разозлятся, три дня даже говорить не могут.
Он дал Таху-таху рулон материала и картон сигарет, сказал, что это дружеский подарок от меня, но она швырнула все на пол и ответила, что ей не нужны вещи, которые он добыл обманом. Он повторил, что это было подарено для нее, только тогда старуха забрала все и ушла.
Сколько мы ни старались вразумить больного бургомистра, оп только хуже волновался. Тета представляла старшее поколение, это давало ей особые права и могущество. Таху-таху — женщина опасная… Она может, рассердившись, убить человека, ей достаточно для этого зарыть в землю куриную голову. Толки об Эстеване и бургомистре взбудоражили всю деревню.
Пасхальцы подходили ко мне и клялись, что на острове нет тайных пещер, все это враки. Может быть, раньше и были, но уже давно никто не знает входа в них. И если кто-нибудь принесет мне скульптуры, значит, сами же их сделали, деды-прадеды тут ни при чем.
При этом было видно, что некоторые говорят совершенно искренне. Зато другие, силясь нас убедить, так горячились и нервничали, что это выглядело подозрительно. Особенно некоторые старики рьяно убеждали нас, будто теперь на острове ничего нет, кроме овец да статуй.
Сегодня тебе говорят одно, завтра другое… И все, у кого были знакомые среди местных жителей, осторожно пытались выяснить истину.
Как-то из Оронго спустился Эд, чтобы сказать, что он теперь опять верит в тайные родовые пещеры, важно только не клюнуть на подделки. Ему удалось выведать у своих рабочих, что хранимое в пещерах принято время от времени выносить и просушивать. Причем некоторые вещи обернуты в камыш тотора.
Билл тоже был сбит с толку разноречивыми слухами. Чтобы получше изучить пасхальский быт, он перешел от губернатора в дом одного из коренных жителей. И как-то в воскресенье, перехватив меня около церкви, он прошептал мне на ухо:
— Я связан обещанием молчать, но одно могу сказать: на острове в самом деле есть тайные пещеры, и в них хранятся вещи вроде — тех, что ты получил.
Следом за Биллом ко мне подошел Гонсало. Он несколько дней ходил страшно огорченный тем, какой переполох вызвал в деревне. Гонсало был искренне убежден, что эти пещерные скульптуры — сплошной обман, но затем случилось нечто такое, что заставило его изменить взгляд. Вот как это было.
Один юный пасхалец рассказал ему по секрету, что по просьбе одной старухи лазил в тайную пещеру в Ханга Хему за скульптурами для сеньора Кон-Тики. В первом отделении рядом с двумя черепами лежал «ключ» — каменная курица. Но дальше проход был завален, и он не смог проникнуть туда, где, по словам старухи, лежали фигуры, завернутые в тотору.
Гонсало так загорелся, услышав этот рассказ, что не отставал от парня, пока тот не пообещал показать ему тайник. Все точно соответствовало описанию — и два черепа, и заваленный боковой ход. Но он обнаружил кое-что еще: кто-то побывал здесь после парня и пытался прорыть лаз под завалом и над ним. Гонсало протиснулся в щель над завалом и метра через три нащупал прокопанное кем-то отверстие. Просунув вниз руку, он извлек горсть земли с истлевшим камышом. Его опередили.
Я спросил Гонсало, не знает ли он, кто была старая женщина — хозяйка пещеры. — Знаю, — ответил он, — мать Аналолы.
Его слова многое мне прояснили — ведь это мать и сестра Аналолы ринулись в бой, когда молодые супруги, найдя четыре каменные головы возле деревенской ограды, хотели продать их мне. Вконец расстроенная старуха обозвала ворами молодых и ужасно обрадовалась, когда я решил не трогать причудливые скульптуры. Теперь она, очевидно, решила в знак благодарности принести мне камни из пещеры.
Сказав Гонсало спасибо за важные сведения, я сел в джип и вместе со шкипером покатил обратно в Анакену. «Так вот оно что, — посмеивался я про себя, — у матери Аналолы есть пещера!» У меня были особые причины намотать себе это на ус.
Солнце уже окунулось в море, стемнело. Нам надо было еще заехать в Ваитеа, набрать там на горке воды для лагеря. Овцефермой Ваитеа заведовала как раз Аналола, и она не упускала случая побеседовать с нами, когда мы приезжали. Аналола пользовалась на острове большим уважением. Настоящая красавица, пышные черные волосы, улыбчивые карие глаза. Правда, нос, пожалуй, широковат, и губы слишком полные, чтобы она могла победить на конкурсе красоты в нашей части света, зато здесь, в Полинезии, Аналола была некоронованной королевой острова Пасхи. Все ее почитали за ум и честность.
Как только мы остановились возле крана (напомню, что здесь был единственный на острове водопровод), Аналола с двумя подругами вышли нам посветить и помочь. Шкипер был нашим постоянным водовозом, и все последние дни Аналола твердила ему, что бургомистр обманул сеньора Кон-Тики.
— Никаких тайных пещер на острове нет, — уверяла она. — И скульптур тоже ни у кого нет. Я здесь родилась и всю жизнь прожила, капитан. Скажи сеньору Кон-Тики, чтобы не верил никаким бредням.
В конце концов, зная, что Аналола не будет впустую языком болтать, шкипер начал беспокоиться.
— Понимаешь, если так говорит Аналола… — встревоженно сказал он мне. — И ведь бургомистр в самом деле пройдоха.
Аналола была, как говорили пасхальцы, «дитя своего времени». Она была свободна от пережитков старины, и это касалось не только ее одежды и поведения. Лишь однажды я видел искорку суеверия в ее карих глазах.
— Правда, что ты разговаривал с каменным идолом? — спросила она меня после того, как мы с бургомистром и Лазарем нашли столько китов возле аху в Анакене. — Мама говорит, будто ночью к тебе в палатку приходит каменный идол и рассказывает, где надо искать.
— Ерунда, — ответил я. — Разве может идол войти в мою палатку!
— Ну, почему же… Маленький — может.
И вот Аналола, поеживаясь от ночной прохлады, стоит и светит нам, чтобы мы могли просунуть шланг в бочку.
— Как поживает твоя мать? — осторожно осведомился я.
— Интересно, почему ты про нее вспомнил! Она как раз сегодня пришла меня навестить и сейчас спит на моей кровати.
Взяв Аналолу под руку, я шепотом попросил ее отойти со мной в сторонку, пока остальные наполняют бочку. Мне вдруг пришла в голову одна мысль… Я знал полинезийцев как людей с богатым воображением, знал, что они предпочитают туманные иносказания, говоря о священных предметах, которые не принято называть своими именами. Кроме того, я знал, что мать Аналолы достала из своей пещеры каменную курицу. Наверно, в ее тайнике есть и собака — ведь такие скульптуры были и у бургомистра, и у Лазаря, и у Атана.
Мы остановились под темным эвкалиптом.
— Аналола, — прошептал я, и она лукаво посмотрела на меня.
— Пойди к матери, — продолжал я, — передай от меня привет и скажи: курица — хорошо, но собака — лучше.
Аналола опешила. С минуту она недоумевающе глядела на меня, потом молча поднялась по крыльцу в дом. Бочка была уже полна. Мы попрощались с женщинами и покатили в Анакену.
На следующий день шкипер, как обычно, вечером отправился за водой. Вернувшись, он пришел ко мне с подробным отчетом. Аналола рассказала ему, что было накануне. Как я тихонько заговорил с ней в темноте, и сердце ей подсказало: «Кажется, сеньор Кон-Тики решил за мной поухаживать…» Когда же я сказал, что курица — хорошо, а собака — лучше, она подумала: «Кажется, сеньор Кон-Тики выпил лишнего». Тем не менее она пошла к матери и передала ей мои слова. Никогда еще Аналола не видела, чтобы мать вела себя так странно — она порывисто села на кровати и ответила:
— Я потому и пришла сюда! Мы пойдем в пещеру — я, ты и Даниель Ика.
(Мать Аналолы была теткой — мама-тиа — Даниеля, сестрой его отца.)
Аналола оторопела. Это было что-то совершенно новое для нее. От мыслей о том, что ей предстоит, она всю ночь не могла уснуть. На следующий день мать попросила у нее двух кур, кусок молодой баранины и четыре свечи. На вопрос дочери, уж не званый ли обед предстоит, она ничего но ответила.
Прошел еще день, и вечером шкипер привез новые известия. Даниель Ика накануне пришел в Ваитеа и ночевал на ферме. Аналола видела в замочную скважину, как он совещался с ее матерью. Они договорились пойти в пещеру, но Даниель настоял на том, чтобы не брать с собой Аналолу. Дескать, это только принесет несчастье, потому что Аналола «дитя своего времени» и непременно проговорится.
Они условились отправиться в тайник через два дня и наметили, где устроить уму, чтобы изжарить кур. Насколько могла разобрать Аналола, пещера находится в Ваи-тара-каи-уа, рядом, с Анакенской долиной.
— Странно, — заметил старший механик, когда шкипер за завтраком повторил свой рассказ. — Мы со вторым механиком частенько ходим вечером в это место, которое ты назвал. Там очень красиво, есть зеленая рощица, и в ней часто прячутся дикие куры. И каждый раз мы встречаем там старика Тимотео, того самого, который связал лодку из камыша. Он говорит, что ночует там, потому что любит курятину.
А один из наших вахтенных в последние дни по утрам видел с корабля дымок в той стороне.
Наконец настала ночь, когда мать Аналолы и Даниель Ика собирались пойти в пещеру. Они вернулись наутро обескураженные, и Аналола рассказала, что кур-то они изжарили на горке, а вот к тайнику спуститься не смогли — в Ваи-тара-каи-уа был еще какой-то человек. На следующую ночь повторилось то же самое, причем они обнаружили, что таинственный человек — старик Тимотео. Видимо, у него там тоже есть пещера, и он сторожит ее от людей Кон-Тики. Мать Аналолы решила сделать еще одну, третью попытку, и, если опять не повезет, значит, в пещеру вообще не следует ходить. Тогда они с Даниелем бросят всю затею и. уйдут обратно в деревню.
Мы узнали от Аналолы, когда намечена следующая попытка, и я решил чем-нибудь занять Тимотео в эту ночь. Море с вечера было тихое, гладкое. Накануне несколько наших ребят вместе со знакомыми островитянками ловили лангустов при луне. Лангуст — огромный омар без клешней, одно из самых лакомых пасхальских блюд. С аквалангом несложно бить лангустов острогами в гротах под водой, но еще проще охотиться ночью на мелководье с факелом. Островитянки делали это очень ловко. Одна, нащупав пальцами ног здоровенного лангуста, стоит на нем, а другая пыряет, хватает добычу и кладет в мешок.
И вот сегодня повар приготовил нам два десятка лангустов, да еще Лазарь принес мешок свежайших и сочнейших ананасов. Словом, предстоял пир.
Весь этот день старик Тимотео выполнял мое задание — чинил на корабле связанную им же камышовую лодку, которая сильно пострадала, потому что мы не сразу догадались убрать ее с палубы в трюм. А когда он вечером собрался на берег, чтобы занять свой пост в Ваи-тара-каи-уа, я привез ему роскошное угощение и попросил остаться на ночную вахту.
— Мы устраиваем пир в лагере, — объяснил я. — Всю команду пригласили на лангустов. Море спокойное, никаких бед быть не должно.
Тимотео явно был недоволен. Подозревая, что старик способен спустить на воду пора и уплыть на берег, я подвел его к барометру и поставил стул около прибора.
— Если стрелка опустится до сих пор, — на всякий случай я показал на цифру 30, — немедленно дай сигнал сиреной.
Тимотео чрезвычайно серьезно воспринял поручение. Сел возле барометра и принялся за еду, не сводя глаз со шкалы. Я знал, что он теперь не сойдет с места. А когда вахтенный и механики вернутся, они уложат его спать на борту.
Итак, Тимотео добросовестно таращил глаза на барометр, мы сидели в столовой вокруг блюда с омарами, а где-то на горке над Ваи-тара-каи-уа в это время тихонько пробирались к пещере Даниель и мать Аналолы. Жареные куры уже извлечены из земляной печи; свечи они, наверно, несут с собой, чтобы зажечь их в темном подземелье…
Ночь прошла, и рано утром Тимотео вместе с механиками съехал на берег. Он тотчас принялся седлать коня, ему надо было переговорить с женой. — А она где? — спросил я.
— В деревне, — ответил старик. Потом медленно повернулся ко мне и с лукавой улыбкой добавил: — Но сегодня ночью она, может быть, спала в Ваи-тара-каи-уа. Кто знает?
Его слова меня озадачили.
— А как звать твою жену? — полюбопытствовал я.
— Виктория Атан. Но она любит себя называть Таху-таху.
И она в самом деле немного таху-таху. (Таху-таху означает чары, колдовство.) Тимотео уже сидел верхом на коне. Он дернул поводья и ускакал.
В этот день шкипер раньше обычного поехал в Ваитеа за водой. И вернулся с известием, что Даниель и мать Аналолы ушли в деревню. Они потеряли надежду незаметно пробраться в пещеру в Ваи-тара-каи-уа. Когда они в последний раз ходили туда, Тимотео не было, но зато на посту сидела его старуха жена.
Мы так и не смогли выяснить, как Тимотео ухитрился предупредить Таху-таху. Она сменила его только на одну ночь, дальше старик сам продолжал караулить свой тайник, сколько мы оставались на острове.
Покров тайны, окутывающий две родовые пещеры в Ваи-тара-каи-уа, остался непотревоженным. Теперь спрашивается, захотят ли Тимотео, Таху-таху и мать Аналолы передать секрет «детям нашего времени». И тянуть с решением нельзя, ведь если со стариками что-нибудь случится, бесценное содержимое двух пещер навсегда будет погребено в недрах острова Пасхи.
У Даниеля Ика было два брата — родной и сводный. Родного брата (они были близнецы) звали Альберте. Это он приносил в деревню две дощечки ронго-ронго и тут же отнес их обратно в пещеру, потому что ночью его осадили полчища аку-аку. Сводного брата звали Энлике Ика, он был из королевского рода и имел право на знатный титул арики-пака. Патер Себастиан и губернатор считали его уникумом: он не умел лгать. А это на острове Пасхи — редкость. В нашем лагере Энлике Ика за гордый нрав, благородную внешность и знатное происхождение прозвали «Сын вождя». Он был неграмотен, но за непоколебимую честность считался у военно-морских властей лучшим пастухом; жил он в каменном домике у дороги на Рано Рараку.
Как-то раз он приехал верхом в лагерь и предложил сделку. У нас были огромные сосновые балки, которыми мы подпирали статуи во время раскопок. Энлике собрался построить себе на безлесном острове новый дом. Так нельзя ли устроить обмен: по хорошему быку за три балки?
— Принеси мне камни из пещеры, и все балки будут твои, — предложил я в ответ.
Это был выстрел вслепую, внезапное наитие. Я даже не знал, есть ли у Энлике пещера. А он, застигнутый врасплох, начал изворачиваться, стараясь перевести разговор на другое. Но я твердо стоял на своем, и, видя, что от меня не отделаешься, он решительно произнес:
— Но я не знаю, где вход. Если бы только я знал это, сеньор Кон-Тики!
— А ты пробовал изжарить курицу в уму такапу? — сухо спросил я. — Пробовал устроить таху перед пещерой? Энлике опешил и даже переменился в лице.
— Я поговорю с братьями, — вымолвил он наконец. — Один я решать не могу, мне только часть принадлежит.
Он подтвердил, что вход в одну из его родовых пещер в самом деле утрачен. Но ему вместе с братом Даниелем принадлежит часть другой пещеры, вход в которую знает один лишь Альберте. Энлике слышал, что камни лежат там, завернутые в камыш тотора, и что в пещере есть также ронго-ронго и несколько старинных двойных весел. Но всего замечательнее бака охо — парусник из камня и большая, по пояс человеку, статуя из гладко отполированного черного камня.
«Сын вождя» много раз искал тайник, потому что Альберте не хотел показывать ому вход. Альберте был не против, сидя в деревне, на словах описать братьям, как найти пещеру, но пойти туда и показать — нет… Аку-аку увидят его и покарают!
Прошло несколько дней, раньше чем Энлике снова появился в лагере. Он привез огромные арбузы и, сгружая их, шепотом сообщил мне, что скоро привезет старинные фигуры. Мол, жена долго плакала и жаловалась, что у нее никудышный муж — не может найти ход в пещеру своего рода! Но слезы не помогали, Энлике всякий раз возвращался из поисков с пустыми руками, и тогда она принялась долбить голову своему старому дяде, чтобы он помог им получить балки для нового дома. От бабушки она слышала, что дядя знает вход в пещеру, часть которой принадлежала ее отцу, а после его смерти перешла к ней. Дядя этот сейчас живет у них. И слезы племянницы до того ему надоели, что он обещал показать пещеру.
Дядя жены Энлике был не кто иной, как старик Сантьяго, один из четырех братьев Пакарати, которые во главе с Тимотео связали по моему заказу лодки из камыша. Теперь братья ловили для нас рыбу.
Пасхальцы, занятые на раскопках у Рано Рараку, находились на моем полном содержании, и я сделал так, как, по преданию, было принято во времена древних скульпторов: выделил рыболовецкую бригаду, члены которой день и ночь поочередно ловили рыбу и омаров для работающих в каменоломне. Это позволяло подольше растянуть стремительно убывающие запасы мяса, риса и сахара. Выдачу муки уже пришлось прекратить. Только четверо стариков постоянно получали в лагере сухари; они макали их в кофе и ели как лакомство. Особенно сдружились мы с Сантьяго, который ежедневно приходил за пайком хлеба и табака для всех четверых. Как-то раз мы решили упростить дело и выдали рабочим сразу недельный паек. Но на острове Пасхи такой порядок не годится. Наши труженики всю ночь ели и курили, и утром вышли на работу зеленые. Недельный паек был уничтожен. Они были страшно довольны тем, как погуляли, но Сантьяго пришел просить еще сигарет — не ходить же им целую неделю без курева! Мы восстановили ежедневную раздачу, и никто не возражал.
Бережливость чужда пасхальцам: будет день, будет пища. Девиз местных жителей — хака-ле, ничего! «Хака-ле!» — скажет пасхалец, потерял ли он нож, разбил ли миску или у него сгорел дом…
Однажды Арне, лежа на кровати в доме у старика Сантьяго, уронил горящую сигарету и принялся лихорадочно раскидывать солому, чтобы извлечь дымящийся окурок.
— Хака-ле, — спокойно покуривая, произнес Сантьяго. — Закури новую!
Рядом с такой веселой беспечностью, рядом с хака-ле особенно неуместными выглядели аку-аку. И пасхальцы всячески старались их избегать, однако ничего не делали, чтобы вовсе от них избавиться. Эти аку-аку, прячущиеся в утесах, были ложкой дегтя в бочке меда.
Мы знали старика Сантьяго как веселого, неунывающего чудака, всегда довольного жизнью, щедрого на смех и улыбку. Но лицо старика сразу посуровело, он чуть не рассердился, когда услышал, что Арне собирается жить один в палатке на берегу озера в кратере Рано Рараку. Сам он ни за какие блага не согласился бы ночью пойти в этот кратер. Аку-аку прячутся там за каждым идолом, свистят из зарослей камыша…
Вот почему я немало удивился, услышав теперь, что старик Сантьяго вызвался проводить нас в пещеру.
Была уже ночь, когда джип остановился возле каменного домика у дороги на Рано Рараку. Из археологов я взял с собой Арне, он лучше других знал Сантьяго; кроме того, с нами поехали капитан Хартмарк, штурман и чилиец Санчес. Из дома тотчас вышли Энлике с женой и молодой парень, которого они нам представили как сына Сантьяго.
— А сам Сантьяго где?
— Он заболел. Он не может с нами поехать. Но оп объяснил сыну, где пещера.
Так я и знал. Теперь все пойдет насмарку… Я вошел в дом проверить, насколько болен Сантьяго. Он сидел в углу на корточках с очень скорбным видом и при виде меня принялся нарочито кашлять. Я не обнаружил у него ни температуры, ни других признаков болезни. Зато сразу было видно, что старик не рад собственной затее.
— Сантьяго, старый плут, ты здоров, как тунец. Со мной неужели тебе страшны аку-аку?
Сантьяго жадно схватил сигарету и усмехнулся, собрав в гармошку морщины около глаз.
— У меня спина болит, сеньор.
— Тогда тебе надо бросать курить.
— Она не так сильно болит.
Я продолжал шутить и балагурить, наконец старик нехотя вышел из дому и с натянутой улыбкой сел в джип.
Итого нас стало девятеро. Сантьяго, суровый и молчаливый, сидел рядом со мной и показывал дорогу. От Рано Рараку мы свернули к южному побережью и поехали по чуть заметной колее над обрывом. Приходилось держаться обеими руками, потому что разглядеть дорогу было почти невозможно, зато тем сильнее мы ее ощущали.
— Это не такая пещера, где прячут вещи, сеньор, — вдруг сказал старик, надеясь, что я передумаю.
— Разве в ней совсем ничего нет?
— Есть… немножко. Я с семнадцати лет не бывал там. Одна старая бабка перед смертью показала мне эту пещеру.
Не доезжая Ваиху, старик попросил нас остановить машину, и дальше мы пошли пешком. Светила яркая луна, и, когда мы спустились к самому обрыву, я снова увидел внизу седой прибой, штурмующий в ночи лавовую баррикаду. Сантьяго нес самодельную веревочную лестницу: две тонкие веревки с редкими перекладинами. На краю скалы мы остановились, и жена «Сына вождя» передала старику пакет, из которого он достал зажаренную в банановых листьях курицу. Сантьяго предложил мне гузку, «потому что я тебе показываю пещеру». В пакете лежал еще печеный батат, но я получил только гузку, а другим и вовсе ничего не досталось. Все остальное было положено на каменный выступ,
Внезапно старик, обратившись лицом к морю, негромко запел монотонную песню. И так же внезапно, словно на середине, песня оборвалась. Сантьяго медленно повернулся ко мне и попросил, чтобы я обещал ему оставить в пещере какую-нибудь одну вещь, все равно какую. Дескать, таков «закон». И объяснил, что, так как пещера принадлежит ему и в ней покоятся его дальние родичи, он пропел для аку-аку имя владельца.
После этого он зацепил веревочную лестницу верхней перекладиной за торчащий камень и швырнул ее вниз с обрыва.
Я лег на живот и посветил фонариком. Мы находились на широком карнизе, ниже которого лестница свободно висела в воздухе. Сантьяго велел сыну раздеться до трусов — он должен был спускаться первым. Там, где лестница прилегала к скале, было трудно ухватиться за веревки, а расстояние между перекладинами показалось мне очень большим. Всего десять метров отделяло нас от беснующихся волн, но и двух было достаточно, чтобы, сорвавшись, разбиться насмерть о купающиеся в пене острые камни.
Спустившись метра на три, сын Сантьяго вдруг исчез. Лестница опустела, и, сколько мы ни светили фонариком, никого не было видно. Очевидно, он нырнул в какую-нибудь щель в скале, скрытую от нашего взгляда. Энлике, спускаясь следом, тоже пропал из виду в этом месте. Только к спуску приготовился третий, как мы с удивлением увидели, что «Сын вождя» во всю прыть карабкается обратно наверх.
— Ты видел что-нибудь? — спросил я.
— Да, там длинный туннель, он ведет в пещеру.
— А в пещере что?
— Вот этого я не видел. Я не стал входить, я не привык к пещерам.
— Кто не привык к пещерам, боится демонов, — объяснил старик Сантьяго.
Энлике подтвердил, что это так. Жена испуганно смотрела на него и явно радовалась, что супруг вернулся в сохранности. Когда пришла моя очередь спускаться вниз по тонким перекладинам, я трусил не меньше, чем Энлике, хотя и по другой причине. Меня тревожил ненадежный камень, на котором висела лестница, и тревожили собственные слабеющие пальцы, которыми я не мог как следует взяться там, где веревка прижималась к скале. А чтобы дотянуться ногой до следующей перекладины, приходилось складываться так, что колено опорной ноги упиралось в подбородок. Наконец я миновал изгиб карниза и почти сразу увидел в стене узкую щель.
Взявшись покрепче руками за веревки, я стал лицом вверх продеваться сквозь лестницу, пока не попал ногами в щель. Качаясь в воздухе, я с превеликим напряжением втиснул их внутрь до колена, потом, вися на локтях, сделал повое усилие, но мне не во что было упереться, веревочная лестница только отклонялась все дальше назад. Тогда я начал подтягиваться пятками. У меня вся спина разламывалась от боли, когда я наконец подтянулся настолько, что можно было отпускать одну руку, чтобы поискать на скале более надежную опору. Тут лестница раскачалась так, что едва не выдернула меня из туннеля. Наконец я решился разжать вторую руку и повис лицом вверх — половина корпуса в щели, половина торчит наружу. «Сын вождя» всю эту часть пути одолел шутя… Только забравшись в туннель с головой, я почувствовал себя в безопасности. Ногами вперед я прополз еще несколько метров, вылез из прохода в пещеру с низким сводом и облегченно вздохнул там, где Энлике оробел и отступил.
В тайнике горела свеча, зажженная сыном Сантьяго, и когда я сел, то увидел, что мы окружены скелетами. Здесь, завернутые в циновки из камыша тотора, покоились родичи Сантьяго. Бурый сопревший камыш крошился от малейшего прикосновения, а некоторые кости приобрели странный сине-зеленый оттенок. Прямо у моих колен лежали бок о бок два скелета, подле которых были положены маленькие свертки из того же истлевшего камыша. Я осторожно потрогал пальцем один сверток и под рассыпающимся камышом нащупал что-то твердое.
В это время едва не случилась беда. После меня настала очередь Арне заниматься воздушной эквилибристикой на лестнице. И в разгар поединка, с веревками, протискиваясь в узкую щель, он сломал ребро. Да так, что потом всерьез утверждал, будто слышал треск. От боли он чуть не выпустил веревку, а тогда быть бы ему на дне пропасти.
Мы втащили его в тайник, и то, что он здесь увидел, заставило его забыть про боль. Стиснув зубы, археолог ползал но камням, изучая низкую пещеру.
Для нас было непостижимо, как в старину сюда по отвесной скале и через узкую щель доставляли покойников. Правда, патер Себастиан рассказывал мне, что некоторые пасхальцы сами забирались в подземелье, чтобы там умереть. После того как в прошлом столетии на острове было введено христианство с обязательным погребением мертвых на кладбище в Хангароа, находились старики, которые тайком заживо погребали себя в пещерах. Последним, кто сумел таким способом провести церковь, был старик Теаве; его внуки живы сегодня.
Но окружавшие нас скелеты были завернуты в камышовые циновки. Очевидно, покойников спускали на веревках, а внизу уже кто-то ждал и втаскивал их внутрь.
Капитан, штурман и Санчес присоединились к нам, только Сантьяго и «Сын вождя» с женой остались на плато. Сделав фотоснимки и зарисовки, насколько позволял низкий свод, мы решили поближе исследовать содержимое пещеры. Скелеты лежали на полу беспорядочно; маленькие камышовые свертки составляли весь погребальный инвентарь. Некоторые из них совсем истлели, даже видно, что внутри. В самом большом была женская скульптура. Из другого выглядывало двойное лицо с четырьмя глазами и двумя длинными носами, которые огибали камень и встречались на обратной стороне, преображенные в копейные наконечники.
В самой глубине пещеры покоился скелет, возле которого лежал только один сверток. Здесь камыш истлел не так сильно, и большие куски обертки сохранились. А внутри был каменный омар вроде того, что Гонсало так некстати увидел у бургомистра. Возможно, покойный был рыбаком, отсюда его заинтересованность в росте поголовья омаров…
Мы насчитали только десять скульптур. Все они были завернуты в камыш. Две из них, изображающие маленького человечка с клювом, были очень похожи друг на друга, и, выполняя свое обещание, мы одну оставили.
Чтобы выбраться на волю, мы должны были, отталкиваясь ногами, ползти к выходу на спине, потом высунуться по пояс из туннеля и, держась на весу, ловить руками веревочную лестницу. Дальше, выдернув из щели ноги, надо поймать ими перекладину. Удовольствие ниже среднего — заниматься такой акробатикой при луне над рокочущим прибоем. Хуже всех досталось Арне с его сломанным ребром. Но все обошлось благополучно, и беспокойно ожидавшие нас наверху пасхальцы решили, что у него просто побаливают суставы от непривычки.
Скульптуры мы хорошенько завернули и подняли на веревке. Когда подъем был закончен и Сантьяго удостоверился, что в тайнике оставлен один предмет, я вдруг вспомнил про жареную курицу. Лежа на камне, она пахла так соблазнительно, что я не устоял. Оставлять аку-аку такой лакомый кусок? Ну, нет! Разделив курицу по-братски с товарищами, я принялся уписывать за обе щеки, и аку-аку меня не покарали.
Правда, пасхальцы наотрез отказались притронуться к курице и испуганно жались в сторонке, пока последняя обглоданная косточка не полетела в море. Тут жена Энлике расхрабрилась и давай смеяться над мужем: побоялся войти в пещеру! Чем дальше мы уходили от утеса, тем смелее она становилась. А когда мы, втиснувшись в джип, покатили вприпрыжку домой, мне даже стало жаль статного парня на заднем сиденье. Жена не унималась, все дразнила Энлике, и в конце концов он сам улыбнулся, покачал головой и заверил, что больше никогда не будет таким дураком. Теперь его не запугаешь никакими духами и бесами. И завтра же он начинает строить новый дом.
Был на острове человек, более привычный к общению с демонами, чем Энлике. И вышло так, что младший брат бургомистра Атан, сам того не ведая, затащил меня в осиное гнездо. Разделавшись со своей пещерой и получив взамен более полезные вещи, Атан уверился, что избавление от связей с подземным миром приносит счастье. У Атана было много друзей и ни одного врага. Все его любили. И вот он чрезвычайно осторожно принялся выведывать, у кого есть пещеры.
Однажды вечером наш фотограф сел на коня и отправился в путь во главе кавалькады, которая состояла из капитана Хартмарка, наших трех механиков, кока и юнги. Все знали, что они собираются поснимать немного на северном побережье в лучах заходящего солнца. Бургомистр, маленький Атан и Лазарь вместе с нами провожали их, стоя у палаток. Нас на этот вечер пригласили в гости к губернатору, и мы предложили подвезти до деревни Атана и бургомистра. Оставался Лазарь, но и он, едва наша машина скрылась из виду, вскочил на коня. Галопом он ринулся догонять фотографа с его товарищами, которые должны были ждать Лазаря в условленном месте. Все это делалось по секрету от других пасхальцев, не подозревавших, что в рюкзаках у членов кавалькады лежат коробки и мешковина. Надо было за ночь незаметно доставить в лагерь оставшиеся скульптуры из пещеры Лазаря.
А мне в эту ночь предстояла новая вылазка под водительством младшего Атана. Он уже давно догадывался, что у его зятя Андреса Хаоа есть пещера. И вот теперь эта догадка подтвердилась.
— Ты помнишь Андреса Хаоа, сеньор Кон-Тики? Он еще показывал тебе черепки ипу маенго… Так вот, и черепки, и целые кувшины, которые он приносил патеру Себастиану, спрятаны у него в пещере. Андрес Хаоа? Вот уж с кем у меня вряд ли что-нибудь выйдет!
Он смертельно обиделся на меня, когда уговорил старика рассыпать мелкие черепки в раскопе у Аху Тепеу, а я обвинил его в жульничестве и лишил награды. Маленький Атан это знал, но был уверен, что все уладится, если я пошлю Андресу Хаоа подарок в знак дружбы. Я дал для подарка денег и два картона сигарет, и мы условились, что ночью, после приема у губернатора я приду к Атану. А он к тому времени постарается подготовить встречу с Андресом.
Около полуночи я простился с губернатором. Объяснил ему, что совершаю тайные вылазки в подземелья острова, но подробно рассказать об этом пока не могу, так как связан обещанием хранить секрет. Губернатор поблагодарил меня. У него отлегло от души, ведь в деревне ходили какие-то странные слухи… Впрочем, в Хангароа чего только не наслушаешься, и никто не принимает всерьез такие толки.
Ровно в полночь я вошел в домик Атана. Он открыл мне сам, и первым, кого я увидел в неверном свете свечи, был человек с черепками — мой старый «недруг» Андрес Хаоа. Небритый,
взлохмаченный, глаза воспалены… Он вскочил на ноги, обнял меня, называя братом, и заверил, что сделает для меня все. В маленькой комнатушке стало тесно от громких фраз. Добряк Атан напыжился и начал кичиться своей мала. Это он спас нашу дружбу, благодаря ему мы встретились снова. Свою мана он унаследовал от матери. Хотя он был младший, она любила его больше других детей и передала ему всю свою магическую силу. Атан рассказал мне, что Андрес Хаоа едва не помешался при виде моего подарка. Сам Андрес признался, что всплакнул от радости, получив подарок и услышав послание мира и дружбы. Ведь он попал в ужасное положение в тот раз, когда принес мне черепок настоящего маенго. Я тотчас потребовал, чтобы он показал, где найден черепок, но он не мог мне показать свою родовую пещеру! И пришлось повести нас в другое место, чтобы мы не проведали о ней. Объяснение Андреса показалось мне правдоподобным. А теперь, продолжал он, послушав рассказы Атана, он готов дать мне «ключ» от пещеры, чтобы я сам увидел кувшины. Только сначала надо расположить в мою пользу младшего брата, а он тверд как кремень. Ведь он заведует пещерой, отец ему передал «ключ», и аку-аку живет у него в доме. Когда Андрес сегодня вечером зашел к нему и предложил отдать «ключ» сеньору Кон-Тики, он страшно рассердился.
— Пошли вместе к его брату, — сказал Атан. — Наша объединенная мана поможет нам уговорить его.
По случаю приема у губернатора я был одет в легкий белый костюм, но у меня были с собой штаны и рубаха защитного цвета. Я переоделся, потом мы вместе покинули дом и, крадучись, вышли из деревни на север. И чем дальше, тем пламеннее становились произносимые шепотом уверения в дружбе и братстве. Атан выражал беспредельную веру в нашу объединенную мана и клялся, что из нас двоих он более чистокровный норвежский «длинноухий». Оба поучали меня, чтобы я был начеку и не попался в ловушку: если младший брат Андреса Хуан Хаоа предложит мне «ключ» от пещеры, я должен сказать «нет!» и скрестить руки на груди. Вот когда он передаст «ключ» старшему брату, я могу принять его из рук Андреса, говоря «спасибо».
На пустынной поляне за деревней мы остановились перед высокой каменной оградой, за которой тянулись к луне блестящие большие банановые листья и стоял беленький каменный домик. Дом был без окон и казался нежилым — этакая обитель привидений. Через ограду вел прогнивший перелаз со сломанными ступеньками.
Маленький Атан расправил плечи — он первым войдет и предупредит о нашем приходе. Уныло заскрипел перелаз, и вот ужо он стучит в дверь, медленно и осторожно. Мелькнул луч света: Атан вошел.
Мы прождали его пять минут. Наконец он вышел и вернулся к нам, страшно расстроенный. До чего же непреклонный и упрямый человек, этот младший брат Андреса! Надо идти всем троим и воздействовать на него нашими объединенными аку-аку. Мы перелезли через ограду и вместе подошли к домику. Я вошел первым, мои спутники — сразу за мной.
В скудно обставленной комнате — белый крашеный стол и три маленькие скамейки — стояли, вызывающе и враждебно глядя на нас, два суровых типа. Да, с ними шутки плохи… Одному было на вид лет тридцать с небольшим, другому — за сорок.
Я поздоровался; они бесстрастно ответили тем же, но не двинулись с места. Младший гордой осанкой и каменным лицом напоминал индейца из американского кинофильма. У него были колючие черные глаза и темная жесткая бородка, такая же, как у стоявшего позади меня брата. Надо сказать, что борода на Пасхи — редкость, хотя и бургомистр, и Атан, и многие другие щеголяли усами. Угрюмый бородач стоял, расставив ноги и сунув руки за пазуху, так что грудь частично обнажилась. Пристально глядя на меня из-под опущенных век, он звонко и раздельно произнес, будто в трансе:
— Смотри на моего аку-аку. Это дом аку-аку.
Теперь только бы не промахнуться — по лицам этих ребят было видно, что мне предстоит серьезное испытание.
— Знаю, — отозвался я. — Я вижу.
Мои слова как будто вызвали досаду у Хуана Хаоа, он медленно подошел вплотную, с вызовом уставился мне в лицо и прошипел со скрытым гневом:
— Покажи мне силу твоего аку-аку!
Очевидно, Атан не поскупился на краски, расписывая меня и моего аку-аку: все четверо ждали чуда. На лицах пасхальцев было напряженное ожидание, правда смешанное с подчеркнутым пренебрежением на бородатой физиономии Хуана Хаоа. Он казался пьяным, хотя был вполне трезв. Он довел себя самовнушением почти до транса. Он был сам своим аку-аку.
Я сделал шаг вперед — теперь мы едва не касались друг друга грудью — и напыжился, чтобы не отставать от противника.
— Если твой аку-аку так же силен, как мой, — я тоже старался говорить с ноткой скрытого презрения, — скажи ему, чтобы он вышел из дому. Пошли его на вершину Оронго. В кратер Рано Као. Через степь к Винапу. К статуям Рано Рараку. В Анакену, Хангароа — во все концы острова. Спроси его, изменилось ли что-нибудь на острове? Спроси, разве не стало здесь лучше? Разве не явились древние стены и строения, не поднялись из земли неведомые статуи? И когда ты услышишь ответ своего аку-аку, а сироту тебя: нужны тебе еще доказательства силы моего аку-аку?1
Мои слова убедили его. Отбросив колебания, он предложил мне сесть на скамейку рядом с ним.
Маленький Атан сразу воспрянул духом. Вдвоем с Андресом они попросили брата отдать мне «ключ». Их поддержал второй суровый малый, вежливо заметив, что в самом деле следует вручить «ключ» мне. Но герой драмы даже бровью не повел, словно не слышал их. Он сидел будто на незримом золотом троне — прямой, как свеча, руки скрещены на груди, челюсти сжаты, губы оттопырены в точности, как у каменных великанов. Сидел и пыжился, набивая себе цену в собственных глазах и глазах своих приятелей — этакий самоупоенный шаман или верховный жрец из далекого прошлого, облаченный в рубаху и брюки.
Остальные трое стояли перед Хуаном, уговаривая его отдать «ключ», но он ими пренебрегал. Они упрашивали его, умоляюще протягивали к нему руки, один из них даже стал перед ним на колени, а он упивался их унижением и медленно, будто греясь на солнце, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону. Или с церемонным видом обращайся ко мне и начинал расписывать свою потрясающую магическую силу, свою мана. Ему было откуда черпать сверхъестественную силу, ведь в жилах Хуана текла кровь виднейших родов острова. И он жил в доме аку-аку, они его окружали и защищали со всех сторон. Самый могущественный аку-аку на всем острове оберегал его со спины: дом Хуана Хаоа стоял перед хижиной старой Таху-таху, которая приходилась теткой его жене. Других соседей у них не было. Несколько правее стояла заброшенная хижина; хозяйка хижины умерла, и теперь там тоже поселился аку-аку. Сзади — аку-аку, по бокам — аку-аку, и еще один в самом доме!
В глазах бородача появился зловещий блеск. Чем больше он пыжился, тем упрямее становился, и я решил вмешаться. Попросту я сам принялся отчаянно хвастаться, и бородач начал скисать прямо на глазах.
Я рассказал, что унаследовал сильнейшую мана от моего могущественного названого отца Терииероо, последнего великого вождя Таити, который перед смертью нарек меня королевским именем Тераи Матеата — Голубое Небо. Последний вождь Фату-Хивы Теи Тетуа тоже передал мне свою мана. А когда я приплыл на плоту на Рароиа, моя мана выросла еще больше, потому что жители острова устроили праздник в память своего первого короля Тикароа и приняли меня в общину под именем Вароа Тикароа (Дух Тикароа).
Помогло! С каждым моим словом решимость противника ослабевала, и наконец он сдался. Он медленно встал; мы тоже. Показав на своего угрюмого приятеля, Хуан Хаоа произнес! — Туму, будь свидетелем!
Слово туму было мне знакомо; я знал, что это не имя, а титул. В книгах исследователей можно прочесть, что загадочный термин туму — память о древнейшей общественной организации пасхальцев, а в наши дни его-де никто не понимает и не может истолковать. И вот передо мной стоит настоящий живой туму. Он отнюдь не канул в прошлое, он существует и действует. После Атан рассказал мне, что это Хуан Нахое — туму семьи Хаоа, судья и посредник между братьями.
Бородатый фанатик стал передо мной, Туму — рядом с ним. — Настоящим передаю тебе ключ одной из моих двух пещер, — замогильным голосом произнес Хуан Хаоа, словно зачитал смертный приговор.
Остальные стояли молча. Царила полная тишина, даже огонек свечи не трепетал. Я был в затруднении. Скрестить руки и сказать «нет»? Он ведь предлагает мне «ключ», хотя и не показывает его. Помедлив секунду, я сухо произнес: «Спасибо». Он продолжал стоять без движения, меряя меня взглядом своих черных колючих глаз. Потом круто повернулся и вышел из дому, шагая важно, как индейский петух.
Его приятели явно испытали великое облегчение. Маленький Атан вытер со лба обильный пот, хотя единственным источником тепла был огарок свечи, наклонивший к выходу дрожащее пламя. Скованность прошла, троица оживленно жестикулировала, невольно оттеняя надменную спесь вышедшего.
Через несколько минут мрачный тип появился снова, держа под мышкой легкий плоский сверток из камыша тотора, а в руке — тяжелую корзину из того же материала. Отдав сверток брату, чтобы тот положил его на стол, Хуан снова подошел ко мне и замер. Он пристально глядел на меня, не торопясь вручать корзину. Я тоже стоял недвижимо, изображая безучастность и гордое презрение. Вдруг Хуан Хаоа повернулся и протянул корзину Андресу. Тот в свою очередь передал ее мне. Взяв корзину, я поблагодарил Хуана за то, что он сперва вручил «ключ» старшему брату. Мои слова не произвели никакого впечатления на угрюмого малого. Помедлив немного, он внезапно устроил мне новый экзамен.
— Что здесь лежит? — раздельно спросил он, указывая пальцем на сверток. — Покажи мощь своего аку-аку!
Опять все четверо испытующе смотрят на меня. Я напряг до предела свои мыслительные способности. Обычно такие экзамены только снятся человеку, и это называется кошмаром, когда чувствуешь, что провал грозит невесть чем. Сверток был величиной с портфель, слишком плоский, чтобы в нем могло содержаться какое-нибудь изделие из дерева или камня. Мастерски сплетенная обертка легкостью и гибкостью (это было видно, когда Андрес клал ее на стол) напоминала большой конверт. Зная, что держу в руках «ключ» от пещеры, я не сомневался, что сверток взят оттуда же. И сплетена обертка так же, как корзина.
Мне вспомнились красивые изделия из перьев, которые нам часто приносили пасхальцы: копии старинных венцов и длинные нити из убора для плясок. Первые исследователи записали, что на острове Пасхи знатные люди носят плащи и головные уборы из перьев, совсем как многие индейские вожди в Мексике и Южной Америке. Может быть, нечто в этом роде, сделанное уже недавно, хранилось в тайнике Андреса? Изделие из перьев — неплохая идея. Но что именно? Венец или что-то еще? Мои экзаменаторы ждали как на иголках. Ладно, рискнем.
— Мой аку-аку говорит: кон плюма, перо, — сказал я осторожно и неопределенно.
— Нет! — прошипел фанатик и подпрыгнул, словно тигр. — Нет! — яростно повторил он. — Спроси своего аку-аку еще раз!
Он изогнулся по-кошачьи, злорадно и торжествующе улыбаясь. Маленький Атан вытер пот со лба, лицо его выражало полное отчаяние, и он умоляюще смотрел на меня — мол, вразуми ты своего аку-аку! Туму и Андрес медленно подошли ко мне ближе с видом недоверчивым и угрожающим. Мне стало не по себе. Ведь я непрошеным гостем вторгся в святая святых этих фанатиков… Мало ли что сейчас может случиться, а никто не знает, где я нахожусь. Кричи, зови — в деревне не услышат. Мои товарищи подумают, что я сорвался с обрыва или застрял в какой-нибудь тайной пещере. Нигде в мире нет такого обилия укромных уголков, где может бесследно исчезнуть человек и никто ничего не заподозрит…
Так что же все-таки в этом свертке? Я мог только гадать. Может быть, тапа — лубяная материя?
— Какая-нибудь одежда?
— Нет! Спроси своего аку-аку ещё раз, и спроси как следует! Пасхальцы подступили ко мне совсем близко. И, думая, что же такое может лежать в свертке, я в то же время лихорадочно соображал, как отбиваться и куда бежать, если что.
— Материал, — сделал я последнюю попытку, вспомнив опыт наших радиовикторин.
Я услышал в ответ какое-то рычание. Потом мне предложили развернуть сверток; вся четверка стояла с чрезвычайно грозным видом. Развязав шнурок из камышового волокна, я достал книгу без переплета, исписанную замысловатыми знаками ронго-ронго, вроде драгоценной тетради «деревенского шкипера». Чернила, которыми были выведены эти своеобразные символы, сильно поблекли. Внезапно меня осенило: в испанском языке слово «перо» многозначно!
Я швырнул книгу на стол, так что свеча чуть не погасла, и негодующе выпрямился.
— Мой аку-аку был прав! Он сказал кон плюма, и ведь это написано кон плюма — пером!
И тотчас все переменилось. Пасхальцы отпрянули и обалдело уставились друг на друга. Не я, а они ошиблись! Угрюмый бородач с молниями во взоре скис. Такого оборота он никак не ожидал. Первым молчание нарушил маленький Атан. С трудом переводя дыхание, он пролепетал:
— До чего же у тебя могущественный аку-аку!
Его слова зажгли искру ревности в душе моего противника.
— Посмотри на аку-аку в книге, — сказал он. — Вот!
Он перелистал свою диковинную книгу, пока не дошел до нужного разворота. Слева — сплошь загадочное рисуночное письмо без каких-либо толкований. Справа — повторено двадцать знаков, и рядом корявыми латинскими буквами написан перевод на рапануйский язык. А в самом низу страницы выцветшими бурыми чернилами отдельно написана одна строка.
— Вот аку-аку, — буркнул Хуан, показывая мне на эту строку. Я прочитал:
— Кокава аро, кокава туа, те игоа о те аку-аку, эруа.
— «Когда истреплется спереди и истреплется сзади, сделай новую», — так зовут аку-аку в книге, — гордо перевел владелец старинную формулу.
«А ведь это гениально!» — подумал я. Человек, который составил эту книгу, облек практический совет в такую форму, чтобы наследники своевременно делали новый список, прежде чем окончательно истреплется предыдущий. Совет — в роли аку-аку; кто посмеет его не выполнить!
— Вот аку-аку, — гордо повторил бородач и показал пальцем, чтобы все восхитились.
— Да, сильная книга, — сказал я и тотчас смекнул, что выбрал самое верное определение. Не «интересная», не «красивая», не «искусно составленная», а именно «сильная».
Было очевидно, что владелец читать содержание не умеет и эта книга для него чисто магический предмет.
И сразу мы все стали друзьями, пасхальцы называли меня «братом», в их глазах появился восторг. Тем не менее настороженность не оставляла меня совсем.
— Теперь мы братья. — Хуан Хаоа положил мне руки на плечи. — Выпьем кровь друг друга!
В обращенном на него взгляде маленького Атана смешались испуг и восхищение. Я весь напрягся, силясь выглядеть невозмутимо. После всех душевных треволнений какая-то там царапина ножом мне и подавно не страшна. Но пить кровь этого жуткого типа… Сама мысль об этом казалась мне невыносимой. Вспомнилось, как бургомистр и Атан рассказывали мне и Эду, что иногда они разбалтывают в воде муку из костей своих предков и пьют, чтобы обрести «силу». Очевидно, нечто в этом роде предстояло нам сейчас.
Кошмарный тип надменно прошествовал в соседнюю комнатушку. Я думал, он вернется с ножом, а он с мрачным видом принес бутылку и пять рюмок. Откупорив бутылку, он налил вина — всем на донышке, только мне полную рюмку. И велел нам несколько раз повторить слово такапу. От Атана я знал, что это слово — источник мана, оно делает аку-аку зрячим. Прежде исследователи считали, что такапу означает «ритуальная земляная печь», но это неверно. Земляная печь тут ни при чем, если только перед такапу не стоит слово уму, означающее «земляная печь».
Наконец магическое слово было произнесено столько раз, сколько положено. Я успел понюхать грязную рюмку и узнал красное вино с «Пинто». Перед тем как пить, наш церемониймейстер замогильным голосом объявил:
— Сейчас мы выпьем нашу кровь, смешанную вместе. Представление о вине как о крови он, видимо, почерпнул из церковной службы. Выпили, и Хуан тут же налил еще: всем чуть-чуть, мне полную.
— Ты наш главный брат, пей побольше, — добродушно сказал бородач.
Я был рад, что ему достается так мало. Правда, дружба окончательно наладилась. Звучали громкие слова про аку-аку, про братство. Я — старший над ними, у меня «ключ». «Ключ» к одной из их пещер и к «счастью» всей нашей пятерки. Вторая пещера тоже будет моей, если я вернусь и навсегда поселюсь на острове. Сейчас, насколько я понял, за нее отвечал Туму. Бутылка быстро опустела. Большая часть вина досталась мне. — Посмотри на мою бороду, — сказал чернявый разбойник, который теперь был моим младшим братом. — Бот где моя сила, — торжествующе пояснил он.
Видели бы они меня после того, как я сто один день шел на плоту «Кон-Тики»! А впрочем, они все равно поверили в мое могущество, хоть я теперь гладко выбрит.
Никогда еще я не пил такого вкусного вина. Все мои тревоги прошли. Я посмотрел на часы: три. До лагеря далеко, пора домой. Тепло поблагодарив, я прижал к груди драгоценную книгу с ронго-ронго и корзину с «ключом» от пещеры. Мои братья сказали, что завтра придут ко мне в лагерь, и мы вместе поедим моей пищи. Я ответил: «Добро пожаловать» — и вместе с Туму, Андресом и Атаном вышел на прохладный, свежий ночной воздух.
На следующий день мои новые братья, зайдя за мной в лагерь, повели меня на гору. Здесь бородатый фанатик, стоя на бугре лицом к морю, обратился с речью к незримым слушателям. Под левой рукой у него была зажата камышовая папка с книгой ронго-ронго, правую руку он воздел к небу, жестикулируя. Хуан говорил по-полинезийски, но, хотя голос его звучал очень тихо, почти неслышно, он сильно смахивал на оратора из лондонского Гайд-парка. Вот он указал рукой на нас, продолжая говорить так взволнованно, словно равнину и море внизу заполняла огромная толпа. Грудь нараспашку, полы незастегнутого пиджака развеваются на ветру… Казалось, он стоит одной ногой в прошлом, другой — в настоящем, как символ народа, переживающего ломку.
Кончив речь, Хуан спустился к нам и вручил мне великолепное изображение рыбы-парус, которое сам вырезал из дерева. Потом вынул из папки книгу ронго-ронго и быстро ее перелистал, пока не дошел до страницы с аку-аку. Держа палец на волшебной строке, он снова тихо заговорил с окружающими нас невидимыми существами, затем передал книгу мне и попросил прочитать вслух аку-аку.
Кругом простирался удивительный остров, рядом со мной стояли три благоговейно слушающих пасхальца… Я прочел:
— Кокава аро, кокава туа, те игоа о те аку-аку, эруа.
Ритуал закончился. Предки смогли убедиться; что книга передана мне по всем правилам. Мы спустились с горы к зеленым палаткам, где стюард уже расставил на столе закуски.
Трапеза во многом проходила так, как и завтрак перед походом в пещеру маленького Атана, только ритуал был еще более гротескным и еще грубее звучали хриплые голоса, шепча про сокровенную «мощь» и «силу» поданных блюд. И каждый из нас сидел со своей вахиной. Ивон даже испугалась, когда я забормотал что-то скрипучим голосом и тоже начал вести себя как-то странно. Как я узнал от нее после, она решила, что я помешался.
Неожиданно мой сумрачный брат поднялся и, поглаживая свою черную бороденку, другой рукой показал на норвежский флажок на столе.
— Вот где твоя сила, брат, — сказал он вдруг и схватил флажок. — В нем твоя сила, я должен его получить.
Я отдал ему флаг и добавил маленькую целлофановую коробку с моделью плота «Кон-Тики», которая ему приглянулась. Взяв подарки, Хуан важно вышел Из палатки, сопровождаемый своими друзьями, и они вместе ускакали в деревню.
Вечером я лег пораньше, чтобы поспать несколько часов перед новой полуночной вылазкой. На очереди стоял еще один тайник: «раскололся» Энлике Теао, который ходил с нами в пещеру Атана. Кроме него должны были пойти Ивон, Карл, фотограф, Тур-младший и Атан. Тайник, расположенный на западном берегу, был очень искусно укрыт, но попасть в него оказалось легко — сквозь заросшую осыпь у подножия утеса. Съев куриную гузку, я по тесному ходу проник в подземелье. В «передней» с чисто выметенным полом нас встречали два черепа. Дальше была подковообразная ниша, напоминающая рождественские ясли католиков: на полу — сено, вдоль стен — желтые камышовые циновки с множеством причудливейших фигур. Здесь было даже уютно. После встречи с братьями-фанатиками накануне я просто отдыхал у простодушного, скромного и радушного Энлике. Когда мы вышли из подземелья, нас встретила приветливая круглая лупа; ленивый ветерок не мешал ей смотреться в черное зеркало игриво настроенного моря.
На следующий день в Анакене состоялось что-то вроде народного гулянья. Пользуясь случаем, два врача — наш и деревенский, сидя в столовой, добывали капельки крови из ушных мочек тех из наших гостей, кого патер Себастиан считал чистокровными. Бургомистр и его родичи, когда дошла очередь до них, смотрели на врача как на грабителя, отнимающего у них бриллиантовые серьги. Они не сомневались, что за каплю крови настоящего «длинноухого» начальники музеев платят огромные деньги. Их взгляд, когда они смотрели, как тщательно смешивают красные капельки с химикалиями и в особых пузырьках отправляют в холодильник на корабле, был достаточно красноречив. Мол, их бессовестно надувают, но на что не пойдешь дружбы ради…
Бургомистр, щеголяя соломенной шляпой, самолично приводил в палатку избранных из толпы, которая веселилась на просторной поляне. Вокруг лагеря звучали песни и смех, бренчали гитары, ржали кони. Я только что сходил к костру и выбрал себе кусок жареного мяса посочнее, когда ко мне подъехал худой, обросший седой щетиной всадник в драном кителе. Он учтиво поздоровался, и я предложил ему спешиться и найти себе что-нибудь по вкусу в открытой земляной печи. Но старик нагнулся ко мне и прошамкал беззубым ртом:
— Вот зачем я здесь: чтобы передать, что ты можешь рассчитывать на двойное счастье. Эль брухо, колдун, сказал мне, что тебя ожидает счастье, если ты придешь в воскресенье в полночь. И оно будет тебе сопутствовать впредь.
Не отвечая на мои вопросы, старик дернул поводья и скрылся в толпе; больше я его не видел. Я впервые услышал про эль брухо; до сих пор мне лишь о старухе Таху-таху было известно, что она занимается таху и колдовством. Однако нетрудно было сообразить: если на острове есть кто-либо, заслуживающий звания колдуна, это может быть только мой новый брат. В самом деле, он вел себя так, словно считал себя шаманом. И живет он в доме аку-аку перед уединенной обителью Таху-таху, со всех сторон окруженный бесами. Словом, ясно, что «колдун» — мой новоявленный младший брат Хуан Хаоа.
В воскресенье мы, как обычно, отправились в церковь. По-прежнему под потолком порхали щебечущие пташки. Патер Себастиан, как всегда, вышел в нарядном облачении, и, как всегда, атмосфера была словно в оперном театре. Но толпа прихожан теперь ужо не была для нас чужой и безликой. Теперь мы знали большинство. В каждом ряду сидели наши друзья. Вот «полицейские» Николас и Касимиро. Вот старик Пакомио рядом с Лазарем и молодым Эстеваном. «Деревенский шкипер», «Сын вождя», четверо братьев Пакарати… Атан и Энлике, Альберте и Даниель. Вошли и сели вместе три приятеля — Туму, Андрес и Хуан Колдун. Сегодня в полночь мне еще предстоит снова встретиться с ними.
Время от времени я поглядывал на них. С неподдельным благоговением они ловили каждое слово патера Себастиана. И так же истово, как все, пели полинезийские псалмы. Ничего дьявольского во взгляде, сидят три добрых малых, и черные бороды отнюдь не делают их похожими на бандитов, а скорее на святых угодников. Если бы мне вздумалось подойти и спросить их, что им надо здесь, в церкви патера Себастиана — ведь они водятся с аку-аку и подземной нечистью, — друзья, наверно, удивились бы. И ответили бы подобно Атану:
— Мы добрые христиане. А то — само по себе, отара коса апарте. Сегодня в церкви происходило крещение. Я был крестным отцом, и меня посадили в первом ряду на женской половине. Дальше сидели Аналола со своей старушкой-матерью и прочие женщины — сплошной цветник. Рядом со мной восседал бургомистр при всем параде; его сопровождали жена, рыжеволосый сын и одетая во все черное старая тетка Таху-таху. Сегодня у бургомистра был великий день. Сноха подарила ему славного внука взамен девчушки, которую унесла коконго. Сияющий от счастья дед решил назвать внука в мою честь. Когда патер Себастиан справился у родителей, какое имя они желают дать ребенку, бургомистр ответил:
— Тур Хейердал Кон-Тики Эль Сальвадор де Ниньос Атан. Патер Себастиан в отчаянии подергал себя за бороду и жалобно попросил придумать имя покороче.
Когда малыша подняли над купелью, довольный дед толкнул меня в бок.
— Погляди на волосы, — сказал он.
Волосы на голове крохи были огненно-рыжие.
Мальчугана окрестили Сальвадор Атан. Младшая ветвь на генеалогическом дереве «длинноухих», тринадцатое поколение после Оророины, уцелевшего в битве у рва Ико…
Когда наступила ночь и деревню окутал глухой мрак, в доме бургомистра задули свечу и в дверь незаметно выскользнули две фигуры. Наши люди, кто верхом, кто на джипе, давно отправились в Анакену. Лагерь спит, деревня спит, скоро полночь…
Джип вернулся из Анакены в деревню и стоял с выключенными фарами у калитки бургомистра. Рыжий отец моего крестника и дядя Атан сидели в джипе. Они потеснились и впустили в машину выскользнувшую из дома двойку. Тихо, не включая света, джип покатил мимо церкви к морю, затем вдоль побережья к лепрозорию.
Было условлено, что Эд (это мы с ним прятались до полуночи от непосвященных у бургомистра) вместе с рыжеволосым папашей останутся ждать в джипе, а я и Атан пройдем пешком последнюю часть пути до жилища аку-аку.
У стены с прогнившим перелазом, за которой среди блестящих банановых листьев стоял дом с привидениями, Атан остановился.
— Ты сперва входи один, — прошептал он. — Ты ведь главный брат. Постучись и скажи: «Хуан Колдун, вставай на счастье!»
Я одолел скрипучий перелаз и подошел к дому. Царила могильная тишина. Я поднял руку и осторожно постучал в старую дверь.
— Хуан Колдун, вставай на счастье! — отчетливо произнес я. Никакого ответа. Никаких признаков жизни в доме. Только огромные блестящие листья шелестели на ветру и тянулись к луне, будто пальцы. Вдали глухо шумел океан.
— Попробуй еще раз, — прошептал из-за ограды Атан. Я снова постучал и машинально повторил условную фразу. Мне ответил лишь ветер.
В чем дело? Новая ловушка? Очередное испытание? Видя мое колебание, Атан шепотом велел мне постучать опять — должно быть, они легли спать «на счастье». Неужели они и впрямь так крепко спят, хотя знали, что мы придем? Как бы не попасть впросак… Может быть, они стоят за дверью и ждут, чтобы мой аку-аку их увидел? Кстати, подозрительно громко что-то шуршит вон там, слева, где сгустилась тень от больших колышущихся листьев, которые не пропускают лунное серебро… Уж не спрятались ли они там за кустами, чтобы проверить зоркость моего аку-аку? Раз-другой мне послышалось, будто в доме кто-то ходит, однако никто не открывал. После шестой попытки я сдался и уже хотел отступить, но вдруг услышал за дверью шум и постучал в последний раз:
— Хуан Колдун, вставай на счастье!
Дверь медленно отворилась, вышла молодая женщина с коптилкой в руке. Я глянул через ее плечо: в комнате никого, пустые скамейки окружали столик, за которым мне вручали книгу ронго-ронго и «ключ» от пещеры.
Хозяйка объяснила, что мужчины ушли. Кажется, в пещеру. Вот оно что! И теперь, очевидно, ждут, что мой аку-аку приведет меня к пещере по их следам…
Меня выручил Атан, вызвавшись сходить в деревню и поискать Андреса. Хозяйка задула коптилку и села на освещенную луной скамью перед домом. Мне она предложила сесть рядом. Я встречал ее раньше, это была жена Хуана Хаоа, младшая сестра бургомистра. Невольно я отметил, что она очень хороша собой, лицо совсем не полинезийское, типичная арабско-семитская красавица. Тонкий нос с горбинкой, тонкие губы… Просто не верилось, что она дочь чистокровных пасхальцев, из настоящих длинноухих. Мы брали у нее кровь для исследования.
Жена Хуана была далеко не глупа, и мы разговорились. Времени для беседы оказалось достаточно: прошел и час, и два, а Атан все не возвращался. Сидя при луне, мы болтали о том, о сем, и мало-помалу я сумел кое-что выведать.
В частности, я узнал, что три приятеля решили поднести мне аку-аку из перьев — ведь в ту знаменательную ночь о них шла речь. А чтобы придать этому аку-аку надлежащую силу, они ходили к Таху-таху, и она, зарезав курицу, связала венец из перьев. Несколько часов назад, перед тем как лечь спать, моя собеседница сама видела этот венец на столе. Теперь он исчез, и она полагала, что они сидят с ним в пещере и ждут меня. Она не могла мне сказать, где находится пещера. Знала только, что муж, отправляясь ночью в тайник, обычно шел на север. Ей немало довелось слышать о пещерах и связанных с ними ритуалах, но сама она ни разу не видела подземного тайника.
Рассказ о венце из перьев был очень кстати: теперь, если три друга захотят подвергнуть меня новому испытанию, они не застигнут меня врасплох, скорее, я их удивлю.
Наконец, в три часа ночи Атан прибежал из деревни. Ему удалось найти Андреса и Хуана, вместе с Туму они сидели в доме сестры. Она совладелица тайника, и Туму потребовал, чтобы они получили ее согласие на передачу мне пещеры. А сестра пришла в ярость: почему-де не спросили до того, как отдали мне «ключ». Они се и так, и эдак успокаивали, сулили богатые подарки от меня, но она нив какую, грозит поднять шум, если они отдадут пещеру. Атана и слушать не захотела. Так что трое друзей сейчас в полном отчаянии, особенно Туму — он так старался найти приемлемое для всех решение. Они просят меня извинить их и подождать еще.
В четыре часа я пошел успокоить тех, кто ждал в машине. Мы решили, что пора уезжать, но только двинулись к деревне, как услышали стук копыт. В лунном свете за нами мчался во весь опор сам Хуан Колдун. Он скакал откуда-то с севера, и вид у него был возбужденный и усталый. Догнав нас, Хуан крикнул, чтобы мы поворачивали и следовали за ним.
Мы развернули джип и, не включая фар, поехали за Хуаном вдоль побережья, в сторону лепрозория. Только я подумал, что там могут услышать гул мотора, как наш проводник знаками показал нам, чтобы мы остановились и сошли возле огромных глыб застывшей лавы. Кругом простиралась чуть всхолмленная каменистая равнина.
Не успел я, сонный, продрогший, окоченевший, выбраться из джипа, вдруг из-за камней выскочили двое, одним прыжком очутились около меня и мгновенно надели мне на голову убор из развевающихся перьев. Хуан Колдун спешился, привязал коня к камню и в свою очередь живо надел себе наискось через плечо гирлянду из перьев, чтобы, как он объяснил, было видно, что я главный брат, а он рангом ниже. Потом он попросил меня идти за ним, и мы, сопровождаемые Эдом, Туму, Андресом и Атаном, предельно быстро зашагали по каменистой равнине. Рыжеволосый остался сторожить машину.
Сделанный Таху-таху венец был точной копией xa'y теке-теке; этот головной убор был широко распространен среди исконных обитателей Пасхи, и образцы его можно увидеть в некоторых музеях. Я чувствовал себя как-то нелепо с венцом, как будто впал в детство, когда мы ночью при луне играли в индейцев. Чувство нереальности происходящего ничуть не ослабло, когда я немного спустя сел на корточки и принялся уплетать гузки двух жареных кур. Потом мы отодвинули несколько камней посреди застывшего лавового потока, и вот уже я с венцом на голове ползу вниз по тесному ходу. Ход привел нас в обширный подземный тайник с низким волнистым сводом. Пол был застлан старым сеном. Направо от входа стоял маленький алтарь под камышовой скатертью, на котором покоилась мощная голова из камня с двумя черепами по бокам. Один череп — настоящий, человеческий; второй — каменный, с вытянутыми воронкой губами, которые загибались вверх и заканчивались круглым блюдечком. На это блюдечко — масляный светильник — смотрели сверху огромные глаза в глубоких глазницах. Напротив жуткого трио лежал еще один белый череп и изящный каменный пест с лицом в верхней части. Посередине пола под сеном и камышовой циновкой тоже было небольшое каменное возвышение. Хуан Колдун предложил мне сесть на циновку так, как некогда сидел его дед. Вдоль стен тянулся карниз с множеством затейливых фигур из мира реальности и мира фантазии. По обе стороны платформы, на которой я восседал, лежало что-то завернутое в желтую камышовую плетенку.
Прежде всего Хуан Колдун достал модель плота «Кон-Тики» и норвежский флажок.
— Это твоя кровь, — хрипло прошептал он, крепко сжимая флажок в руках.
[2] — А здесь ты можешь набраться свежей силы — вот тебе ипу маенго.
Разворачивая свертки, я так волновался, что почти не дышал. В каждом был коричневый необливной кувшин. Уж не из тех ли они трех загадочных кувшинов, которые Хуан, рассердившись на меня, тогда показал патеру Себастиану?
— Во второй пещере у него их много, и все разные, — заметил Туму. — Она полна маенго и будет твоя, когда ты вернешься к нам.
Один из кувшинов опоясывал несложный орнамент. Хуан утверждал, будто орнамент делал его дед и черточки изображают воинов. А в пещеру кувшины поставили, чтобы мертвые могли напиться, когда захотят.
Позже, когда мы рассматривали кувшины в лагере, только Гонсало их опознал. Он видел такие же в Чили, индейцы исстари их лепили, да, наверно, и по сей день лепят в глухих селениях. Опять загадка! Кувшины сделаны не на гончарном круге, это ленточная керамика, типичная для индейцев. Но как могли, будь то в старину или в наши дни, примитивные индейские сосуды попасть на остров Пасхи? И почему их сочли достойными стоять рядом со скульптурами в родовой пещере? Почему воду для духов не ставят в стакане, в банке или в чайнике? Пасхальцы не употребляют в быту глиняную утварь, между тем у Хуана явно были еще сосуды: из двух, которые мы получили, ни один не соответствовал описанию тех, которые он приносил к патеру Себастиану.
Кроме этого случая я на Пасхи лишь однажды слышал про пещеру со старинными кувшинами. Она принадлежала двоюродному брату Энлике. Но он уплыл в Чили на «Пинто».
…Уже светало, пели петухи, когда я постарался бесшумно проскользнуть в калитку бургомистра. Мне никто не встретился, и постель была такой же, какой я ее оставил, но чьи-то руки поставили на стол фрукты, жареную курицу и фруктовый сок. Однако слаще всего были чистые белые простыни, те самые, которые я подарил владельцу дома, когда он еще думал о плавании на «Пинто».
— Дон Педро, бургомистр, — сказал я, когда утром мой друг, улыбаясь, вошел на цыпочках с водой для умывания, — спасибо за отличный ночлег. Но когда ты мне покажешь свою пещеру?
— Не горячись, сеньор. Надеюсь, сегодня ночью тебе сопутствовало счастье?
— Да, мне сопутствовало счастье. Но скоро я покидаю остров. Так когда же я увижу пещеру Оророины?
— Не горячись, сеньор, ты ведь получил от меня «ключ». Он лежит у тебя под кроватью?
Да, «ключ» лежал у меня под кроватью. И при мысли о нем я невольно улыбнулся про себя, ведь голова была хотя и длинноухая, но довольно неожиданного вида.
Впрочем, бургомистр за последнее время вообще был щедр на неожиданности. Со дня выхода из больницы он вел себя странновато, я не узнавал старого дона Педро. Побледнел, осунулся, и это вполне естественно, но, главное, его хитрые глаза сверкали каким-то особенным блеском. Он ходил чрезвычайно возбужденный и с каким-то непонятным оптимизмом строил потрясающие планы. Бабушки он больше не боялся — опустошим тайник, и оба станем миллионерами! Он купит пароходик и откроет постоянную линию для туристов с материка. Его брат, «деревенский шкипер», умеет править по звездам, а рыжеволосый сын — ведь научился водить джип — будет смотреть за машиной. Все на острове разбогатеют, потому что спрос туристов на деревянных птицечеловеков и моаи кава-кава так вырастет, что только поспевай вырезывать!
Я попытался притушить его непомерный оптимизм — куда там. Я не должен даже так говорить, это дурная примета! В то же время, несмотря на громкие слова и обещания, дон Педро после выхода из больницы не принес мне еще ни одного камня. И работать у нас перестал. Мол, некогда, некогда… Он — бургомистр, страшно занятый человек.
Но однажды, когда я проходил мимо его дома, он вдруг выбежал мне навстречу.
— Счастливый день! Сегодня очень, очень счастливый день, — ликующе прошептал он.
И уже вслух, не стесняясь присутствия шкипера, рассказал, что Таху-таху разрешила ему вручить мне «ключ» от пещеры Оророины. За это я, когда поплыву дальше, должен взять с собой не только бургомистра и его сына, но еще и старшего сына Таху-таху. Я обещал переговорить об этом с губернатором, и бургомистр буквально заплясал от радости. Счастливым голосом он предложил нам со шкипером тотчас зайти к нему в дом.
У круглого стола, за которым я так часто сиживал, мы увидели грубоватого с виду малого с широким плоским носом и курчавыми волосами. Он изобразил улыбку, но от этого лицо его не стало добродушнее. Перед ним стояли две рюмки и початая бутылка чилийской мятной водки. Судя по особому блеску в глазах гостя, он был ее главным потребителем. Впрочем, он пока не захмелел. Встав, незнакомец щедро протянул для приветствия широченную ладонь.
Бургомистр с жаром заверил нас, что это отличный человек — его собственный двоюродный брат. Ведь его мать — Таху-таху; правда, предки отца с архипелага Туамоту.
— Он нам помог, — говорил бургомистр. — Это он смягчил Таху-таху.
Затем дон Педро достал какой-то сверток и с видом заговорщика прошептал, что «ключ» — голова с тремя ямками, в которых лежала смертоносная мука из костей предков; человек с блестящими глазами кивком подтвердил его слова. Но они удалили всю костяную муку, и теперь голова безвредна.
Эту деталь я уже знал по пещере младшего Атана. Но когда бургомистр достал из свертка «ключ», я увидел не оскаленный каменный череп, а… добродушную свиную морду. Круглый пятачок, пухлые щеки, длинные отвислые уши — ни дать ни взять весельчак из «Трех поросят», тот самый, который беспечно плясал перед носом у волка и соорудил себе домик из соломы. От милой свинки из сказочки этого пещерного жителя отличали длинные кривые клыки да три ямки на черепе — для муки из человеческих костей.
Бургомистр и его двоюродный брат перевели взгляд с «ключа» на меня. Как я ни старался сохранить серьезный вид, бургомистр, должно быть, заметил искорку в моих глазах, он вдруг улыбнулся и чмокнул каменную морду в пятачок. Мы со шкипером едва не покатились со смеху. Я поспешил, напустив на себя серьезность, поблагодарить за «ключ», шкипер взял картонную коробку с другими скульптурами, и мы направились к двери. Дон Педро попросил меня набраться терпения еще на два-три дня, а свиную морду пока хранить под кроватью. Он же должен несколько ночей подряд жарить кур в земляной печи, чтобы все было ладно, когда мы пойдем в пещеру.
Дни превратились в недели, а бургомистр никак не мог завершить свои кулинарные приготовления. И свиной голове вовсе не было покоя под моей кроватью: Аннет то и дело забиралась туда поиграть с папиной «хрюшкой». Скульптуры из других пещер мы давно отправили на судно. Держать их в палатках нам было не с руки, потому что из дыр в камне частенько выползали скорпионы…
— Да, сегодня ночью мне сопутствовало счастье, — повторил я, вставая с постели. — И «ключ» лежит на месте под кроватью. Но теперь придется его перевезти на борт, мы уезжаем.
Тут, очевидно, бургомистр решил, что в жертву принесено достаточно кур, и назначил наконец ночь для посещения пещеры. С нами могут пойти Билл и фотограф, больше он никого не разрешил брать.
Весь день перед нашим походом в лагерь наведывались гости. Сначала приехали верхом резчики с традиционными деревянными скульптурами для продажи, и развернулся оживленный обмен. К моей палатке подошел какой-то придурковатый парень. Он принес в узле шесть сильно потертых каменных фигур. Одна из них обросла мхом.
— Кто их сделал? — спросил я.
— Я, — апатично ответил парень.
— Ты?! Да ведь они старые, мхом поросли.
Парень промолчал; казалось, он сейчас расплачется. Потом он взял себя в руки и сказал, что проведал, где вход в пещеру деда, но отец ничего не должен об этом знать, не то он его поколотит.
Я надавал парню подарков для него самого и для его отца, и он отправился домой предельно счастливый. Видимо, ему попался чей-то беспризорный тайник. Это был наш первый и последний разговор с ним.
Резчики оставались в лагере, пока не начало смеркаться, потом кавалькада двинулась обратно в деревню. Не успели они скрыться, как с горы спустился всадник. Привязав коня, он вошел в мою палатку. Это был Хуан Колдун. У него был страшно озабоченный вид, он обнял меня, назвал братом. И очень серьезно предупредил, чтобы я больше ни у кого не брал камней, они принесут мне несчастье. Что мной получено, то получено, все в порядке, но теперь хватит, я не должен принимать больше ни одной скульптуры. Его аку-аку все известно, что делается в деревне. Если я еще возьму у кого-нибудь хоть одну фигуру, он об этом узнает. Ради нашего братства я обязан выполнить его просьбу, не то не видать мне его второй пещеры, с ипу маенго. А чтобы я не забыл его слов, Хуан отдал мне чудесную скульптуру из второй пещеры — камышовую лодку с двумя парусами и головой на носу. Он говорил так искренно и так озабоченно, что я понял: он проведал что-то такое, о чем не мог мне сказать.
Изложив свою странную просьбу, Хуан Колдун снова сел на коня и исчез в ночи.
А вскоре на колее, которую джип проложил из деревни в наш лагерь, показались два всадника. Приехала молодая пара, едва ли не самые тихие и скромные среди знакомых нам пасхальцев. Моисей Секундо Туки — один из моих лучших рабочих и его жена Роза Паоа, такая же простодушная и бесхитростная, как муж.
Мы с ними никогда но говорили о пещерах, поэтому я немало удивился, когда они осторожно сняли с одного коня тяжелый мешок и сказали, что хотят показать его содержимое мне наедине. И вот на моей кровати лежат в ряд семнадцать диковинных каменных скульптур, в том числе несколько чрезвычайно своеобразных. Больше всего меня заинтересовала женщина, несущая на спине большую рыбу на веревке, — мотив, типичный для керамических
изделий из древних могил в пустынях Перу.
Роза прямо и откровенно ответила на все мои вопросы. Скульптуры дал ей отец, — его зовут Симой, он «короткоухий» из рода Нгарути, — чтобы она что-нибудь выменяла у меня. Ему они достались от прадеда, его имени она не знает. Зато она знает, что скульптуры хранились в тайнике, в обрыве возле Оронго, а называется эта пещера Мата те Паина, «Глаз Соломенного Идола». Там же хранит свои скульптуры другой род, но после смерти Марты Хаоа их никто не мыл.
Как ни хотелось мне приобрести эти замечательные скульптуры, я решил, что осторожность не помешает. Уж очень настойчиво предупреждал меня Хуан Колдун. Кто знает — может быть, он притаился и следит за мной? Ведь что-то заставило его поспешить ко мне ночью. Однако и камни упускать было жалко, поэтому я сказал супругам, что мой аку-аку не советует мне брать камни сегодня, но не исключено, что потом он передумает. Пусть спрячут мешок получше и придут с ним ко мне в день отплытия экспедиции.
Такой ответ их явно огорчил и озадачил. Они молча смотрели на меня, будто два оживших вопросительных знака. Тогда я в знак дружбы вручил им подарки, они поблагодарили, уложили свое имущество в мешок и тихо вышли к ожидающим коням.
Я почесал в затылке, пытаясь сообразить, что же все-таки происходит? Потом погасил фонарь — надо было хоть немного поспать, прежде чем отправляться на встречу с бургомистром.
Только я задремал, как пришел фотограф и доложил, что джип готов. С Биллом было условлено, что мы подберем его в деревне, но из лагеря с нами еще поехал штурман, тоже по секретным делам. Один старик-пасхалец рассказал мне, что знает пещеру, где лежит человеческая голова с рыжими волосами. Сам он не смел к ней прикоснуться, но был готов показать тайник человеку, который не побоится проделать ночью небольшой заплыв, Такой человек нашелся — штурман Санне.
А ведь бургомистр тоже как-то раз говорил про такую голову. Может быть, в некоторых тайниках хранятся высушенные головы?.. Ухабы вытряхивали из нас сон; будто облака пыли обтекали машину стада белых овец. Скоро мы получим ответ на наши вопросы…
Было далеко за полночь, когда к дому Таху-таху крадучись подошел маленький отряд из шести человек: бургомистр, его двоюродный брат и рыжеволосый сын, а также Билл, фотограф и я. На каменной осыпи пониже домика я уловил знакомый запах изжаренной в земляной печи курицы. И вот уже мы сидим в кружок на корточках и уписываем угощение; мне достался первый кусок — гузка. Я уже хорошо освоился с ритуалом уму такапу, и надо сказать, что он еще никогда не проходил так непринужденно, как в эту ночь, Пасхальцы ни капли не нервничали, а бургомистр чуть ли не с театральным апломбом уписывал курицу и швырял аку-аку кости так небрежно, будто вокруг нас стояли изголодавшиеся псы. После еды дон Педро отошел в сторонку и покурил, потом вернулся и учтиво предложил идти в пещеру,
Но на сей раз до входа было не несколько шагов. Просто удивительно, сколько нам пришлось идти от места ритуала до тайника. Мы карабкались через стены, ковыляли через усеянное камнями поле, шли по извилистым тропкам. Так продолжалось минут десять, не меньше, и мы изрядно удалились от земляной печи, когда бургомистр наконец остановился. Перед нами была осыпь: внимательно приглядевшись, мы без особого труда приметили в середине перевернутые кем-то камни.
Бургомистр предложил мне достать из сумки «ключ» и попробовать с его помощью отыскать вход. Когда я его найду, надо трижды прокричать, что я «длинноухий» из Норвегии и пусть ворота откроются.
Держа в руках свиное рыло, будто миноискатель, я подошел прямо к осыпи, направил его на подозрительные камни и произнес магические слова, подсказанные бургомистром. Затем отвалил в сторону груду камней и полез ногами вперед в шахту, уходящую в недра острова Пасхи.
Одолев шахту, я стал осторожно выпрямляться в кромешном мраке. Вдруг меня что-то больно ударило по голове. Я не свод боднул, а что-то другое — и это «что-то» подалось от удара… Здесь кто-то есть кроме меня! В ту же секунду я нырком ушел в сторону и включил фонарик. Так и есть — в луче света мелькнул движущийся предмет! Но что за напасть: перед моими глазами была огромная хищная птица с изогнутым клювом и распростертыми крыльями, а на спине у ней лежала мертвая голова. Каменная птица была подвешена к своду на веревочке и продолжала медленно раскачиваться после столкновения с моей головой. Но что-то она подозрительно светлая и новая, никак не похоже, чтобы она висела здесь со времен Оророины… Да и веревочка тоже новая.
Я посветил по сторонам. Пещера была совсем небольшая. На земляном полу расстелены три камышовые циновки, на них параллельными рядами лежат круглые плоские камни, а на камнях высечены увеличенные знаки письменности ронго-ронго. Еще на каждой циновке лежало по «сторожу» — маленькие головы с острой бородкой. Нетрудно было сообразить, что не отсюда были взяты те скульптуры, которые мне раньше приносил бургомистр. Только два предмета выделялись: кораблик с парусом и большая каменная чаша. Искусно изготовленные, они тем не менее, как и птица под сводом, выглядели совсем новыми.
Я заглянул в чашу. В ней лежало одиннадцать маленьких прядей человеческих волос, большинство — рыжие, но были и другие оттенки, вплоть до черных. Каждая прядь аккуратно перевязана лубяной нитью. Но волосы были не сухие и тусклые, как на старых мумиях; свежий блеск говорил, что они недавно отрезаны у живых людей.
Так окончательно утвердилось подозрение, зародившееся у меня при виде птицы под сводом. Скульптуры в этой пещере не старинные. Они сделаны теперь. Весь тайник — мистификация. Нас провели! Так вот о чем меня предупреждал Хуан Колдун… Скорей выбираться отсюда!
Но из шахты уже торчали ноги Билла, останавливать его поздно, и фотограф спускался следом. Устраивать шум сейчас не стоит.
Если пасхальцы поймут, что их затея разоблачена, они могут, боясь неприятностей, завалить шахту камнями. И мы будем прочно закупорены…
— Нас обманули, — шепнул я Биллу, как только показалась его голова. — Надо поскорее вылезать отсюда. Это никакая не родовая пещера. И скульптуры вовсе не старинные.
Мои слова ошеломили Билла, он озадаченно посмотрел на меня, потом подполз к камням с письменами, чтобы как следует их разглядеть.
— Да, на старину не похоже, — прошептал он.
— Посмотри на птицу, кораблик и чашу с волосами, — продолжал я.
Билл посветил кругом фонариком и согласился с моей оценкой. Обернувшись, я увидел поблескивающие глаза двоюродного брата дона Педро. Он пристально глядел на меня, но нашей английской речи не понимал. Вот и лицо бургомистра вынырнуло из тьмы; капли пота выдавали его волнение. И сын уже стоит с ним рядом, озираясь широко раскрытыми глазами. Значит, проход свободен.
— Здесь дурной воздух, — сказал я бургомистру и потер себе пальцами лоб.
Он поспешил согласиться и смахнул рукой пот с лица.
— Поднимемся наверх и побеседуем, — предложил я, подаваясь к шахте.
— Ладно, — сказал бургомистр и двинулся следом за мной. Выйдя на волю и глядя, как остальные один за другим вылезают из хода, я облегченно вздохнул.
— А теперь пошли, — сурово молвил я, подбирая проклятую свиную голову, которая с кривой усмешкой глядела на меня с камней.
— Пошли. — Бургомистр живо вскочил на ноги, как бы подтверждая, что здесь не стоит задерживаться.
И наш отряд, не говоря ни слова, побрел тем же путем назад. Первым шел я — сонный, усталый и злой; за мной — бургомистр; дальше — Билл и все остальные. Двоюродный брат дона Педро, улучив минуту, куда-то улизнул, и тут же его примеру последовал сын бургомистра.
На краю деревни мы с фотографом пожелали Биллу спокойной ночи: было два часа, и он спешил домой, к приютившему его пасхальцу. Прощаясь, Билл шепнул мне, что, если я сейчас все-таки уговорю бургомистра сводить меня в настоящую пещеру, оп уже не успеет подстроить никаких штук.
У калитки бургомистра я попросил фотографа обождать в джипе, а сам, сопровождаемый по пятам хозяином, прошел через садик в дом. Войдя в комнату, я молча сел у стола. Бургомистр тотчас сел со мной рядом и с невинным видом уставился на стену. Я барабанил пальцами по столу. Он сел поудобнее. Я поймал его взгляд. Несколько секунд он смотрел на меня большими невинными глазами, потом снова принялся изучать стены. Так можно до утра просидеть… Дон Педро явно не хотел первым делать ход, все надеялся, что игра еще не проиграна. Ведь я ему пока ничего но сказал.
— Плохая примета, Педро Атан, — заговорил я и заметил, что мой голос звенит от волнения. — Плохая примета для тебя, для меня, для твоей поездки.
Грудь бургомистра начала тяжело вздыматься, и вдруг его прорвало, он разрыдался. Долго рыдал, положив голову на руки, потом выскочил в соседнюю комнату и бросился там на кровать. Слышно было, как он продолжает рыдать. Затем стало тихо, и в следующую секунду бургомистр опять подбежал ко мне.
— Это все мой двоюродный брат, мой злой, нехороший двоюродный брат виноват. Я, так же как и ты, думал, что мы идем в пещеру со старинными скульптурами.
— Но ведь дорогу показывал ты. И пещера твоя, — возразил я.
Дон Педро призадумался, потом опять разразился плачем. — Это он все придумал! Зачем только я его послушал! Он снова выскочил в соседнюю комнату, долго лежал на кровати, затем примчался опять:
— Сеньор, проси у меня все что хочешь. Все! Только не спрашивай про вход в пещеру. Только не вход в пещеру. Я могу принести тебе все скульптуры!
— Можешь не показывать пещеру, но тогда тебе никто не поверит. Ты очень искусно сам делаешь скульптуры.
Я сердито указал кивком на проклятую свиную голову которая лежала в сумке на столе. Здорово сделана; несмотря на усталость и разочарование, я невольно улыбнулся про себя при мысли о том, как этот хитрец меня одурачил, заставил ковылять по осыпи с фальшивкой в руках.
— Если ты — не отведешь нас в свою пещеру сегодня, то к следующему разу опять понаделаешь кучу новых скульптур.
— Все что угодно, только не вход в пещеру, — спокойно и решительно повторил бургомистр. Я встал, чтобы уйти.
— Сегодня я могу показать тебе другую тайную пещеру! — воскликнул бургомистр с неподдельным отчаянием. — Пещеру Оророины?
— Нет, но в этой тоже много старинных предметов. Я взял сумку со свиной головой — единственное воспоминание о ночном приключении — и с безразличным видом шагнул к двери.
— Если до утра передумаешь, пойди к дому Рапу и вызови Билла. А я поехал в Анакену.
И я, усталый и подавленный, побрел к джипу, где меня терпеливо ожидал фотограф, а расстроенный бургомистр стоял в дверях и проклинал своего двоюродного брата.
Едва мы уехали, как злополучный дон Педро отправился к домику Рапу, разбудил Билла и вызвался тотчас проводить его в настоящую пещеру. Но Билл хотел спать и был крепко зол на бургомистра, и когда он к тому же услышал, что мы с фотографом вернулись в Анакену, то наотрез отказался куда-либо идти.
И побрел бургомистр уже перед самым рассветом не солоно хлебавши домой.
Приблизительно в это же время штурман Санне вышел из воды на берег неподалеку от лепрозория. Старик не велел ему пользоваться лодкой, и пришлось штурману при звездах вплавь добираться до голого лавового островка, где он, руководствуясь указаниями пасхальца, обнаружил два склепа. В одном из них и впрямь лежала мертвая голова с очень тонкими совершенно рыжими волосами. Одна прядь сбоку отстала, он спрятал ее в мешочек и захватил с собой.
Эти волосы были тусклые, сухие и ломкие. Такими были бы пряди в каменной чаше бургомистра, если бы он после больницы сам не обошел с ножницами своих рыжих и черноволосых родичей…
Проклятая коконго! Она потрясла дона Педро настолько, что он вновь уверовал в покойницу-бабушку и аку-аку, а я в его глазах стал всего лишь простым смертным, который пытался его надуть. В отместку он сам решил меня провести, чтобы я больше не докучал ему с пещерами. Причем на всякий случай — еще прогневаешь чьих-нибудь аку-аку! — устроил свою подложную уму подальше от всех тайников, рядом с домом Таху-таху, где мог рассчитывать на одобрение и защиту.
На другой день под вечер в лагерь прибыл верхом с выражением чрезвычайной серьезности на лице рыжеволосый сын дона Педро. Хуан был очень красив и великолепно сложен; как и все представители «длинноухого» рода Атанов, нисколько не похож на полинезийца. Его вполне можно было принять за ирландца, непосвященный человек ни за что не назвал бы Хуана уроженцем тихоокеанского острова.
Он мрачно сообщил мне, что отец, похоже, собрался помирать. Не хочет видеть свою жену, отказывается есть и пить, лежит в кровати, рыдает, стонет и говорит о «плохой примете». Вчера Хуан понял по моему лицу, что с пещерой что-то было неладно. Он-то еще никогда не бывал в таких пещерах и принял все за чистую монету.
С каменным лицом он выслушал мое объяснение, и только обильные слезы выдавали его чувства. Он рассказал мне, как отец пошел к сеньору Биллу, хотел ему показать другую пещеру, но сеньор Билл отказался идти без согласия сеньора Кон-Тики. И вот теперь отец лежит в кровати и думает о смерти. Но если я напишу сеньору Биллу записку, Хуан попробует узнать у отца, где вторая пещера, и сходит туда вместе с сеньором Биллом, чтобы вернуть на остров «счастье».
Я написал записку Биллу, и парень галопом помчался в деревню.
После того как Билл получил записку, за ним, едва он вышел из хижины Рапу, весь остаток дня следили двое. Пасхальцы и за Лазарем установили слежку, из-за этого мне не удалось попасть в его вторую пещеру, в Винапу. Но Билл сумел около полуночи уйти от преследователей и встретился в условленном месте с Хуаном. У того была с собой начерченная отцом на обрывке бумаги примитивная карта.
Из карты было видно, что сперва надо добраться до Аху Тепеу, что находится к северу от лепрозория, в каменистом поле у побережья. Хуан привел двух коней и раздобыл длинный канат, они отправились в путь и, подъехав далеко за полночь к древней аху, снова обратились к карте. Дальше надлежало, оставив коней, одолеть высокую ограду. Следующий ориентир — большие лавовые утесы по правую руку. Ниже их, на краю берегового обрыва, следовало отыскать круглый Камень и привязать к нему канат. Длина каната примерно отвечала расстоянию до входа в пещеру.
Они нашли ограду, нашли утесы и камень на краю обрыва, привязали веревку, и Хуан полез вниз. Кур не ели, уму такапу не устраивали, вообще никакого ритуала не было. После долгой разведки Хуан вернулся усталый наверх: здесь пещеры не оказалось. Нашли другой камень, привязали за пего канат, и опять результат был отрицательным. Они переходили от камня к камню, и Хуан вконец измотался; в последний раз Биллу пришлось буквально втаскивать его на плато. Зато он все-таки нашел пещеру.
Теперь Билл полез в темноте вниз. Первый участок несложный — крутой склон и карниз, можно упираться ногами. Но с карниза канат свисал свободно. Продолжая спуск, Билл слышал далеко внизу рев прибоя, но ничего не видел во мраке. Вдруг он прямо перед носом различил на скале горизонтальную трещину. Похоже было, что в ней что-то лежит, но слишком глубоко, рукой не достать, а сунуть туда голову он не решался — еще застрянешь! В конце концов, светя фонариком, они с Хуаном разглядели, что тесная пещера набита скульптурами, покрытыми толстым слоем пыли. Хуан ухитрился ногой вытащить из трещины горбоносую бородатую голову, сходную по стилю с церковной скульптурой средневековья.
Оба так намаялись, что еле-еле одолели двадцатиметровый подъем по канату со своей первой добычей. Второй раз они уже не решились спуститься.
Утром я получил письмо от Билла: он считал, что эта пещера не пустой номер. По его разумению, скульптуры в ней настоящие.
Мы изучили добытую ими каменную голову. Это было удивительное изделие, совсем не похожее на новые фигуры, которые нам показали накануне. На сей раз речь шла о старинной скульптуре.
Я мобилизовал двух самых ловких скалолазов из нашей команды — кока и второго механика, и среди бела дня мы отправились, ведомые Хуаном и Биллом, к пещере за Аху Тепеу. Был проливной дождь — «хорошая примета» в разгар засушливого периода, и Хуан, хоть и трясся от холода, широко улыбался.
Возле ограды мы соскочили с мокрых коней и продолжали путь пешком. А когда пришли на место, дождь уже перестал. Мы разделись, чтобы выжать одежду, и я согрелся пробежкой вдоль края обрыва. Вдруг ветер донес знакомый запах. Мне его не заглушили бы тысячи флаконов с духами или цветов: пахло курицей и бататом, испеченными в уму такапу. Я сказал об этом Биллу, однако он, заядлый курильщик, ничего не почувствовал. Но, хотя мы не заметили ни дыма, ни людей, я не сомневался, что здесь кто-то побывал с особой целью — ведь не придут же сюда из деревни просто так, приготовить себе обед на утесе.
Хуан укрепил веревку и бросил другой конец вниз. Мне стало жутко, когда я увидел, где лазил ночью Билл; да он и сам слегка изменился в лице, рассмотрев обрыв при дневном свете. До самого моря — стена высотой около ста метров. От края обрыва до пещеры было метров двадцать с лишним.
Билл не горел желанием повторить свой подвиг, а я и подавно был рад, что с нами пришли два испытанных скалолаза. Я был сыт по горло такими приключениями и охотно уступил честь другим — ведь мне никому не надо было доказывать могущество своего аку-аку. Кок и механик спустились по канату, вооруженные мешком и приспособлением вроде сачка, чтобы вылавливать скульптуры из трещины. И вот уже мешок путешествует вверх — полный и вниз — пустой.
Из мешка появлялись диковиннейшие изображения людей, животных и демонов. Вдруг у Билла вырвался громкий возглас. Он держал в руке большой кувшин из камня — высокий, изящный сосуд с ручкой на боку. А сдунув пыль, мы увидели почти стершееся изображение лица и двух летящих птиц в типичном пасхальском стиле.
— Именно такую штуку я и ожидал найти, — воскликнул Билл. — Не настоящую керамику, а каменное изделие, сделанное по образцу керамического.
Билл — человек уравновешенный и не любитель превосходных степеней. Но тут даже он загорелся. Когда усобицы привели к разрушению Аху Тепеу и свержению огромных статуй, венчавших это могучее сооружение, могла возникнуть надобность спасать мелкие скульптуры, и разве не естественно было бы спрятать их в этой пещере?
Снова разгружаем мешок: еще один каменный кувшин, только намного меньше, лингам с тремя человеческими головами, воин в длинном плаще из перьев верхом на черепахе. Но всего примечательнее был кит с оскаленной зубастой пастью: на хвосте — маленький череп, а на спине — модель пасхальской лодковидной хижины из камыша с прямоугольной дверью, сзади — пятиугольный очаг. Живот кита опирался на шесть шаров величиной с апельсин, а вдоль боков тянулись параллельные линии — намек на мифическое камышовое судно? От хижины спускалась вниз лесенка (или тропка?), обрываясь там, где у корабля проходила бы ватерлиния.
Хуан ничего не мог нам сказать про все эти диковины, он знал лишь, что отцу эту пещеру показала старая тетка.
Наконец кок и второй механик поднялись с последней партией скульптур и рассказали, что за трещиной была еще маленькая каморка, которую они опорожнили. Там впереди стояли фигуры помельче, сзади — покрупнее. Все было покрыто толстым слоем пыли, а местами и паутиной. Циновок и скелетов в этой пещере, где хранилось двадцать шесть скульптур, не было.
На обратном пути рыжеволосый сын бургомистра подъехал ко мне — его взгляд вопрошал, доволен ли я.
— Это совсем другое дело, — сказал я. — И я не останусь в долгу. Но передай отцу, что это не пещера Оророины.
Мы сложили скульптуры в доме Рапу, где квартировал Билл. Проезжая мимо церкви, я решил заглянуть к патеру Себастиану. Услышав, что бургомистр наконец показал нам настоящую пещеру, он всплеснул руками и в радостном возбуждении заходил взад и вперед по комнате.
Происшествие с мнимой пещерой глубоко огорчило патера. Он сам долго лежал из-за коконго, которой заразился еще до того, как ушел «Пинто». Но и больной он пристально следил за всем, что происходило на острове. Когда бы я к нему ни приходил, в ночь-полночь, он садился на постели и жадно слушал мой рассказ, И каждый раз патер в свою очередь делился со мной интересными сведениями. Вот и теперь он вспомнил, что старики говорили ему именно о прибрежных скалах к северу от Аху Тепеу — мол, там есть пещеры с «начинкой».
В деревне тотчас проведали о случившемся, и началось… Стоило бедняге бургомистру выйти за дверь своего дома, как со всех сторон неслись крики: «Реорео, лжец!» И каждый старался извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
Многие из тех, кто особенно яро честил бургомистра, сами немедля принялись тайком изготовлять каменные скульптуры. Кто же захочет теперь, когда старинные мотивы перестали быть секретом, корпеть над тысячу раз повторенными деревянными образинами! И из рук местных мастеров выходили уже не маленькие копии каменных великанов и не простенькие кругляши с носом и глазами. Сразу несколько человек заработали в совершенно зрелом и абсолютно своеобразном стиле. Родилась, можно сказать, новая отрасль, основанная на старинном искусстве, которое до сих пор было табу для непосвященных.
Раньше никто не шел на то, чтобы откровенно продавать скульптуры из пещер. Все основывалось на обоюдных подарках. Теперь же новые изделия стали, как и деревянные фигурки, предметом купли-продажи. При этом кое-кто мазал каменные скульптуры землей или хлестал их прелыми банановыми листьями, чтобы придать им вид старинных. Стемнеет, и несут в лагерь свою продукцию — авось номер пройдет. Ведь что-то не похоже, чтобы у сеньора Кон-Тики был всеведущий аку-аку, иначе разве он позволил бы заманить себя в поддельную пещеру?..
На острове Пасхи нужно быть готовым ко всему. Если одни ловкачи приносили мне новые скульптуры и выдавали их за старые, то другие поступали наоборот. В последние дни нашей работы на острове кое-кто предлагал нам старинные изделия, уверяя, будто сам их сделал. И владельцы всячески изворачивались, когда мы находили пятнышки мха, или следы давних повреждений, или стершиеся детали, которых они сами не заметили. О мотивах и стиле говорили, будто заимствовали их из книжек, хотя еще ни один ученый и ни один писатель не видел таких скульптур! Я нарочно спрашивал, уж не о книге ли Лавашери идет речь, и слышал в ответ простодушное: ну, конечно же.
Сперва мне все это было непонятно, но скоро я разобрался. Рушилось почтение перед табу. События привели к тому, что многие перестали бояться аку-аку. Не только сеньор Кон-Тики оплошал со своим аку-аку — в пещерах их тоже нет! Тут и там встречное пламя погасило суеверие. Правда, в полной мере сохранялось опасение, как бы соседи не осудили, если проведают, что ты нарушил запрет предков и вынес скульптуры из родовой пещеры.
Один бургомистр молча страдал дома, и, когда мы уже начали свертывать лагерь, ко мне снова пришел его сын. Отцу надоело клеймо лжеца. Ведь он ни разу мне не солгал до того дня, когда повел нас в эту злополучную пещеру. Теперь он докажет мне и археологам, что говорил правду о пещере Оророины, И патер Себастиан, и губернатор тоже пусть убедятся, что он не лжец. Он всех нас сводит в пещеру. Дон Педро Атан не какой-нибудь подонок, чтобы впустую болтать языком и врать.
И вот назначена ночь, когда мы отправимся в пещеру Оророины. Поздно вечером мы с Биллом, Эдом, Карпом и Арне приехали в деревню за губернатором и патером Себастианом. И узнали, что бургомистр в последнюю минуту передумал — принос сорок скульптур из пещеры и устроил выставку у себя дома. А патера Себастиана предупредил, что не сможет нас проводить в пещеру Оророины, так как там слишком уж много скульптур. Уступить мне их все невозможно, а после первого же визита тайна раскроется и ему негде будет хранить свою огромную коллекцию.
Патер Себастиан и губернатор доехали с нами до бургомистра. Он громогласно приветствовал нас в дверях и с радушной улыбкой провел в комнату. Круглый стол был отодвинут, и весь пол заставлен скульптурами. Но среди них почти не было старинных, большинство изготовлено совсем недавно! Я тотчас узнал несколько фигур, которые мне уже предлагал другой пасхалец. А две-три скульптуры повторяли те, что мы извлекли из маленькой пещеры дона Педро в обрыве.
Какая муха его укусила? Второй раз заведомо обреченная на провал попытка надуть нас!
— Ну, зачем ты все это затеял? — спросил я. — Почему не сдержать слово и не отвести нас в пещеру Оророины, если это правда, что она досталась тебе?
— Конечно, правда, сеньор! Но когда я ночью пришел в пещеру Оророины, то увидел, что скульптур так много — я не могу тебе столько отдать.
— А раньше ты этого не знал! Ведь ты же говорил мне, что регулярно моешь все свои камни?
— Да, но сегодня я обнаружил в глубине пещеры другие, о которых раньше не знал. Их совсем не было видно из-за пыли.
— Как же ты говорил мне, будто у тебя есть тетрадь, где записаны все твои скульптуры?
— Не скульптуры, сеньор. Все пещеры.
— То есть в тетради записаны только твои пещеры?
— Ну, да, сеньор, это совсем маленькая тетрадочка, — приветливо пояснил бургомистр и показал двумя пальцами ее размеры, что-то вроде почтовой марки.
Мне оставалось только махнуть рукой.
Не без грусти спускался я вместе со своими товарищами с крыльца его домика. Расстроенный бургомистр стоял один на пороге комнаты с рядами скульптур на полу. Так прошла моя последняя встреча с доном Педро Атаном, самой замечательной личностью среди пасхальцев, последним знаменосцем «длинноухих». Человеком, в голове у которого столько секретов, что он и сам вряд ли сумел бы провести грань между правдой и вымыслом. Если на Пасхи в прошлом насчитывалось несколько тысяч таких же оригиналов, не приходится удивляться тому, что немыслимо огромные каменные истуканы выходили из недр горы и становились на место по щучьему велению. И нет ничего странного в том, что были созданы аку-аку и тайные кладовые — этакие несгораемые сейфы для плодов народной фантазии, маленьких скульптур, представляющих собой соблазн для вороватых людишек.
Когда, подчиняясь команде, заскрежетала якорная цепь и в чреве судна по велению машинного телеграфа загудели-застучали маховики и поршни, на борту и на берегу не было веселых лиц. Мы успели сродниться с маленькой островной общиной, и зеленые палатки экспедиции будто искони стояли на участке короля в Анакене. А теперь палатки свернули, и каменный истукан опять остался один. Всеми покинутый, он стоял на платформе, глядя на безлюдную солнечную долину, и вид у него был такой одинокий, что казалось — он просит снова повалить его на песок носом вниз.
Но великан в Анакене был из камня, а в деревне Хангароа мы простились с живым исполином. На пристани, в толпе наших пасхальских друзей, стоял в белой сутане, с обнаженной головой патер Себастиан. Мы воспринимали его как равноправного члена экспедиции. Но старый священник крепко врос в землю острова Пасхи. И он не в пример анакенскому богатырю не чувствовал себя одиноким, его окружали пасхальцы, которые видели в нем собирательный центр и опору. Вот так и король Хоту Матуа вел за собой их предков, когда в незапамятные времена они ступили на берег уединенного островка.
Мы простились с каждым в отдельности, последним, кому все члены экспедиции пожали руку, был патер Себастиан. Он прочно вошел в нашу жизнь. После Ивон и маленькой Аннет настала моя очередь. Рукопожатие было долгим, хотя прощальных слов было сказано немного. Легче найти слова на перроне вокзала, чем на берегу самого глухого острова в мире, да езде когда прощаешься с человеком, который стал тебе другом на всю жизнь.
Патер повернулся, толпа расступилась, и тяжелые черные башмаки затопали вверх по склону. Там, наверху, ждал красный джип. Теперь, сколько хватит покрышек, старый священник — неутомимый помощник и утешитель всех болящих и страждущих на острове — может поберечь подметки и ноги…
Губернатор и его семья уже ждали в катере, чтобы проводить нас. Только я хотел прыгнуть следом за ними, как старик Пакомио тихонько дернул меня за рукав и отвел в сторону.
Пакомио… Это он первым задумал показать мне тайную пещеру на птичьем островке; правда, мы ее не нашли. Потом он стал правой рукой Арне, бригадиром рабочих на раскопках в Рано Рараку. Когда Арне откопал маленькую статуэтку у ног одного из великанов, старик по секрету предложил показать пещеру с множеством таких фигурок. Но тут началась шумиха вокруг подземных тайников, он испугался и забил отбой… Это Пакомио бежал за мной, чтобы заверить меня, что в наше время ничего подобного нет, раньше были пещерные скульптуры, теперь же все тайные ходы забыты, и, если кто-нибудь принесет мне фигурки, это могут быть лишь копии утраченных образцов.
Старик смущенно вертел в руках самодельную соломенную шляпу; остальные молча стояли поодаль.
— Ты вернешься к нам на остров, сеньор? — робко спросил он, глядя на меня большими карими глазами.
— Это зависит от камней, которые я получил. Если, как ты мне говорил, это все ложь и обман, камни не принесут мне счастья. Тогда мне незачем сюда возвращаться.
Пакомио потупился, поправил гирлянду из белых перьев на шляпе, наконец снова посмотрел на меня и тихо произнес:
— Не все камни, которые ты получил, ложь и обман. Они принесут тебе счастье, сеньор.
Его глаза выражали тревогу и дружелюбие. Мы в последний раз пожали друг другу руку, и я спрыгнул в катер.
Провожающие кто верхом, кто пешком устремились вдоль побережья, чтобы еще и еще раз помахать нам напоследок. Казалось, земля гулким эхом отзывается на удары конских копыт, ведь остров Пасхи — «двухэтажный» мир… На самом доле был слышен только плеск волны у подножия крутых утесов.
Глава десятая. Моронго Ута, город подоблачных развалин
Сказка говорит: в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за высокими горами стоит на вершине золотой замок. Но кто верит сегодня в сказки? Мы поверили, когда перевалили через высокую гору и увидели перед собой Моронго Ута.
Кругом во все стороны света простирался океан. Безбрежный океан, который мы пересекли со своим суденышком с другого конца земного шара. Под нами были глубокие зеленые долины, зеркальная гладь залива и тот самый кораблик, что доставил нас сюда с острова Пасхи. А на соседней вершине, рукой подать, — волшебный замок. Заколдованный замок, спящее царство, стены и башни затканы зеленым лесным ковром с той самой поры, как король со всей свитой оставил его. И случилось это тогда, когда мир еще верил в сказки…
У меня захватило дух от волнения, когда мы ступили на последний гребень и начали приближаться к подножию сказочного замка. Могучий и величественный высился он перед нами на фантастическом фоне плывущих облаков, голубых пиков и шпилей… И хотя замок был вознесен высоко в воздух, к самому небосводу, было что-то от подземелья в этом древнем сооружении с густым зеленым руном девственных зарослей поверх облепленных дерном стен.
Красивая синяя птица с криком ринулась в пропасть. А когда мы подошли к замку, три белые дикие козы неожиданно вынырнули из кустарника на стене, соскочили в ров и пропали из виду. Учитывая, что остров Пасхи — самый уединенный на свете, не так уж странно называть Рапаити одним из его ближайших соседей, хотя их разделяет такое же расстояние, как Испанию от Канады. В этих зеленых горах мы были как-то особенно далеки от мирской суеты. Уж верно, это самый забытый уголок Тихого океана,
Кто слышал про Рапаити? Маленький островок, почти разорванный на две части могучими клыками окружающего океана… Справа и слева от нас крутые, обрывистые склоны и два залива, которые попеременно в зависимости от ветра служили зеркалом волшебному замку. А обернешься, можно на других обросших зеленью вершинах насчитать двенадцать столь же диковинных замков. И столь же безжизненных. Только на берегу залива, где стоял наш кораблик, виден был дымок над деревушкой: горстка белых мазанок и бамбуковые хижины с камышовой кровлей. Здесь обитало все население Рапаити — двести семьдесят восемь полинезийцев.
Но кто же воздвиг волшебный замок перед нами — и остальные, на других вершинах? И для чего на самом деле предназначались эти сооружения? Этого никто не знал. Когда капитан Ванкувер в 1791 году случайно обнаружил этот уединенный островок, ему показалось, что на одной из вершин копошатся люди. На склоне он как будто разглядел блокгауз и частоколы в несколько рядов и заключил, что это искусственное укрепление. Правда, лезть на гору и проверять он не стал. А прибывший туда через несколько лет знаменитый миссионер Эллис заявил, что Ванкувер ошибся, принял за форт чисто природные образования. После Эллиса на Рапаити побывал известный путешественник Муренхут. Он восхищался своеобразной природой острова, чьи горы напоминают башни, замки и укрепленные индейские селения. Но и он не поднимался на вершины, чтобы рассмотреть поближе удивительное явление природы.
В начале тридцатых годов вышла книжка Кайо,
[3] который лазил на горы и убедился, что между кустами проглядывает кладка стен. За ним лазили и другие; большинство решило, что тут были древние укрепления, но кое-кто толковал развалины как остатки земледельческих террас. Из этнологов на острове побывал только Стоке. Он изучал местных жителей, однако его рукопись пока оставалась неизданной и хранилась в музее Бишоп.
До нас ни один археолог не ступал на землю Рапаити. Никто не поднимался на вершины с топором и лопатой, не проверял, какие тайны могут поведать сами горы. Обозревая сверху гребни и долины, мы знали, что перед нами девственный край, приступай где угодно — здесь никто не занимался раскопками. И никто не знал, что мы можем найти. Жители Рапаити хранили старинное предание о первоначальном заселении острова. В этом предании, записанном лет сто назад, говорится, что он был открыт женщинами, которые приплыли с острова Пасхи. Многие женщины были беременны, от них-то и пошло население Рапаити.
От сказочного замка открывался вид на десятки километров вокруг. На юге небо над океаном было темное и угрюмое. Там, далеко-далеко, омывая дрейфующие льды Антарктиды, шли холодные океанские течения на восток. Пустынная, необитаемая область — и опасная: штормы, густые туманы. А на севере небо чистое, голубое, украшенное легкими как перышко пассатными облачками. Они скользили на запад, заодно с теплым течением Гумбольдта, которое омывает великое множество островов, и в том числе одинокий островок Рапаити. Путь от Пасхи сюда был определен самой природой. Мы тоже пришли этим путем на Рапаити.
День за днем, день за днем, обгоняя морские течения и летящие облака, шли мы через безбрежный океан на запад. День за днем, стоя на мостике, на баке, у поручней, всматривались в далекую синь. Удивительно много народу теснилось на корме, от которой кудрявый зеленый кильватер по голубому полю указывал курс на канувший за горизонт остров Пасхи. Похоже, их влекли обратно вахины, а может быть, нерешенные загадки и нехоженые тропы… Так или иначе, лишь единицы стояли на носу корабля, предвкушая встречу с легендарными пальмовыми островками впереди.
Между теми, кого манила корма, первым был Рапу, верный друг Билла, возглавлявший бригаду на раскопках в Винапу. Билл обучил пасхальца работе с геодезическим инструментом и получил мое разрешение взять его с собой. И Рапу, с улыбкой киногероя, отправился путешествовать по белу свету. Но сердце привязывало его к Пупу Вселенной, и когда тот скрылся за горизонтом, Рапу пал духом. Исчез его привычный мир, только море да небо вокруг… И куда подевалось его веселье.
Учтя технические способности Рапу, мы послали его в машину помогать механикам. Но грохочущее чрево корабля было ему не по душе. Он твердил механикам, что под палубой засели полчища «бесов», и мягкосердечный старший механик разрешил ему отбывать вахты на стуле в верхней части трапа. Но здесь морской бриз так ласково его овевал, что он мигом погружался в сон. И механики предложили привлечь его к вахтам на мостике.
Рапу живо освоился с компасом, и штурман ушел в свою рубку, поручив ему держать курс. Тотчас кильватерная струя начала причудливо извиваться. Кое-кто обрадовался, решив, что мы с капитаном образумились и отдали команду идти обратно на остров Пасхи. Но Рапу не был причастен к перемене курса. Он свернулся калачиком на банке и крепко спал, предоставив кораблю плыть по воле волн. Нужно ли править, когда кругом, куда ни посмотри, одинаково пусто?
Рапу не страдал особенным суеверием, он был, как говорят пасхальцы, «дитя своего времени», однако, ложась спать, на всякий случай накрывался одеялом с головой: так принято на Пасхи. Когда Арне спросил, зачем это делается, ответ гласил: чтобы не видеть всякую нечисть, которая слоняется по ночам. И раньше, чем его порицать, поставьте себя на место пасхальца, вышедшего в пустынные вселенские просторы на корабле, в трюмах которого лежат сотни пещерных скульптур, «ключей», черепов и костей. «Летучий голландец» был ничто перед нами, мы бороздили океан на корабле с грузом аку-аку!
Первым на нашем пути оказался Питкэрн, остров мятежников с «Баунти».
[4] В небе пламенела заря, и казалось, то горит корабль, подожженный безрассудными беглецами.
Рапу проснулся и поспешил на нос. Он считал кокосовые пальмы: одна, две, три… да тут их больше чем на всем острове Пасхи! И дикие козы в горах… Бананы, апельсины, всевозможные южные фрукты, каких он и не видывал. Это же настоящий райский сад! Вот куда он переселится с женой, как только вернется на Пасхи и построит себе лодку.
А вот и красные крыши проглядывают сквозь пышный зеленый покров на крутых скалах. В лучах утреннего солнца замелькали в лад шесть пар весел: из расщелины за мысом вышел длинный швербот. Это потомки мятежников встречали пас. К нам на борт поднялись дюжие босые молодцы, и я заметил себе несколько живописных типов, словно из какого-нибудь голливудского исторического фильма. Первым на палубу ступил седой великан Перкинс Крисчен — прапраправнук того самого Флетчера Крисчена, который возглавил знаменитый мятеж на «Баунти» и предоставил капитану Блаю добираться на лодке почти до Азии, а сам повел «Баунти» против ветра и посадил на мель возле пустынного островка в океане. Когда мятежники вместе с красавицами вахинами с Таити поселились на этом клочке земли, он был необитаем. Но они обнаружили заброшенные культовые платформы с человеческими черепами и несколько небольших статуй, смахивающих на великанов острова Пасхи. Кто же побывал здесь до них? Этого никто не знает. Археологи очень мало работали на Питкэрне.
Перкинс Крисчен пригласил меня в свой дом, который он сам выстроил. Остальные разместились в других домиках. Маленькая британская община (здесь говорят по-английски примерно так, как говорили в 1790 году, когда предки нынешних питкернцев сошли на берег, но с полинезийским акцентом и с примесью отдельных таитянских слов) приняла пас исключительно радушно, мы провели несколько дней, будто в обетованной земле.
Пока археологи копали тут и там, моряки сходили в пещеру Крисчена и к могиле Адамса. А аквалангист побывал на дне залива и осмотрел останки «Баунти». С помощью питкернцев мы нашли в расщелине на дне Баунти Бэй груду ржавых железных чушек — балласт старинного парусника.
Местные жители частенько находят в земле каменные рубила. А у подножия высокого обрыва на северном берегу можно увидеть наскальные изображения. Вообще же Питкэрн беден археологическим материалом. Очищая свой остров от чужих богов, потомки мятежников, добрые христиане, разломали стены культовых сооружений, разбили и выбросили в море истуканов. На одной круче Арне и Гонсало, руководствуясь советами островитян, отыскали пещеру, где, похоже, были высечены красные статуи. На дне пещеры до наших дней пролежали стертые рубила.
Питкэрн редко навещается иноземцами. Узкую набережную у подножия скал непрестанно штурмует прибой. Но мимо острова совсем близко проходит пароходная линия Новая Зеландия — Панама, и питкернцы встречают на лодках рейсовые пароходы, продают туристам деревянных черепах и летучих рыб, а также модели гордого корабля предков. Спрос на эти поделки — важнейший источник дохода питкернцев — так велик, что на острове совсем не осталось миру, древесина которого служит сырьем для резчиков.
Чтобы не оставаться в долгу перед питкернцами, мы свозили все мужское и добрую часть женского населения острова на необитаемый островок Гендерсона. За один день наши шестьдесят пассажиров заготовили двадцать пять тонн древесины миру. Берег под пальмами напоминал арену пиратского сражения, когда живописно одетые питкернцы всех возрастов прыгали с узловатыми стволами в накат и волокли их к качающимся на волнах у рифа шлюпкам, которые шли с полным грузом к судну.
Тому, кто не привык видеть, как бушует прибой, то накрывая, то опять обнажая барьерный риф, могло показаться, что беды не миновать. Но люди крепко держались за риф и за лодку, когда обрушивались бурлящие гребни. А двенадцать дружных гребцов, подчиняясь громкой команде богатыря на руле, не давали опрокинуть лодку даже самым могучим океанским валам.
Когда мы на следующий день разгрузили судно под скалами Питкэрна, Перкинс Крисчен, улыбаясь, заверил нас, что теперь им на четыре года хватит древесины строгать летучих рыб и модели «Баунти».
От Питкэрна мы взяли курс на Мангареву и бросили якорь среди кораллов в чудесной лагуне между горами, населенной полчищами рыб и жемчужниц. В этом пальмовом раю мы увидели всего одну статую, да и ту на картине в церкви, где ее, расколотую надвое, попирал ногой торжествующий миссионер. Французский администратор острова был в отъезде, но его радушная супруга созвала мангаревцев на праздник по случаю приезда гостей, и мы увидели танец в честь легендарного короля Тупы. Его величество выступал перед своими воинами а причудливой маске из выдолбленного обрубка кокосовой пальмы. По местному преданию, он пришел на остров с восхода во главе флотилии бревенчатых плотов, погостил здесь несколько месяцев, после чего вернулся в свое могучее государство на востоке и уже больше не показывался на Мангареве.
Время и место действия этого предания удивительно совпадают с тем, что говорит легенда инков об их великом владыке Тупаке; он повелел построить огромную флотилию парусных плотов из бальсы и почти год плавал в Тихом океане,
разыскивая два далеких обитаемых острова, о которых ему рассказали купцы-мореплаватели.
А следующая земля на нашем пути был Рапаити. Он возник среди туч на юго-западе, словно плывущий на волнах сказочный мир. Мы еще в бинокль приметили необычные очертания некоторых его вершин. Они напоминали не то поглощенные лесом пирамиды Мексики, не то заброшенные крепости инков в диких горах Перу. Будет что исследовать!
Затаив дыхание мы смотрели с мостика, как искусно шкипер ведет судно через извилистые трещины в барьерном рифе. За барьером, в сердце острова нас ждала удивительная лагуна — изобилующий рыбой тихий кратерный водоем, окаймленный крутыми утесами. Аннет благоговейно смотрела, как капитан передвигает ручку машинного телеграфа: «стоп», «малый вперед», «назад».
Корабль медленно полз между кораллами, вдруг Аннет приподнялась на цыпочки, решительно схватив ручку телеграфа, и перевела на «полный вперед». «Полный вперед» — отозвались из машинного отделения. Еще секунда, и мы врезались бы в риф, как ледокол в льдину, если бы капитан тотчас не дернул ручку обратно.
Мы облегченно вздохнули, бросив якорь в зеркальном заливе у живописной деревушки, от которой к нам немедленно вышли крохотные пироги.
…И вот мы на самом хребте; позади трудный подъем по крутым ущельям и гребням.
— Моронго Ута, — сказал наш проводник.
— Кто это построил?
Он пожал плечами:
— Может быть, король какой-нибудь, кто знает.
Раздвигая густые заросли, мы увидели тут и там куски тщательно выложенных стен. Я услышал возглас Эда. В одном месте выступ над крутым склоном осыпался, и обнажилась земля, перемешанная с ракушками и рыбьими костями. А еще из мусора торчала базальтовая ступка колоколом, такая изящная, так искусно вытесанная и отполированная, что я во всей Полинезии не видел лучшей работы.
В это время и Билл выбрался на гребень.
— Вот это да, — сказал он, глядя как завороженный на могучее сооружение. — Здесь надо копать!
Мы устроили совещание на судне. Запасы экспедиции подходили к концу. На содержание рабочих и на ночные вылазки на острове Пасхи ушли не только почти все товары, но и большая часть провианта, припасенного на много месяцев. Оставалось только поднять якорь и идти за продовольствием на Таити, а уж оттуда вернемся и пойдем на штурм горного замка.
Сквозь жестокий шторм мы пробивались на северо-запад, пока не увидели знакомые очертания Таити. Моего названого отца вождя Терииероо ужо не было в живых. Дом его стоял пустой под пальмами. Но у меня еще было немало друзей на Таити, мы не скучали ни днем, ни ночью, и вот уже время плыть к ожидающему нас на краю туманов острову в тридевятом царстве, в тридесятом государстве.
Вторично мы пробирались через коварный риф уже без Арне и Гонсало. Проходя мимо острова Раиваэваэ, высадили их там — изучать развалины культовых сооружений с небольшими каменными статуями. Зато с нами были новые пассажиры. Один из них мой старый друг Анри Жакье, председатель Общества океанических исследований и управляющий музея в Папеэте; я его пригласил участвовать в экспедиции. А власти Таити попросили меня отвезти домой одну рапаитянскую семью.
Жакье поднялся на борт с небольшим чемоданчиком, но для рапаитян пришлось пустить в ход грузовую стрелу. Они везли с собой ящики и сундуки, свертки, мешки, стулья, столы, комоды, шкафы, две двуспальные кровати, доски и балки, кровельное железо, домашних— животных и огромные гроздья бананов. Когда весь этот багаж наконец был погружен, на палубе негде было повернуться. Немалого труда нам стоило сгрузить эти вещи, когда мы после недельного перехода бросили якорь у Рапаити. Так как мы все перевезли бесплатно, хозяин счел, что и благодарить не стоит. Он спокойно съехал с семьей на берег, предоставив нам заботиться о разгрузке. И наше знакомство на этом не кончилось…
А в деревне мы узнали одну чету совсем другого склада. Ее звали Леа — веселая, пылкая вахина, полу-таитянка, полу-корсиканка, которую прислали на остров учить грамоте больших и маленьких рапаитян. Его звали Мани — весь сплошная улыбка, уроженец Таити с примесью китайской крови, которая чуть скосила его глаза. На Таити он водил автобус, а переехав с женой на Рапаити, ровным счетом ничего не делал.
Так как Леа умела говорить и писать по-французски, она стала правой рукой старика вождя. Если возникало какое-нибудь недоразумение, учительница решительно наводила порядок. Все нити маленькой островной общины сходились к ней.
Едва я сошел на берег, как Леа — этакий гренадер с торчащими косичками — подошла и доложила о своей готовности помочь нам. Толстый Мани скромно стоял позади с улыбкой от уха до уха. Я спросил Леа, можно ли подобрать двадцать крепких мужчин для раскопок в горах.
— Когда им надо явиться к тебе? — спросила Леа. — Завтра в семь утра, — ответил я, рассчитывая, что к концу недели наберется человек двенадцать желающих.
А когда я на следующее утро вышел на палубу размяться в лучах восходящего солнца, то увидел на берегу Леа и с ней двадцать рапаитян! Живо проглотив стакан сока и бутерброд, я сел на катер.
Условились, что рабочий день и оплата будут как на Таити, и, когда солнце добралось до середины неба, мы уже были в горах, и двадцать дюжих рапаитян под водительством Мани рубили на крутом склоне ступеньки и полочки, чтобы можно было без опасности для жизни подниматься на Моронго Ута.
Мани шел первым, шутил, смеялся и заражал всю бригаду весельем. Островитяне пели, гикали и увлеченно работали. Им это было в новинку, ведь здесь не привыкли к систематическому труду, нужды семьи этого не требовали. Жены выращивали таро на полях, жены приносили таро домой и делали из него кисловатое тесто попои, повседневную пищу семьи. А надоест попои, можно без больших усилий наловить в субботу рыбы в лагуне. И, пополнив меню сырой рыбой, снова посвятить недолю сну и любви… Раз в год приходила с Таити шхуна купца-полинезийца. Тогда часть мужчин на день-два отправлялись в лес и собирали на земле опавшие плоды диких кофейных деревьев, чтобы выменять у купца кое-какие товары.
Во всей этой жизнерадостной бригаде только один человек — замыкающий всячески отлынивал сам и других уговаривал но слишком нажимать. Когда Мани его отчитал, он удивился — дескать, ты-то чего кипятишься, не ты за работу платишь. Это был тот самый бесплатный пассажир, которого мы подвезли с семьей и багажом с Таити…
На остром водораздельном гребне было седловидное углубление, где зацепился взобравшийся по противоположному склону лесок. Мы расчистили в зарослях площадку как раз впору для двухместной палатки, ее обитатели могли, сидя у входа, сплевывать апельсиновые косточки каждый в свою долину. Здесь обосновался Билл, которому было поручено руководить раскопками Моронго Ута.
На другой день, когда мы собрались выходить в горы, никто из нашей веселой бригады не явился в условленный час. Мани один стоял на берегу и мрачно сжимал привычные к улыбке губы, а из большой бамбуковой хижины, хмурая, как грозовая туча, прибежала Леа.
— Мне бы пулемет! — яростно воскликнула она, направив вытянутую руку на хижину и согнув около глаза указательный палец другой руки.
— А что случилось? — испуганно спросил я, благодаря судьбу за то, что эта разгневанная женщина не вооружена.
— Они устроили там совещание, — объяснила Леа. — Малый, которого вы привезли с Таити, говорит, что это несправедливо — отбирать для работы двадцать человек. Теперь они сами будут решать, сколько человек посылать. Мол, пусть работают все, кто захочет, и никакой диктатуры. А если ты на это не согласишься, тебя больше не пустят в горы. Они прогонят вас с острова. Пятьдесят мужчин желают работать.
Возмущенная Леа передала, что мы официально приглашены на совет в большой хижине после захода солнца. А пока придется нам возвращаться на корабль.
В шесть часов солнце зашло, и в глубокой чаше, на дне которой стоял наш корабль, тотчас стало темно. Шкипер высадил на берег меня и Жакье, и мы пошли в деревню, светя себе фонариком. Из мрака бесшумно вынырнули трое островитян и молча последовали за нами.
Деревня словно вымерла, только тут и там в крытых соломой овальных хижинах тлели покинутые очаги. Но по свету керосиновых ламп мы быстро нашли дом собраний и, пригнувшись в низкой двери, ступили на мягкие циновки из листьев пандануса. Вдоль трех стен сидели на корточках тридцать рапаитян, суровые, будто воины перед битвой. В центре величественно восседала могучая толстая женщина; на полу между ее широко расставленными босыми ступнями лежала карта.
Мы приветствовали собравшихся бодрым Иа-о-рана и услышали в ответ какой-то нестройный гул. У четвертой стены вместе с священником-островитянином стояла, скрестив руки на груди, Леа. Лицо ее сохраняло грозное выражение, но при виде нас она улыбнулась; Мани здесь не было. Леа показала на четыре стула, предназначенные для нее, священника и нас двоих. И предоставила первое слово Жакье как представителю французских властей.
Жакье стоя произнес по-французски целую речь. Говорил он спокойно, не торопясь. Кое-кто, видимо, понимал французский язык; они удовлетворенно кивали. Остальные, хотя явно не понимали ни слова, тоже внимательно слушали, пристально глядя на нас.
Жакье сообщил, что руководит Обществом океанических исследований, — тут толстуха одобрительно кивнула и указала на карту. Дальше он сказал, что послан самим губернатором, чтобы помогать нам. Ради этого он оставил свою семью, музей и аптеку. Показывая на меня, он подчеркнул, что я отнюдь не турист. Что это я доплыл со своими друзьями до Рароиа на пае-пае. А теперь приехал сюда с учеными людьми, чтобы исследовать старинные сооружения. Приплыли люди из многих стран и хотят мирно трудиться вместе с рапаитянами. Из Норвегии, Америки, — Чили, с острова Пасхи, из Франции. Наша цель — узнать, как жили предки рапаитян. Мы прибыли сюда с Рапануи — острова Пасхи. Так пусть же здесь, на Рапаити — Малой Рапе, нас примут так же хорошо, как принимали на Рапануи — Большой Рапе.
Леа повторила речь Жакье по-таитянски, дополнив тем, что подсказало ей собственное сердце. Говорила она мягко, даже утонченно, но вместе с тем проникновенно и призывно. Притихшие слушатели ловили каждое слово, и казалось, они стремятся объективно оцепить суть.
Я пристально изучал озаренные живой мыслью лица рапаитян, которые сидели на циновках вдоль стен низкой бамбуковой постройки. Мной овладело острое чувство причастности к тому, что происходило здесь в пору Великих открытий. Много поколений сменилось с того времени, а на Рапаити как будто прошло лишь несколько месяцев или лет. Во взглядах местных жителей читалась ничем не замутненная душа подлинных детей природы, и это впечатление было настолько сильным, что я уже не видел заношенных штанов и рубах. Наверно, набедренные повязки были бы более к месту, но мы-то замечали только внимающие умные глаза без какого-либо намека на дегенерацию, которая сопровождает внедрение чуждой культуры, зато с диковатой искрой, какую мне приходилось видеть у жителей самых глухих дебрей.
Когда Леа закончила перевод, поднялся старый вождь. Он говорил ровно, почти бесстрастно, но явно в нашу пользу. Его сменил другой старик, судя по всему, опытный трибун, который с большим пафосом произнес длинную речь на рапаитянском диалекте.
Под конец слово предоставили мне. Я начал с того, что у предков нынешнего населения, наверное, были причины вставать на защиту своих укреплений в горах, когда к острову подходили чужие суда. Но сейчас другие времена. Мы прибыли, чтобы вместе с рапаитянами подняться в горы и очистить старые укрепления от дерна и кустов, сделать их такими же красивыми, какими они были в старину. Я готов принять на работу всех желающих. Но с условием: за мной остается право отправить обратно всякого, кто не оправдает своим трудом дневную ставку.
Присутствующие вскочили на ноги и бросились к нам, чтобы обменяться рукопожатиями. И на другое утро Леа представила нам отряд из пятидесяти шести человек; рядом, улыбаясь, стоял Мани. Это было все мужское население острова, не считая двоих стариков, у которых уже не хватало сил карабкаться на гору. Вместе с Мани я повел наше войско на приступ, и ночевавший на гребне Билл чуть не свалился в пропасть при виде нескончаемой вереницы гикающих рапаитян, которые шли и шли из-за поворота, размахивая топорами и тесаками.
И закипела битва на стенах Моронго Ута. Гибискусы, панданусы, огромные древовидные папоротники не могли устоять против такого натиска, и тяжелые стволы с грохотом катились вниз вместе с листьями и травой.
Под вечер армия без единого раненого спустилась на берег. Рабочие плясали и веселились, как дети, хотя весь день трудились без передышки, только наскоро пообедали, развернув принесенные с собой свертки из больших зеленых листьев, кислым сероватым тестом попои, которое отправляли в рот двумя пальцами. А Мани в перерыве отлучился и пришел обратно вдвое толще обычного — с полной пазухой диких апельсинов, которыми угощал всех желающих.
Проводив бригаду вниз, Билл остался в палатке вместе с помощником штурмана. Было условлено, что вечером мы свяжемся по радио, по задолго до срока с седловины полетели сквозь мрак световые сигналы. Помощник штурмана передал SOS: на лагерь напал миллион крыс.
— Этот Ларсен всегда преувеличивает, — сказал капитан. — Если сообщает «миллион», значит, от силы несколько тысяч…
Утром наше войско снова выстроилось на берегу, и мы понесли на гору кирки, лопаты, проволочные сита и прочее снаряжение. Наверху мы узнали, что обе крысы, посетившие лагерь на седловине, объелись попои и отступили вниз, в апельсиновую рощу.
Несколько дней все шло как нельзя лучше, по однажды утром никто из наших пятидесяти шести рабочих не явился к месту сбора. С палубы корабля мы видели в бинокль только Билла и Ларсена на горе да машущую нам рукой Леа на берегу. Опять осложнения… Я спустился на катер. — Они бастуют, — встретила меня Леа, — Почему? — Я слегка опешил.
— Этот малый, которого вы привезли с Таити, сказал им, что кто работает, непременно должен бастовать.
Озадаченный, я пошел в деревню. Несколько заводил стояли с вызывающим видом, сунув руки в карманы; остальные отсиживались в своих хижинах, осторожно выглядывая в дверь. — Почему вы бастуете? — спросил я одного из мужчин. — А я почем знаю, — ответил он, ища взглядом поддержки у своих товарищей.
Но он ее не получил. К кому бы я ни обратился, никто не мог ничего ответить, только всем видом изображали недовольство.
— Того, кто знает это, тут нет! — крикнула из одной хижины полная женщина.
Я попросил разыскать его, и сразу несколько человек сорвались с места. Они привели упирающегося малого с наглым лицом; он был в старой зеленой шинели без пуговиц, босиком, во рту — незажженная сигарета из наших запасов. Я сразу узнал старого приятеля — бесплатного пассажира.
— Почему вы бастуете? — повторил я свой вопрос, глядя на этого нахала.
Из хижин высыпали рапаитяне обоего пола и с мрачным видом обступили нас.
— Мы хотим получать больше денег на еду, — ответил он, держа руки в карманах и не вынимая сигареты изо рта.
— Но ведь вы получаете столько, сколько просили, как на Таити!
— Мы требуем прибавки — возмещение за стол и квартиру! Я посмотрел на бамбуковые хижины и висящие между ними зеленые свертки с попои. Мне было известно, сколько платят рабочим во Французской Океании, и я понимал, что это требование чрезмерно. Уступи я теперь, послезавтра будет новая забастовка с новыми требованиями.
И я решительно объявил, что буду придерживаться условий, о которых мы договорились в доме собраний. В ответ мне было заявлено, что все отказываются работать.
Возле меня стояла, сверкая глазами, могучая вахина с такими мускулами, что они хоть на кого могли страх нагнать. Да и другие женщины мощью не уступали ей, и у меня вдруг родилась идея. Я обратился к ним:
— Неужели вы, женщины, будете смотреть, как ваши мужья спят день-деньской, когда в кои-то веки представился случай заработать денег и в лагуне стоит корабль с полными трюмами продуктов, одежды и других товаров?
Мои слова попали в цель. Могучая вахина принялась песочить своего супруга, да так, что он мигом улетучился. Женщины кричали наперебой, и тут Леа, словно какая-нибудь Жанна д'Арк, вышла из толпы, подбоченилась и крикнула мне: — А зачем тебе непременно мужчины, разве мы не годимся? Гул одобрения! Я посмотрел на возбужденные лица дюжих островитянок и сказал «да». В конце концов кто, как не они, делали всю работу на этом острове.
В следующую секунду Леа уже шла от хижины к хижине и отдавала распоряжения, указывая на Моронго Ута. Прочь домашние дела! Матери передавали грудных младенцев дочерям я бабушкам; стиравшие у ручья побросали вальки и мокрое белье; поля таро были предоставлены самим себе — пусть мужчины потрудятся, когда захотят есть!
И вот Леа что твой солдат ведет в горы женский отряд. Наполеон был бы горд своей корсиканской кровью, если бы мог увидеть, как Леа вышагивает впереди, распевая «Марсельезу» Правда, по мере удаления от головы колонны «Марсельеза» становилась все более похожей на полинезийскую мелодию, а замыкающие пели уже самую настоящую хюла, раскачиваясь и вращая бедрами.
Мы с Мани были единственные мужчины в этой шумной компании, и если Мани прежде улыбался, то теперь он просто помирал со смеху.
Заслышав гомон, Билл и Ларсен выбрались из палатки — и чуть не упали от неожиданности, когда увидели женский батальон.
— Вот вам рабочие! — крикнул я. — Где инструмент? Опомнившись, Билл взял кирку и подал одной из самых миловидных рапаитянок. Она пришла в такой восторг, что бросилась археологу на шею и наградила его звонким поцелуем. Билл поймал на лету свои очки и шляпу, медленно сел на ящик, вытер щеку и с отчаянием посмотрел на меня.
— Сколько я занимаюсь археологией, такого никогда еще не переживал, — сказал он. — В жизни не думал, что моя наука таит столько сюрпризов. Кого ты приведешь в следующий раз?
Леа и ее отряд не ударили лицом в грязь. Ни в США, ни в Норвегии еще не видали таких темпов. Комья земли и дерна так и летели вниз; Билл бегал как угорелый, проверяя, чтобы все делалось как положено. Рапаитянки все схватывали на лету и под водительством Леа составили первоклассную бригаду. Насколько аккуратно они действовали, когда нужно было что-то расчистить маленькой лопаточкой, настолько же лихо орудовали киркой и заступом, удаляя пласты земли и корни. Мало-помалу обнажались ржаво-красные и светло-серые башни и стены. В конце трудового дня Билл вернулся в свою палатку совершенно измотанный. А вахины и дальше трудились так же рьяно.
Мужчины сидели в деревне одни и ели свое попои. Но когда наступил день получки и женщины принесли домой деньги и товары себе и детишкам, мужчины не выдержали — один за другим бросали свертки с попои и брели к мудрецу с Таити. Такого оборота они не предвидели.
Священник и вождь, не говоря уже о добродушном Мани, с самого начала твердо стояли на нашей стороне, но сделать ничего не могли. Теперь они пришли к нам и привели мужчин. Бунтари забили отбой и согласились на таитянские расценки.
Мы поставили мужчин и женщин в разные концы огромного сооружения, и развернулся турнир — кто лучше и быстрее выполнит свою работу. Каждая бригада стремилась отстоять честь своего пола, и вряд ли когда-либо на раскопках трудились с таким рвением. С палубы нашего корабля казалось, что на гору напала саранча. Зеленый покров Моронго Ута на глазах отступал вниз; с каждым днем коричневого становилось больше. Появлялись террасы, стены, и вот уже вся макушка будто шоколадный храм на голубом небесном фоне.
А кругом по-прежнему высились зеленые косматые пирамиды — этакие замки горных троллей. На самом деле Моронго Ута не был замком. С соседних гребней сразу было видно, что это не одиночная постройка. Мы вскрыли заброшенные развалины целого селения. Называть это фортом неверно. И земледельческие террасы не то определение. Потому что все население острова некогда обитало здесь, на макушках гор.
Те, кто первым приплыл на остров, вполне могли бы разместиться в долинах, на ровном месте. Тем не менее они вскарабкались по крутым обрывам на вершины гор. Зацепились на них и, так сказать, свили свои орлиные гнезда. А точнее, начали долбить гору каменными рубилами и превратили ее макушку в неприступную башню. Ниже башни шли большие террасы, на которых жались друг к другу жилые постройки. До нашего времени сохранились полные золы и древесного угля очаги — каменные печи своеобразной кладки, которую до сих пор во всей Полинезии знали только по острову Пасхи.
Билл тщательно укладывал в пакеты драгоценные головешки: радиоактивный анализ поможет определить возраст удивительного горного селения.
Кругом лежало множество каменных рубил различного вида, целые и разбитые. Но еще чаще встречалось непременное орудие домашней хозяйки — каменные песты, которыми женщины превращали таро в попои. Некоторые песты были сделаны так искусно, изящные линии и гладкая полировка говорили о таком совершенстве, что наши механики не могли поверить — как это можно сделать такую вещь без современного токарного станка. А в одном месте Билл осторожно извлек из земли почерневшие остатки старой рыболовной сети.
Селение было основательно укреплено. С юга путь к нему преграждал широкий ров со стеной. Чтобы бурные ливни не смыли хижины в пропасть, строители терпеливо перенесли из долины наверх сотни тысяч обломков твердого базальта, которыми подперли террасы. Камни чрезвычайно искусно пригнали друг к другу без всякого связующего раствора. Тут и там кладку пронизывали дренажные каналы: торчали продолговатые камни, образуя своими выступами лестницы, которые соединяли между собой карнизы. Всего на Моронго Ута насчитывалось больше восьмидесяти террас. Общая высота сооружения — пятьдесят метров при поперечнике в четыреста метров; другими словами, это самое большое известное нам сооружение в Полинезии. Билл прикинул, что только в Моронго Ута жило больше людей, чем сегодня живет на всем острове.
Очаги, колодцы и погреба для хранения таро — вот все, что осталось от жилищ, если не считать орудий и мусора. А прежде тут стояли (еще одна черта, напоминающая остров Пасхи) овальные хижины из воткнутых в землю сучьев, которые связывали вместе вверху и накрывали камышом и сухой травой. Для больших культовых сооружений — главного элемента строительного искусства на других островах — не хватало места. И жители Моронго Ута решили эту задачу своим, неизвестным в других частях Полинезии способом: на горе за террасами вырубили куполообразные ниши и в них устроили миниатюрные храмы. На гладком полу, будто шахматные фигуры, стояли, образуя ряды и клетки, небольшие камни. А те ритуалы, для которых перед карликовым храмом было слишком тесно, совершались на верхней площадке пирамиды, где потолком был небосвод.
Пока Билл и его помощники руководили раскопками Моронго Ута, Эд и Карл вместе с членами судовой команды изучали другие части острова. Все пирамидоподобные вершины оказались развалинами таких же укрепленных селений. Рапаитяне называли их паре. Вдоль острого водораздельного гребня, соединявшего между собой вершины, сплошной вереницей тянулись фундаменты былых жилищ. А в долинах сохранились стены древних земледельческих террас. Нередко они поднимались ступеньками на склоны. И всюду были видны следы сети искусственного орошения — длинные каналы забирали воду из ручьев и разносили ее по террасам. Итак, в прошлом люди этой своеобразной островной общины обитали на макушках гор и каждый день спускались по высеченным в обрывах тропам вниз, чтобы ухаживать за посевами таро в долинах и ловить в море рыбу и раков. Дети горного народа жили выше, чем орлята в своих гнездах.
Что же загнало этих людей на вершины? Может быть, они из страха друг перед другом укрепились в разных солениях? Вряд ли. Селения соединялись между собой домами вдоль гребней, образуя сплошное оборонительное сооружение, смотрящее на безбрежный океан. Может быть, спасались в горах от погружений морского дна? Вряд ли. Сверху мы видели, что береговая линия и сегодня такая же, какой была тогда: вдоль отмелей были расчищены от камня причалы, устроены ловушки и садки для рыбы, которыми по-прежнему можно пользоваться.
Задача решается просто. Рапаитяне боялись могущественного внешнего врага, чьи боевые суда в любую минуту могли появиться на горизонте.
Возможно, этот самый враг вытеснил их сюда с другого острова. Может быть, с острова Пасхи? Может быть, местное предание выросло из зернышка истины, подобно преданию о битве у рва Ико? Воинственные каннибалы третьего периода острова Пасхи могли хоть кого заставить уйти в море, даже беременных женщин и маленьких детей. Кстати, не далее как в прошлом столетии семь человек благополучно добрались до Рапаити на бревенчатом плоту с острова Мангарева, мимо которого мы прошли по пути сюда с Пасхи.
Правда, на Рапаити нет статуй. Но на вершинах гор негде было их ставить. К тому же, если основу местной культуры заложили женщины и дети, для них естественнее было думать о крове, пище и безопасности, чем о царственных истуканах и военных походах. II для выходцев с Пасхи естественно было строить овальные хижины с камышовой крышей и многоугольные каменные печи, а не многоугольные дома и круглые земляные печи, как на островах по соседству. Надежно укрепить свои селения им было важнее, чем думать о набегах на другие. Наконец, если это и впрямь были пасхальцы, понятно, откуда взялась настойчивость у людей, преобразивших весь горный массив маленькими каменными рубилами. Интересно, что на Рапаити по сей день община держится на женщине, а мужчина здесь — этакий мальчик-переросток, которого лелеют и холят.
Прежде тихоокеанисты считали, что на Рапаити нет ни обтесанных каменных блоков, ни скульптур из камня. Мы нашли и то и другое. Рапаитяне привели нас в глухое место на горе к востоку от Моронго Ута и показали, где, по преданию, лежали останки древних королей, перед тем как отправиться в последнее странствие. Это был образец высокого, каменотесного искусства: прямо в горе вырублена напоминающая большой саркофаг усыпальница, вход в которую заложен четырьмя квадратными глыбами, пригнанными так тщательно, что но видно никаких следов — будто сплошная природная стена. Рядом на той же скале высечено уменьшенное изображение человека. Угрожающая поза с поднятыми вверх руками напоминает «короля» в пещере Лазаря на острове Пасхи.
Как говорит предание, торжественное шествие днем доставляло останки умершего короля в усыпальницу. Здесь покойник лежал головой на восток, но однажды ночью двое приближенных незаметно переносили его через гребень в долину Анаруиа, где в потайной пещере хоронили прах всех королей.
Мы нашли на Рапаити погребальные пещеры. Самая большая находилась в долине Анапори, за десятиметровым водопадом. В нее впадал ручеек, и нам пришлось идти по колено в грязи до сухого места — берега подземного озера, где были небольшие каменные курганчики. Плыть через озеро — это семьдесят метров в ледяной воде, но и на другом берегу лежали в кромешном мраки остатки человеческих костяков.
На склоне ниже Моронго Ута мы обнаружили вырубленный в слабой породе склеп новейшего времени. Пещера была закрыта плитой, и в ней лежало трое покойников, но мы живо положили плиту на место, когда поднявшийся снизу рапаитянин учтиво осведомил нас, что здесь похоронена его ближайшая родня. Рядом было еще несколько таких склепов; мы их не стали трогать, и рапаитянин рассказал нам, что в большой пещере по соседству покоится его дед и многие другие.
По сей день рапаитяне верны старому обычаю. Правда, теперь покойников хоронят в освященной земле около деревни, но при этом останки помещают в нору, вырытую в стенке у дна могилы.
Иссеченные рукой человека вершины Рапаити — словно памятник безымянным мореплавателям, которые прошли не одну тысячу миль в океане, прежде чем ступили на берег этого уединенного островка. Огромное расстояние, но все равно они не были уверены, что за ними не последуют другие. Как ни велик океан, даже былинка может его пересечь — дай срок. И как ни тверда гора, самое маленькое рубило ее источит, если настойчивые руки будут трудиться достаточно долго. А времени у людей здесь было сколько угодно. Если верно, что время — деньги, то обитатели солнечных террас в горах Рапаити были богаче любого вельможи наших дней. Если время — деньги, то рапаитяне обладали несметными сокровищами, как несметно число камней, слагающих стены Моронго Ута. Словом, глядя на развалины, будто парящие в солнечной дымке между небом и океаном, и впрямь можно было вообразить себе сказочный золотой замок в тридевятом царстве, и тридесятом государстве…
Но Королевский склеп в долине Анаруиа нам не смогли показать. Люди, которые переносили туда прах королей, давно уже покоятся в толще гор. А нынешние рапаитяне не владеют способом находить тайные пещеры. Нет у них аку-аку, и они не понимают толк в куриных гузках.
Глава одиннадцатая. Мой аку-аку говорит
В верховьях долины Тайпи стоял запах дикой свиньи. Но глаз не улавливал признаков жизни — ни людей, ни животных. А услышать что-нибудь было физически невозможно: могучая струя воды, шипя, срывалась с уступа надо мной и, пролетев в воздухе двадцать метров, с грохотом обрушивалась в чашу, где я купался. С трех сторон высилась и рост водопада каменная стена с толстой зеленой обивкой холодного и вечно влажного от водяной пыли мха; покачивались, роняя хрустальные капли, листья папоротника и еще каких-то растений. Обрамленные радугой бусинки падали с листа на лист и в глубокую заводь, а затем, поплясав в божественной влаге, стекали через край, исчезая в просвете среди плотно сомкнутых крон девственного леса.
В долине стояла невыносимая жара. В такой день истинное блаженство освежиться в холодной заводи. Я понырял, утолил жажду и теперь, расслабившись, лежал на воде, обхватив руками камень. Отсюда открывался великолепный вид на зеленый полог леса. Вон там я карабкался, прыгал с камня на камень, шел по воде, поднимаясь по руслу, протискиваясь сквозь сплетение живых и мертвых деревьев, обросших мхом, папоротником и паразитами. Наверно, здесь после открытия Маркизских островов европейцами еще ни разу не работал топор.
В наши дни люди живут лишь в устье самых больших долин, под кокосовыми пальмами на берегу моря. И так не только тут, на Нукухиве, а на всех островах архипелага. Считается, что ко времени первого появления здесь европейцев коренное население насчитывало сто тысяч. Теперь маркизцев осталось от силы две-три тысячи. Прежде всюду обитали люди. По пути наверх мне попалось немало обросших зеленью стен. Но сейчас я был один в воспетой Мелвиллом долине Тайпи;
[5] деревушка на берегу залива, в котором стояло наше судно, укрылась за последним попоротом.
На склоне горы, на расчищенной нами большой прогалине в лесу стояло одиннадцать кряжистых красных фигур. Восемь из них так и встретили пас стоя, когда мы пришли в заросли. А остальные три поднялись на ноги на прошлой неделе и впервые увидели крещеных людей. Много десятилетий — с той поры, когда еще был обычай приходить в храм под открытым небом с жертвенными дарами и молитвами, — они пролежали, уткнувшись лицом в землю. Подняв одного из великанов канатом, мы с удивлением увидели двуглавое чудище. Нигде больше в Тихом океане не находили таких статуй.
Пока Эд наносил на карту развалины, Билл приступил к раскопкам, надеясь определить возраст истуканов. Как ни странно, мы одними из первых организовали настоящие археологические изыскания на богатых древностями Маркизских островах.
Биллу посчастливилось. Под платформой, на которой стояли идолы, он нашел поддающийся датировке древесный уголь. Теперь можно было установить, когда изваяли здешних истуканов, и сравнить их возраст с возрастом великанов острова Пасхи. И кроме того, нам оставил здесь свой привет один из длинноухих. Может быть, его похоронили с почестями. Может быть, принесли в жертву богам и съели. А остались от него только две огромные «серьги» да истлевшие кости в погребальной камере в толще каменной кладки.
Радиоактивный анализ найденного угля в лаборатории показал, что старшие статуи Маркизского архипелага были воздвигнуты около 1300 года нашей эры, или лет через девятьсот после того, как на Пасхи впервые поселился человек. Так что отпадает догадка некоторых исследователей, будто низкорослые маркизские идолы — предки великанов острова Пасхи.
Пока мы работали в лесу на острове Нукухива, Арне и Гонсало с отрядом рабочих трудились под пальмами Хиа-Оа в том же архипелаге. Таким образом, мы посетили и исследовали все места в Тихом океане, где найдены статуи.
Еще раньше на Раиваэваэ Арне и Гонсало нашли много неизвестных небольших скульптур. И провели интересные раскопки культовых сооружений и жилищ. На Хива-Оа они искали данные для датировки тамошних идолов и сделали слепок с самой большой из маркизских статуй. Впрочем, после острова Пасхи нам этот 2.5-метровый истукан показался карликом. Арне и Гонсало получили последние мешки из нашего трехтонного запаса зубоврачебного гипса. А большая часть ушла на форму десятиметрового пасхальского идола, его копию мы задумали установить в музее «Кон-Тики» в Осло над моделью пещеры с каменными «ключами» и диковинными скульптурами.
Блаженствуя в заводи, я мысленно повторил весь наш рейс, и остров Пасхи представился мне в виде господствующего центра. Одиннадцать маленьких причудливых фигур в долине Тайпи да горстка статуй в долине Пуамау на Хива-Оа — они казались какими-то случайными и жалкими рядом с полчищами гордых великанов раннего и среднего периодов острова Пасхи. Так сказать, крошки со стола богачей. Такое же впечатление производили единичные скульптуры Питкэрна и Раиваэваэ.
Остров Пасхи с его высокой культурой хочется назвать краеугольным камнем в древней истории восточной части Тихого океана.
Один современный исследователь объясняет все, что происходило на Пасхи, климатом. Дескать, сравнительно прохладная погода не располагала к любовным утехам и праздности, как на других островах. А отсутствие леса заставило островитян обратить свое рвение на камень. Но если говорить о любви, то кое-кто из нашей команды никак не соглашался с этим исследователем. И если каменные идолы должны появляться там, где холодно и нет леса, то после викингов в Исландии должны были остаться огромнейшие скульптуры. Вообще ни одна из древних культур Северной Европы и Северной Америки не знала антропоморфных монолитов. Даже эскимосы не занимались ваянием. Зато каменных истуканов находят от Мексики до Перу, в том числе в жарких лесах Центральной Америки.
Видно, не так уж это естественно, чтобы человек, взяв рубило, принялся долбить гору. Нигде, даже в холодных горах Новой Зеландии, никто не наблюдал полинезийцев за таким занятием. Для столь грандиозных работ нужен, как правило, долгий, накопленный в веках опыт. И нужны люди фанатического трудолюбия и творческого пыла вроде бургомистра острова Пасхи. Этого окаянного упрямца я никак не назвал бы типичным полинезийцем. Мне вспомнилось, как он стоял на пороге, и позади него лежали на полу десятки диковинных скульптур. А рядом подле левого колена — незримый аку-аку…
Мне стало зябко, я вылез из воды, лег на горячий камень и задремал под лучами тропического солнца. Водопад кропил меня мельчайшими капельками, я чувствовал себя превосходно. В мыслях я был на острове Пасхи. Мысли — мой аку-аку — летели по моему хотению в любой конец так же быстро, как аку-аку бургомистра переносился в Чили и другие далекие страны.
Как представить себе аку-аку бургомистра? Вряд ли Педро Атан сам сумел бы четко описать его невидимую оболочку. А суть аку-аку, наверно, составляли собственные мысли дона Педро, его совесть, интуиция — все то, из чего слагается понятие о незримом духе. Что-то крылатое, бесплотное, способное вести тело на удивительные дела, покуда оно живо. И сторожить пещеру после того, как владелец ее исчез и кости его истлели…
Обращаясь к своему аку-аку за советом, бургомистр стоял так же смирно и безмолвно, как при переговорах с покойной бабушкой. Стоило мне тогда заговорить и нарушить ход его мыслей, как бабушка пропала. Да, погрузившись в раздумье, он вопрошал свою совесть, прислушивался к собственной интуиции — говорил со своим аку-аку. Назовите как хотите все то в человеке чего не измеришь метрами или килограммами. Бургомистр называл это аку-аку. И обычно помещал его у своей левой ноги. А что тут такого? Ведь этот аку-аку вечно скитался в самых удивительных местах!
Бедный мой аку-аку — целый год ходит за мной на привязи, и не дают ему вольно постранствовать. Мне показалось, что я слышу, как он ропщет.
— Ты мельчаешь, — сказал он. — Кроме сухих фактов, уже ни чем не интересуешься. Что бы тебе поразмыслить о всех тех удивительных вещах, которые происходили на здешних островах в далеком прошлом. О разных людях, которые здесь жили. Обо всем том, чего не увидишь, роясь в земле.
— У нас научная экспедиция, — ответил я. — Большая часть моей жизни прошла среди ученых, и я затвердил их первую заповедь: задача науки — чистое исследование. А не догадки. Не попытки что-то доказать.
— Преступи заповедь, — сказал аку-аку. — Растормоши их.
— Нет, — решительно возразил я. — Я уже сделал это в тот раз, когда мы дошли до Полинезии на плоту. Теперь же речь идет об археологических раскопках. Аку-аку фыркнул.
— Археологи — тоже люди. Спроси меня, уж я-то видел… Я велел ему замолчать и брызнул водой на комара, который отважился залететь в облако распыленной влаги, окружающее водопад. Но мой аку-аку не унимался.
— Откуда, по-твоему, на Пасхи появились рыжеволосые люди? — спросил он.
— Помалкивай, — ответит я. — Мне известно лишь то, что они были там, когда остров впервые посетили европейцы. И что бургомистр происходит из рыжеволосого рода. Кроме того, все каменные великаны носили красный «парик». Вот и все, что можно сказать, оставаясь на твердой почве фактов.
— Если бы рыжеволосые не покинули твердую почву, они бы никогда не открыли остров Пасхи, — пошутил мой аку-аку.
— Я не хочу строить догадки, — сказал я и повернулся на живот. — Не хочу говорить о том, чего не знаю точно.
— Отлично. Расскажи, что ты знаешь, а я дополню тем, чего ты не знаешь, — предложил мой аку-аку. Кажется, разговор начал налаживаться.
— По-твоему, волосы у них порыжели из-за погоды на острове? — продолжал он. — Что ты об этом знаешь?
— Вздор, — сказал я. — Я отлично знаю, что рыжеволосые должны были быть в числе первых поселенцев. Хотя бы несколько человек.
— А еще где-нибудь по соседству они жили?
— На многих островах. Например, на Маркизских.
— А на материке?
— В Перу. Когда испанцы открыли империю инков, Педро Писарро записал, что среди низкорослых и смуглых андских индейцев выделялся господствующий род — инки, высокие ростом и белокожие, белее самих испанцев. Он особо упоминает белых рыжеволосых людей, которых видел в Перу. А мумии? На тихоокеанском побережье у Паракаса в песчаной пустыне найдены большие усыпальницы, в которых превосходно сохранились многочисленные мумии. Если снять разноцветные бинты, оказывается, что у одних мумий густые жесткие черные волосы, как у большинства индейцев, а у других, хотя они лежали в тех же условиях, волосы рыжие, иногда каштановые, тонкие и шелковистые, как у европеоидов. Высокий рост и длинная голова тоже резко отличают их от нынешних индейцев Перу. Специалисты изучили волосы рыжих мумий под микроскопом и нашли в них все признаки, по которым принято отличать европеоидный тип волос от монгольского или индейского.
— А что говорят легенды? Ведь в микроскоп всего не увидишь!
— Легенды ничего не доказывают.
— Но все-таки, что они говорят?
— Писарро спросил, кто эти белые рыжеволосые люди. И тогда инки ответили, что это последние потомки виракочей, а виракочи — божественное племя белых бородатых людей. Когда в империю инков пришли европейцы, их сразу назвали виракочами, так они были на них похожи. Известно, что именно поэтому Франсиско Писарро с горсткой испанцев беспрепятственно проник в сердце империи, захватил в плен солнце-короля и покорил все его владения. Воинственные полчища короля не тронули чужеземцев, так как приняли их за вернувшихся из Тихого океана виракочей. Ведь одно из главных преданий сообщает, что предшественник инков солнце-король Кон-Тики Виракоча ушел из Перу в Тихий океан со всеми своими подданными. А на высокогорном озере Титикака испанцы увидели самые величественные во всей Южной Америке развалины — Тиауанако. Исчерченная искусственными террасами гора, классическая кладка из великолепно обработанных огромных блоков, множество крупных каменных статуй… Испанцы спросили индейцев, кому все это принадлежало. Знаменитый летописец Сьеса де Леон услышал в ответ, что могучие сооружения Тиауанако были созданы задолго до прихода инков к власти и строили их белые бородатые люди, такие же, как сами испанцы. А потом ваятели бросили свои статуи и стены и во главе со своим вождем Кон-Тики Виракоча ушли в Куско, а оттуда спустились к Тихому океану. Прозвище виракоча, что означает «морская пена», им дали потому, что они отличались белой кожей и исчезли, как исчезает пена на волнах.
— Так, — заметил мой аку-аку. — А ведь интересно, правда?
— Но это ничего не доказывает, — возразил я.
— Ничего, — повторил мой аку-аку.
Мне опять захотелось освежиться в заводи, но, когда я вылез, аку-аку был тут как тут.
— Бургомистр происходит из рыжеволосого рода, — сказал он. — И он, и его предки, которые вытесали огромных истуканов, называли себя «длинноухими». Странно, правда, что они придумали удлинять себе уши, так что мочки свисали до плеч.
— Не так уж и странно, — ответил я. — Такой же был обычай на Маркизских островах. И на Борнео. И у некоторых племен Африки.
— И в Перу?
— И в Перу. Испанцы записали, что главенствующие инкские роды называли себя орехонес — «длинноухие», так как им, чтобы отличаться от подданных, разрешалось искусственно удлинять мочки ушей. Причем, когда прокалывали уши, это обставлялось как торжественный обряд. Педро Писарро отметил, что белая кожа была особенно присуща «длинноухим».
— А что
говорит предание?
— Пасхальское предание говорит, что этот обычай был принесен извне. Что первый король привез с собой «длинноухих», и прибыл он с востока, шестьдесят дней шел через океан и все время правил на закат.
— На востоке была империя инков. Что говорят там предания?
— Они говорят, что Кон-Тики Виракоча, когда отплыл на запад, вез с собой «длинноухих». Последнюю остановку на пути от озера Титикака к приморью он сделал в Куско. Провозгласил здесь вождем некоего Алькавису и повелел своим преемникам удлинять себе уши. Когда испанцы пришли к озеру Титикака, они и там услышали от индейцев, что Кон-Тики Виракоча был вождем племени «длинноухих», которые плавали по озеру на камышовых лодках. Дескать, эти люди прокалывали себе мочки ушей и вдевали большие кольца из камыша тотора, причем называли себя рингрим — «ухо». По словам индейцев, эти самые «длинноухие» помогали Кон-Тики Виракоча переносить и укладывать огромные, больше ста тонн, каменные блоки, которые можно увидеть в Тиауанако.
[6]
— Как же они управлялись с такими махинами?
— Этого никто не знает. «Длинноухие» из Тиауанако не оставили после себя бургомистра или кого-нибудь еще, кто бы мог показать потомкам древние приемы. Но у них были мощеные дороги, как на острове Пасхи. А некоторые из самых больших блоков, очевидно, были перевезены через озеро Титикака, это огромное внутреннее море, на больших камышовых лодках, потому что такой камень есть только в потухшем вулкане Капиа на противоположном берегу, в пятидесяти километрах от Тиауанако. Я сам видел у подножия горы громадные блоки, которые ждали своей очереди. И по соседству — остатки причала, местные индейцы называют его Гаки Тиауанако Кама, или «Путь в Тиауанако». Кстати, соседняя гора называется Пуп Вселенной.
— Кажется, ты начинаешь мне нравиться, — пропел мой аку-аку. — Ты начинаешь мне нравиться…
— Но ведь остров Пасхи тут совсем ни при чем, — сказал я.
— Разве камыш, из которого они вязали свои лодки, не скирпус тотора — тот самый, что пасхальцы откуда-то привезли и посадили в своих кратерных озерах?
— Тот самый.
— А важнейшим растением на Пасхи, когда остров посетили Роггевен и капитан Кук, ведь был батат, который пасхальцы называли кумара?
— Да.
— И ботаники показали, что это растение — южноамериканское и могло попасть на остров Пасхи только с помощью человека? А в Перу индейцы тоже называли его кумара?
— Верно.
— Тогда я задам тебе еще только один вопрос, после чего скажу ответ на задачку. Зная, что инки были мореплавателями, можем мы допустить, что их предшественники в Перу тоже выходили в море?
— Да. Мы знаем, что они много раз посещали Галапагосские острова. И мы знаем, что в доинкских могилах Паракаса, как раз там, где найдены рыжеволосые мумии, лежит много гуар с резной рукояткой. Гуары без паруса не применяются, а парус устанавливают на судах. Так что она гуара убедительнее всех легенд или ученых трудов говорит о развитии морского дела в Перу.
— Так вот, я тебе кое-что скажу.
— Я не хочу тебя слушать. Ты начинаешь делать выводы. Вместо того чтобы придерживаться фактов. У нас научная экспедиция. А не сыскная контора.
— Допустим, — согласился аку-аку. — Но чего бы стоил Скотленд-Ярд, если бы следователи только собирали отпечатки пальцев и не пытались схватить преступника?
Я не нашелся, что ответить, и мой мучитель продолжал:
— Ладно, поговорим о другом. Рыжеволосые длинноухие вытесывали на острове Пасхи длинноухих идолов с красными «волосами». То ли потому, что зябли, то ли потому, что прибыли из страны, где умели переносить большие камни и воздвигать статуи. Но вот появились короткоухие — полинезийцы, которые не зябли и которые нашли на острове достаточно дерева, чтобы вырезывать птицечеловеков и длинноухих бородачей с тонкими горбатыми инкскими носами. Откуда они пришли?
— С других островов Полинезии.
— А туда?
— Судя по языку, они дальние родичи низкорослых людей с плоскими носами, обитателей Малайского архипелага, что лежит между Азией и Австралией.
— Как они оттуда попали в Полинезию?
— Этого никто не знает. Ни в самой Полинезии, ни на других островах на пути к ней не найдено никаких следов. Мне думается, они прошли по течению вдоль берегов Азии до Северо-Западной Америки. Здесь, на островах у побережья, обнаружены очень интересные следы. И здесь строили огромные двойные палубные лодки, которые могли — опять с ветром и течением — доставить людей дальше, на Гавайский архипелаг и другие острова на юге. Одно очевидно: они последними, быть может всего лет за сто-двести до европейцев, достигли острова Пасхи.
— Если длинноухие пришли с востока, а короткоухие с запада, значит, в этих водах можно плавать в обе стороны?
— Конечно, можно. Да только в одну сторону сделать это куда легче, чем в другую. Взять первые плавания путешественников из нашей части света. Европейцы утвердились в Индонезии и по берегам Азиатского материка, но еще долго ни одно судно не пыталось выйти оттуда в Тихий океан. Ведь ни ветер, ни течение этому не благоприятствовали. Только после того как Колумб — по ветру и течению — достиг Америки, португальцы и испанцы уже оттуда вышли с ветром и течением дальше и постепенно узнали острова Великого океана. Полинезия и Меланезия были открыты испанцами, которые следовали описаниям инкских мореплавателей и шли по течению от берегов Перу. Микронезия, включая Палау и другие острова у берегов Азии, тоже была сперва достигнута из Южной Америки. А пройти обратно тем же путем испанцам не удавалось. Так было сотни лет. Из Мексики и Перу каравеллы шли до Азии в тропическом поясе, когда же надо было возвращаться, следовали до Америки с течением Куросио через пустынные воды к северу от Гавайских островов. Почему от малайских пирог или от бальсовых плотов и камышовых лодок инков мы должны требовать больше, чем от европейских каравелл? Помнишь француза де Бишопа, который собирался выйти на бамбуковом плоту с Таити, когда мы туда заходили? Однажды он задумал пройти на примитивном суденышке из Азии в Полинезию. Ничего не вышло. Тогда он стартовал из Полинезии в Азию — и развил отличную скорость. И вот теперь он задумал достичь Америки на бамбуковом плоту из Полинезии. Ему придется уйти далеко на юг, в холодное антарктическое течение. Может быть, он, европеец, и выдержит холодные штормы тех широт. Но если даже он благополучно подойдет к берегам Южной Америки, самое трудное ждет его на последнем отрезке, потому что течение круто поворачивает на север и его надо пересечь. Не справится — его понесет обратно в Полинезию, по тому же пути, каким шел «Кон-Тики», а потом и одинокий американец.
[7]
Одно дело плыть на пароходе. Одно дело путешествовать по карте карандашом. Совсем другое дело — выйти в океан на первобытном суденышке.
[8]
Я остановился, ожидая, что скажет мой аку-аку. Он уснул.
— Так на чем мы остановились? — заговорил он, когда мне удалось его растормошить. — Ах да, мы говорили о короткоухих, дальних родичах малайцев.
— Вот именно. О дальних родичах, потому что это не были малайцы. На пути через океан они явно где-то задержались. Там отчасти изменился их язык, но еще больше — физический тип. Антропологи различают полинезийцев и малайцев по всем признакам — от формы головы и носа до роста и типа крови. Только лингвисты видят между ними родство. Вот что странно.
— И кому же мне, бедненькому, верить?
— Тем и другим, пока речь идет о фактах И никому из них, когда они, пренебрегая друг другом, порознь составляют мозаику. В этом сила чистого исследования, — ответил я.
— И в этом его слабость, — сказал мой аку-аку. — Большинство специалистов сознательно ограничивают свой кругозор, зарываются все глубже и глубже каждый в свой шурф, пока совсем не перестают видеть друг друга. А что добудут, аккуратненько складывают наверху. Вам не хватает еще одного специалиста, который оставался бы на поверхности и обобщал результаты.
— Работа для аку-аку, — заметил я.
— Нет, работа для ученого, — сказал мой аку-аку. — Но мы могли бы ему кое-что подсказать.
— Мы говорили о возможной связи между малайцами и «короткоухими», — еще раз напомнил я. — Как ты, аку-аку, рассудишь, если языковеды говорят «да», а антропологи — «нет»?
— Если языковеды скажут, что негры Гарлема и индейцы Юты вышли из Англии, я предпочту послушать антропологов.
— Будем держаться Тихого океана. Только глупец станет пренебрегать данными языковедения. Язык одним ветром не переносится.
— Язык может найти много путей, — ответил мой аку-аку. — И уж во всяком случае он не может переноситься один против ветра. И если физический тип людей не совпадает, значит, что-то случилось в пути, пролегал ли этот путь на севере или на юге.
Далеко внизу показался всадник. Это врач экспедиции привез из долины Таиохаэ полную сумку пробирок с кровью для анализов. На всех островах, где мы побывали, он брал кровь. Вожди, старики и местные власти помогали отобрать тех, кого еще можно было считать чистокровными. С Таити мы самолетом отправили пробирки в термосах со льдом в Мельбурн, в лабораторию стран Британского содружества. Следующая партия будет выслана из Панамы, а самую первую увез «Пинто». Впервые оказалось возможным исследовать кровь туземцев Полинезии по всем наследственным признакам. Прежде были изучены только факторы А, Б и О, причем выяснилось, что в крови полинезийцев нет фактора Б. Но это же отличает аборигенов Америки, тогда как в Азии — Индия, Китай, Малайские острова — и в Меланезии-Микронезии у всех народностей найден этот фактор.
— Интересно, что нам поведает кровь, — сказал я своему аку-аку.
Тогда я еще не знал, что доктор Симмонс и его коллеги после тщательнейшего анализа установят, что все наследственные факторы взятой нами крови говорят за прямое происхождение от аборигенов Америки и резко отличают полинезийцев от малайцев, меланезийцев, микронезийцев и других азиатских народностей. Этого даже мой аку-аку не мог предположить в моих, простите, в своих самых смелых мечтах.
Я озяб и решил одеться. Потом в последний раз посмотрел на скалу, с которой срывался рокочущий водопад, на сбегающие по мху бусинки. Два желтых цветка гибискуса нырнули в заводь, поплясали на поверхности, потом ток воды унес их вниз, под полог леса. Сейчас и я пойду вниз вместе с потоком. По течению легче идти, недаром бегущая вода была проводником для первых путешественников, вела их к океану и дальше, через океан…
И вот мы уже стоим на корабле — кто на мостике, кто на корме. Даже механики поднялись на палубу и благоговейно смотрят на крутые маркизские горы, за которые, как за исполинский занавес, медленно уходит восхитительная долина. Еще видны пышные вечнозеленые дебри, скатывающиеся по склонам к морю. Буйные заросли словно оттеснили тонконогие кокосовые пальмы к самой воде, чтобы они стояли там и приветливо кивали всем, кто приезжает и уезжает. Эти пальмы придавали острову обжитой вид. Без них была бы одна дикая красота. Мы упивались картиной и запахами. Скоро все сольется, превратится в эфемерную голубую тень и уйдет за край неба…
Мы стояли под лучами тропического солнца с прохладными благоухающими цветочными гирляндами на шее. Сейчас, по обычаю, полагалось бросить их в море и пожелать себе вернуться еще на эти очарованные острова. Но мы медлили. Ведь стоит гирляндам лечь на волны, как они станут точками в конце нашей сказки.
Я два раза уже бросал гирлянду в этом фантастическом краю и вот попал сюда в третий раз.
Полетели за борт первые гирлянды… С мостика — от Санне и капитана Хартмарка. С самой высокой мачты — от Тура-младшего и второго юнги. Легли на воду гирлянды от археологов и моряков, от фотографа и врача, от Ивон и меня. Маленькая Аннет взобралась на шезлонг около поручней на шлюпочной палубе. Привстав на цыпочки, она долго возилась со своей гирляндой, потом изо всех силенок бросила ее через поручни.
Я снял Аннет с шезлонга и поглядел вниз. Двадцать три гирлянды, белые и красные, качались на кильватерной струе. Маленькой гирлянды Аннет среди них не было. Она зацепилась за поручни на следующей палубе. Несколько минут я смотрел на нее, потом решительно спустился и сбросил ее в воду. Зачем?.. С чувством выполненного долга я вернулся к своим товарищам. Никто не заметил моей отлучки. Но мне отчетливо послышался чей-то смех.
— Если не поможет, съешь куриную гузку! — сказал мой аку-аку.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ
ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК И ОКЕАН


Предисловие
Эта книга — не документальная повесть путешественника о его приключениях. В этом смысле она не служит продолжением «Экспедиции Кон-Тики», «Аку-аку», «Ра» или «Фату-Хивы». «Древний человек и океан» — сборник ранее публиковавшихся статей и докладов, которые я обработал и объединил здесь в логической последовательности. Первоначально идея такой композиции родилась у доктора Карла Еттмара, профессора археологии Гейдельбергского университета, и в 1975 г. он выпустил на немецком языке сборник под названием «Между континентами». Предполагалось, что эта книга поможет ориентироваться всем тем, кто следит за дискуссией о путях миграций человека и о происхождении культур, развернувшейся после плаваний примитивных судов «Кон-Тики» и «Ра», которым вопреки предсказаниям специалистов удалось пересечь Тихий и Атлантический океаны.
Полемика основывалась по большей части на ошибочном представлении, будто руководитель экспедиций на бальсовом плоту «Кон-Тики» и на папирусных ладьях «Ра I» и «Ра II» утверждал, что полинезийцы, включая маори, произошли от перуанских инков, а инки, ацтеки и майя в свою очередь произошли от строителей пирамид Древнего Египта. Гипотезы такого рода легко опровергаются, и ничего подобного вы не найдете ни в моих документальных повестях, ни в научных монографиях. Такие издания, как «Американские индейцы в Тихом океане» (1952, 821 с.), «Отчеты Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в Восточную Полинезию», том I (1961, 667 с.) и том II (1965, 572 с.), а также «Искусство острова Пасхи» (1975, 669 с.), вряд ли известны широкому читателю; в наше время узкой специализации их очень редко читают и цитируют даже многочисленные ученые и псевдоученые, которые делятся с читателями своими суждениями через современные средства массовой информации. Названные тома вполне доступны всякому, кто захочет глубже ознакомиться с кабинетными и полевыми исследованиями, положенными в основу представленных здесь более популярных материалов. Эти материалы взяты из периодических изданий и трудов конгрессов, которые бывает труднее достать не только неспециалисту, но и многим представителям соответствующих областей науки.
Сборник «Древний человек и океан» отредактирован так, чтобы он легко читался всеми, кому интересны деяния человека в прошлом, когда закладывались основы мореплавания и великих цивилизаций Средиземноморья и Нового Света. Каждая глава предваряется введением, призванным подготовить читателя к последующему тексту.
Тур Хейердал
7 августа 1976 г.
ЧАСТЬ I
Древние суда и море
Бесчисленным оппонентам, чьи возражения сделали меня почитателем древнего человека и другом живого моря.
Ученым-специалистам, на изысканиях которых всецело основана эта книга, но которые, тем не менее, оставили пробелы, побудившие меня обратиться к древнему человеку за наставлениями в областях, где в наше время нет авторитетных специалистов.

ТИХООКЕАНСКАЯ ДОГМА ДО ЭКСПЕДИЦИИ «КОН-ТИКИ»:
«Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками». Питер Бак (видный специалист по Полинезии). Введение в полинезийскую антропологию. Гонолулу, 1945.
АТЛАНТИЧЕСКАЯ ДОГМА ДО ЭКСПЕДИЦИЙ «РА»:
«Обширные водные просторы исключали возможность иммиграции со стороны Атлантики». Франц Боас (видный специалист по вопросам происхождения американских индейцев). Америка и Старый Свет. — «Труды Международного конгресса американистов», т. 21, № 2, 1925.
Глава 1
Начало мореплавания
Человек поднял парус раньше, чем оседлал коня. Он плавал по рекам с шестом и веслами и выходил в открытое море раньше, чем стал ездить на колесах по дорогам. Первым транспортным средством были суда. Идя под парусом или просто плывя по течению, древний человек смог заселить острова. Земли, которых по суше можно было достичь только постепенным расселением, из поколения в поколение преодолевая препятствия в виде болот и безжизненной тундры, голых гор и непроходимых лесов, ледников и пустынь, достигались в какие-нибудь недели случайным дрейфом или на управляемых судах. Суда были первым важным орудием человека, осваивавшего земной шар.
Следующая ниже статья была впервые опубликована в журнале
«Dialogue» в 1972 г. Здесь она несколько дополнена, главным образом описанием долговечных камышовых плотов болотных арабов, изученных автором позднее в том же году, и данными, полученными при новых полевых исследованиях в Египте в 1976 г.
Как давно человек впервые вышел в океан и на каких судах? В какой мере мог он свободно передвигаться в открытом море?
Лет двести назад, когда на морях еще царствовали паруса, считалось, что представители древних цивилизаций обладали почти неограниченными возможностями к передвижению. Ведь прошли же с помощью ветра суда Магеллана, капитана Кука и многих других вокруг света, когда раз, когда два, так почему древние не могли сделать то же? Но после того как с изобретением винта и реактивного двигателя мир становился для новых поколений все меньше и меньше, родилось представление, что людям прошлого он должен был казаться соответственно больше и до Колумба вообще был бесконечным, а океаны — неодолимыми.
В первой половине нашего столетия, когда пароходы и самолеты стали вытеснять крупные и мелкие парусные суда, среди современных представителей исторической науки распространилось убеждение, будто до изобретения дощатого корпуса со шпангоутами и увеличения его размеров человек мог плавать только во внутренних и прибрежных водах. Возможность трансокеанских контактов с Америкой до появления небольших, но снабженных высоким бортом судов вроде каравелл Колумба в 1492 г. отвергалась из практических мореходных соображений.
В учебных пособиях, говорящих о судостроении, прочно утвердилось положение, что первоначально человек одолевал небольшие водные пространства верхом на бревне. Затем, чтобы не мочить ноги, он додумался выдалбливать бревно топором и выжигать огнем, а по мере того как отваживался на поединок со все более высокими волнами — наращивал долбленку досками по бокам. И появился в конце концов полый корпус с поднятой высоко над поверхностью моря водонепроницаемой палубой, которому было не страшно даже самое сильное волнение. Увеличивая размеры корпуса, человек выходил все дальше в открытый океан. Практически все пособия именно так описывают путь человека к строительству первых судов. Однако при ближайшем рассмотрении эта давняя догма вступает в противоречие с известными фактами.
Несомненно, первой заботой человека при создании судов было обеспечить плавучесть. В разных концах света цель эта достигалась двумя совершенно разными способами. Один — сборка пропускающей воду конструкции из плавучих элементов, вместе обеспечивающих достаточную плавучесть, чтобы нести команду и груз. Второй — изготовление водонепроницаемого корпуса, плавучесть которого обеспечивается не родом материала, а за счет вытеснения воды воздухом.
Внимательный анализ дошедших до нас изображений древнейших лодок показывает, что в развитии судов основой послужила первая конструкция, а не долбленка, как было принято считать. Это легко доказывается как для Старого, так и для Нового Света. В Америке второй вариант отпадает сразу. Когда европейцы открыли Америку, мореплавание уже было хорошо развито и на атлантической, и на тихоокеанской стороне Нового Света. И однако даже самые развитые древнеамериканские цивилизации не додумались до строительства дощатых судов со шпангоутами, хотя долбленки были широко распространены. Парусный флот древней Америки составляли грузные плоские плоты из бальсовых бревен и камышовые лодки-плоты с изящно изогнутыми вверх носом и кормой. Оба типа судов перевозили многотонные грузы, осуществляя торговлю между удаленными друг от друга областями Нового Света. Стало быть, мореходство у океанских берегов Америки развилось либо независимо, либо, если говорить о влиянии Старого Света, по примеру мореплавателей, незнакомых с корпусом на шпангоутах. О том, что мореходные камышовые ладьи и бревенчатые плоты — ровесники аборигенных цивилизаций Америки, свидетельствуют модели и изображения на керамике, тканях и дереве, обнаруженные в огромных количествах в древнейших погребениях от пустынь Северного Перу до Чили.
Если нынешние предположения антропологов верны, цивилизация и мореходство возникли в Америке не раньше конца II тысячелетия до н. э., когда представители средиземноморских цивилизаций уже выходили в океан за Гибралтаром как на камышовых ладьях, так и на дощатых судах
[9].
Если аборигены Америки, как уже говорилось, не знали дощатых судов со шпангоутами, то искусство Старого Света ясно говорит, что в странах Средиземноморья первые конструкции деревянных судов развились из более древних камышовых ладей. Камышовые ладьи и их изображения известны в прилегающих к Средиземному морю областях — от Двуречья, Египта, берегов нынешней Сирии, Ливана и Израиля до Кипра, Крита, Корфу, Мальты, Италии, Сардинии, Ливии, Алжира, а за Гибралтаром — на атлантическом побережье Марокко. Недавно в районе древнего финикийского порта Кадис на атлантическом берегу Испании найден под водой финикийский сосуд с реалистичным рельефным изображением камышовых судов, несущих лучезарное солнце на палубе. (Сосуд выставлен в Кадисском археологическом музее.) Подобные ладьи спорадически употреблялись от Двуречья до Марокко вплоть до нашего столетия, а наскальные изображения в Египте и алжирской Сахаре свидетельствуют, что ими пользовались уже 5, 6, а то и 7 тысяч лет назад.
Больше всего древних изображений таких судов в пустынных областях Египта, между долиной Нила и Красным морем. В монографии Вальтера Реша о нубийских петроглифах многочисленные иллюстрации показывают, что преобладающим мотивом наряду с фигурами людей и животных явно были камышовые ладьи и они же — единственное изделие человеческих рук, если не считать оружия (Resch, 1967)[259]
[10]. Бросается в глаза, что на большинстве этих серповидных судов многочисленная команда, до пятидесяти человек и больше. Кроме двойных рулевых весел видим подчас сорок и более гребных; на многих судах показаны мачта и снасти, а в ряде случаев — и большой парус. О размерах ладей можно судить не только по числу людей и весел, но и по тому, что рогатый скот и другие крупные животные на палубе изображены совсем маленькими. Нередко видим одну, а то и две рубки — впереди и позади мачты. Папирусная ладья «Ра II», на которой наша неопытная команда из восьми человек пересекла Атлантику в 1970 г., заметно уступала в размерах наиболее крупным судам на петроглифах, которые высечены за 1–2 тысячи лет до возникновения первой династии Древнего Египта.
При недавнем посещении Вади-Абу-Субейра — сухого каньона в Нубийской пустыне между Асуанской плотиной и Красным морем — мне посчастливилось обнаружить многие еще не опубликованные изображения парусных судов додинастической поры. Их окружали водяные козлы, жирафы, крокодилы и другие животные, из чего видно, что в древности, когда создавались эти петроглифы, на месте пустыни был лес, а в каньоне текла река.
Насколько широко были тогда распространены серповидные камышовые суда, стало очевидно, когда Анри Лот вернулся из своей экспедиции в Тассили, в алжирской Сахаре, где им в 1956 г. были открыты замечательные наскальные изображения людей и животных, в том числе охоты на бегемотов с камышовых ладей. Радиоуглеродная датировка относит эти сахарские произведения искусства к VI–II тысячелетиям до н. э. Лот считает, что обнаруженные им рисунки различных лодок представляют нильские ладьи того же типа, что изображены на скалах Египта в додинастический период. Основываясь на этих и других поддающихся опознанию мотивах, он предположил, что древние скотоводческие культуры Алжира были связаны с древнейшими культурами Египта (Lhote, 1958)[203].
Ученые до сих пор расходятся в мнениях, где раньше возникла цивилизация: в долине Нила или же в поречье Месопотамии. Несомненно, что эти области сообщались после рождения древних культур. Специалистам по археологии Ближнего Востока хорошо известно, что в последовавшие за утверждением здешних цивилизаций века велась торговля между странами по обе стороны Аравийского полуострова; об этом говорят египетские изделия, найденные при раскопках в Двуречье, и месопотамские поделки, обнаруженные в Египте. Оппенхейм в своем труде о купцах-мореплавателях Ура показывает, что на ранних стадиях развития культур Южного Двуречья сюда в большом количестве поступала слоновая кость либо из Египта, либо из Индии, причем главной ярмаркой месопотамских мореплавателей служил остров Бахрейн в Персидском заливе (Oppenheim, 1954). Как показывает Рао, печати Индской долины найдены при раскопках в Двуречье от Ура и Урука, вблизи Персидского залива, до Брака в Сирии, в районе турецкой границы, а Дейлз на основе недавних раскопок сложных портовых сооружений харанпского периода в долине Инда приходит к выводу, что хараппцы вели «высокоорганизованную морскую торговлю» с Двуречьем и другими странами на Западе (Rao, 1963)[256]. Привозные броши из слоновой кости с типично египетскими мотивами настолько обычны среди археологических находок на территории древнего Двуречья, что образцы этих изделий представлены в большинстве иракских музеев, а в Государственном музее в Багдаде им отведен целый зал. Однако менее известно, что Амье, изучая ранние образцы месопотамской иероглифики, обнаружил, что древнейший доклинописный знак для понятия «судно» был тождествен египетскому иероглифу, обозначающему понятие «морской». Еще до того Фалькенштейн показал, что иероглиф «судно» весьма обычен в шумерских текстах III тысячелетия до н. э. Этот знак изображает серповидную камышовую ладью с поперечной вязкой и причудливыми крючковидными украшениями на носу и на корме (Amiet, 1961; Falkenstcin, 1936)[13, 110]. Выходит, еще до того, как около 3000 г. до н. э. в Двуречье и в Египте утвердились континентальные цивилизации, по обе стороны Аравийского полуострова пользовались одним и тем же своеобразным иероглифическим знаком с общим смыслом, специфический вид которого не знает параллелей больше нигде в мире. Нос или корма ладей того же типа послужили прообразом для другого иероглифа. По Фалькенштейну, в древнейшем письме Двуречья шумерский знак, обозначающий понятие «господин» или «почтенный муж»
(эн), изображает нос камышовой ладьи; видимо, кормчий обычно стоял на носу своего судна.
Иероглифы, а также религиозное и мнемоническое искусства свидетельствуют, что камышовые ладьи составляли неотъемлемую часть культуры Двуречья еще до возникновения здесь городов-государств и, вероятно, были единственным типом судов во времена первых династий. По мнению Амье, указанный иероглиф отображает настолько древнюю конструкцию, что она вышла из употребления при I династии и сохранялась только для религиозных целей, тогда как более распространенные виды камышовых лодок использовались на бывшей шумерской территории вплоть до нашего столетия.
Морские суда древнего Ура и их драгоценные грузы из заморских стран постоянно упоминаются на древнейших шумерских глиняных плитках, и Оппенхейм отмечает, что речь шла о «чрезвычайно больших» судах. Так, в документах III династии говорится о судах грузоподъемностью 300
гур, что отвечает 96 тысячам литров, или почти 100 т. В своем исследовании судов древних вавилонян Салонен ссылается на плитки с описанием судов, перевозивших более 50 т груза; он тоже заявляет, что судостроение в Двуречье, несомненно, начиналось с камышовых ладей, которые затем послужили образцами или прототипами для первых дощатых конструкций (Oppenheim, 1954)[238]. Может быть, кому-то затруднительно представить себе, что примитивные в наших глазах люди строили и использовали поистине большие корабли, рядом с которыми папирусные «Ра I» и «Ра II» покажутся карликами. Но ведь еще труднее было бы поверить, что те же люди могли сооружать пирамиды, подобные саккарской в Египте или урским и урукским в Ираке, если бы мы не видели воочию долговечных конструкций из камня и кирпича, а знали о них только по письменным источникам.
Камышовые ладьи с солнечным богом, птицечеловеками и другими божествами на борту, нередко с надстройками, рогатым скотом и другими признаками больших размеров судна чрезвычайно часто встречаются на древнейших шумерских печатях, которые находят даже в верховьях рек-близнецов, на бывшей хеттской территории в Южной Турции. Большие ассирийские рельефы из древней Ниневии реалистически отображают морской бой на камышовых ладьях. Врывающиеся на суда противника воины отправляют побежденных за борт, к рыбам и крабам. Камышовые ладьи и бревенчатые плоты предшествовали деревянным судам как в Малой Азии, так и в Египте; об этом же говорят изображения судов на печатях и в петроглифах древних цивилизаций Кипра, Крита и Мальты.
Среди древнейших известных нам изображений судов нет ни одной простой, прямой долбленки. У всех лодок изогнутые вверх нос и корма; большинству вообще придана серповидная форма — стилизованный прием передачи камышовой ладьи. В древнем искусстве вовсе не увидим переходных форм от долбленки к первым деревянным судам, зато путь от папирусной ладьи до первых деревянных кораблей отчетливо прослеживается в более позднем и утонченном искусстве Египта фараоновой поры, а также при прямом изучении древнейших известных нам остатков деревянных конструкций со шпангоутами. Вообще в областях Внутреннего Средиземноморья, где зарождалось мореплавание, древнее искусство показывает, что все ранние типы морских судов строились либо из камыша, либо по образцу камышовых ладей. Сами суда истлели и исчезли повсеместно, кроме сухих и надежно запечатанных гробниц в пустынях Египта; здесь-то нам и следует искать объяснения, почему первые деревянные суда сохраняли форму камышовой ладьи.
Воспроизводя по заказу первых фараонов легендарные суда времен древних богов и божественных предков человека, художники неизменно рисовали серповидные папирусные ладьи со стилизованным цветком папируса на элегантно изогнутых оконечностях. Бог Солнца, птицечеловеки и всевозможные культурные герои и здесь совершают все свои плавания на папирусных, а не на деревянных судах. На памятниках изобразительного искусства только фараоны поздних династий показаны использующими деревянные суда наряду с более древними, папирусными, а ко II тысячелетию до н. э. почти все крупные суда, по-видимому, сшивались из досок; лишь охотничьи ладьи и лодки бедняков делались из связок папируса. Бросается в глаза, что все первые деревянные суда до мельчайших подробностей воспроизводят конструкцию папирусной ладьи, включая высокие крутые дуги носа и кормы, с присущей папирусному прототипу чашевидной оконечностью. Немалого труда стоило плотнику, работавшему с неподатливой древесиной, воспроизводить сложные изгибы, которые легко давались тем, кто связывал гибкий папирус.
Сама по себе тщательно выверенная форма фараоновых судов, как первоначальных, папирусных, так и деревянных имитаций, была рассчитана на преодоление прибоя и высокой волны. Но суда фараонов ходили только по Нилу, где нет никаких волн, лишь мелкая рябь и где для всех надобностей куда целесообразнее были бы баржи или плоские плоты, так что сохранять здесь сложные обводы было излишне. Таким образом, уже форма судов свидетельствует, что прототип папирусной ладьи древних египтян создавался для плаваний за пределами устья Нила.
Этот интригующий факт стал особенно очевиден, когда не так давно у подножия пирамиды Хеопса, в крытой плитами яме, были обнаружены огромные, хорошо сохранившиеся кедровые доски от фараоновой ладьи. Главный куратор археологических памятников Египта Ахмед Юсуф сумел заново сшить эти доски, продев новые веревки через старые отверстия, и мир увидел древнейшее дошедшее до нас судно, созданное около 2700 г. до н. э.
Общая длина корпуса — 43,4 м, и ему приданы такие изящные обтекаемые обводы, что викинги, тысячелетиями позже выходившие в море на более мелких судах сходной формы, не смогли их превзойти. Самое разительное отличие между родственными по виду конструкциями заключается в том, что ладьи викингов были рассчитаны на удары океанских волн, тогда как корабль Хеопса построили для парадных выходов и ритуалов на тихом Ниле. Первоначально связывавшие конструкцию веревки протерли на дереве борозды, свидетельствующие о том, что корабль Хеопса немало поплавал, это не «солнечная ладья», предназначенная исключительно для погребального ритуала. Однако совершенные мореходные обводы ладьи — обман: она рассыпалась бы при первом же столкновении с морской волной.
Этот парадокс кое-что говорит нам об истории мореплавания. Изысканные, специализированные обводы ладьи Хеопса — но только обводы — явно отрабатывались с расчетом на плавания в океане. Поперечные и продольные дуги, высоко и элегантно изогнутые кверху нос и корма — все это характерные черты морских судов, скользящих через прибой и могучие океанские валы. И однако же фараон Хеопс, живший около 5 тысяч лет назад на тихих берегах Нила, повелел сшить из тщательно пригнанных досок корабль, не ведая о роли шпангоутов, так что получилось судно, способное выдержать лишь речную рябь, хотя его конструктивная форма не была потом превзойдена ни одним морским народом. Нет сомнения, что превосходные обводы фараоновой ладьи — плод творчества корабелов, за плечами которых была долгая мореплавательская традиция, и столь же очевидно, что обводы эти во всем повторяли конструкцию более древней папирусной ладьи. Все специалисты сходятся в том, что ладья Хеопса вплоть до круто загнутой внутрь кормы с чашевидным цветком папируса на конце строго папириформна.
Итак, все наличные свидетельства говорят о том, что именно на папирусной конструкции развились все характерные черты морского судна и она послужила затем образцом для деревянных кораблей, а не наоборот. Конструкция папирусной ладьи уже была в совершенстве развита, когда фараоны I династии начали сооружать пирамиды на берегах Нила.
Практическое подтверждение, что папирусная ладья изначально создавалась и специально оснащалась для морских плаваний, получено во время моих экспериментов в 1969 и 1970 гг. Две папирусные ладьи были построены и испытаны на просторах Атлантического океана. Обе строились в соответствии с принципами, которые отражены в древнеегипетском искусстве; воссоздавая папирусный корпус, а также оснастку, рубку и рулевые весла, мы руководствовались рабочими чертежами крупнейшего знатока египетских судов — Бьёрна Ландстрёма, вобравшими все детали, подмеченные им в ходе тщательнейшего изучения этого предмета. Поскольку ни он, ни другие египтологи не знали, как связывать вместе стебли папируса, чтобы получилась прочная серповидная конструкция, строить «Ра I» было поручено мастерам из племени будума, живущего на озере Чад в Центральной Африке, а «Ра II» связали индейцы племени аймара с озера Титикака в Южной Америке. Оба экспериментальных судна были спущены на воду в древнем финикийском порту Сафи в Марокко. «Ра I» прошла свыше 3 тысяч миль, прежде чем начала разрушаться в американских водах, а «Ра II» преодолела за 57 дней 3270 миль и благополучно достигла острова Барбадос в Карибском море. Эти экспедиции показали ошибочность господствовавшего мнения, будто папирус должен тонуть через две недели; на самом деле стебли от долгого пребывания в морской воде не гнили, а становились крепче и туже. При правильной вязке папирус — идеальный материал для надежных и прочных судов.
Дефект «Ра I» сам по себе подтвердил, что древнеегипетская оснастка была рассчитана на то, чтобы легко всходить на прибой и высокую волну в открытом море. Мы пренебрегли вопросом, решение которого было подсказано египтянам опытом. Всякому относительно большому судну грозит опасность сломаться поперек, когда его поднимет посередине высокая волна, так что нос и корма повиснут в воздухе, или же когда оно взмостится на двух волнах без опоры посередине. Чтобы папирусная ладья могла ходить по морю не разламываясь, замечательные конструкторы составили ее из двух взаимосвязанных компонентов. Приблизительно на ¾ длины, считая от носа до середины кормовой палубы, корпус поддерживают параллельные штаги, закрепленные за колена двуногой мачты. Остальная часть кормы может в известных пределах колебаться независимо совсем немного, причем ее неизменно возвращает в исходное положение хитроумная пружина: кончик загнутой внутрь высокой кормы соединяется крепким канатом с палубой примерно вровень с местом крепления последних штагов.
До нашего эксперимента ученые и моряки единодушно считали, что эта «струна» призвана лишь сохранять изгиб кормы, преследующий исключительно эстетические цели. Лодочники с Чада показали нам, что корма сохраняет красивый изгиб и без каната; тут они были совершенно правы, поэтому мы вышли в море без «струны», и кормовой завиток на самом деле сохранял свою форму. Но зато начала прогибаться вся корма, кончилось тем, что только завиток и торчал над водой. Мы слишком поздно постигли секрет, который могли поведать нам лишь древние египтяне: смысл струны не в том, чтобы держать завиток, а в том, чтобы поддерживать колеблющуюся корму. Хитроумное приспособление это не могло быть придумано на реках и было совершенно ни к чему на тихом Ниле. Отсюда ясно, что древние египтяне разработали специальную оснастку, позволяющую гибким папирусным кораблям плавать на сильной волне.
Только тот, кто сам строил ладью из стеблей и веревок, поймет, какое высочайшее мастерство требовалось, чтобы изображенные на египетских фресках изящные конструкции сохраняли свою форму в бурном море. Наши чадские лодочники избрали простейший путь, связывали вместе один бунт за другим переплетающимися веревками, и вышло подобие толстого многослойного плота с изогнутыми кверху конусами носа и кормы, как это показано на профильных изображениях египетских ладей. Однако в море импровизированная конструкция кормы, как уже говорилось, начала оседать; волны без помех врывались на борт сзади, и под их ударами привязанная к палубе рубка ерзала взад-вперед, перетирая скрепляющие корпус веревки. На египетских фресках и рельефах не показаны наслаивающиеся связки и переплетающиеся веревки, видно только толстый бунт с загнутыми кверху конусами на концах и сплошную поперечную вязку. Можно подумать, что ладья представляла собой одно-единственное веретено с завитками на концах, но такой вариант исключен, ведь цилиндрическое судно каталось бы, как бочка, да и палубу примостить негде. Но египетские суда всегда изображены в профиль, и весьма примечательно, что в современном мире есть только одно место, где вяжут ладьи с таким же точно профилем, а именно Южная Америка.
Цивилизация солнцепоклонников, которые внезапно принялись воздвигать пирамиды на берегах Северного Перу, оставила потомству керамические модели камышовых ладей, показывающие, что второй толстый бунт, не видный в профиль, обеспечивал и устойчивость этого своеобразного судна, и опору для палубы. В поисках строителей для «Ра II» мы установили, что в наше время мастера, способные построить ладью по давно забытым египетским и месопотамским принципам, остались только среди индейцев аймара, уру и кечуа в Южной Америке. Их способ сборки плотного, остойчивого корпуса из двух цилиндров, без узлов на переплетающихся веревках сводится к следующему. Между двумя толстенными бунтами помещается тонкий третий. Длина бунтов одинаковая, около 10 м, но если толщина среднего — 0,5 м с небольшим, то боковые достигают в сечении 2,5 м. Взяв одну длинную веревку, соединяют спиральной вязкой тонкий бунт сначала с одним, затем с другим бунтом. После чего объединенными усилиями нескольких человек обе спирали затягивают так, что средний бунт не просто сжимается боковыми, но как бы совершенно сливается с ними, образуя невидимую сердцевину (см. рис. 4, а — ж).
Продольная борозда в месте встречи двух бунтов не может служить надежной опорой для тяжелой мачты. Отсюда возникла потребность в двуногой мачте, каждое колено которой твердо опирается на свой бунт. Именно такой мачтой пользовались все южноамериканские индейцы, а также древние египтяне; и хотя на деревянном судне двуногая мачта не нужна, она долго сохранялась по традиции, пока во времена более поздних фараонов не уступила место применяемой поныне одинарной мачте. Так что двуногая мачта, на которой человек впервые поднял парус, была создана для ладьи из двух бунтов, а не для дощатого судна.
Древнейший, известный нам по египетским изображениям парус — трапециевидный, вверху он намного шире, чем внизу. Ходя под парусом по Нилу, я не мог взять в толк, почему утвердилась гипотеза, будто такая форма египетского паруса вызвана тем, что берега реки обусловливают минимум ветра над поверхностью воды. Странная логика: ведь тогда парус следовало бы делать шире как раз внизу, где ветер якобы слабее. К тому же на участках, где в основном происходит навигация, река настолько широка и берега так низки, что они вряд ли могли служить препятствием для ветра. И наконец, если все дело в Ниле, почему трапециевидная форма паруса не сохранилась здесь до наших дней? Выйдя в море,
команда «Ра» убедилась, что напрашивается другое объяснение: папирусная ладья настолько остойчива, что может нести гораздо большую парусность, чем любое деревянное судно тех же размеров; вместе с тем при компактной конструкции лодки-плота палуба размещается так близко к воде, что парус внизу не должен быть шире корпуса, иначе его захлестнут гребни волн по бокам ладьи. Добиваясь максимальной парусности, допускаемой остойчивой конструкцией, ширину паруса увеличили за пределами досягаемости волн, и неизбежно возникла трапециевидная форма.
Впервые в наши дни во время экспедиций «Ра» был испытан давно исчезнувший своеобразный рулевой механизм, который видим на древнеегипетских изображениях. По египетскому образцу мы изготовили два семиметровых рулевых весла с широченными лопастями и укрепили их наклонно по бокам кормового завитка. В нижней части веретёна крепились к уложенной на палубе поперечине, в верхней — ко второй поперечине, помещенной над палубой подальше от завитка. Поскольку весла крепились в двух точках, ими нельзя было свободно маневрировать, как обычным рулевым веслом; они вращались вокруг своей оси наподобие руля с длинным баллером. Верхний конец веретена был снабжен маленьким румпелем, а чтобы один человек мог одновременно работать двумя веслами, оба румпеля соединялись подвешенной к ним на лине деревянной рейкой.
Уязвимость этих рулевых весел с длинным веретеном и широкой лопастью выявилась во время плавания «Ра I», поскольку веретёна непрестанно ломались и приходилось их сращивать. Не располагая крепким и упругим ливанским кедром, который применяли древние египтяне, мы объясняли поломки пороками использованной нами древесины, и для «Ра II» сделали веретёна толще и из более крепкого дерева. Кроме того, усилили веревочные крепления на мостике и на уровне палубы, чтобы весла лучше противостояли ударам больших волн. Лишь после того как громадная волна все же переломила одно из толстенных рулевых весел «Ра II», опыт научил нас, что внизу, на уровне палубы, следовало крепить весло более тонким линем, чем наверху, на мостике, — тогда мощная волна порвала бы линь, а весло просто отнесло бы в сторону и мы легко закрепили бы его снова.
Когда мы по возвращении рассказали Бьёрну Ландстрёму о практическом решении единственной испытанной нами проблемы с рулевыми веслами, он тотчас понял смысл одной детали, которую не раз наблюдал на древнеегипетских изображениях. Копируя многочисленные рисунки, он обратил внимание на странный факт: как правило, внизу рулевые весла явно крепились более тонкими веревками или меньшим количеством витков, чем наверху. Он не подозревал, что это неспроста, пока не услышал от нас, что крепления должны быть разной толщины и нижнее играет роль предохранителя. Перед нами еще одно убедительное свидетельство, что древние египтяне выходили за пределы устья Нила, на бурные просторы моря.
Внимательное изучение изображений судов додинастической поры, высеченных на скалах от Египта до Алжира и представленных в искусстве Двуречья и Средиземноморья того же времени, а также кораблей, запечатленных художниками фараонов, и древнейших судов, раскопанных археологами, вроде папириформной деревянной ладьи Хеопса, вкупе с результатами, полученными при испытании папирусных судов в открытом океане, показывает, что суда с дощатым полым корпусом начали служить человеку для мореходства после камышовой ладьи.
Все наличные данные говорят о том, что около 3000 г. до н. э. пионеры судостроения на Ближнем Востоке совершили переворот, заменив компактные бунты из стеблей полым деревянным корпусом, причем во время долгого переходного периода имитировались характерные обводы прежней ладьи. Народы, располагавшие легко расщепляемым и поразительно долговечным ливанским кедром, — например, хетты и финикийцы — рано отказались в судостроении от папируса, который получали, ведя заморскую торговлю с Египтом. А там и сами египтяне начали ввозить ливанский кедр для своих грузовых и увеселительных судов, ходивших по Нилу. Торговые связи морских народов этой области приобрели такой размах, что в древнем порту Библ в Ливане выделили особую гавань для торговли с Египтом, причем главное место в вывозе занимал кедр, а в ввозе — папирус и египетский гранит. Папирусные ладьи из Египта, упоминаемые иудеями в Библии, уступили место деревянным судам, изображения которых вытесняют серповидные ладьи с поперечной вязкой бунтов, высеченные на стенах иудейских склепов.
Для обмазки судов в древности обычно употреблялись смола, деготь или битум. В Египте мать Моисея обмазала смолой папирусную корзину, в которой пустила свое дитя плавать по Нилу (Исход, 2, 1–3)
[11].
Иудеи не первыми описали потоп, от которого спаслась только одна семья, построив большое судно. Древние шумеры в III тысячелетии до н. э. записали на глиняных плитках, что задолго до их времени существовала цивилизация и были города. Верховный бог повелел истребить потопом человечество за его прегрешения, но шумерский бог вод Энки (соответствует Посейдону древних греков) предупредил благочестивого царя по имени Зиусудра о предстоящей опасности и «научил его, как спасти себя, построив очень большой корабль». К сожалению, часть текста, описывающая строительство, не уцелела, но мы читаем, что потоп покрывал бурей землю семь дней и семь ночей и корабль бросало на огромных волнах, покуда бог солнца Уту не озарил светом небо и землю, после чего Зиусудра отворил отдушину, с благодарностью простерся ниц и принес в жертву быка и овцу. Интересно отмстить: если, по иудейской версии, Ной пристал к горе Арарат в истоках Тигра и Евфрата, то, по мнению древних шумеров, Зиусудра причалил со своим кораблем к острову Бахрейн (Дильмун). Отсюда он, подобно самому богу вод Энки, направился в Ур в Двуречье, где основал шумерскую цивилизацию (Kramer, 1944)[191].
Небольшие открытые лодки
джиллаби и круглые
гуффа — те и другие из ребер, покрытых камышом и осмоленных внутри и снаружи, подобно Ноеву ковчегу, — ходят поныне на реках Ирака. В Государственном музее в Багдаде хранятся древнешумерские модели обмазанных битумом
джиллаби. Возможно, эти конструкции из обшитых камышом ребер представляют переход от бунтовых ладей к пришедшим им на смену дощатым судам. Разве не логично предположить, что первый корпус из шпангоутов обшивали древнейшим материалом корабелов — камышом и папирусом, которые в изобилии росли в Двуречье и Египте, зато почти отсутствовали в Ливане, где, насколько нам известно, впервые появились деревянные корабли.
Древнее искусство Кипра и Крита тоже отражает переход от связанных вместе бунтов к первым папириформным деревянным кораблям, предшественникам судов Древней Греции и Рима. Европейские дуб и сосна постепенно сменили в судостроении исчезающий кедр, и в конце концов на морях воцарились всевозможного вида деревянные корабли с высоким бортом, нисколько не похожие на первоначальный папириформный прототип. К тому времени, когда прочный стальной лист начал замещать уязвимые деревянные доски, на море почти не осталось камышовых судов. К числу рудиментарных исключений относятся: маленькие
кабальито из камыша
тотора в районе Хуанчако на севере Перу;
мадиа и
шафат из стеблей
хаб в районе Ликса на атлантическом побережье Марокко;
джассони на острове Сардиния и
папирелла на Корфу из местного камыша; наконец, большие
га́ре из камыша
берди во внутренней части Персидского залива. Сохранившиеся в других местах морские плоты из бунтов обычно вяжутся из полого тростника и быстро теряют плавучесть. В остальном настоящие камышовые ладьи в нашем веке сохранились только на внутренних водах, самые большие — на озерах Чад и Титикака по разные стороны Атлантического океана, где мы и нанимали строителей для «Ра I» и «Ра II».
Почему с появлением деревянного корпуса так резко упал интерес к древней папирусной ладье? Одно из объяснений может заключаться в том, что папирус по не известной ботаникам причине совершенно исчез в нижнем течении Нила. В наше время его совсем нет в Египте, если не считать недавно основанную в Каире плантацию для производства туристских сувениров. Для «Ра I» и «Ра II» пришлось заготавливать папирус в истоках Голубого Нила в Эфиопии и везти многочисленные связки по суше до Красного моря.
Однако при всем совершенстве конструкции папирусные суда не могли соперничать с деревянными в долговечности. Обнимающие днище веревочные витки постепенно стирались, если судно часто вытаскивали на берег, так что крупная камышовая ладья могла послужить от силы года два. Несомненно, большая долговечность и скорость деревянных судов в конечном счете оказались важнее всех достоинств древнего бунтового судна. А достоинства были: бунтовая ладья намного надежнее в море и берет больше груза.
Хорошо связанная камышовая ладья классического типа, уцелевшего в наши дни только на подверженном штормам горном озере Титикака в Центральных Андах, вне всякого сомнения, самое надежное судно, когда-либо изобретенное мореплавателями. Плотная, словно литой резиновый мяч, и плавучая, как пробка, она с легкостью морской птицы перемахивает через гребни, и ей не страшны никакие ураганы, поскольку нет полого корпуса. Бунты позволяют входить в зону прибоя и мелководья, не боясь течи и захлестывающей волны.
Прежде чем десятки тысяч бесценных папирусных манускриптов погибли в огне, Эратосфен, главный библиотекарь огромной египетской библиотеки в Александрии, в дельте Нила, записал, что «папирусные суда с такими же парусами и снастями, как на Ниле» доходили до Цейлона и даже до устья Ганга. Позднее римский историк Плиний, цитируя ученого-библиотекаря в своем географическом описании Цейлона, подчеркивал, что папирусным ладьям на путь от Ганга до Цейлона требовалось 20 дней, а вот «нынешние» римские суда проходят то же расстояние в семь дней (Plinius, 77)[248].
В переводе на путевые единицы получается, что папирусные суда в таком переходе покрывали в сутки около 75 миль (почти 140 км), что соответствует скорости более трех узлов. Это хорошо согласуется со скоростями, которые мы развивали на «Ра I» и «Ра II», пока осадка не возросла из-за намокания бунтов и скорость понизилась до двух узлов с небольшим.
Стебли для «Ра I» и «Ра II» были срезаны в декабре. Некому было сказать нам, что плавучесть папируса зависит от времени года, когда он заготовлен. Эфиопы, срезавшие для нас папирус на озере Тана, выходили на своих лодках на один день для рыбной ловли или на три-четыре дня для перевозки грузов, после чего вытаскивали лодки на берег для просушки; проблема постепенного намокания их не беспокоила. Из-за ошибки при конструировании кормы «Ра I» мы потеряли много стеблей папируса, и они плыли у нас в кильватере, но не тонули. «Ра II» совершенно пропиталась водой, так что палуба была вровень с поверхностью моря, и все же ладья благополучно пронесла надстройки, груз и команду через всю Атлантику — от бывшего финикийского порта до тропической зоны Америки. Кратчайшее расстояние между Африкой и Южной Америкой составляет лишь половину 3270 миль, пройденных «Ра II», стартовавшей недалеко от Гибралтара. Но и «Ра II» могла бы совершить свой рейс быстрее, чем за 57 дней, сохрани она скорость, которую развивала вначале при сухом корпусе, а именно 4–5 узлов.
Лишь после плаваний на «Ра», в 1972 г., я узнал от болотных арабов, живущих в месте слияния Тигра и Евфрата на юге Ирака, что стебли, срезанные в августе, гораздо дольше сохраняют первоначальную плавучесть. Камышовые лодки, все еще широко применявшиеся здесь в годы первой мировой войны, теперь стали редкостью. В 1972 г. мне кроме упомянутых выше
джиллаби и
гуффа в камышовой обшивке с битумной обмазкой довелось увидеть только одноместные плоты из трех связок, соединенных плугом. Камышовые суда с обмазкой могут держаться на воде сколько угодно. Однако плавучие камышовые острова, на которых в наши дни многие болотные арабы строят свои постоянные жилища, — свидетельство того, что даже непромазанные стебли, срезанные в надлежащее время года, поразительно долго сохраняют плавучесть
[12]. Под Басрой комбинат, производящий фибровый картон, закупает плоты из камыша
берди, сплавляемые по реке болотными арабами. В 1972 г. я видел с полдюжины причаленных к берегу огромных и весьма прочных камышовых плотов
гаре. Вот размеры одного из них: 33 м в длину, 6 м в ширину, 3 м в высоту. Это намного больше «Ра II», длина которой достигала всего 12 м. Плотам
гаре приходится порой по году ждать, когда настанет их очередь поступить на переработку, и все это время они сохраняют плавучесть. Иной раз можно увидеть на плоту тростниковую хижину — владелец живет в ней и готовит себе пищу на глиняном очаге, используя как топливо сухие стебли. Огромные
га́ре, как и папирусные
кадай на озере Чад, перевозящие до 40 т груза, включая рогатый скот, позволяют нам представить себе размеры судов, которые могли конструировать строители пирамид Двуречья и Египта. Так что не следует удивляться, читая в древних текстах Ура про купеческие суда, способные перевозить до 300
гур, что примерно равно 100 т.
Сухие стебли месопотамского
берди, подобно стеблям египетского папируса и перуанской
тоторы, легко ломаются и крошатся, но после вымачивания в воде становятся гибкими и тугими, как трос, вдвоем не разорвать. Плотные камышовые бунты, туго связанные веревкой по спирали, твердостью равны резиновой покрышке, прочностью — дереву. Правда, бечева и веревки, сплетаемые местными строителями лодок из волокон того же камыша, либо пальмы
дум, либо еще какого-нибудь растения, не могут сравниться с великолепными, классическими пеньковыми веревками, некогда тщательно изготовлявшимися их древними предками. Об этом убедительно говорят хорошо сохранившиеся веревки и канаты, найденные в склепах пустынь Египта, Ирака и Перу. Большое деревянное судно может быть разрушено сильной волной. Это ограничивает его размеры, но для папирусной ладьи такого ограничения нет. Теоретически корабль из бунтов может достигать величины современного океанского лайнера, лишь бы судовладелец располагал нужным количеством сырья и рабочей силой
[13].
Свойства известных нам стеблей, форма египетских, месопотамских и перуанских судов с загнутыми вверх носом и кормой и специфическими морскими обводами, с обеспечивающими гибкость конструкции снастями и пружинящей кормой, с двуногой мачтой, опирающейся на два одинаковых бунта, с трапециевидным парусом, не боящимся волн, с рулевым устройством, включающим «предохранитель» для защиты от сильной волны, — все это говорит о том, что перед нами весьма совершенная конструкция, созданная специалистами для морских перевозок, а не для речного транспорта. Такие суда снаряжались в далекие плавания до того, как их обводы и оснастка были скопированы конструкторами более долговечных кораблей из толстых досок. Долбленка так и не развилась в парусное судно с полым корпусом на шпангоутах. Полинезийцы и американские индейцы наращивали досками борта в тех случаях, когда не располагали достаточно большими стволами, но это был тупиковый путь, такие суда все равно не отклонялись от типа каноэ. Однако принцип вытеснения воды воздухом был заимствован месопотамцами у долбленки, когда они начали строить свои первые корпуса из камыша, обмазанного битумом, и когда корабелы Ближнего Востока около 3000 г. до н. э. перешли на строительство деревянных судов, копируя обводы и оснастку древнейших морских камышовых ладей. Таким образом, современные парусники, потомки древних конструкций Средиземноморья, происходят от двух предков — полого древесного ствола и связки плавучего камыша.
Глава 2
Пути через океан
Человечество в своем распространении никогда не располагало полной свободой передвижения. Странствия древнего человека всегда определялись и ограничивались естественными преградами и присутствием других людей. Передвигаясь пешком или на примитивных транспортных средствах, человек наталкивался на трудно преодолимые или вовсе неодолимые препятствия в виде суровых горных цепей с ледниками и обрывами, болот, пустынь, глухих лесов, арктических льдов, океанских просторов; его останавливали прежние поселенцы и враждебные племена. Ранее сложившиеся общины, несомненно, были главным препятствием для свободного передвижения во всех пригодных для обитания областях, исключая самую древнюю пору, когда первобытные люди, занимавшиеся собирательством, приходили в места, освоенные до них только зверями и птицами.
Для пешехода океан и впрямь был могучей преградой. Встреча с морем останавливала продвижение, вынуждала менять маршрут и исследовать берег в ту или иную сторону. Точно так же озеро или большая река вынуждали первобытного человека двигаться вдоль их берегов, исследуя неведомые края. Однако текущая вода была не просто пассивным проводником — она манила проехать на каком-нибудь плавающем предмете до знакомой обители или до «терра инкогнита».
Известно, что реки послужили для человека первыми дорогами в местах с густыми дикими лесами, где таились неведомые враги и опасности. Известно, что в расселении по Азии, Африке, Европе и Америке человек в полной мере использовал преимущества созданных природой внутренних водных путей. Инд, Тигр, Евфрат, Нил, Волга, Дунай, Магдалена — вот лишь несколько наиболее очевидных примеров рек, привлекавших основателей древних цивилизаций. Реки мы видим воочию, как бы медленно и ровно ни текли они по земле. Но океанских течений мы не видим, а потому склонны забывать про самые могучие и великие потоки, незримо скользящие среди водных берегов. Крупнейшая из рек, берущих начало в Перу, — не Амазонка, устремленная на восток через Бразилию, а Перуанское течение, направляющееся на запад, через Тихий океан. Самая могучая река Северной Африки не Нил, а Канарское течение, дельта которого среди островов Карибского моря приносит африканскую морскую воду в Мексиканский залив. Постоянные течения, опоясывая океаны, образуют пути, соединяющие континенты.
Следующий ниже текст призван напомнить, что Американский континент окружен не безжизненным водным пространством — он расположен в сердце живого океана, пронизанного системой своих вен и артерий. В этой главе соединены два материала. Основу составляет первая часть доклада о первобытном мореходстве, представленного XIII конгрессу тихоокеанистов в Ванкувере в 1975 г. и опубликованного годом позже в трудах конгресса в качестве главы 13. Вторая половина доклада здесь опущена, ее тема относится к главе 6 настоящего сборника, а вместо этого взяты положения из доклада «Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба», написанного для XXXV Международного конгресса американистов в Мексике в 1962 г. и вошедшего в труды этого конгресса в 1964 г.
Наука подобна дереву: по мере роста она обзаводится все новыми и новыми ветвями. Ученый прошлого мог охватить разумом ствол, но никто из нас, ныне живущих, не в состоянии объять умом все ветви. Мы можем лишь пожинать плоды. Когда-то достаточно было сказать об ученом, что он антрополог, и мы уже ясно представляли себе круг его занятий. Теперь иное дело. Быстро развиваясь и расширяясь, антропологические науки охватили все стороны жизни и деятельности человека во всех концах света в прошлом и в наши дни. Специализация далеко развела ученого, занимающегося группами крови, от его коллеги, изучающего социальные вопросы, или лингвистику, или археологию.
Есть в антропологических науках отрасль, чрезвычайно важная для понимания взаимоотношений и взаимозависимости культур, которой, однако, до сих пор уделяли куда меньше внимания, чем другим сторонам человеческой деятельности. Речь идет о примитивном мореходстве.
Но если оно примитивное, это еще не значит, что предмет сей настолько прост и незатейлив, что тут довольно интуиции и скороспелых утверждений и можно обойтись без надлежащих исследований, проводимых при изучении других сторон древней культуры, о которых никто из нас не решится писать, не ознакомившись с ними лично или по источникам.
След мореплавателя стирается через секунду после того, как прошло его судно, и в море современным исследователям остается только изучать затонувшие корабли и груз, иногда находимые в мелких водах на континентальном шельфе. Конечно, подводная археология привлекает все больше молодых исследователей, но вообще-то дискуссия о примитивном мореходстве основывается прежде всего на изучении древних моделей и изображений на древних фресках, петроглифах, рельефах, в лепной и расписной керамике. А потому суждения о таких важных вещах, как мореходные качества, грузоподъемность и дальность плаваний доисторических судов, носят, как правило, чисто теоретический и подчас совсем ненаучный характер.
Слишком часто заключения о том, могло или не могло то или иное судно доставить человека живым из одной точки в другую, основывалось на предвзятых мнениях о том, был или не был культурный контакт между данными районами. Обратившись к литературе, мы увидим, что диффузионисты обычно приписывают почти неограниченные возможности любому примитивному судну, призванному подтвердить ту или иную миграционную гипотезу. Напротив, изоляционисты будут отрицать мореходные качества того же судна на том основании, что указанные диффузионистами культурные параллели объясняются-де не трансокеанским контактом, а независимым развитием в одном направлении.
Другими словами, суждения о тех или иных примитивных судах, знакомых исследователям только по моделям или графическим изображениям, обычно оказываются лишь косвенными выводами, которые определяются различием взглядов на генезис культурных параллелей на суше и совсем не учитывают качеств данного судна. Предстоит немало потрудиться, чтобы предмет примитивного мореходства занял достойное место в ряду многих других научно обоснованных и добившихся немалых достижений отраслей антропологической науки.
Еще прискорбнее то, что изъявления чисто личных мнений из антропологической литературы проникают в другие дисциплины под видом научных сведений. Между тем ученым других областей, не связанным прямо с антропологическими науками, подчас необходимо верно представлять себе, как далеко могли в древности заплывать участники дрейфов и морепроходцы. Так, — и это будет показано дальше — занимающиеся островами Тихого океана ботаники и зоологи, выясняя, как тот или иной вид фауны или флоры распространялся здесь до прихода европейцев, прямо зависят от того, что скажут антропологи. В растительном и животном мире тихоокеанских островов немало окультуренных и одомашненных видов непонятного происхождения. Многие растения по чисто ботаническим причинам никак не могли пересечь океанские просторы без помощи человека, и, однако же, они проникли на самые уединенные в мире острова до того, как сюда пришли европейцы. В таких случаях выглядит парадоксом, что ботаник обращается за объяснениями к антропологу, а не наоборот, ведь генетические данные биолога куда надежнее указывают пути и расстояния, пройденные древним переносчиком, чем теоретические суждения о возможной дальности плаваний древних мореходов. А так как вопросы примитивного мореходства представляют собой явный вакуум в области антропологических наук, догадки о дальности плаваний, которые могли совершаться доисторическими или протоисторическими судами, не раз оказывались ошибочными.
Мы, дети XX в., независимо от профессии находимся в плену своих представлений о том, какие средства нужны, чтобы преодолеть Мировой океан, а потому руководствуемся догмами, противоречащими известным фактам. Автору пришлось три раза пересечь океан на плоту и провести немало других практических экспериментов, чтобы убедиться, как далеки от реальности наши современные суждения о том, что необходимо для выживания на море, и сколько еще практических исследований нужно провести, прежде чем наши познания о примитивном мореходстве обретут силу подлинной науки.
Чтобы дискуссия о возможностях примитивного мореходства стала сколько-нибудь реалистичной, сперва надо развеять четыре ошибочных представления:
1. Водонепроницаемый корпус не единственный и даже не лучший способ обеспечить себе безопасность в море.
2. Неверно считать, будто безопасность в океанских плаваниях прямо пропорциональна размерам судна и высоте палубы над водой.
3. Не подтверждается фактами широко распространенное заблуждение, будто для примитивных мореплавателей спокойнее и легче прижиматься к берегу материка, чем выходить в открытый океан.
4. Логическое заключение, что путь из пункта А в пункт Б равен пути из пункта Б в пункт А, верно на суше, однако ошибочно на море.
Чтобы легче было принять эти на первый взгляд еретические утверждения, рассмотрим каждое из них, ведь они играют существенную роль для понимания того, что могло и чего не могло произойти, скажем, в Атлантике и Тихом океане до появления европейских каравелл.
1. Примитивные суда, как уже говорилось, можно разделить на два типа, основанные на совершенно разных принципах: суда с водонепроницаемым корпусом и суда, пропускающие воду через днище. В ряду множества разновидностей первого типа стоят, например, мореходные каноэ индейцев Северо-Запада
[14] и полинезийцев, азиатские джонки и проа, открытые ладьи финикийцев и викингов. Вторая категория включает бревенчатый бальсовый плот Южной Америки; камышовую лодку, используемую в прошлом в той же области, и аналогичные конструкции Ближнего Востока, Древнего Средиземноморья, острова Пасхи и Новой Зеландии;
пахи, или лодки-плоты Мангаревы, Маркизских и Подветренных островов; четыре вида пропускающих воду
вака, принадлежащих мориори на островах Сан-Кристобаль (Чатем), и всевозможные азиатские суда из бамбука.
Судно с корпусом уязвимо, потому что его плавучесть обусловлена не материалом, а вытеснением воды соответствующим объемом воздуха. Деревянное судно, долго плавающее в тропических водах, подвержено воздействию червя-древоточца. Оно может быть потоплено захлестывающими его сверху волнами при повреждении днища штормом или не обозначенными на карте рифами. У судов второго типа плавучесть обусловлена самим материалом, которому и червь не страшен, и вычерпывать воду не надо, поскольку накрывшая судно волна сама уйдет в щели. Как сказано выше, малая осадка и компактная конструкция позволяют таким судам проходить среди рифов и мелей и выбрасываться на берега, к которым судно с корпусом не подойдет. Уже эти достоинства объясняют, почему моряки высокоразвитых цивилизаций Древнего Перу предпочитали свои два вида пропускающих воду судов-плотов, хотя и лодку с корпусом они прекрасно знали, однако пользовались ею только на реках. Когда бальсовый плот «Кон-Тики» выбросило на риф с наветренной стороны островов Туамоту, мы наглядно убедились, насколько безопаснее такое судно. Автору доводилось плыть в океане и на полинезийском каноэ, и в европейской открытой шлюпке, и он может подтвердить, что при шторме посреди океана или бедствии у берегов он не раздумывая предпочел бы очутиться на борту судна, пропускающего воду через днище.
2. Если говорить об аборигенных судах, безопасность мореплавания не возрастает с увеличением размеров, больше того, многочисленные эксперименты в Тихом и Атлантическом океанах убедили не только автора, но и других, что у примитивного судна длиной до 10 м больше шансов уцелеть в шторм, чем у судна того же типа, но больших размеров. Малые размеры, что очень важно, позволяют свободно передвигаться между валами и переваливать через них, тогда как судно, намного превышающее в длину 10 м, рискует зарыться в волну носом или кормой или же может переломиться посередине, если его поднимет сразу на двух гребнях. Штормовой ветер, способный нагнать волну, губительную для каравеллы средних размеров, не страшен малому плоту, скользящему через гребни и между ними.
3. Пуще всего мореплаватель на примитивном судне боится прибрежных вод; чем дальше от суши, тем безопаснее. В шторм ли, в тихую погоду океан всего коварнее вблизи берегов и над отмелями. Самые крутые и самые опасные волны образуются там, где океанский накат встречается у скал с откатом, да еще толчею усиливают приливно-отливные и другие местные течения. Посреди океана нет скал или рифов, преграждающих путь судам и течениям; волны длинные, ровные, и опасность крушения сведена, можно сказать, к минимуму. Вот почему совсем неверно столь частое в литературе утверждение, будто такой-то маршрут легче или менее опасен для примитивных мореплавателей потому, что пролегает вблизи берега, а не в открытом океане. В переходе через Тихий океан на плоту «Кон-Тики» настоящие опасности подстерегали нас лишь тогда, когда мы сблизились с островами и рифами Полинезии. Во время двух трансатлантических переходов папирусных «Ра I» и «Ра II» мы облегченно вздыхали, когда, пройдя около 600 миль вдоль грозных берегов Северной Африки, наконец прощались с сушей и оказывались во власти гладких, ровных валов в открытом океане.
4. Одно из главных различий при путешествии на суше и на море заключается в том, что в море очень трудно судить о расстояниях, поскольку измерения на карте не дадут точного ответа, все зависит от скорости судна. Так, по карте от Перу до островов Туамоту примерно 4 тысячи миль; между тем «Кон-Тики» достиг их, пройдя относительно поверхности океана всего четверть этого расстояния, то есть около тысячи миль. А дело в том, что за 101 день, пока длилось плавание, поверхность океана сама переместилась примерно на 3 тысячи миль в сторону Полинезии. Наш плот подвезла, так сказать, незримая река — Перуанское течение, идущее от берегов Перу в сердце Полинезии. Если бы другое аборигенное судно могло идти в обратном направлении с той же собственной скоростью, ему, чтобы достичь Перу, пришлось бы пройти от архипелага Туамоту по поверхности океана течения 7 тысяч миль. Другими словами, путевое расстояние и время оказались бы в 7 раз больше, чем для «Кон-Тики», хотя на карте путь один и тот же. Добавим, что под парусом нельзя идти по прямой против ветра, так что плыть навстречу маршруту «Кон-Тики» можно только галсами против мощного пассата, а это означает прибавку еще 2–3 тысяч миль к упомянутым семи.
Чтобы яснее представить себе, что путь относительно поверхности океана между двумя данными берегами определяется не столько расстоянием по карте, сколько типом судна, рассмотрим абсолютное расстояние от Перу до Маркизских островов — приблизительно 4 тысячи миль. Средняя скорость направленного на запад течения в этих водах — около 40 миль в сутки. Стало быть, если аборигенное судно идет на запад с собственной скоростью 60 миль в сутки, на самом деле оно будет проходить 60 плюс 40, то есть 100 миль, и совершит плавание от Перу до Маркизских островов за 40 дней. При попытке идти в противоположном направлении оно будет делать за сутки 60 минус 40, то есть 20 миль, и на путь от Маркизских островов до Перу понадобится 200 дней. Пусть собственная суточная скорость судна всего 40 миль; на запад оно будет идти со скоростью 40 плюс 40, то есть 80 миль в сутки, и достигнет Маркизских островов через 50 дней, а в обратную сторону при суточной скорости 40 минус 40, то есть ноль миль, вообще не оторвется от архипелага.
Есть еще один хорошо известный всем важный фактор, которым почему-то постоянно пренебрегают представители антропологических наук. Глядя на карту мира, легко забыть, что наша планета изображена на ней в сильно искаженном виде: меркаторская проекция растягивает приполярные области в ширину экватора. Если свернуть такую карту трубкой, чтобы запад и восток сошлись, получится не шар, а цилиндр. В таком виде обычно рассматривают землю и антропологи, предлагая свои гипотезы трансокеанских миграций. В дискуссии о передвижениях полинезийцев и других народов Тихоокеанского бассейна неизменно исходят из правильности меркаторской проекции и соответственно рисуют предположительные пути миграции. Часто выдвигаемая и не менее часто опровергаемая гипотеза, будто древние мореплаватели пришли в Южную Америку из тропических областей Азии, исходит из того, что переселенцы продвигались вдоль экваториального пояса, который на карте в самом деле кажется наиболее прямым и коротким маршрутом через Тихий океан. Гипотеза эта не получила окончательного признания, однако представление об экваторе как о прямой линии живо. Эта иллюзия, порожденная цилиндрической проекцией картографов, вновь всплыла, когда несколько археологов с международным именем не так давно принялись искать течение, которое могло доставить аборигенные суда из Японии в Эквадор и помочь объяснению неожиданных параллелей в древнейшей керамике этих двух областей. Снова предпочтение было отдано экваториальному пути, поскольку Экваториальное противотечение от Азии «идет прямо к Эквадору», тогда как проходящее северное течение Куросио «делает крюк через северную часть Тихого океана» («Ньюсуик», 19 февраля 1962 г., с. 49). Эта широко употребляемая формулировка пренебрегает тем, что наша планета — шар; на самом деле, Куросио — наиболее прямой и короткий из двух названных путей, не говоря уже о том, что это течение гораздо сильнее. Тихий океан занимает целое полушарие, так что неверно искать кратчайший путь вдоль экватора, который равен любой другой дуге большой окружности.
Индонезия и Перу — антиподы. По прямой расстояние между тихоокеанским побережьем Юго-Восточной Азии и Южной Америки через экватор ничуть не короче, чем через Северный полюс. Если наложить на глобус проволоку вдоль экватора от Суматры до Эквадора и, закрепив оба конца, смещать ее изгиб на север до Алеутских островов или Берингова моря, длина не изменится.
Памятуя, что огромный Тихий океан не гладкое озеро, а полушарие с одинаково длинными дугами с севера на юг и с запада на восток, получаем совсем другие предпосылки для реалистического подхода к вопросу о древних миграционных путях через этот исполинский водоем и вдоль его берегов.
Мы подошли здесь к весьма важному уроку, который нам преподает история: как возник так называемый маршрут каравелл в Тихом океане? Напомню, что азиатские берега Тихого океана были известны европейцам за 200 с лишним лет до того, как они узнали американские берега. Марко Поло достиг приморья Китая и Индонезии в конце XIII в., а Бальбоа, пройдя через Панамский перешеек, увидел тот же океан с другой стороны в 1523 г. Но хотя европейцы давно познакомились с культурами крайнего востока Азии, хотя португальцы учредили важные торговые посты на тихоокеанских берегах Филиппинских островов, а испанцы утвердились в других частях Малайского архипелага, ни одно европейское судно не выходило на просторы Тихого океана с этой стороны. Ветры и течения пресекали всякие попытки такого рода, и азиатские цивилизации, с которыми общались европейцы, ничего не ведали о чужих народах, живших за морями на востоке. Лишь после того как Колумб проложил европейцам дорогу в Америку, распахнулись географические ворота в Тихий океан. Как только испанцы пересекли Панамский перешеек и добрались до тихоокеанских берегов Перу, они услышали от инкских историков, что в двух месяцах плавания на запад от империи инков есть острова, населенные разными народами. Как будет показано дальше, инки сообщили необходимые данные для плавания к некоторым из этих островов, в том числе к Пасхе, но экспедиция Менданьи прошла мимо него из-за разногласий на борту, которые в последний момент привели к изменению курса. Тем не менее, пользуясь наставлениями инков, испанские каравеллы, выйдя из Перу, в одном плавании открыли Меланезию, а в следующем — Полинезию.
Принято считать, что парусники европейцев превосходили любые суда аборигенов; во всяком случае они им не уступали, а потому их плавания в незнакомом Тихом океане могут служить для нас надежным указателем возможностей примитивного мореходства. И оказывается, что в океанских плаваниях первооткрывателей решающую роль играли не расстояния, а направления ветров и течений.
Первым тихоокеанским островом, который обнаружили европейцы, был Гуам в Марианском архипелаге. Один из ближайших к Филиппинам и к Азиатскому материку, где уже обосновались европейцы, океанических островов, он, однако, оставался неизвестным до 1521 г., когда к нему подошел Магеллан со стороны далекой Южной Америки. В последующие столетия были открыты остальные острова Микронезии, в том числе Каролинские, Маршалловы и Гилберта, и все со стороны Америки, по большей части судами, выходившими из Мексики, откуда мощный пассат и Северное Экваториальное течение направляются прямо к Микронезии.
Затем в Тихом океане были открыты Соломоновы острова Меланезии; их обнаружила уже упомянутая экспедиция Менданьи, выйдя из Перу в 1567 г. Все дальнейшие открытия в Меланезии тоже были сделаны кораблями, выходившими из Южной Америки; самым важным было плавание Кироса, который вышел из Перу в 1606 г. и открыл Новые Гебриды.
Полинезия, как отмечено выше, была впервые обнаружена в 1595 г., когда Менданья в своем втором плавании из Перу пришел на Маркизские острова. Затем Кирос первым увидел Туамоту в 1606 г., а в 1616 г. Лемер и Схаутен, начав свое плавание в Чили, открыли острова Тонга. Остров Пасхи открыт в 1722 г. Роггевеном, тоже шедшим из Чили. Идя тем же маршрутом из Южной Америки, Байрон в 1765 г. обнаружил острова Кука; затем Валлис в 1767 г. вышел на Таити и острова Общества.
Почему же европейцы со стороны Азии не открыли ни одного из этих океанических островов? История и тут дает нам ответ. Европейские парусники, пройдя из Америки через весь Тихий океан, не могли вернуться тем же путем. Даже после того как с американской стороны мореплавателям открылся мир океанических островов, этот самый мир оставался недоступным для парусных кораблей, которые выходили из азиатских портов.
В 1527 г., после того как испанцы учредили важные торговые посты как в Мексике, так и в Малайском архипелаге, завоеватель Мексики Кортес решил снарядить экспедицию под руководством Сааведры, с тем чтобы он прошел от мексиканских берегов до Филиппин и обратно. Выйдя из Сакатулы, Сааведра достиг филиппинского острова Минданао. Годом позже он собрался в обратный путь, но ветры и течения принудили его отказаться от этого замысла. Еще через год он сделал новую попытку и пошел на этот раз вдоль берегов Новой Гвинеи, рассчитывая обойти с юга враждебные стихии. И опять ветры и течения оттеснили его обратно в Малайский архипелаг. Здесь Сааведра умер, и на время попытки вернуться в Америку через Тихий океан были оставлены. В последующие годы многие каравеллы без особых затруднений проходили от Мексики до Филиппин, однако вернуться тем же путем никому не удавалось. Чтобы снова попасть в Мексику, мореплаватели были вынуждены огибать весь земной шар и пересекать Атлантику.
Только в 1565 г. Урданете удалось открыть единственный обратный путь, доступный парусникам той поры. Он пошел на север вдоль берегов Японии и с течением Куросио, подгоняемый западными ветрами, пересек Тихий океан севернее Гавайских островов. И хотя компас говорил, что Урданета идет по северной дуге, на самом деле маршрут его в тропическую зону Америки был таким же прямым, как если бы он шел вдоль экватора. Урданета тщательно фиксировал свой путь в судовом журнале, и маршрут его стал затем так называемым путем каравелл, по которому больше двух веков следовали испанские и португальские корабли. Круговой путь пролегал из Мексики через тропические воды вблизи экватора на запад, к Филиппинам, а обратно — через крайний север Тихого океана, в пустынных водах между Гавайскими и Алеутскими островами. Кстати, обе экспедиции Менданьи, открывшего Меланезию и Полинезию, начинались южнее экватора, в Перу, а назад он вынужден был идти северным путем, выше Гавайских островов, где западные течения и ветры позволяли вернуться к месту старта в Южной Америке.
Изучая примитивное мореходство, нельзя упускать из виду историю наших первых плаваний в Тихом океане. Непрерывная циркуляция океанских вод и воздуха над ними в этом полушарии 500 лет определяла все европейские открытия и торговые пути, начиная от путешествий Марко Поло в конце XIII в. до плаваний капитана Кука в конце XVIII в. Единственным мореплавателем, которому отчасти удалось обойти этот океанский круговорот, был Тасман. В 1642 г. он вышел из Индонезии не на восток, а на запад, от острова Маврикий повернул на юг, обогнул Австралию с юга и открыл сначала Тасманию в районе «ревущих сороковых», а затем и Новую Зеландию. Дальше он шел галсами до Тонги, после чего тропический конвейер вернул его в Индонезию. Лишь под конец XVIII в., когда капитан Кук плавал в сравнительно хорошо изученном Тихом океане, техника парусного мореходства развилась настолько, что позволяла в известной мере спорить со стихиями. В первом плавании Кук тоже избрал обычный курс, с попутными ветрами от Южной Америки до Индонезии, но в последующих двух плаваниях он шел по следам Тасмана южнее Австралии, потом поворачивал на север, пересекая тропический пояс, и в итоге открыл неизвестные дотоле европейцам Гавайские острова.
Пятьсот лет бесстрашные европейские мореплаватели не могли провести свои корабли в Океанию через Папуа-Меланезию и Микронезию — это ли не реалистичное свидетельство ограничений, которые в еще большей степени распространялись на древних морепроходцев! Было бы непростительно в дни пароходов и теплоходов пренебречь полутысячелетием в истории нашего парусного мореплавания и упорно предписывать доисторическим судам маршруты в Тихом океане, недоступные для кораблей исторической поры.
И ведь уроки надежно документированной истории европейского мореплавания подтверждаются целым рядом практических экспериментов на доевропейских судах, проведенных уже в нашем веке. После 1947 г., когда по инкским образцам был построен бальсовый плот «Кон-Тики», еще 12 плотов, стартуя на тихоокеанском побережье Южной Америки, достигли островов Океании. Один плот вышел из Полинезии и две джонки — из Азии с целью пересечь океан в противоположном направлении; все три попытки не удались. Этот опыт, эти маршруты не менее поучительны, чем первые плавания европейцев в Тихом океане.
Бальсовый плот «Кон-Тики» в 1947 г. прошел от Центрального Перу до Рароиа в
Восточной Полинезии.
Бальсовый плот «Семь сестер» доставил Уильяма Уиллиса из Центрального Перу на Самоа, на западе Полинезии, в 1954 г.
Бальсовый плот «Кантута I» с Эдуардом Ингрисом и его товарищами прошел в 1955 г. от Северного Перу до Галапагосских островов, после чего команду пришлось спасать, потому что плот, войдя в область так называемого Экваториального противотечения, не мог продвинуться ни на восток, ни на запад.
Плот «Таити Нуи II» под командованием Эрика де Бишопа проплыл от Центрального Перу до Ракаханги в Западной Полинезии в 1958 г.
Бальсовый плот «Кантута II» доставил Ингриса с новой командой в 1959 г. из Центрального Перу на Матахиву в Центральной Полинезии.
Бальсовый плот «Возраст не помеха» был проведен престарелым Уиллисом от Центрального Перу через Самоа до Талли-Бич в Австралии в 1963–1964 гг.
На бальсовом плоту «Тангароа» Карлос Кавеведо Арка и его товарищи прошли в 1965 г. от Центрального Перу до Факаравы в Центральной Полинезии.
Бальсовый плот «Пацифика» был спущен на воду Виталом Альсаром и его товарищами у южных берегов Эквадора. В 1966–1967 гг. они достигли Галапагосских островов, после чего поднялись на север так далеко, что вошли в зону Экваториального противотечения, которым пытались воспользоваться, чтобы возвратиться в Америку. Однако то, что принято считать идущим на восток течением, на самом деле представляет собой беспорядочные струи и завихрения в узкой полосе штилей между двумя мощными течениями, устремляющимися на запад выше и ниже экватора. 143 дня команда «Пацифики» тщетно пыталась пробиться назад, в Америку; наконец людей подобрало спасательное судно.
Далее резиновый плот «Селеуста» в 1969 г. совершил дрейф от Центрального Перу до Рароиа — того самого полинезийского атолла, к которому в свое время прибило «Кон-Тики»; этот эксперимент осуществил Марио Валли.
Витал Альсар с товарищами спустил на воду бальсовый плот «Ла Бальса» в Эквадоре и в 1970 г. дошел до Муулуулабы в Австралии.
Еще три бальсовых плота — «Ла Ацтлан», «Ла Гуаякиль» и «Ла Муулуулаба» — с интернациональными командами под руководством того же Альсара вместе вышли из Эквадора и, пройдя через Полинезию и Меланезию, через 179 дней пристали к берегу у Беллины в Австралии в 1973 г.
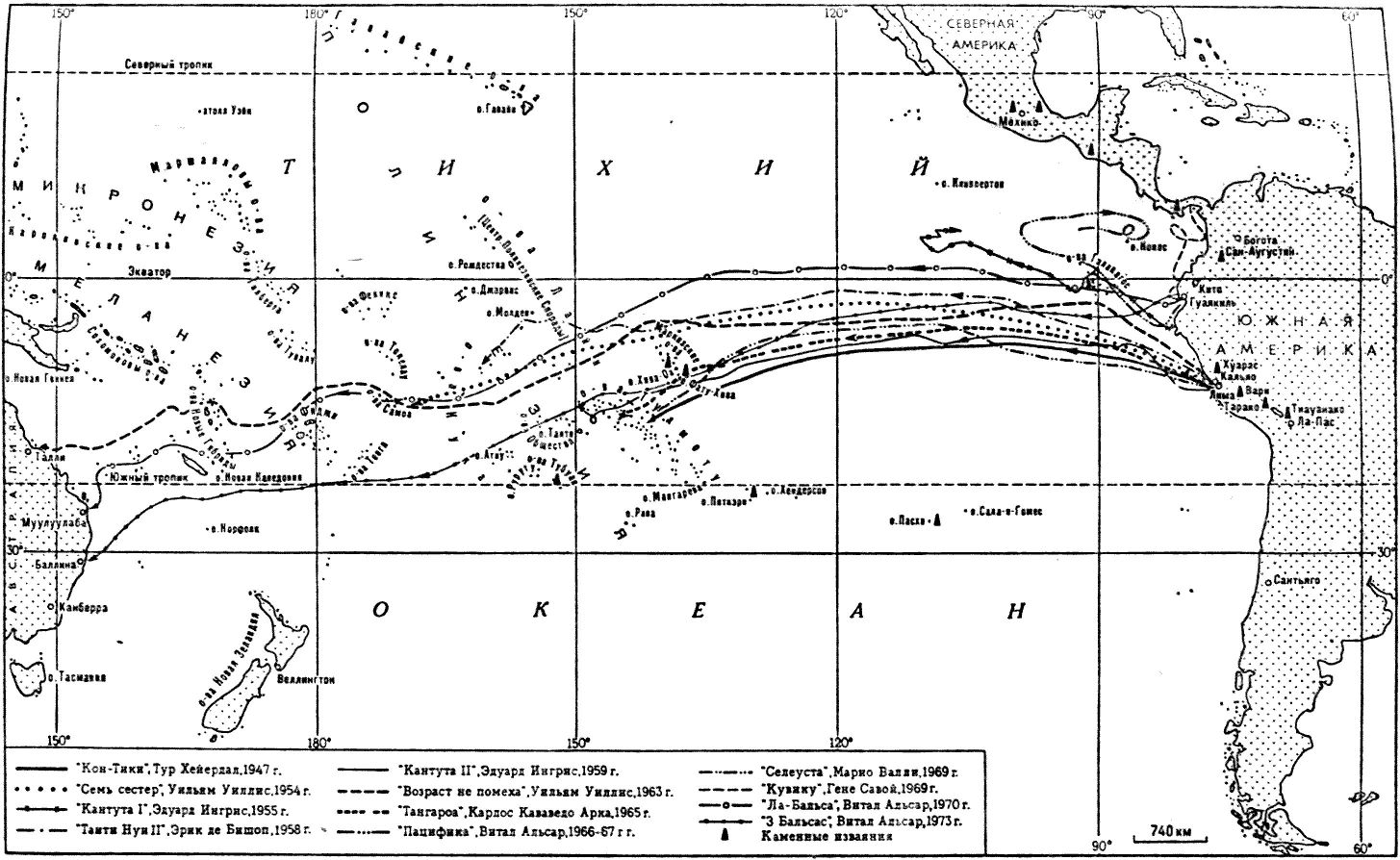
Плавание на плотах из Южной Америки в Океанию начиная с 1947 г.
Итак, с 1947 по 1973 г. у тихоокеанского побережья Южной Америки было спущено на воду 13 плотов; два из них дошли до Галапагосских островов, из остальных одиннадцати все достигли Полинезии, а пять даже добрались до Меланезии или лежащего за ней австралийского континента. Посмотрим теперь, что было с примитивными судами, на которых пытались пересечь океан в обратном направлении.
Первую попытку Эрик де Бишоп предпринял еще до второй мировой войны. Он собирался пройти на китайской джонке от Малайского архипелага до Полинезии, чтобы подтвердить господствовавшую тогда гипотезу, будто этим маршрутом проследовали азиатские предки полинезийцев. Три года не покидал он джонки, пытаясь воспользоваться неуловимым Экваториальным противотечением, но не дошел даже до Микронезии. В конце концов он прекратил свой эксперимент и заключил: «…общепринятая гипотеза о том, что Полинезия была заселена из Малайзии или какого-либо иного центра в западной части Тихого океана… невероятна!» (Bisschop, 1939)[39].
Затем он построил на Гавайских островах полинезийское каноэ и в несколько недель прошел из Полинезии до Малайского архипелага. Когда плот «Кон-Тики» показал, как легко дойти до Полинезии из Перу, де Бишоп построил на Таити бамбуковый плот, чтобы проверить, не будет ли плавание в обратном направлении таким же доступным. Спустился на юг в штормовые широты в районе «сороковых», чтобы идти дальше с западными ветрами, и почти семь месяцев сражался с холодом и бурными волнами; наконец, не дойдя тысячи миль до Чили, передал SOS, потому что его потрепанный штормами бамбуковый плот очутился в районе, где зарождается Перуанское течение, и грозил направиться обратно, в Полинезию. Де Бишопа спасли, привезли в Южную Америку, здесь он связал упомянутый выше бревенчатый плот и благополучно доставил свою команду из Перу в Западную Полинезию; правда, сам он погиб на рифе.
Наиболее серьезной попыткой пересечь Тихий океан со стороны Азии на первобытном судне был, конечно, так называемый «Проект Пацифика», реализованный после шести лет приготовлений в 1974 г. Последователь известного ученого Хейне-Гельдерна, сторонник диффузионистской теории венской школы Куно Кнёбль построил настоящую азиатскую джонку, использовав как образец керамическую модель I в., найденную при раскопках под Кантоном в Южном Китае. Задача эксперимента — провести азиатское судно от Китая до Эквадора в Южной Америке. Однако тщательно скопированная джонка, названная «Таи Ки», лишь подтвердила то, о чем нам известно из 500 лет истории ранних плаваний европейцев: для примитивных судов, выходящих из Азии в Тихий океан, годился только путь каравелл. «Таи Ки» не могла бороться со встречными ветрами и течениями в тропиках, ее неумолимо сносило на север. На 40° с. ш., когда до Алеутских островов было ближе, чем до Гавайских, команда источенной червями, разрушающейся джонки передала SOS и была подобрана спасателями, а обломки судна потом обнаружили у берегов Аляски. Когда команда покидала тонущую джонку, шел 115-й день плавания, а до северо-западного побережья Северной Америки все еще оставалось 2 тысячи миль.
Пожалуй, этот эксперимент оказался самым важным для науки. Он указывает путь из Азии в Америку для всяких примитивных судов. Северо-запад Америки, а точнее, острова у берегов Аляски и Британской Колумбии, но не область тропических островов — вот единственные доступные ворота для доевропейских мореплавателей из Азии в Новый Свет. И у того же северо-западного побережья Америки ветры и течения поворачивают к Гавайским островам на севере Полинезии, точно так же как стихии от Перу сворачивают к Восточной и Центральной Полинезии. Ранние исследователи — например, Ванкувер и Байрон — обнаруживали на Гавайских островах большие лодки из сосны, которую приносило течение от берегов американского Северо-Запада, а в справочном издании Музея Бишоп за 1915 г. утверждается даже, что большие военные лодки гавайцев строились «преимущественно» из американской сосны. Шарп и Фэрли на основе сходства петроглифов предположили, что существовал контакт между аборигенами американского Северо-Запада и Гавайских островов; они же отметили, что на гавайских пляжах подобрали сотни бревен красного дерева через несколько месяцев после того, как в Британской Колумбии разлившиеся реки снесли запруды лесопилен. И не только бревна — целые лодки могли одолеть тот же путь, как доказал полстолетия назад капитан Фосс. Приобретя на острове Ванкувера 11,5-метровое каноэ, построенное северо-западными индейцами, он за два месяца прошел до Тонгаревы в Центральной Полинезии, откуда продолжил плавание до Новой Зеландии и дальше на запад. Его каноэ «Тиликум» выставлено для обозрения в парке Тандерберд в Виктории (Британская Колумбия).
Подведем итог. Документальные исторические данные и многие практические эксперименты нашего времени показали, что примитивные азиатские суда могут выйти на просторы Тихого океана только на севере, между Гавайскими и Алеутскими островами, и причалят они скорее всего к какому-нибудь из островов у побережья американского Северо-Запада. Отсюда путь открыт к субтропическим и тропическим островам центральной части Тихого океана.
До сих пор мы говорили о намеренных попытках пересечь Тихий океан с востока или запада на европейских парусных кораблях или на копиях доисторических судов. Однако в последние годы широко обсуждается вопрос, была ли Океания открыта в результате намеренных экспедиций вроде предпринятых европейцами или после случайных дрейфов. Кое-кто утверждает, что штормовые ветры, дующие в направлении, противоположном преобладающим ветрам, могли привести предков нынешнего полинезийского населения к островам посреди океана. Эти гипотезы были проверены на вычислительных машинах. Левисон, Уорд и Уэбб проиграли более 100 тысяч вариантов дрейфа и свыше 8 тысяч вариантов направленных плаваний из 62 пунктов к востоку и к западу от Полинезии. Азиатские берега пришлось исключить совершенно, так как шансы достичь Полинезии даже с любого из расположенных ближе, протянувшихся в океане на 4 тысячи миль островов Микронезии, оказались равными нулю. Больше того, моделирование показало, что 400-мильная зона открытого моря, отделяющая Соломоновы острова и Новые Гебриды от Полинезии, «представляет собой труднейший барьер для дрейфов в восточном направлении» (Levison, Ward and Webb, 1973)[202].
Опровергнув возможность дрейфов до Полинезии из Микронезии и Меланезии, машинное моделирование подтвердило то, что давно показали плавания исторических времен, а именно: в Океании случайные дрейфы, влекущие за собой открытие новых островов, должны были подчиняться господствующим ветрам и течениям, направленным с востока на запад, а не отдельным штормам или отклонениям от нормы. Археологи и лингвисты уже установили, что все полинезийские колонии в Микронезии и Меланезии обязаны своим происхождением выходцам из собственно Полинезии, а не являются трамплинами древних переселенцев из Малайского архипелага или континентальной Азии. По словам Левисона и др., их исследование также говорит в пользу того, что колонии эти возникли в результате дрейфов из Полинезии.
Даже внутри собственно Полинезии вероятность выйти на какой-либо остров, дрейфуя против господствующих ветров и течений, чрезвычайно мала. Словом, дрейф из Западной Полинезии к любому другому полинезийскому острову вряд ли возможен. По данным машинного моделирования, «шансы попасть путем дрейфа с Самоа на острова Кука или Общества равны 1:700. Возможности [путем случайного дрейфа] дойти из других частей Полинезии до Гавайских островов, острова Пасхи и Новой Зеландии равны нулю» (Levison, Ward and Webb, 1973[202]). Далее: «Наибольший процент вероятности проникновения в Полинезию и выхода на ее острова достигается, когда за исходные точки берешь Маркизы или остров Пасхи» (там же), другими словами, два ближайших к Южной Америке форпоста Полинезии.
Как и следовало ожидать, совсем другой результат дало рассмотрение возможностей дрейфа со стороны Южной Америки.
«Если мореплаватели отчаливали с перуанского побережья, из района Кальяо, и старались возможно точнее выдерживать западный курс, вероятность выхода на Полинезию была очень велика. В нашем эксперименте чуть больше трети гипотетических судов, стартующих из района Кальяо, приставали к островам Полинезии, и длительность плавания, как правило, не превышала трех месяцев» (там же).
По поводу инкского плота из бальсы Левисон и др. говорят, что совершенная система управления с использованием швертов и плавучесть этих судов позволяли им дойти из Южной Америки до Восточной Полинезии; в то же время высокие мореходные качества обеспечивали возможность возврата к берегу, если плоты подхватывало мощное течение в 300 милях от континента. Подводя итоги, авторы заключают, что вероятность проникновения человека в полинезийский треугольник в результате случайного дрейфа с любой стороны очень мала.
Напомню, что все 13 плотов, которые в последние десятилетия отчаливали от берегов Южной Америки, держались кормой к пассату, здесь нельзя говорить о дрейфе в том смысле, в каком это слово употребляют Левисон и др. По данным их моделирования, чистые дрейфы из южноамериканских вод должны были привести к Маркизским островам, которые наряду с Пасхой являлись наиболее благоприятной исходной точкой для достижения остальных островов Полинезии.
В этом важном исследовании есть один серьезный пробел. Авторы, просчитывая варианты, не поднялись достаточно далеко на север, не дошли до архипелагов Британской Колумбии. Это тем более прискорбно, что речь идет о единственном районе, куда течение из Юго-Восточной Азии приносит дрейфующие суда, после чего они продолжают путь до полинезийского треугольника. Впрочем, Левисон и др. отдают себе отчет в этом недостатке. Они сами указывают, что рамки исследования не позволили рассмотреть исходные точки в северных широтах и проиграть то, что они называют «маршрутом плавника», от берегов американского Севера-Запада. Но вероятность плаваний из Мексики в Полинезию у них получается малой, и они добавляют: «Шансы достичь Гавайской группы из более северных точек Тихоокеанского побережья, несомненно, выше… если случались дрейфы из Северной Америки, то скорее всего исходным районом была Британская Колумбия» (Levison, Ward and Webb, 1973[202]).
Прибрежные воды Британской Колумбии — единственный островной район, откуда можно было прямым путем попасть на примитивном судне в Полинезию, будь то дрейф или намеренное плавание, — служат в то же время естественным финишем для подобных плаваний из Юго-Восточной Азии. Другими словами, изобилующие островами прибрежные воды Британской Колумбии представляют собой то, чем никак не могли быть ни Микронезия, ни Меланезия, — удобный географический трамплин на пути из Филиппинского моря до Полинезии. Первые европейские экспедиции и машинное моделирование показывают, что альтернативы нет. Малайские пироги, или проа, китайские и японские джонки, идет ли речь о дрейфе или активном плавании, запросто достигнут Британской Колумбии с течением Куросио. При дальнейшем дрейфе их через несколько недель вынесет к Гавайским островам. У проделавшей вынужденный маршрут экспериментальной джонки «Таи Ки» было в этом столетии немало предшественников. Жертвы кораблекрушений доставлялись течением из Азии в Британскую Колумбию, а некоторые из них доплыли живыми и дальше, до Гавайских островов. Документальные данные о таких случаях представлены на V конгрессе тихоокеанистов Стоуксом; об этом же писали антропологи Хэнди и Сэйс (Stokes, 1934; Handy, 1930; Sayce, 1933[298, 140, 141, 273]).
Главная цель нашего обзора — определить и выделить возможные океанские пути, которые чисто практически могли доставить аборигенов в Америку или из Америки на доевропейских судах. Это не значит, что доколумбовы мореплаватели непременно ходили по всем рассмотренным здесь маршрутам, хотя совершенно ясно, что никакие помехи не препятствовали древнему человеку плыть по указанным путям. Наш обзор призван не отстаивать диффузию, а анализировать практические проблемы, встающие перед всяким, кто говорит о возможности трансокеанских контактов между Старым и Новым Светом на аборигенных судах.
Пересекающие океан незримые реки, больше и мощнее любых рек на суше, приводятся в постоянное движение вращением земного шара. Они текут в тропическом поясе с востока на запад, упираются в материки и поворачивают назад по широкой дуге, возвращаясь на восток в более холодных широтах, вблизи приполярных областей. Тропические течения путешествуют не в одиночку, они увлекают с собой все, что держится на воде, и неизменные пассаты круглый год дуют в полную силу в ту же сторону, с востока на запад.
История и география согласно указывают три благоприятных океанских пути из Старого Света в Новый — два на атлантической стороне и один со стороны Тихого океана, а также два основных маршрута из Нового Света в Старый, оба через Тихий океан. Эти маршруты настолько четко определены, что им вполне можно присвоить названия в честь их исторически известных открывателей.
Маршрут Лейфа Эйриксона наименее благоприятен по природным условиям, однако он первым был использован европейцами, поскольку путь в Америку облегчается здесь в Атлантике ступенями, с которыми на тихоокеанской стороне может сравниться только цепочка Алеутских островов. Если вместо абсурдно растянутой Арктики на карте Меркатора обратиться к глобусу, мы увидим, что на пути от Норвегии или Великобритании через Шетландские и Фарерские острова, Исландию, Гренландию и Баффинову Землю до Лабрадора и Американского материка вообще морские этапы не превышают по длине озеро Мичиган. Как будет показано в одной из последующих глав, за время с 986-го примерно до 1500 г. норманны основали на юго-западном побережье Гренландии поселения, в которых было 280 дворов, две епископские усадьбы, монастыри и 17 церквей. Поддерживая достаточно сложную связь с Исландией и Норвегией на открытых судах, эти европейские поселенцы, платившие дань опекавшему местную паству Ватикану, пять столетий до прибытия Колумба в Новый Свет жили всего в 200 милях от американских берегов. В письменных источниках XI–XV вв. зафиксировано по меньшей мере пять походов через Девисов пролив в Америку.
Дальше мы увидим, что норманны были не единственными европейцами, проявлявшими активность в этом удаленном уголке Атлантики. Папское послание 1448 г. осуждает британских пиратов, которые совершали набеги на поселения христиан-норманнов в Гренландии и разрушали их церкви. Еще раньше, в 1432 г., норвежский и английский короли заключили соглашение, призванное прекратить нападения английских пиратов на норманнов в Девисовом проливе; перед нами историческое свидетельство того, что даже неизвестные авантюристы с Британских островов были знакомы с северо-западными берегами Атлантики до исторического плавания Колумба.
Возможно, как раз в это время, если не раньше, сложились бытовавшие в средневековой Ирландии представления о далеких землях на севере Атлантики. Норвегия и Ирландия были связаны многими узами в средние века. Около 840 г. норвежские викинги основали город Дублин. Больше того, когда беженцы из Норвегии после войны 872 г. стали обосновываться в Исландии, они обнаружили, что ирландские монахи раньше их добрались до этого уединенного острова. А потому развившееся после основания первых гренландских поселений в 985 г. регулярное трансатлантическое сообщение между норманнами в Гренландии и их родиной в Исландии и Норвегии не могло пройти мимо внимания ирландских современников. Согласно кельтским преданиям, записанным приблизительно во времена открытия Гренландии, ирландский монах св. Брендан — несомненно, историческое лицо — посетил Фарерские острова, Исландию и другие заморские области. Многие полагают, что в этом замечательном плавании, совершенном на ирландской лодке
currach из кож, Брендан доходил до Нового Света. Правда, положительных доказательств нет, но возможность такого плавания не исключена, как показал недавно Тим Северин со своими товарищами, пройдя на такой же лодке в 1976–1977 гг. через Северную Атлантику по маршруту Лейфа Эйриксона.
Если обратиться к более древним временам, то американский археолог Гринмен полагает, что человеку верхнего палеолита было еще легче, чем норманнам, проникнуть в северо-восточную часть Северной Америки (Greenman, 1962). По его мнению, в ту пору для этого достаточно было следовать вдоль кромки ледника, который перекрывал океан на широте Ирландии. Несомненно, переход в Америку арктических охотников из Северной Европы тогда был вполне возможным. Происходил ли он на самом деле — задача для археологов; пока же речь идет о правдоподобной гипотезе.
Маршрут Колумба намного длиннее, зато здесь очень мягкий климат и чрезвычайно благоприятные океанские течения и ветры. Собственно ток воды берет начало у берегов Западной Европы, но по-настоящему отсчет маршрута следует начинать к западу от Гибралтара и северо-западного побережья Африки, где к течению присоединяются мощные пассаты. От Северной Африки путь пролегает по Канарскому течению, известному также под названием Северного Экваториального течения, вплоть до островов Карибского моря и до Мексиканского залива. К Северному Экваториальному течению примыкает мощная ветвь течения с юга, от Мадагаскара и Южной Африки, — Южное Экваториальное течение, которое тоже достигает Мексиканского залива, но минуя берега Бразилии. Хотя эти два океанских пути рождаются у Африки порознь, их вполне можно рассматривать как две части одного могучего конвейера, заметно приближающего Центральную Америку к далекому, казалось бы, Африканскому континенту и в то же время отдаляющего Африку от Нового Света, если идти обратным курсом.
Насколько известно по письменным источникам, Колумб — первое историческое лицо, воспользовавшееся этим маршрутом. Однако вовсе не исключено, хотя документов на этот счет нет, что арабы, покорив марокканских берберов и дойдя до гуанчей на Канарских островах, направились дальше в океан и очутились на проходящей здесь дуге «морского конвейера». Такого рода указания отмечались различными авторами. Одно из них находим в переведенной в 1764 г. Гласом старинной испанской рукописи с острова Пальма, которая была издана на английском языке под названием «История открытия и завоевания Канарских островов».
Мы видим в тексте цитату из «Третьей области нубийского географа» относительно далекой страны в Атлантике, где побывали странствующие арабы: «Есть также в этом море остров Саале, где мужчины подобны женщинам… дыхание их подобно дыму от горящего дерева… и отличаются мужчины от женщин только детородными органами; у них нет бороды, и одеты они в древесные листья» (Glas, 1764[121]).
Это примечательное описание заслуживает внимания, поскольку у канарских гуанчей, как и у берберов на Африканском материке, росла борода не хуже, чем у самих арабов; одевались они в овечьи шкуры. А вот американские индейцы безбородые — кстати, эта черта больше всего поразила испанцев, когда они впервые прибыли в Новый Свет, — далее, карибские племена курили табак и многие из них ходили нагишом или в юбочках из пальмовых листьев в отличие от знакомых арабам обитателей Старого Света.
Правда, Колумб остается первым, кто вернулся с убедительными доказательствами совершенного им открытия. Еще дважды прошел он тем же маршрутом, и никто не лишит его заслуги человека, открывшего ворота в Америку мужчинам и женщинам всех наций. По его следам устремилось несметное множество больших и малых каравелл, в том числе такие утлые и хрупкие, что древние корабелы Ближнего Востока по праву подвергли бы их осмеянию. После того как Колумб проложил путь и показал пример, кажется, не было того суденышка, которое не доказало бы свою способность пройти по маршруту Колумба. В наши дни ежегодно мореплаватели-одиночки обоего пола устраивают гонки по этому самому маршруту от Канарских островов до Карибского моря. Новички, хвастающиеся тем, что прежде никогда не выходили в море, пересекают океан на открытых весельных лодках, шлюпках, байдарках и всевозможных плотах. Папирусная ладья «Ра II» тоже прошла по маршруту Колумба с командой из восьми человек, пятеро из которых заведомо были полными новичками, а один прежде даже не подозревал, что морская вода соленая.
Что же до атлантических берегов Нового Света, то здесь нет благоприятных мест, откуда аборигены могли бы плыть через океан. В умеренной зоне Северной Америки властвует направленное к югу холодное Лабрадорское течение, а теплый Гольфстрим берет начало в областях, населенных людьми, привычными к тропическому климату и отнюдь не приспособленными для долгого дрейфа через холодную Северную Атлантику.
Обратясь к тихоокеанской стороне, видим, что и тут обстановку определяет вращение земного шара. Движение ветра и вод на запад вдоль маршрута Колумба, прерываемое барьером Центральной Америки, тотчас возобновляется у побережья Тихого океана, где Северное и Южное Экваториальные течения вместе с теми же пассатами направляются через океан на запад.
Маршрут Менданьи с полным основанием можно называть
маршрутом инков, поскольку дальше мы вернемся к историческому факту, который гласит, что Менданья и его люди вдохновлялись и руководствовались навигационными наставлениями инков. Пожалуй, маршрут Менданьи особенно показателен для антропологических исследований: короткая мощная дуга связывает наиболее уединенные в мире и тем не менее обитаемые архипелаги с побережьем Нового Света, где не было недостатка в плавучих транспортных средствах. Достоинства этого маршрута обусловлены чрезвычайно сильным Южным Экваториальным течением (оно же Перуанское течение), питаемым водами, которые направляются от Чили на север вдоль берегов Южной Америки и круто сворачивают на запад у северного побережья Перу, после чего поток следует прямо в Полинезию и дальше. Течение сопровождается мощнейшими пассатами; его северная кромка касается Галапагосских островов, южная — острова Пасхи, а главный поток объемлет все обитаемые острова Полинезии, кроме Гавайских, все острова Меланезии и образует некое подобие дельты там, где путь ему преграждают Новая Гвинея и Австралия.
Магеллан тоже воспользовался в полной мере этим конвейером, когда открыл Гуам в 1521 г. Однако из практических соображений можно считать, что течение теряет силу в Меланезии и лишь в ограниченной мере дает себя знать у северо-восточных берегов Новой Гвинеи и островов на юге-востоке Микронезии. С точки зрения мореплавания вся островная область Южной части Тихого океана соседствует с Южной Америкой, и хотя папуа-меланезийцы, несомненно, происходят от очень древней азиатской ветви, ничто в области между ними и Новым Светом не могло помешать спорадическому влиянию андской культуры.
Мы уже видели, что обратное плавание в тех же водах оказалось невозможным для первых европейских исследователей, вынужденных возвращаться в Перу через высокие широты к северу от Гавайских островов
[15].
Маршрут Сааведры от Мексики до Малайского архипелага проходит к северу от экватора параллельно маршруту Менданьи. Он протянулся во всю ширь тропической части Тихого океана — от Америки до Азии, причем скорость течения и сила пассата не уступают силе пассата и скорости более короткого Южного Экваториального течения. В самом деле, мы видели, что Сааведра извлек полную выгоду из этого морского конвейера в своем плавании от Сакатулы в Мексике до Минданао в 1527 г., за 40 лет до того, как Менданья вышел в море из Перу. Если Менданья первым проник в изобилующую островами Меланезию и лишь впоследствии открыл некоторые из широко разбросанных полинезийских островов, мимо которых он проскочил в первый раз, то Сааведра пересек океан в пустынной полосе к югу от Гавайских островов и к северу от собственно Полинезии. В силу чисто географических обстоятельств этот маршрут, хотя и вполне благоприятный для аборигенных судов, не представлял таких возможностей для открытий и распространения культуры, как маршрут Менданьи, пролегающий вдоль испещренных островами широт Перу.

Морские пути в Америку и из Америки, использованные первыми европейскими мореплавателями.
Атлантический океан: Э — маршрут Эйриксона и норманнов от Норвегии до Северной Америки.
К — маршрут Колумба и европейцев средневековья от Канарских островов до тропической Америки.
Тихий океан: М — маршрут Менданьи от Перу до Полинезии и Меланезии.
С — маршрут Сааведры и последующих каравелл из Мексики к Малайскому архипелагу.
У — маршрут Урданеты от Малайского архипелага до Северо-Западной Америки. «Кон-Тики», «Ра-I», «Ра-II» — маршруты Т. Хейердала, пройденные на плотах и папирусных ладьях по морским путям древних мореплавателей.
Выдвинутые в последнее время несколькими видными археологами и породившие оживленную дискуссию гипотезы о весьма древних контактах через океан между культурами Юго-Восточной Азии и Центральной Америки было бы легче отстаивать, если бы хронология позволяла допустить, что перенос элементов культуры происходил в западном направлении из Мексики по пути Сааведры, а не в обратную сторону.
Микронезия расположена у порога Азии, однако она была открыта европейскими исследователями, выходившими из Америки. А потому не следует забывать о многочисленных культурных параллелях, прослеживаемых по памятникам некоторых исчезнувших мексиканских цивилизаций и неопознанных предков древних племен Микронезии, таких, как мегалитические руины на Кусаие и Понапе в Каролинском архипелаге и на Гуаме и Тиниане в Марианском архипелаге. Все эти острова расположены на траверзе маршрута Сааведры.
Маршрут Урданеты не что иное, как продолжение маршрута Сааведры от той точки, где он кончается в Филиппинском море. Здесь теплые воды Северного Экваториального течения, встретив на своем пути к западу препятствие в виде Малайского архипелага и лежащего за ним материка, сворачивает на север. Оно минует Японию как течение Куросио, следует южнее Алеутских островов вместе с преобладающими западными ветрами и огибает длинной дугой западные берега Северной Америки от Аляски до Южной Калифорнии. Мы уже видели, что маршруты Сааведры и Урданеты вместе образуют столь важный некогда путь каравелл, по которому на заре парусного флота шли все европейцы, пересекая Тихий океан.
Только маршрут Урданеты позволял древним жителям Азии дойти по воде до аборигенов Америки. Для антропологов, пожалуй, особенно важно, что этим путем жители Малайского архипелага могли попасть в умеренные зоны Америки, не забредая в снега арктической тундры. Поразительное физическое сходство между тропическими малайцами и жителями бразильских джунглей объясняют тем, что общая колыбель этих народов находилась в Юго-Восточной Азии. Сходство распространяется и на некоторые специфические элементы вроде применения аналогичных духовых трубок с отравленными стрелами. В голой тундре такой элемент родиться не мог. Арктический путь долог и мало вероятен для тропических племен, зато эти люди вполне могли выжить в ненамеренном плавании по маршруту Урданеты: древние переносили голод и лишения ничуть не хуже, чем многие современные жертвы кораблекрушений, которые месяцами дрейфовали в океане, покрывая расстояния в тысячи миль и располагая лишь дождевой водой, рыбой и морскими птицами, привлеченными их плотами.
Маршруты Менданьи, Сааведры и Урданеты — единственные природные конвейеры в Тихом океане. Вне их океан — несомненное препятствие для нехитрых суденышек. Так называемое Экваториальное противотечение, столь отчетливо обозначенное на многих картах между двумя широкими течениями, устремленными на запад, не более чем узкая полоса струй и завихрений в пределах широт с хилыми ветрами и штилями, так называемая «экваториальная штилевая полоса», наводившая ужас на мореплавателей времен парусного флота. Де Бишоп, Ингрис, Витал Альсар и Куно Кнёбль убедились, что Экваториальное противотечение нисколько не способствует трансокеанским плаваниям; все названные мореплаватели вынуждены были отказаться от попыток пройти в этой полосе на джонках или плотах в сторону Америки.
Определяя пути в Америку и из Америки, созданные самой природой, автор отнюдь не отвергает возможность других плаваний, совершенных древними путешественниками. Подобно современным водителям малых парусных судов, аборигенные мореплаватели изобрели много конструкций, способных идти галсами против ветра и таким образом плыть в сторону, противоположную морским конвейерам, держась заключенных между ними относительно спокойных вод. Бальсовый плот при правильном маневрировании вставленными между бревен
гуарами в роли швертов лишь один из примеров древних парусных судов, способных идти галсами; еще один пример — двухбунтовая камышовая ладья с ее «негативным килем»; третий — полинезийское двойное каноэ. Однако намеренное пересечение океана за пределами природных путей требует высокого мореходного искусства, и вряд ли его предпринимали, не зная совершенно точно, что впереди лежит земля.
ЧАСТЬ II
Проблема Атлантики

Глава 3
Изоляционисты против диффузионистов
Человекообразные обезьяны попали в Новый Свет уже после Колумба, когда их привезли туда на кораблях. Отсутствие высших приматов в исконной фауне Америки говорит о том, что последний их представитель, гомо сапиенс, явился в Новый Свет иммигрантом. В обеих Америках не обнаружено следов независимого развития человеческого рода.
Что человек пришел в Новый Свет очень давно, видно из обилия неродственных между собой языков, которые застали здесь первые европейские путешественники. Множеству разных племен и народов в доколумбовы времена соответствовало также великое разнообразие физических типов и уровней культуры. Некоторые племена все еще пребывали на уровне примитивного собирательства, тогда как другие создали цивилизацию, кое в чем превосходившую достижения европейцев той же поры. Что же было причиной такого разнообразия — смешанное происхождение или долгое местное развитие по различным путям?
Не так уж много лет назад господствовало мнение, что человек появился в Америке сравнительно недавно, придя туда из Азии в I тысячелетии до н. э. Современные ученые постепенно отодвигали назад предполагаемую дату первичного заселения, и теперь антропологи допускают, что Америка начала заселяться около 30 тысяч лет назад, а иные говорят даже — около 60 тысяч лет назад или раньше того. В те далекие времена ледники в Сибири и на Аляске позволяли арктическим охотникам переходить в Америку на Крайнем Севере, не прибегая или почти не прибегая к помощи судов. С той поры вплоть до прибытия европейцев большинство племен Северной Америки занималось примитивным собирательством; на той же стадии пребывала большая часть лесных жителей тропической Америки, и даже потомки самых первых пришельцев, потесненные до холодных широт Огненной Земли. Что же послужило стимулом для внезапного развития высочайшей культуры в узкой полосе от Мексики до Перу? Вот тут-то и расходятся изоляционисты и диффузионисты. Было ли это плодом местной эволюции в ограниченной области или следствием контакта с другими заморскими культурами?
Настоящая глава основывается на одноименной статье в сборнике
The Quest for America, переработанной, чтобы не повторялся материал, вошедший в другие главы этой книги.
Нет конца предположениям о доколумбовых контактах между Старым и Новым Светом. В науке постепенно определились две школы, придерживающиеся противоположных взглядов, — изоляционисты и диффузионисты. Изоляционисты убеждены, что омывающие Америку два океана совершенно изолировали Новый Свет от Старого вплоть до 1492 г.; они допускают лишь, что примитивные племена, занимающиеся собирательством, прошли в арктических широтах пешком из азиатской тундры на Аляску. Напротив, диффузионисты верят в единую для всех цивилизаций колыбель и предлагают различные гипотетические варианты доколумбовых плаваний в Америку из Азии, Европы или Африки. Крайних приверженцев обеих школ объединяет одна черта: они совершенно не считаются с такими океанографическими факторами, как преобладающие ветры и течения; для них океаны — безжизненные, недвижимые озера. Разница же между двумя системами взглядов заключается в том, что крайние изоляционисты видят в этих безжизненных водных просторах барьер для передвижения человека в какую бы то ни было сторону, а в представлении крайних диффузионистов океаны — нечто вроде катка, по которому древние путешественники могли скользить без помех в любом направлении. Пренебрежение географическими реальностями частенько побуждало диффузионистов выдвигать плохо обоснованные миграционные гипотезы, которые только утверждали изоляционистов в их взглядах. В то же время догматический подход изоляционистов к защите своих утверждений, когда они попросту возлагали бремя доказательства на диффузионистов, вызывал соответствующее недовольство последних. В самом деле, изоляционисты никогда и не пытались подкрепить свои гипотезы какими-либо доказательствами, видя силу собственной позиции уже в том, что диффузионисты не могут доказать свою правоту. Отсутствие свидетельства контактов они толковали как свидетельство отсутствия контактов.
Общепризнано, что в цивилизациях доколумбовой Америки и Средиземноморья много черт сходства — и подчас весьма примечательных. Это подметили и записали уже испанские конкистадоры по мере продвижения в удивительные империи Мексики и Перу. По сути дела основы диффузионистских воззрений были заложены именно первыми испанцами в Америке. Многие летописцы той поры были убеждены, что до них Атлантику пересекли мореплаватели из Внутреннего Средиземноморья, от которых коренные жители Нового Света восприняли верования и искусство, одежды и обычаи. Команды нескончаемой череды утлых судов, следовавших по пути Колумба, нашли его маршрут таким простым и надежным, что для них было естественным считать, что другие еще раньше совершали этот переход.
Изоляционистские взгляды — детище машинного века, питаемое ростом все более точных антропологических наук. Выяснилось, что красная кожа отнюдь не признак меньшего ума и меньшей изобретательности, чем белая, что мозг человека, где бы его ни изучали, работает одинаково. А потому для изоляционистов отмечаемые со времен открытия Америки Колумбом культурные параллели между Мексикой — Перу и Двуречьем — Египтом не служили доказательством контакта. Пирамиды, манускрипты с иероглифами, священные династии, называющие Солнце своим предком, — все эти и многие другие явные аналогии могли развиться самостоятельно.
В XX в. позиции диффузионистов стали быстро ослабевать, уцелел только очаг сопротивления среди германоязычных ученых так называемой венской школы. Этим не замедлили воспользоваться изоляционисты, особенно в Северной Америке, где изоляционизм, кстати, на какое-то время воплотился и в политике. Благодаря высокому развитию американской антропологической науки приходилось считаться с ее доктринами и было не так-то просто оспаривать тезис, по которому тождество или сходство тех или иных орудий, орнаментов, обычаев или других культурных черт не годится как доказательство контакта.
По мере того как суждения о независимом развитии завоевали чуть ли не всеобщее признание, поблекли многочисленные, ранее казавшиеся вескими аргументы диффузионистов в пользу глобальных передвижений человека. Стоило диффузионистам выдвинуть какие-то новые параллели между Старым и Новым Светом, говорящие, на их взгляд, о контакте через Тихий океан или Атлантику, как на их аргумент тотчас лепили ярлык «не доказано». Обозревая различные материалы, призванные показать, что в доколумбову Америку проникали не только пешеходы из Сибири, видишь, что изоляционисты не признавали ни один довод убедительным. В тех случаях, когда почему-то не выручает контрссылка на независимое развитие — скажем, если речь идет о некоторых культурных растениях или о слишком специфических, исключающих возможность совпадения изделиях, — изоляционисты говорят, что эти элементы привезены после Колумба. Если же и это возражение не проходит, заявляют, что семена растения или прототип изделия могли быть найдены американскими индейцами на берегу, куда их принесло течением из-за океана. Можно также прочесть, будто сугубо американский батат приплыл из Перу в Полинезию в корнях поваленного дерева, а специфический пасхальский рыболовный крючок из камня попал в район Санта-Барбары на пустой полинезийской пироге или же был найден американскими аборигенами во рту рыбы, оборвавшей лесу полинезийского рыбака.
Несмотря на удары, нанесенные диффузионистам изоляционистскими доктринами, попытки собирать аргументы в пользу культурных контактов через моря никогда не прекращались, а в последние годы их даже становится все больше, особенно в Америке, где сопротивление много лет было всего сильнее.
Можно назвать две причины, почему маятник теперь качнулся обратно, в сторону диффузионистов. Либо их доводы начали убеждать растущее число ученых, либо аргументы изоляционистов теряют свою убедительность. В статье «Теоретические посылки спора о диффузии через Тихий океан» Фрэзер ясно показывает, как наличные свидетельства можно толковать в любом ключе: что одному ученому представляется веским доказательством диффузии, другой толкует в прямо противоположном смысле (Fraser, 1965[117]). Фрэзер напоминает, что на азиатскую игру
пархези и очень схожую с ней мексиканскую
патолли ссылаются в подтверждение своей правоты как диффузионисты, так и изоляционисты. Один лагерь заявляет, что была связь, раз есть сходство, и надо эту связь искать; другой лагерь возражает, что родство исключено из-за расстояния и других факторов, стало быть, данная игра подтверждает доктрину о независимом творчестве. Пример этот показывает, что различие взглядов предписывает обеим сторонам осторожность и полную беспристрастность и что изоляционистам следовало бы тратить столько же сил на поиск положительных свидетельств в пользу своей позиции, сколько они расходуют на борьбу с диффузионистскими воззрениями. Сколько бы ни говорили, что основная тяжесть доказательства ложится на плечи диффузиониста, негоже заставлять его одного нести это бремя, и, покуда противная сторона не привела убедительных доказательств своей правоты, спор неизбежно будет продолжаться.
Почему, вопрошает диффузионист, изоляционисты не могут назвать в Америке ни одну географическую область, где подтверждались бы признаки независимой эволюции? И почему нет признаков сходной эволюции в областях с более стимулирующим климатом, занятых ныне Соединенными Штатами, Чили и Аргентиной? На этот вопрос изоляционист не может дать удовлетворительного ответа.
Ибо изоляционисты и диффузионисты согласны в том, что первыми Америку заселили просочившиеся из арктической зоны Сибири племена, занимавшиеся примитивным собирательством и незнакомые с земледелием, строительством, письмом и прочими культурными завоеваниями народов, которых застали в Центральной Америке испанские конкистадоры. По мнению диффузиониста, уязвимость воззрений изоляциониста ярко выражена в примечательном обстоятельстве: несмотря на интенсивные археологические исследования во всех основных культурных центрах от Мексики до Перу и Боливии, иначе говоря, всюду, где в древней Америке процветала высокоразвитая культура, нигде не обнаружены следы постепенного перехода от примитивного общества к цивилизации. Где бы ни копали археологи, всюду получается, что цивилизация появилась в Америке вдруг, в совершенно развитой форме, поверх слоев примитивного, архаического общества.
Причем за внезапным взлетом цивилизации следует не прогресс, а деградация на протяжении веков, предшествующих приходу европейцев.
Перуанские инки поразили испанцев высокой культурой, однако археология показала, что инки заимствовали большинство элементов у древних культур тиауанако, чавин, наска и мочика, обладавших во многих отношениях еще более совершенной и впечатляющей цивилизацией, которая появляется внезапно без каких-либо следов постепенного развития в приморье Эквадора и Перу и в горных областях Анд. Современная археология выявила связи между этими древнейшими доинкскими цивилизациями и современными им цивилизациями Центральной Америки и Мексики. И ведь в Мексике тоже великие культуры ацтеков, тольтеков и майя почерпнули многие важнейшие уроки у выдающейся цивилизации ольмеков, неизвестного народа, основавшего одну из древнейших культур Мексики — с развитой письменностью, календарем, строительством пирамид и т. п. — на болотистых, отнюдь не отличающихся благоприятными природными условиями лесистых берегах Мексиканского залива, как раз там, где кончается морской конвейер из Африки. Ни климат, ни географическая среда не оправдывают здесь внезапного расцвета замечательной цивилизации.
Поскольку споры продолжаются, все большее число ученых, а в последние годы, пожалуй, даже большинство, склоняются к осторожному, среднему курсу. Не склоняясь ни к одной из двух крайних доктрин, они признают, что морские течения
могли принести в Америку или из Америки аборигенные суда с людьми, что вовсе еще не означает широкой миграции. А потому далее я буду называть диффузионистами тех, кто повсеместно объясняет культурные параллели прежде всего контактами, а изоляционистами — тех, кто догматически полагает, что окружающие Америку океаны были неодолимы для человека до 1492 г.
Фанатические изоляционисты, хотя и основывают свои взгляды на тезисе о едином поведении людей всех племен, занимают прямо противоположную позицию, когда дело касается мнимого превосходства средневековых европейцев. Типичный пример такого рода оценки 1492 г. как поворотного пункта в истории человечества находим в статье Роу «Диффузионизм и археология», опубликованной в
«American Antiquity» в 1966 г. Автор представляет читателю внушительнейший комплекс из 60 примечательных параллелей между двумя ограниченными областями в Старом и Новом Свете. Говоря словами самого Роу, речь идет о важном списке «получивших ограниченное распространение специфических культурных черт, общих для культур древней Андской области и древнего Средиземноморья в период, предшествующий средневековью». Список включает самые различные элементы, от камышовых лодок до веревочных и кожаных сандалий, о которых он говорит: «Наблюдается весьма специфическое сходство в конструкции и способе изготовления». Можно подумать, столь красноречивый перечень был составлен, чтобы подтвердить диффузию. Ничего подобного, и автор недвусмысленно высказывает свое мнение на этот счет. Статья начинается словами:
«Доктринерский диффузионизм — угроза развитию солидной археологической теории… В научно-фантастическом мире диффузионистов… время, расстояния и трудности мореплавания не принимаются в расчет. Археология опирается на слишком долгую и славную традицию, чтобы безропотно отступить перед фантазиями, которые предлагают нам начинать с выводов и, руководствуясь ими, искажать свидетельства».
Однако сам же Роу основывает всю свою аргументацию именно на этом методе, поскольку начинает с выводов. В самом деле, его список параллелей призван показать, что области, молчаливо признаваемые слишком удаленными друг от друга, чтобы можно было допустить доколумбовы контакты, — скажем, Андская область и Средиземноморье — тем не менее располагают целым рядом весьма специфических общих черт культуры. Стало быть, заключает Роу, даже самые впечатляющие совпадения могут быть следствием независимого развития. Другими словами, в своих суждениях он исходит из того, что Перу и Средиземноморье слишком далеки друг от друга, чтобы можно было допустить контакт, и на основе этого предположения отвергает тождество культурных черт как свидетельство диффузии (Rowe, 1966)[267].
Но вправе ли мы полагать аксиомой, что Перу находится слишком далеко от Средиземноморья, чтобы между ними мог быть контакт до 1492 г.? Во времена самого Колумба Франсиско Писарро с отрядом из вполне обыкновенных смертных прошел от Средиземноморья весь путь до Перу через Центральную Америку. Как и Колумб незадолго до него, он совершил плавание через океан, не располагая ни мотором, ни навигационными картами вод, окружающих Новый Свет. Далее он благополучно пересек лесистый Панамский перешеек и, выйдя к Тихому океану, продолжил плавание на новых судах мимо непроходимых болот приморья, покуда не добрался до открытых просторов Перу, где и основал поселение. А еще раньше его соотечественник Кортес, высадившись на лесистом берегу Мексиканского залива, поднялся на высокогорное плато и основал там свое поселение.
Не обязательно быть диффузионистом, чтобы реагировать, когда тезисы изоляционистов становятся окаменелой догмой, попирающей свои основы, лишь бы выжить. Право же, люди европейского происхождения не настолько ослеплены собственной историей, чтобы почитать себя племенем суперменов, способных совершить четыре столетия назад то, что раньше было не под силу великим цивилизациям Малой Азии и Северной Африки. Не будем забывать, что Древние кое в чем обладали способностями и мастерством, намного превосходящими то, что было по плечу средневековой Европе. Египтяне и их соседи в Двуречье и Финикии разбирались в столь важной для мореплавания астрономии лучше, чем любой европейский современник Колумба, Кортеса и Писарро. А финикийцы, сотрудничая с египтянами, обогнули Африку во времена фараона Нехо — за 2 тысячи лет до того, как Колумб вышел под парусами в океан, который в представлении европейцев кишел драконами и оканчивался пропастью за горизонтом.
Мы восхищаемся достижениями древних, воплощенными в их пирамидах и обелисках, глубоких математических познаниях и календаре, литературе и философии, в замечательном судостроительном мастерстве, примером которого служит функциональная форма и сложная оснастка создававшихся 5 тысяч лет назад деревянных и камышовых судов, в исследовании и освоении новых земель, что подтверждается многочисленными археологическими следами возникших 3 тысячи лет назад финикийских поселений вдоль всего атлантического побережья Марокко. Так стоит ли, восхищаясь такими свершениями, тут же отрицать способность древних сделать то, что много позже сделал Писарро с горсткой людей во времена, отмеченные невежеством и суеверием?
От берегов Восточного Средиземноморья до Мексиканского залива далеко, однако уроженец Италии Колумб трижды плавал в Америку. За 27 столетий до Колумба финикийцы, выходя из внутренних областей Средиземноморья, энергично исследовали и осваивали атлантические берега Испании и Африки. Конечно, никто не воображает, будто высокоразвитые культуры Мексики и Перу были основаны рядовыми моряками, сбившимися с курса или потерпевшими кораблекрушение у чужих берегов. Горсточка необразованных уроженцев Восточного Средиземноморья, очутившись среди маленьких, неорганизованных родовых общин (и, вероятно, встретив такой же дружеский прием, какой ожидал потом Колумба), вряд ли могла привить аборигенам сколько-нибудь глубокие познания о своей цивилизации. Чтобы передать понятие о таких вещах, как иероглифическое письмо, ноль, способы мумификации и трепанации, мало лишь знать об их существовании, мало даже поверхностного представления о сути вопроса. Для основания культуры, подобной ольмекской, требовался достаточно большой отряд мореплавателей, включающий представителей культурной элиты своей родины, — нечто вроде тщательно подготовленной, целенаправленной экспедиции переселенцев, которая могла сбиться с курса. Археология и письменная история рассказывают нам о крупных организованных группах переселенцев, выходивших из Средиземного моря, чтобы основать большие поселения и торговые посты на берегах Западной Африки. Древнейшая известная нам запись об этом на карфагенской стеле сообщает, что финикийский флотоводец Ганнон около 500 г. до н. э. отправился на 60 кораблях с множеством людей учреждать колонии на атлантическом побережье Марокко. Но археология свидетельствует, что Ганнон не был зачинателем: задолго до него другие организованные экспедиции из Внутреннего Средиземноморья основали крупный мегалитический город Ликс далеко к югу от Гибралтара, именно там, откуда океанское течение направляется прямиком в сторону Мексиканского залива.
История Ликса теряется во мгле времен. Римляне называли его «вечным городом», полагая Ликс родиной богов и местом погребения Геракла. Сооружали Ликс неведомые солнцепоклонники, ориентировавшие по солнцу исполинские мегалитические стены своих построек. Недаром древнейшее его название «Город Солнца». Кто бы ни заложил и ни строил Ликс, очевидно, что в числе этих людей были астрономы, зодчие, каменщики, писцы и отменные гончары. Около 1200 г. до н. э., как раз перед тем как в Америке внезапно расцвела культура ольмеков, организованные колонисты из Восточного Средиземноморья, основательно знакомые с достижениями месопотамской и египетской цивилизаций, вышли на берега Атлантики там, где вечные ветры и течения образуют морской конвейер, ведущий к Мексиканскому заливу.
Мы не собираемся называть сбившихся с курса в этой области переселенцев творцами могущественных культур инков, майя и ацтеков. Устные предания, подтверждаемые археологией, ясно показывают, что эти великие исторические и протоисторические нации Андской области и Мексики чисто местного происхождения, сплав представителей коренного населения, правда воспринявших импульсы от каких-то предшественников. В Мексике, например, похоже, что корни культуры в большой мере восходят к достигшему высокого уровня приморскому народу — ольмекам, деятельность которых, как уже говорилось, начиналась в ограниченной области на берегах Мексиканского залива. Вполне возможно, что эти первоначальные «вдохновители» прибыли из-за моря. Такой вариант тем более вероятен, если вспомнить, что все рассматриваемые нами доевропейские цивилизации возглавлялись правителями, называвшими себя потомками Солнца. Шумеры, ассирийцы, хетты, финикийцы, египтяне, жители Ликса — все они фанатично поклонялись Солнцу, и то же относится к ольмекам, народам культуры мочика и всем их преемникам вплоть до времен ацтеков, майя и инков в Мексике и Перу. Они сооружали астрономические обсерватории для наблюдения за путями солнца, так что им более, чем каким-либо другим народам, было бы естественно следовать вдогонку за солнцем на запад, куда оно каждый день удаляется. Прямо на запад от Канарских островов находится Мексиканский залив. Когда мы шли маршрутом Колумба на папирусных «Ра», вечером нос нашей ладьи неизменно смотрел на заходящее солнце.
Между прочим, камышовая ладья — одна из 60 перечисляемых Роу параллелей в культуре древних цивилизаций Перу и Средиземноморья. Составляя свой перечень в 1966 г., он не знал, что всего три года спустя перуанское камышовое судно пройдет от Перу до Панамы. Это экспериментальное плавание, предпринятое неопытными добровольцами под руководством Гене Савоя, длилось два месяца, с 15 апреля по 17 июня. Приблизительно в это же время, с 25 мая по 18 июля, моя папирусная «Ра I» прошла от Африки до американских вод. Годом позже «Ра II» повторила маршрут и менее чем через два месяца пристала к берегу в Новом Свете. Три названных плавания, состоявшиеся на протяжении 16 месяцев, вместе охватили весь морской путь от Средиземноморья до Перу. Гене Савою и моей команде было бы не сложнее пересечь пешком Панамский перешеек, чем Писарро и его людям, так что трудно понять, почему камышовую ладью и 59 других названных Роу специфических культурных черт ограниченного распространения надобно считать разделенными неодолимым барьером, до того как испанцы в 1492 г. подняли паруса своих каравелл.
Почему испанцы, достигнув островов Карибского моря, тут же двинулись дальше и обосновались в горах Мексики и Перу? Потому ли, что они отличались от других смертных? Или же путешественники и до них поступали точно так же, побуждаемые географической обстановкой? Болотистые леса перешейка не соблазнили Писарро и его спутников обосноваться в этих местах, и они продолжили путешествие по суше и по морю, пока не добрались до гостеприимного приморья Перу. Если другие люди раньше Писарро пересекли Атлантику, почему они должны были поступить иначе? Объясняя побуждения и действия маленького отряда Писарро и отвергая в то же время самую мысль о том, что другие мореплаватели из Средиземноморья могли воспользоваться теми же ветрами и течениями и пройти в итоге тот же маршрут, изоляционисты грешат против основного правила изоляционизма, гласящего, что при аналогичных условиях среды люди склонны повторять достижения друг друга.
Есть в суждениях доктринерского изоляциониста еще один изъян. Он будет утверждать — обычно с полным основанием, — что сходство условий среды способствует сходству черт культуры. Сам по себе этот тезис звучит вполне резонно, и все же он не может служить единственным объяснением культурных параллелей и никак не объясняет географическое распространение культур Нового Света. Ольмеки в дождевых лесах Мексики и нынешние обитатели тех же мест — лакандоны были окружены одинаковой природной средой. Однако ольмеки около 3 тысяч лет назад заложили основу могущественных цивилизаций, а лакандоны по сей день ведут образ жизни примитивных лесных племен. Археология показывает, что цивилизация древних ольмеков активно распространялась по Мексике на юг через Центральную Америку, где ее типичные приметы растворяются в череде родственных лесных цивилизаций вдоль андских предгорий от Колумбии до Боливии. За пределами этой узкой сплошной линии контакта или диффузии, в Венесуэле, Гайане и по всей Бразилии, живет множество лесных племен, происходящих, как принято думать, от тех же сибирских предков и окруженных такой же природной средой, однако их ничто не побудило изменить примитивный образ жизни своих пращуров. Право же, непохоже, чтобы природная среда была основным стимулятором аборигенных американских цивилизаций.
Более того, вряд ли где-нибудь еще в Америке мы увидим такой географический контраст, какой отличает две важнейшие колыбели американской цивилизации — Лa-Венту в Мексике и Тиауанако в Южной Америке. Ла-Вента расположена на низменных берегах Мексиканского залива, в заболоченной местности с густыми тропическими лесами и тяжелым, жарким, влажным климатом. Тиауанако находится на высоте 3700 м над уровнем моря на голой, безлесной равнине, в окружении снежных вершин, и климат здесь холодный и ветреный. Трудно найти более контрастные среды. Тем не менее археология показывает, что именно в этих районах были заложены основы двух из древнейших цивилизаций Нового Света. Ла-Венту в приморье, куда подходит Канарское течение из Старого Света, считают колыбелью внезапно возникшей сильной культуры, которую условно наименовали ольмекской. Появившись на атлантических берегах Мексики около 1000 г. до н. э., ольмеки распространили свое влияние через всю Мексику до Тихоокеанского побережья и на юг через нынешнюю Гватемалу. Как уже говорилось, эта сильная исходная культура вдохновила последующие великие и многообразные цивилизации майя, тольтеков, микстеков и ацтеков. Приблизительно в это же время другой неопознанный мигрирующий народ, носитель поразительно сходной цивилизации, заселил область Тиауанако на южном берегу озера Титикака и через какие-то пока неясные связи с народами областей Чавин и Мочика и другими аборигенами вдохновил развившиеся затем в Южной Америке культуры чиму, наска и инков.
И выходит, что не сходство среды обитания, а географическое соседство стимулировало взлет и падение великих доколумбовых цивилизаций. Независимо от условий среды они, подобно бусинам на шнурке, протянулись через узкий мост Центральной Америки от Ла-Венты до Тиауанако. За пределами этой сплошной полосы аборигенной американской цивилизации, будь то в тундре Аляски, лесах Канады, на равнинах нынешних США, в дождевых лесах Бразилии, горах Чили или пампе Аргентины, обитатели древней Америки продолжали примитивную жизнь своих предков каменного века, приспособленную к элементарному выживанию. Что обусловило их отставание — меньшая одаренность? Или все дело в том, что они жили за пределами географического очага, воспринявшего заморские стимулы?
Изоляционист почитает оскорбительным для умственных способностей американского индейца искать внешние истоки аборигенных цивилизаций Америки. Но разве не оскорбительнее для большинства американских индейцев, живших за пределами областей высокой культуры и не ведавших цивилизации, отрицать возможность того, что им попросту недоставало соответствующего полезного влияния? Можем ли мы, европейцы, утверждать, что произошли от независимых творцов цивилизации? Вправе ли мы забывать, что Европа все еще была обителью неграмотных варваров, когда грамотные ольмеки создавали скульптурные шедевры с иероглифическими надписями и сложными календарными данными? Да те же испанские конкистадоры привезли в Америку цивилизацию, обретенную их европейскими предками путем культурной диффузии. Цивилизация пришла в Европу через Древнюю Грецию и Рим, которые в свою очередь восприняли все основные элементы своей культуры от Крита, Малой Азии и Египта.
Корабли начали приносить письменность и другие культурные достижения на удаленные острова и берега Средиземного моря незадолго до 3000 г. до н. э., а кульминация этого процесса наступила, когда финикийцы около 1200 г. до н. э. учредили важные торговые посты на атлантических берегах Испании и Марокко. Потомки обитателей Малой Азии — финикийские ученые и купцы, обосновавшиеся в ту далекую пору на океанских берегах, набирали команды и перевозили людей со всего Средиземноморья. Египетские изделия вывозились за Гибралтарский пролив — об этом свидетельствуют бронзовая статуэтка и фигурный сосуд, недавно найденные археологами в финикийском порту Кадис в Испании и выставленные теперь в местном археологическом музее.
Стоило большим организованным экспедициям переселенцев, представлявшим цивилизацию Ближнего Востока, выйти за пределы Гибралтара, как на другом конце Канарского течения, на берегах Мексиканского залива, возникла и расцвела ольмекская цивилизация. Чем объяснить это примечательное совпадение во времени? Если человек существует на земном шаре миллионы лет, а на землях Америки — десятки тысяч лет, почему цивилизация явилась у разных концов Канарского течения в одно время?
Основополагающие элементы культуры, доставленные в Америку Кортесом и Писарро, — от алфавита до христианского креста — первоначально восприняты испанцами от Ближнего Востока. Если мы, европейцы, должны признавать этот факт, что унизительного для Монтесумы и его ацтеков в предположении, что они черпали культурные стимулы из того же источника, что народ Испании и победивший ацтекского вождя Писарро?
Географическая обстановка отнюдь не изолирует область ольмеков от атлантических берегов Старого Света. Напротив, эта область расположена на финише морского конвейера, который мы назвали маршрутом Колумба. Но если культуру ольмеков вдохновили или даже основали доколумбовы мореплаватели, то почему, спрашивают изоляционисты, до древней Америки не дошло колесо, не дошли культурные растения Старого Света? Не мог же Новый Свет, говорят они, оставаться в неведении о столь важных культурных элементах, если сюда прибывали цивилизованные странники до Колумба.
Аргумент о колесе повторяется в старых книгах так часто, что иногда всплывает и по сей день. Между тем археология далеко продвинулась вперед, и давным-давно обнаружено, что принцип колеса на самом деле был хорошо известен в древней Америке, притом как раз у ольмеков. После того как несколько десятков лет назад начались систематические раскопки ольмекских поселений в районе Веракрус на берегу Мексиканского залива, в погребальных урнах найдено множество керамических фигурок животных, поставленных на колеса. Постепенно расходясь по музеям Мексики и других стран, эти фигурки из погребального инвентаря вошли в ряд наиболее характерных дошедших до нас изделий ольмеков. Сквозь дырочки в ногах глиняных собачек или пум продеты деревянные оси, на которые насажены глиняные колеса. Первоначальное назначение фигурок неизвестно; правда, многие из них выполнены в виде свистулек. Но в принципе они аналогичны керамическим фигуркам на колесиках, найденным в шумерских, хеттских и финикийских погребениях от Ура в Двуречье до Ивисы на западе Средиземного моря.
То, что зачинатели цивилизации Нового Света знали колесо, весьма примечательно. Можно гадать, почему оно затем не привилось у американских племен как вспомогательное средство для наземной транспортировки, но к нашему вопросу это отношения не имеет. Всякий посетитель Лa-Венты легко убедится, что леса и болота, где первоначально обосновались ольмеки, не допускали колесного транспорта; они по сей день затрудняют прокладку современных дорог. Независимо от природных условий потомки великих народов майя и инков почему-то и в наше время пренебрегают тягловыми животными и колесом. Лакандоны Мексики и перуанские кечуа по-прежнему ходят пешком и переносят грузы на собственной спине или навьючивают ими лам даже в тех местах, где есть дороги. Излюбленный аргумент против контактов через океан оказался явно недействительным, как только выяснилось, что колесо было известно и изготавливалось в миниатюре, но было предано забвению последующими поколениями американцев.
Ольмекская собачка на колесах и чрезвычайно реалистичные керамические изображения собак, принадлежавшие последующим мексиканским культурам до Колумба, еще одно больное место доктринерского изоляциониста. Откуда появились эти собаки? У домашних псов древней Мексики и Перу не было местного дикого предка. Единственная собака, которая могла попасть в Америку с пешеходами, — сибирская лайка, сопровождавшая жителей Арктики в Аляску и Гренландию. Ольмекские псы и известные по мумиям древнего Перу Canis ingae разительно отличаются от сибирской лайки, зато очень похожи на породы, известные по мумифицированным собакам Египта и весьма реалистичным ближневосточным изображениям. Средиземноморские породы собак распространились на запад с древними путешественниками от Двуречья до Марокко и Канарских островов, но никогда не достигали Дальнего Востока и Сибири и, стало быть, не могли попасть в Мексику и Перу через Аляску. Из всех одомашненных животных собака — наиболее верный спутник древнего человека на суше и на море, и ничто не мешало ей достичь тропических областей Америки вместе с мореплавателями, следовавшими по Канарскому течению.
Заслуживающий в принципе внимания аргумент, гласящий, что культурные растения Старого Света не доходили до древней Америки, не годится как доказательство отсутствия контактов, ибо голодные мореплаватели могли еще в пути прикончить все свои съедобные припасы. К тому же тропические болота ольмекской области никогда не подходили для возделывания средиземноморской пшеницы и других зерновых, обычно перевозимых путешественниками Ближнего Востока. Вероятность того, что какое-нибудь культурное растение с полей Северной Африки могло привиться в Лa-Венте, чрезвычайно мала. И вообще негативное свидетельство можно принимать в расчет при условии, если будет доказано, что в древней Америке не было никаких растений, окультуренных в Старом Свете. Стоит показать, что хотя бы одно культурное растение пересекло океан до Колумба, и аргумент в пользу изоляции тотчас превратится в доказательство контакта. Оттого вполне естественно, что этноботаника приобрела ключевое значение в попытках проследить древние перемещения человека и нередко ботаники поневоле оказывались вовлеченными в антропологические споры изоляционистов и диффузионистов.
История фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) — яркий пример того, как предвзятые взгляды на возможности древних мореплавателей влияли на противоречивые суждения ботаников и антропологов. В 1885 г. Кёрнике отметил, что, как было принято считать, эту важную культуру возделывали древние греки и римляне под названием Dolickos, Phaseolus и т. п. (Аристофан и Гиппократ писали о ней около 400 г. до н. э.). Когда выяснилось, что ту же самую фасоль культивировали аборигены Нового Света, решили, что ее туда ввезли первые испанские путешественники. Это мнение держалось, пока Виттмак в 1880 г. не нашел фасоль обыкновенную в инвентаре древнего погребения в Анконе, на побережье Центрального Перу. Здешние погребения появились задолго до того, как европейцы пришли в Америку. Затем Phaseolus vulgaris находили в местах доинкских поселений по всему перуанскому приморью, и ботаники получили убедительное свидетельство, что фасоль возделывалась в Америке до прихода европейцев. Стало невозможно ссылаться на предполагаемый ввоз этой культуры испанцами. Однако в это время в Старом Свете уже нельзя было найти доколумбовых образцов данной фасоли, поэтому гипотезу переиначили и решили, что родина Phaseolus — древняя Америка, откуда испанцы привезли ее в Европу. Повторное рассмотрение этой запутанной ботанической проблемы Хатчинсоном, Силоу и Стефенсом в 1947 г. убедило их, что Phaseolus не абориген Нового Света и ее странствия — ботаническое свидетельство доколумбовых контактов между Старым и Новым Светом (Hutchinson, Silow and Stephens, 1947[170]). Сходную проблему представляет собой родственная фасоли Canavalia sp. Стонор и Андерсон указывали: «Канавалия — широко культивируемое в тихоокеанской области растение, всегда считавшееся уроженцем Старого Света, — теперь обнаружена в доисторических поселениях в приморье как Южной Америки, так и Мексики» (Stonor and Anderson, 1949[299]). Бобы канавалии найдены при раскопках в Уака-Приета на тихоокеанском побережье Перу, в слоях, датируемых от III до I тысячелетия до н. э. По мнению Зауэра, ее археологическое распространение и родство с дикими видами указывают, что канавалия была окультурена в Новом Свете (Sauer, 1950[272]).
Еще одно ботаническое свидетельство контакта — бутылочная тыква Lagenaria siceraria. Это важное культурное растение широко возделывалось в Африке в доколумбовы времена. Пищевая ценность ее невелика, но высушенная над огнем кожура использовалась как сосуд от Двуречья и Египта до Марокко. Приступив к изучению растений Нового Света, ботаники обнаружили, что бутылочную тыкву выращивали для тех же целей во всех областях высокоразвитых американских культур, включая Мексику и Перу. Предположили, как и с фасолью, что тыкву привезли испанцы, однако и тут пришлось отказаться от этой гипотезы, когда археологи нашли бутылочную тыкву на месте доколумбовых поселений как в Мексике, так и в Перу. Она оказалась одним из наиболее типичных культурных элементов в области распространения высокоразвитых американских цивилизаций. Тогда выдвинули новую гипотезу: дескать, бутылочная тыква могла из Африки приплыть через Атлантику в тропическую зону Америки, здесь ее семена проросли, индейцы приметили, что высушенная над огнем кожура тыквы служит отменным сосудом, и повторили открытие, первоначально сделанное в Африке. Разумеется, речь идет о сознательной попытке отделаться от нежелательного свидетельства. В погоне за осторожностью изоляционисты выплескивают с водой ребенка. Они пытаются стереть важный африканский пальцевый отпечаток в Америке, игнорируют веское генетическое свидетельство. Всякий, кто дрейфовал в океане, знает, что небольшие плавающие на волнах съедобные предметы вроде тыквы неизбежно станут добычей акул и червей-сверлильщиков за те четыре месяца, что нужны им для дрейфа через Атлантику. Тому, кто плавает на плотах, странно слышать утверждения, будто из двух элементов африканской культуры — сухопутной тыквы и морского судна — тыква может благополучно доплыть до Америки, а судно с экипажем — нет!
Еще более интригующее свидетельство — хлопчатник Gossipium. Дикий хлопчатник с коротким волокном не годится для прядения и не представляет практической ценности для человека. Тем не менее европейцы, прибыв в Америку, обнаружили, что индейцы во всей области распространения высокоразвитой культуры — от Мексики до Перу — носят искусно сделанные одежды из отменной хлопчатобумажной ткани. А последующие раскопки перуанских склепов с мумиями позволили найти хлопчатобумажные ткани древнейшего, доинкского периода из тончайшей нити и с непревзойденными узорами. Выходит, основатели перуанской цивилизации каким-то образом обзавелись культивируемым длинноволокнистым хлопчатником, а также пряслицем и ткацким станком. Путь от непригодного для прядения дикого коротковолокнистого хлопчатника через пряслице и ткацкий станок до готовой ткани достаточно долог и отнюдь не самоочевиден для того, кто незнаком с конечным результатом. Из перечня перуанских и средиземноморских параллелей, составленного таким убежденным изоляционистом, как Роу, видно, что способ и результат обработки хлопка в Перу аналогичны тому, что известно по Старому Свету. Роу показывает, что применявшийся инками вертикальный ткацкий станок с двойным навоем тождествен станку, который был в ходу в Египте времен Нового царства, куда он, вероятно, попал из Двуречья. Роу добавляет, что горизонтальный станок, укрепленный на земле, как это делали в области Титикаки, также тождествен древнеегипетскому. Многие наблюдатели отмечали удивительное сходство плащей и набедренных повязок, изготовленных на древних ткацких станках в Америке, с такими же изделиями древнего Средиземноморья. В частности, Роу даже употребляет слово «идентичное», называя в перечне: «Вид женского одеяния, представляющего собой прямоугольный кусок ткани, которым обертывают тело до подмышек, скалывая вместе верхние края на плечах и подвязывая поясом в талии…» (Rowe, 1966[267]).
В 1947 г. Хатчинсон, Силоу и Стефенс опубликовали первое генетическое исследование образцов хлопчатника со всего света. Они установили, что хлопчатник можно разделить на три группы по числу и величине хромосом. У всех хлопчатников Старого Света, будь то диких или окультуренных, 13 больших хромосом. А вот в Новом Свете дикий и окультуренный хлопчатники в этом заметно отличаются друг от друга. У диких хлопчатников Америки 13 малых хромосом, тогда как у окультуренных (а их в полосе от Мексики до Перу насчитывается три разновидности) — 26 хромосом — 13 малых и 13 больших. Но среди диких американских хлопчатников ни один не имел больших хромосом, стало быть, культурный хлопчатник является гибридом, и выходит, древние хлопкоробы Америки на заре здешней цивилизации располагали какой-то неведомой разновидностью, позволившей вывести длинноволокнистый гибрид. Поскольку были добавлены 13 больших, «неамериканских» хромосом, три ботаника заключили, что в руки индейцев попала дикая или окультуренная разновидность из Старого Света и полученный ими гибрид с текстильным волокном распространился вместе с высокоразвитой цивилизацией в Мексике и Перу (Hutchinson, Silow and Stephens, 1947[170]).
Где бы в Новом Свете ни находили следы аборигенной цивилизации, ей неизменно сопутствует культурный хлопчатник с 26 хромосомами, причем с Тихоокеанского побережья он проник и в Полинезию, по мере того как на это островное царство распространилось американское влияние. В то же время хлопчатник, будь то дикий или окультуренный, оставался неизвестным на всем пути — от западных рубежей Полинезии до Юго-Восточной Азии. Одичавший до прихода европейцев полинезийский хлопчатник оказался потомком американского гибрида. Несомненно, он первоначально был доставлен в Полинезию из Америки именно потому, что речь шла о культурной разновидности. Спрашивается: откуда в Америке текстильный хлопчатник?
Дикая разновидность с 13 хромосомами произрастала в Новом Свете, так что остается лишь установить, каким путем индейцы Мексики и Перу в свое время заполучили разновидность с 13 большими хромосомами, типичную для Старого Света от Египта до Пакистана, но отсутствовавшую в Америке. Тут могут быть лишь две возможности: либо хлопчатник Старого Света как раз в то время, когда в Америке развивалась цивилизация, сам благополучно переплыл через океан, либо его вместе с бутылочной тыквой намеренно привезли древние мореплаватели. Если верна первая альтернатива, мы должны предположить, что индейцы стояли на берегу моря, когда волны вынесли семена хлопчатника из Старого Света, что они тотчас поняли, какие это семена, посадили их и поспешили найти подходящий для скрещивания дикий американский хлопчатник. Успешно выведя длинноволокнистую разновидность, они тут же изобрели керамическое пряслице, аналогичное ближневосточному; приготовив пряжу, изобрели ткацкий станок и принялись ткать набедренные повязки и плащи средиземноморского типа в самом жарком поясе Америки, где менее всего ощущалась нужда в одежде. Если же хлопчатник Старого Света прибыл на судне с людьми, издавна знакомыми с его применением, совпадение этого факта с зарождением перуанской и мексиканской цивилизаций выглядит вполне логично. Для опытных хлопкоробов было бы естественно скрестить привезенную разновидность с дикой американской и получить 26-хромосомный хлопчатник, который затем возделывался на обширных полях от Мексики до Перу. И столь же естественно было бы для них изготовлять керамические и каменные пряслица такого же вида, какие делали в Старом Свете, и такие же ткацкие станки для производства одежды, какую они носили в своей части света.
Семена хлопчатника могут, не теряя всхожести, плавать месяцами в лабораторных сосудах, но попробуйте сплавить их через Атлантический океан со всеми его рыбами к людям, в жизни не видевшим хлопкового поля, не говоря уже о ткацком станке, — вряд ли от этого эксперимента будет прок. Вот и получается, что иные опрометчивые гипотезы о трансокеанской диффузии выдвигаются изоляционистами, которые в погоне за осторожностью готовы принять любую диффузионистскую гипотезу, только бы в ней не говорилось о судах.
Сходная история получается с бананом Musa paradisiaca в Америке. У этого вида нет диких родичей в Новом Свете, а потому этноботаники, равняясь на антропологов, исходили из того, что наличие банана в Америке XVI в. объясняется привозом его после Колумба. Однако этот вывод противоречит письменным источникам. Хронисты XVI в. почитали банан исконно американским растением, возделываемым от Халиско в Мексике до южного приморья Бразилии. От Мексики до Южной Америки в языке индейцев были собственные названия для банана. Инка Гарсиласо, Гуаман Пома, патер Акоста и патер Монтесинос единодушно отмечали, что банан выращивали в Перу до конкисты. Историк Прескотт в 1847 г. подчеркивал: «Неверно предполагать, что это растение не было исконным для Южной Америки. В древних перуанских погребениях часто находят банановые листья» (Prescott, 1847[254]). В 1879 г. Рошбрюн сообщил о находке листьев и плодов в доколумбовом погребении в Анконе на тихоокеанском берегу Перу, причем плоды были бессемянные и, следовательно, принадлежали к окультуренному виду Musa paradisiaca (Rochebrune, 1879[262]). Наконец, исторические и археологические данные побудили Хармса в 1922 г. включить Musa paradisiaca в список растений, опознанных в доколумбовых перуанских захоронениях (Harms, 1922[143]).
Поскольку никто не отваживался предполагать, что бессемянные бананы могли доплыть до Америки без помощи человека, наличие бананов в доколумбовой Америке стало еще одним доводом, который изоляционисты не могли объяснить. Тем не менее главный поборник изоляционизма среди ботаников Меррилл вопреки сообщениям испанских хронистов выдвинул в 1946 г. гипотезу, что банан был доставлен в Новый Свет португальцами через лежащие у африканских берегов острова Зеленого Мыса (Merrill, 1946[216]). Сторонники этой гипотезы готовы приписать честь интродукции банана в Америке епископу Панамы Томасу де Берланга, о котором в хрониках сказано, что в 1516 г. он посадил несколько корневищ на острове Санто-Доминго (Испаньола), в 500 милях от материка. Однако видный специалист по географии растений Зауэр показал неприемлемость такого предположения:
«Разводить банан труднее, чем семяносные растения. Зрелое корневище надо выкопать, разделить, желательно просушить, затем посадить на новом месте. Данный вид вовсе не склонен размножаться самосевом, так что его распространение скорее всего обусловлено намеренной и достаточно тщательной посадкой» (Sauer, 1950[272]).
Если верна гипотеза изоляционистов и банан впервые появился в Новом Свете на острове Эспаньола в 1516 г., то он распространился дальше с волшебной даже для выносливого сорняка скоростью, склонив испанцев к ошибочному заключению, что речь идет об исконном растении самых глухих индейских селений от Мексики до Перу. Когда, например, Орельяна в 1540–1541 гг. пересек Анды со стороны Тихого океана и первым из европейцев спустился по Амазонке до самого ее устья, он обнаружил банановые плантации в истоках великой реки всего через 24 года после того, как епископ Берланга сажал бананы на острове Санто-Доминго. Если считать епископские корневища прародителями всех бананов Америки, выходит, что аборигены должны были живо выкопать их и доставить по морю в Мексику и Панаму, а также в устье Амазонки (путь, равный расстоянию от Африки до Южной Америки), после чего те же или другие индейцы с изрядным запасом корневищ поднялись на лодках вверх по величайшей в мире лесной реке и уговорили все племена на пути к истокам сажать неведомый клубень. За те же десятилетия переносчики бананов каким-то образом ухитрились доставить епископские корневища от истоков Амазонки или с Панамского перешейка на орошаемые поля и в запечатанные склепы в пустынях перуанского приморья, чем сбили с толку таких местных авторитетов, как Инка Гарсиласо и его современники, которые записали, что банан в Перу рос еще до европейцев. В своем стремлении отговориться от столь важного генетического свидетельства изоляционисты, трактуя возможности переноса в Новом Свете после 1516 г., сами становятся крайними диффузионистами.
Разумеется, изоляционисты часто правы, критикуя диффузионистов за пренебрежение хронологией. Выдвигались миграционные гипотезы, предполагающие диффузию в Америку культурных элементов, которые были широко распространены в Новом Свете задолго до того, как их можно с уверенностью проследить где-либо еще. Диффузионисты неоднократно заявляли, что идея каменных статуй и мегалитической кладки воспринята аборигенами Перу от иммигрантов с острова Пасхи. Несостоятельность таких утверждений доказана стратиграфией и радиоуглеродной датировкой. Каменные статуи и мегалитические стены были характерны для высокоразвитых американских культур Мексики, Центральной Америки, Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. Мексиканские ольмеки и андские тиауанакцы в совершенстве владели ваянием и кладкой задолго до того, как человек поселился не только на Пасхе, но и в любых других частях Полинезии. Так что наличные хронологические свидетельства на тихоокеанской стороне Америки исключают вероятность внешнего стимула для этого культурного элемента.
А вот на атлантической стороне такого хронологического несоответствия нет. Две разделенные большим промежутком времени даты позволяют предполагать важные события, повлиявшие на жизнь народов по обе стороны Атлантики. Речь идет о трехтысячных и тысячных годах до нашей эры, и, хотя вторая дата представляется в данном контексте более актуальной, нельзя пренебрегать и первой, учитывая ее первостепенное значение в предыстории Старого Света. Как уже говорилось, незадолго до 3000 г. до н. э. достигли полного расцвета великие цивилизации Ближнего Востока. В Египте начало первой династии фараонов датируют 3200–3100 гг. до н. э.; примерно к этому же времени относят первую династию Ура в Двуречье. Если верны новейшие археологические датировки, Мальта была заселена цивилизованными мореплавателями даже раньше этого периода; вскоре наступил черед и Крита. Мы пока что не можем сколько-нибудь точно определить область или области, откуда корабли впервые стали бороздить Средиземное море. Поскольку в силу упомянутых датировок получается, что мегалитические постройки появились на Мальте раньше, чем в Египте, некоторые ученые начинают думать, что первоначальные импульсы цивилизаций Старого Света, возможно, распространялись в бассейне Средиземного моря не с востока на запад, а наоборот. Такие соображения как будто подтверждаются мнением римлян, что древнейшим городом в мире был не Библ в Финикии, а Ликс на берегу Атлантики, а также записанным древними греками египетским преданием об Атлантиде, по которому колыбель средиземноморской цивилизации находилась за Гибралтаром. Если отбросить догадки, основанные на шатких свидетельствах, остается документально подтвержденным фактом, что мореплаватели, хорошо знакомые с мегалитическим зодчеством, развивали свою деятельность по обе стороны Гибралтара до начала письменной истории. Незадолго до 3000 г. до н. э. во Внутреннем Средиземноморье развернулась небывалая культурная активность, новые династии внезапно пришли к власти и создали передовую цивилизацию в Двуречье и Египте.
Археологический материал, позволяющий судить о сходной активности в Новом Свете в тот же период, пока что довольно скуден. Однако весьма примечательно, что начальная дата древнего календаря майя в переводе на наше летосчисление — 3113 г. до н. э. Календарь майя отличался такой точностью, что астрономический год в нем измерялся в 365,242 дня; это дает потерю всего одного дня за каждые 5 тысяч лет, тогда как в основу нашего современного календаря положен год, исчисляемый в 365,2425 дня, что дает полтора лишних дня за тот же срок. Надпись на древней мексиканской погребальной пирамиде в Паленке гласит, что 81 месяц составляет 2392 дня; стало быть, по наблюдениям древних американских астрономов, месяц в среднем включал 29,53086 дня — это всего 24 секунды отклонения от истинной продолжительности. Теперь спрашивается, почему древние мексиканцы начинали свое точнейшее летосчисление с даты 4 Ахау 2 Кумху, что отвечает нашему 12 августа 3113 г. до н. э.? Кое-кто полагает, что индейцы
выбрали эту дату наугад — с чего-то надо было начинать. Другие допускают, что она связана с каким-то астрономическим явлением, которое наблюдалось задолго до возникновения даже ольмекской цивилизации. Тот факт, что эта дата удивительно совпадает с важными событиями в Египте и Двуречье и великими миграциями в Средиземноморье, дает право предположить, что речь идет не о чистой случайности.
Период около 1200 г. до н. э. — еще одна важная веха в предыстории Средиземноморья. Все авторитеты признают, что в это время некая чудовищная катастрофа резко сократила численность населения и повлекла за собой крушение великих цивилизаций этой области. Исчезла минойская цивилизация на Крите, сильно пострадали все области микенского мира. Неизвестные племена, которые египтяне называли «морскими народами», скитались на многочисленных кораблях по Средиземному морю, совершая набеги на берега Малой Азии и Египта. Весь Ближний Восток был поражен стихийными бедствиями; могучие в прошлом приморские державы египтян и хеттов внезапно и безвозвратно пришли в упадок. Финикийские колонисты покидали свои прежние порты, в большом количестве выходили за Гибралтар и основывали важные поселения на атлантических берегах Испании и Марокко.
В недавно изданном труде Померанц разбирает возможные причины столь широких пертурбаций, которые озадачивают историков и археологов и предположительно приписываются то набегам «морских народов», то редкостно сильным засухам. Начиная с археологии Крита, он показывает, что «около 1200 г. до н. э. повсеместно засвидетельствованы зловещие признаки катастрофы. Почти во всех местах раскопок видим следы разрушений, пожаров, бегства населения и попыток наладить жизнь таких беженцев». Он приводит ряд аргументов, чтобы показать, что последнее разрушительное извержение на лежащем недалеко от Крита Санторине (Тира) датируется неверно — на самом деле оно произошло около 1200 г. до н. э. Вызванные этим геологическим катаклизмом волны достигали чудовищной величины. Померанц считает, что «расходившиеся от Санторина цунами обернулись около 1200 г. до н. э. страшным бедствием для населения и примитивного хозяйства на берегах Эгейского моря и Восточного Средиземноморья». Он продолжает:
«Опустошения, характеризующие период около 1200 г. до н. э., следует понимать не только как следствие агрессии уцелевших людей — „морских народов“, но и как следствие окончательного обрушения санторинской кальдеры. В невероятно короткий срок пало большинство важнейших культур, были забыты процветавшие веками искусства и ремесла… нарушились международные связи и торговля. Именно в это время вдруг пропадают высшие достижения культуры бронзового века. После 1200 г. до н. э. жизнь в Эгейском бассейне на 400 лет погружается в пучину обскурантизма» (Pomerance, 1970[251]).
Поскольку ольмекская культура начала расцветать в мексиканском приморье сразу после периода небывалых потрясений к востоку и западу от Гибралтарского пролива, на атлантической стороне Америки с хронологией все в порядке независимо от того, что на самом деле так сильно ударило по цивилизациям Старого Света.
Изоляционисты видели, как подтверждаются их заключения о несостоятельности тех или иных диффузионистских аргументов. Но если история ольмекской и мексиканской цивилизаций начинается в области подвижных вод Канарского течения, связывающих ее с культурами Средиземноморья, почему не допустить, что какие-то диффузионистские параллели, хотя бы и не служащие доказательством трансокеанских плаваний, все же объясняются такими плаваниями? Отсутствие доказательств само по себе — не веский контраргумент.
Конечно, параллели в обычаях и изделиях можно отвергнуть порознь как неубедительные доказательства контакта. Иное дело с распространением культурных растений. И негативный подход не оправдывает себя, если все культурные параллели оценивать совместно. Вероятность независимого изобретения поддается примерному определению по следующей приблизительной схеме. Скажем, так: если один процент населения земного шара создавал астрономически ориентированные пирамиды, это равнозначно одному проценту вероятности для людей вообще додуматься до постройки таких сооружений. И нет ничего немыслимого в том, что этот один процент пришелся на два обособленных региона — Двуречье — Египет и Мексика — Перу. Так же можно рассуждать, если один процент человечества придумал изображать своих божеств в облике человека с головой хищной птицы. Мифических птицечеловеков тоже можно посчитать независимым изобретением. Однако вероятность того, что в одних и тех же ограниченных регионах додумались и до пирамид, и до птицечеловека, составит уже один процент от одного процента. Продолжая это рассуждение и включая в наши расчеты ритуальное захоронение керамических фигурок на колесах, видим, что область их распространения еще более ограничена и вероятность повторения намного меньше одного процента. Если же поставить их в ряд с пирамидами и птицечеловеками, вероятность повторения такого комплекса совсем уж мала. А так как пристальное исследование выявляет более ста культурных параллелей между двумя названными регионами, притом настолько специфических, что в других местах они присутствуют только в виде явного заимствования, невероятность независимой эволюции достигает подлинно астрономической величины. Конечно, такой способ расчета весьма схематичен и приблизителен, и многие из учитываемых параллелей взаимозависимы и взаимообусловлены, и все же остается достаточно примеров, чтобы показать ошибочность позиции изоляционистов, когда они отвергают каждый из множества признаков порознь, вместо того чтобы оценивать их вместе.
Легкость, с какой опытный экипаж папирусного судна мог пересечь Атлантический океан, следуя маршрутом Колумба, побудила меня после тщательных полевых и музейных изысканий в соответствующих районах составить перечень существенных для нашей темы трансатлантических культурных параллелей. Возможно, какие-то элементы покажутся выходящими далеко за пределы рассматриваемых нами регионов, если исходить из их всесветной известности в средние века. Однако следует помнить, что речь идет о чертах, распространившихся в древности из концентрированного источника в афро-азиатской области между реками Нил и Тигр. Как известно, древние греки, а за ними римляне распространили, например, изготовление бумаги и письмо, даже христианскую веру и новые нравы с Ближнего Востока в Европу, а берберы, финикийцы и затем арабы позаботились о переносе культуры из того же источника вдоль североафриканского приморья до берегов Атлантики и Канарских островов. В большинстве случаев диффузия длилась столетиями. На оставшийся шаг до Мексики достаточно было нескольких недель.
Выделяя общие для доевропейских цивилизаций Малой Азии, Египта, Кипра и Крита характерные черты культуры, дающие право говорить о едином культурном регионе, почти неизбежно сталкиваешься с тем, что эти черты типичны и для доевропейских цивилизаций Мексики и Перу. Действительно, тот самый набор культурных черт, который в период экспансии от 3000 примерно до 1200 г. до н. э. распространялся с Ближнего Востока в сторону Гибралтара, появляется в это же время в родственном виде на американском финише Канарского течения. Приводимый ниже перечень примеров относится к этой категории:
1. Иерархия, основанная на солнцепоклонничестве и сложном государственном управлении во главе с абсолютным священным монархом, династия которого называет солнце своим родоначальником.
2. Браки между братьями и сестрами в правящей династии для сохранения чистоты «солнечной» крови.
3. Развитая письменность в период, когда европейские народы еще не знали письма.
4. Изготовление бумаги вымачиванием и сдавливанием перемежающихся слоев растительного волокна; производство книг с цветными иероглифическими текстами в виде длинных широких лент, которые складывались или свертывались в свитки.
5. Применение огромного количества организованной рабочей силы для постройки колоссальных сооружений, лишенных какой-либо практической функции.
6. Неизвестная в наши дни техника, позволявшая с высочайшей точностью вытесывать огромные каменные блоки, которые независимо от формы и величины пригонялись друг к другу без цементирующего раствора так плотно, что в швы не проходит даже лезвие ножа.
7. Технические знания, позволявшие транспортировать такие блоки весом до 100 т на большие расстояния в пересеченной местности, через болота, реки и озера; умение устанавливать их торчком в виде монолитов или укладывать друг на друга, создавая совершенные мегалитические стены.
8. Установка под открытым небом исполинских антропоморфных каменных статуй, служивших религиозными монументами.
9. Установка мнемонических стел с рельефными антропоморфными изображениями в окружении высеченных иероглифических надписей. Повторение в обоих регионах рельефного изображения бородатого мужчины, сражающегося с опирающейся на хвост огромной змеей (хеттская стела из музея Халеба и ольмекская стела из Лa-Венты, ныне установленная в археологическом парке Вильяхермоса).
10. Оштукатуренные помещения культовых сооружений, стены и колонны которых расписаны многоцветными фресками с изображением священных правителей и процессий, причем люди показаны в профиль, с двумя руками и ногами. Присутствие на фресках обоих регионов специфического мотива: птицечеловек, стоящий на спине пернатого змея (многократно повторяется в Долине царей, Египет, и недавно обнаружен в раскопанном храме в Какацтле, Мексика).
11. Сооружение огромных, геометрически совершенных пирамид типа месопотамских зиккуратов; по обе стороны Атлантики такие пирамиды строили или из прямоугольных каменных блоков, или из сырцового кирпича и всегда с точной астрономической ориентировкой. В некоторых случаях на этих пирамидах по обе стороны Атлантики наблюдаются дополнительные параллели: ритуальная лестница на одной или нескольких стенах, подводящая к храму на вершине пирамиды; запечатанный потайной вход на внутреннюю лестницу, которая ведет в погребальную камеру; шестиугольное сечение крутого хода с длинной и узкой лестницей, спускающейся к двери в погребальную камеру; наличие в камере каменного саркофага, вентиляционного устройства и погребальных даров; технико-архитектурный прием, позволяющий широкому потолку погребальной камеры и более узкому потолку над внутренней лестницей выдерживать чудовищный вес пирамиды, хотя эти доевропейские строители не были знакомы с принципом свода.
12. Большой огороженный храмовый двор у одной из стен пирамиды с параллельными рядами высоких каменных колонн круглого и прямоугольного сечения.
13. Мегалитические саркофаги с многотонной каменной крышкой, иногда оформленной в виде антропоморфной скульптуры.
14. Мумификация покойников высокого ранга с извлечением внутренностей через анус и с применением определенных смол, хлопковой набивки и бинтов.
15. Мумийная маска с отверстиями по краям, чтобы можно было привязать ее поверх обмотанного бинтами лица.
16. Искусное осуществление магико-хирургических трепанаций черепа на живом человеке с высоким процентом выживания пациентов.
17. Ритуальное обрезание мальчиков.
18. Хранение черепов предков с набивкой из глины и инкрустацией глаз морскими раковинами.
19. Накладная борода как ритуальный убор верховных жрецов.
20. Изготовление в прямоугольных деревянных формах сырцового кирпича из специального исходного сырья в смеси с соломой и водой, с последующей сушкой на солнце; этот кирпич шел на сооружение пирамид, храмов и жилищ в один и более этажей.
21. Планировка городов из сырцового кирпича кварталами, которые разделялись улицами и площадями и оснащались водопроводом и канализацией.
22. Подача на большие расстояния воды для ирригации и бытовых нужд через каналы и акведуки; изготовление одинаковых керамических труб с расширенным концом, куда вставлялся более узкий конец предыдущей, вышележащей секции, так что получался сплошной закрытый водовод.
23. Террасное земледелие в больших масштабах с применением органических удобрений и искусственного орошения для возделывания пищевых культур и хлопчатника.
24. Сбор волокна, получаемого не от дикого хлопчатника, а только от искусственно выведенного культурного гибрида; приготовление пряжи из этого волокна вращением веретена со специфического вида керамическим пряслицем, одинаковым по форме и величине в обеих рассматриваемых областях; окраска пряжи; изготовление двух одинаковых типов ткацкого станка для получения из пряжи многоцветной ткани.
25. Отмеченное как изоляционистами, так и диффузионистами сходство одежды из хлопчатобумажной ткани: набедренные повязки и плащи мужчин, платье с поясом и застежками на плече для женщин.
26. Одинаковые веревочные и кожаные сандалии.
27. Чрезвычайно важный венец из перьев, надеваемый воинами и высокопоставленными лицами. (Этот убор, характерный для мексиканской и перуанской знати, многие считают чисто американским обычаем, однако он не менее характерен для Ближнего Востока; это видно как на рельефах, изображающих хеттских воинов, так и на египетских изображениях загадочных «морских народов» Средиземноморья, совершавших набеги на Египет с моря.)
28. Сложная организация постоянных войск; щиты с рисованными символами, позволяющими определить принадлежность воина к тому или иному подразделению; употребление брезентовых палаток в военных лагерях.
29. Применение пращи как важного оружия; сходные типы веревочной и кожаной пращи с одинаковой средней частью для метательного снаряда, прорезью и отверстием для пальцев.
30. Часто отмечаемое сходство и тождество орудий и приспособлений земледельцев, плотников, каменщиков, художников, рыбаков (крючки, сети, грузила), купцов (весы), музыкантов (барабаны, духовые инструменты).
31. Далекие экспедиции в поисках особых моллюсков, высоко ценимых за красную раковину и извлекаемую из тела моллюска красную краску.
32. Тождественные стадии в развитии металлургии. Народы рассматриваемых здесь доевропейских культур обрабатывали одни и те же металлы, однако железо не использовали. Высоко ценили золото и серебро; руду плавили, металл ковали и формовали в одинаковых керамических формах, изготовляя фигурки и драгоценности подчас поразительно сходного вида. Для получения бронзы, превосходящей твердостью медь, нередко совершались трудные походы в далекие области за необходимым для сплава оловом.
33. Бронзовые зеркала с короткой ручкой, щипцы и маленькие декоративные колокольчики — важные изделия, знаменующие вступление в бронзовый век.
34. Золотые филигранные изделия высочайшего качества. Древние американские украшения с тончайшими узорами равны шедеврам мастеров Ближнего Востока и, подобно тканям высшего качества, превосходили все, что производила тогдашняя Европа.
35. Чрезвычайно совершенная керамика; и тут и там одинаковый специализированный многоцветный погребальный инвентарь. Традиционная треногая ваза, настолько типичная для Ближнего Востока, что ее толкуют как финикийское изделие при раскопках на атлантическом берегу Марокко или на Канарских островах, не менее характерна для области высокоразвитой американской культуры от Мексики до Перу. Столь же характерны для обоих регионов разноцветные фигурные сосуды в виде голов и различных предметов. Хорошо известна по обе стороны Атлантики керамическая ваза в виде обрезанной выше лодыжки, обутой в сандалию человеческой ступни; постоянно повторяются сосуды в форме рыб, птиц и четвероногих с ручкой на спине и носиком; известны кольцевидные вазы, изображающие змею с миниатюрными сосудами на спине; еще один общий мотив — композиция из плодов и шаровидных вместилищ, соединенных поперечными трубками с одним длинным горлышком.
36. Плоская керамическая фигурка, изображающая обнаженную богиню, которой придается важное значение. Общая характерная черта — совершенно плоские туловище и конечности при объемной голове. Из районов Ближнего Востока финикийцы распространили эту фигурку на запад по всему Средиземноморью как олицетворение своей верховной богини Танит, Матери-Земли. Такая фигурка, наделенная теми же чертами, является, пожалуй, наиболее характерным образцом древней керамики от Мексики до Перу.
37. Глиняные изображения бытовых сцен. В обоих регионах видим тождественные фигурки женщины, которая истирает зерно, стоя на коленях; беременной женщины, которая присела на корточки, другая женщина придерживает ее сзади, а третья спереди принимает ребенка; хоровод фигурок, окружающих флейтиста.
38. Погребальный инвентарь в виде фигурок животных на колесиках. Такие фигурки широко распространены на Ближнем Востоке и доставлены на Запад финикийцами по меньшей мере до острова Ивиса, однако в Америке их распространение как будто ограничивается периодом ольмеков в Мексике.
39. Терракотовые печати, как плоские с ручкой, так и цилиндрические, с высеченными на них фигурными или геометрическими мотивами. Цветные символы и узоры наносились плоскими печатями обычным способом; цилиндрические печати катили, получая сплошную узорную полосу. Подчас в обоих регионах видим тождественные специфические мотивы.
40. Обычай вырезывания деревянных фигурок, а иногда и вытесывания больших каменных статуй с углубленными глазницами, которые затем инкрустировались морской раковиной и черным обсидиановым зрачком.
41. Круглый диск, в середине которого изображена человеческая голова с высунутым языком; кромка диска разделена метками на 16 равных частей.
42. Занимающие видное место в религиозном искусстве мифические персонажи, изображаемые в виде человека с птичьей головой; такие птицечеловеки часто показаны кормчими или пассажирами камышовых судов; аналогичные фигуры тянут ладьи по воде, впрягаясь в длинные канаты.
43. Наличие в обоих регионах другого мифического персонажа — с телом человека, но с кошачьей головой.
44. Изображение в качестве царственных символов одних и тех же трех животных: змеи, хищной птицы и кошки. В обоих регионах змею подчас рисуют рогатой. На месте орла Старого Света видим в Новом Свете кондора, на месте льва — соответственно пуму.
45. Пернатый змей как символ верховного божества и предка правящей династии. (Змей с пернатым туловищем или с крыльями встречается в религиозном искусстве от Двуречья и хеттской Сирии до Египта, Мексики и Перу.)
46. Пояс некоторых божеств и знатных лиц показан в виде двуглавой змеи; важна роль двуглавых птиц и млекопитающих в символическом искусстве.
47. Встречающиеся иногда изображения сверхъестественных созданий с трехпалой кистью.
48. Рождение понятия нуля и применение его в математических расчетах.
49. Значение XXXI столетия до н. э. как даты, с которой связывают своих родоначальников.
50. Выбор первого в году появления одного и того же созвездия Плеяд как вехи, обозначающей наступление Нового года, хотя это не обусловлено сезонами, поскольку речь идет о разных географических широтах.
51. Замечательно совершенная система календаря, основанная на весьма точных астрономических знаниях. Если открытые пространства Двуречья и Египта с их чрезвычайно сухим климатом создавали идеальные условия для непрерывного наблюдения звезд, то ольмеки на берегу Мексиканского залива плохо видели небо сквозь лесной полог и тропические тучи, так что локальное развитие календаря выглядит такой же аномалией, как употребление открытых сандалий и длинных халатов в болотистом дождевом лесу.
52. Обычай обрамлять борта судов сплошным рядом круглых раскрашенных боевых щитов. (Этот финикийский обычай отображен также на фресках майя в Чичен-Ице, где нарисованы суда с желтоволосой командой.)
53. Наличие по обе стороны Атлантики одного и того же излюбленного типа судов: камышовой ладьи с морскими серповидными обводами, составным корпусом из искусно связанных спиральной веревкой бунтов и брезентовым парусом на двуногой мачте, опирающейся на основные бунты.
Судя по преданиям и изображениям, по обе стороны Атлантики камышовые суда достигали таких размеров, что подчас снабжались второй палубой. Мы видели, что огромные папирусные и камышовые плоты и в наши дни плавают на озере Чад и в устье Тигра и Евфрата; не меньшие размеры требовались от американских судов, перевозивших монолиты по реке Тонале для ольмекских сооружений Лa-Венты и через озеро Титикака для Тиауанако. Однако еще важнее, чем размеры, знание приемов, позволяющих серповидным бунтовым ладьям сохранять свои обводы на море. Для этого необходима техника, применявшаяся в прошлом на Ближнем Востоке и известная в наши дни только южноамериканским индейцам озера Титикака. Папирусная ладья «Ра II», связанная в Африке титикакскими индейцами, полностью сохраняла свою форму, не потеряв ни одного стебля, когда ее извлекли из воды в Новом Свете. Лишь после года хранения в Осло веревки ослабли, и, едва осели нос и корма, тотчас пропало изящество обводов. Никакие ученые или мастера не могли помочь нам восстановить прежнюю форму ладьи, пришлось везти в Осло ее строителей — индейцев племени аймара с Титикаки, чтобы они, пользуясь традиционными приемами, придали судну первоначальный вид. Это ли не свидетельство, говорящее о малой вероятности независимого изобретения!
Океанские камышовые суда не единственная специфическая черта, присущая доевропейским цивилизациям по обе стороны Атлантики, которую трудно объяснить гипотезой о независимом творчестве. Зато именно этот элемент культуры может объяснить, как возникли другие трансатлантические параллели.
Глава 4
Бородатые боги до Колумба
Ни одно из обстоятельств первой встречи европейцев с Америкой не озадачивало остальной мир так, как утверждение ацтеков, будто испанцы не были первыми белыми бородатыми людьми, которые пришли к ним через Атлантический океан. На всем пути испанцев от Мексики и Центральной Америки до Перу их встречали с распростертыми объятиями, почтительно отождествляя с легендарными светлокожими пришельцами, носителями высокоразвитой культуры, действовавшими в названных областях в далеком прошлом. Куда бы ни проникали конкистадоры, повсеместно в этом регионе они видели могучие руины и памятники творцов забытой цивилизации, и всюду местные племена приписывали эти памятники великодушным белым бородатым пришельцам. Целые народы хранили такие воспоминания, составляющие основу их исторических преданий и верований. Прибытие и деятельность белых бородатых наставников описаны иероглифами в доколумбовых рукописях, отображены на каменных монументах и в керамическом искусстве. Особенно бороды испанцев, подобные бородам их легендарных предшественников, производили сильное впечатление на индейцев, у которых волосы на лице не росли. Дошедшие через века предания о легендарных странниках повлияли на ход мировой истории, так как помогли Кортесу и Писарро с горсткой воинов покорить две величайшие империи того времени — империи ацтеков и инков, не встретив сколько-нибудь серьезного военного отпора.
Считать ли изображения доколумбовых пришельцев из-за моря выдумкой безбородых индейцев, которые не умели иначе объяснить, кто основал их цивилизации, или же они свидетельствуют о действительном контакте с древними мореплавателями из Старого Света?
Следующая глава первоначально была напечатана в 1971 г. в сборнике «Поиски Америки».
Мой интерес к вопросу, мог ли человек до Колумба переплыть через Атлантику, родился, как ни парадоксально это выглядит, в результате исследований в Тихом океане и знакомства с литературой о загадочном происхождении полинезийцев и их культуры. Писавшие в начале этого столетия Форнандер, Смит, Перри и Бест приводили убедительные, на их взгляд, свидетельства того, что Полинезия, в частности остров Пасхи, была заселена пришельцами из Египта, Двуречья или еще какого-то центра в области высокоразвитой культуры Восточного Средиземноморья. Эти первые полинезианисты подчеркивали, что в двух регионах-антиподах сосредоточены поразительные параллели: совершенная мегалитическая кладка, ступенчатые храмовые пирамиды, монолитные статуи, мумификация, трепанация, священные правители, династические браки братьев и сестер, календарь, генеалогии, боги солнечного происхождения, дощечки с иероглифическими надписями. При этом неизменно предполагалось, что гипотетический путь выходцев из Восточного Средиземноморья пролегал через Индийский океан, Малайский архипелаг, Микронезию или Австралию с Меланезией, наконец, через всю Полинезию до острова Пасхи.
Только на этом ближайшем к Южной Америке полинезийском островке были обнаружены письмо и другие важные черты культуры, перекликающиеся с Восточным Средиземноморьем. Поскольку на огромных сухопутных и океанских просторах, через которые предположительно шли странники, не выявлено никаких следов, более осторожным ученым впоследствии не составило труда отвергнуть первые диффузионистские гипотезы как географически и хронологически неосновательные. Тем не менее такие наблюдения диффузионистов, как совпадение важных имен богов и географических наименований Древнего Египета и Двуречья, с одной стороны, и Полинезии — с другой, оказали прочное влияние на полинезианистскую литературу. Скажем, солнце и бог солнца были известны в Древнем Египте под именем Ра, и так же называли солнце на сотнях островов Полинезии. Далее, полинезийские предания согласно называют важное племя и поселение на далекой исконной родине именем Уру, что толковалось как указание на центр древней культуры Ур в Двуречье. Первоначальные гипотезы о прямой миграции из Ура и Египта были отвергнуты большинством ученых, однако мысль о том, что древние культуры Восточного Средиземноморья или арабского мира каким-то неясным путем связаны с происхождением народа Полинезии, всегда так или иначе гнездилась в подсознании полинезианистов.
Если посмотреть на глобус, видно, что путь от Двуречья до острова Пасхи короче через Атлантику и Америку, чем через Индийский и Тихий океаны. В области высокоразвитых культур от Мексики до Перу находим уже упомянутые средиземноморско-полинезийские культурные параллели, следов которых не обнаружено на всем индо-тихоокеанском пути. Кстати, именем Уру из полинезийских легенд называется также важное племя, издревле обитающее на озере Титикака в Перу; предполагается, что ранее племя это занимало всю область от мегалитических руин Тиауанако до побережья Тихого океана. Во время испанской конкисты люди племени уру были главными строителями камышовых лодок на Титикаке, и жили они на плавучих островах из камыша тотора. Этот же самый камыш, сугубо южноамериканский вид, был доставлен человеком на остров Пасхи и посажен в местных озерах для постройки лодок, сходных с лодками уру. Пасхальские предания утверждают, что сей пресноводный камыш был привезен на остров из чужих земель богом Уре.
Два из важнейших океанских конвейеров, образующие упомянутые выше маршруты Колумба в Атлантике и Менданьи в Тихом океане, ведут прямо от Средиземноморья к Полинезии, причем Панамский перешеек нельзя считать сколько-нибудь серьезным сухопутным барьером для плывущих по ветру странников. В самом деле, первый европеец, ступивший на полинезийскую землю, — Менданья начал свой путь в Средиземноморье, пешком пересек Панамский перешеек и через Перу добрался до Полинезии.
Хотя мне только много лет спустя удалось на опыте установить, как легко пройти на аборигенном судне от Африки до Америки и от Америки до Полинезии, я довольно рано заподозрил в своих исследованиях, что первые переносчики культуры попали на остров Пасхи и близлежащие полинезийские архипелаги из Южной Америки независимо от того, восприняла или нет тропическая Америка какие-либо импульсы из древнего Средиземноморья. Как и большинство изучающих происхождение полинезийской культуры, я обратил внимание на ее смешанный характер: острова восточной части Тихого океана приняли не одну группу переселенцев. Изучение географии и практическое знакомство с жизнью аборигенов Полинезии подвели меня к выводу, что культурные элементы Юго-Восточной Азии попали в эту область из Филиппинского моря по течению Куросио и через Северо-Западное побережье Северной Америки, но еще задолго до того на многие из островов восточной части Тихого океана пришли доинкские мореплаватели из Южной Америки.
Но к каким бы берегам Тихого океана ни привязывали родину полинезийцев, расовый состав этого народа оставался загадкой. Он, несомненно, смешанный, однако в целом полинезийцы относятся к самым высокорослым народам мира, велик процент длинноголовых, а светлый оттенок кожи сближает их с жителями Южной Европы. Специалисты по физической антропологии отметили, что по всей Полинезии распространен европеоидный тип, нередко называемый также арабо-семитским, для которого характерны нос с изогнутой спинкой, тонкие губы, борода, иногда рыжевато-коричневые волнистые волосы. Люди такого типа наблюдались первыми европейскими исследователями на всем пути от острова Пасхи до Новой Зеландии и островов Чатем. Сами полинезийцы называли этот компонент населения, составлявший подчас целые семьи,
уру-кеу, почитая их потомками светловолосых и светлокожих полубогов, первоначальных обитателей островного царства. Физические черты полинезийцев на островах восточной части Тихого океана заметно отличали их от жителей западной части Тихого океана, и европеоидный элемент особенно отклонялся по названным характеристикам от папуа-меланезийцев, негрито, малайцев и индонезийцев, населяющих область, через которую, по мнению большинства современных исследователей, якобы прошли полинезийцы. Загадочный европеоидный компонент в Полинезии не позволял сбрасывать со счетов фантастические на первый взгляд гипотезы о средиземноморском элементе на востоке Тихого океана.
Может показаться, что ссылка на выходцев из Америки не решает вопроса. Южноамериканские индейцы не были наделены европеоидными чертами; они близки к малайцам, с которыми связаны общим древним родством. Если не считать сходства с полинезийцами в целом по группам крови и форме носа, южноамериканские племена отличались от островитян восточной части Тихого океана не меньше, чем народы Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Высокие и рыжеволосые, с пышной бородой были одинаково неизвестны по обе стороны Полинезии, когда сюда впервые пришли европейцы. Малорослые, круглоголовые, смуглые обитатели Малайского архипелага и Южной Америки бороды не имели. Откуда же у островитян Полинезии необычные, европеоидные черты?
На острове Пасхи, самом далеком от Азии и наиболее близком к Новому Свету форпосте Полинезии, известны предания, утверждающие, что древнейшие предки пасхальцев прибыли из большой засушливой страны на востоке, то есть со стороны Южной Америки, и достигли Пасхи, плывя 60 дней в сторону заходящего солнца. Дорожащее своей историей смешанное население острова Пасхи утверждает, что часть предков отличалась белой кожей и рыжими волосами, тогда как другие были темнокожие и черноволосые. Это подтверждается наблюдениями первых европейцев, посетивших остров. Когда голландцы во главе с Роггевеном открыли Пасху в 1722 г., они записали, что среди поднявшихся на борт их корабля островитян был «один совершенно белый» и вообще среди пасхальцев «встречаются и более темнокожие, и совсем белые, а некоторые — розовые, словно они обгорели на солнце» (Behrens, 1722[26]).
Все первые европейские гости отмечали также, что среди пасхальцев попадались люди, приметные не только светлой кожей и высоким ростом, но и мягкими рыжеватыми волосами. Можно ли считать таких людей потомками выходцев из Южной Америки на востоке, где физические характеристики кечуа, аймара и уру объединяют их с темноволосыми, смуглыми, низкорослыми жителями Юго-Восточной Азии? Или же физический облик представителей доинкских культур Перу отличал их от исторически известных невысоких, круглоголовых индейцев этих мест?
Примечательно, что в наиболее древних преданиях, записанных на Пасхе, пасхальцы называют расположенную в 60 днях пути на восток страну, откуда пришли их предки, Местом погребения. И добавляют: «В этой стране климат был настолько жарким, что люди иногда умирали от жары; случались времена года, когда растения и все живое сгорали под палящими лучами солнца» (Thomson, 1889[307]).
Западнее острова Пасхи на всем пути до Юго-Восточной Азии нет ничего, подходящего под это описание, все берега покрыты зеленью, а то и густым лесом. А вот на востоке в точном соответствии с направлением и расстоянием, указанными пасхальцами, находится известное своими пустынями приморье Перу и Северного Чили, и во всей Тихоокеанской области нет места, более отвечающего описанию пасхальцев и по климату, и по названию. В частности, в перуанском приморье небольшая сезонная влажность позволяет развиваться скудной растительности, которая полностью выгорает под лучами палящего солнца в засушливые месяцы. К тому же пустыни этого южноамериканского побережья изобилуют некрополями, и многие из них занимают огромную площадь в связи с накоплением останков и погребального инвентаря, способных сохраняться сколько угодно в краю, не знающем дождей. Особенности климата и обилие погребений как раз и позволяют нам изучать останки древнего населения, тогда как в прилегающих областях с более влажным климатом — в Центральной Америке, Мексике, на островах Тихого океана — органика быстро разлагается.
В итоге археологи получили прямые свидетельства примечательного факта, что основатели древнейшей доинкской цивилизации Перу практиковали настоящую мумификацию. Более того, мумификация с извлечением внутренностей через анус и обработкой покровов тела консервирующими смолами и маслами производилась не только в Перу, но и в соседней Полинезии, тогда как на Малайском архипелаге она совсем не известна. Но если мы располагаем сотнями мумий из пустынь Перу, то нам остается лишь опираться на записки первых европейских мореплавателей, говорящих о широко распространенном обычае мумифицировать правителей в самых дальних уголках Полинезии — от Пасхи на востоке до Гавайских островов на севере и Новой Зеландии на юго-западе. Столь широкое распространение сложной процедуры в тропической островной области, где влажный климат не способствует долгой сохранности мумий, указывает на то, что этот обычай, видимо, распространился из общего культурного источника с более подходящим для мумификации климатом. Поскольку Юго-Восточная Азия, где мумификации не было, отпадает, особенно знаменательно, что в пещере на Гавайях обнаружены две королевские мумии, удивительно похожие на тиауанакские доинкской поры, в плетеной оболочке из неопознанного волокна внеполинезийского происхождения. Местные ученые поместили эту загадочную находку в Музей Бишоп в Гонолулу. Даже маска, украшающая верхнюю часть гавайской мумии, напоминает маски на таких же мумиях Древнего Перу и горных областей Мексики.
Влажный климат тропических дождевых лесов Центральной Америки и низменных областей Мексики не позволил сохраниться до наших дней таким же древним останкам, но мумийные маски достаточно известны. Нефритовая маска и куски истлевшей красной ткани на источенном временем костяке под каменной крышкой огромного саркофага в мексиканской погребальной пирамиде в Паленке свидетельствуют о настойчивых попытках осуществить мумификацию.
Видим ли мы на доинкских мумиях Перу те же общие черты — низкий рост, выраженную круглоголовость, жесткие черные волосы, какие присущи индейцам, ныне населяющим эту область? Или же в доиспанские времена население Перу было более разнородным и включало высокорослые и светловолосые этнические типы, подобные загадочным
уру-кеу в соседней Полинезии?
Когда в середине прошлого века обширные раскопки перуанских некрополей стали поставлять науке множество бальзамированных голов, европейских антропологов озадачило, что некоторые из них, судя по форме черепа, а также по цвету и строению волос, вроде бы никак не могли принадлежать исконным жителям Нового Света. Уилсон писал в 1862 г., что изученные им волосы индейцев из других захоронений «сохраняют черный цвет и жесткость, не изменяясь от времени и пребывания под землей». А вот в древнеперуанских погребениях Атакамы он обнаружил мумии с мягкими, волнистыми каштановыми волосами и заключил, что речь идет о «важных отклонениях от одной из наиболее универсальных и стойких характеристик современной американской расы». Он указывал также на «существенное различие в форме черепа».
Особенно поразило Уилсона содержимое одной могилы в Чакота-Бэй на берегу Тихого океана, ниже Тиауанако. Здесь лежали мумии мужчины, женщины и ребенка, судя по всему, из знатного рода. Погребальный инвентарь включал великолепно сохранившиеся яркие мешочки с локонами, принадлежавшими, по-видимому, членам той же семьи. О мужской мумии Уилсон пишет: «Волосы почти не подверглись изменениям и заметно отличаются от волос, характерных для индейцев северного континента. Они каштанового цвета и строением подобны самым тонким англосаксонским волосам». И дальше: «Останки женщины из того же захоронения обладают в основном сходными характеристиками. Волосы покороче и пожестче, однако заметно тоньше волос северных индейцев. Они гладкие, аккуратно заплетенные, цвет светло-каштановый…»
О черепе ребенка Уилсон сообщает, что он «густо покрыт очень тонкими темно-каштановыми волосами». Примечательно описание различных локонов в цветных мешочках: «Все волосы очень тонкого строения, разного оттенка, от нежного светло-каштанового до черного, причем они явно не подверглись изменению». Уилсон обратил внимание на другие образцы волос, «они были мало того что каштановые, но и очень тонкие, волнистые и вьющиеся, почти курчавые».
Одним из первых среди ученых на основе этих и подобных наблюдений он заподозрил, что в Перу доиспанской поры обитало смешанное население. Он подчеркивал, что облик хорошо сохранившихся мумий в перуанском приморье говорит о том, что не было единства физического типа среди обитателей западного полушария в доевропейские времена (Wilson, 1862[318]).
В 1925 г. видные археологи Телло и Лотроп открыли два важных некрополя на полуострове Паракас в южной части центрального приморья Перу. Сотни аккуратно забинтованных мумий знатных лиц покоились в могилах и каменных склепах, относящихся, как позднее показала радиоуглеродная датировка, примерно к III в. до н. э. Примечательно, что по соседству с останками постоянно находят множество датируемых той же порой
гуар — особого рода швертов из твердой древесины, служащих для управления парусными плотами; эти находки свидетельствуют о развитом мореплавании в доинкские времена. Когда с пролежавших более 2 тысяч лет паракасских мумий сняли яркие, искусно вытканные хлопчатобумажные покровы, оказалось, что физический облик останков заметно отличает их от всех известных южноамериканских индейцев.
Специалист по физической антропологии Стюарт, изучавший костяки паракасских мумий, сравнил их с останками перуанских индейцев и установил, что первые были гораздо выше ростом. А так как до той поры господствовал взгляд, что доинкское население принадлежало к той же этнической категории, что исторически известные индейцы Перу, открытие Стюарта явилось большой неожиданностью. Не видя анатомического объяснения, Стюарт предположил, что «речь, очевидно, идет об избранной группе высоких мужчин, нетипичных для населения в целом» (Stewart, 1943[297]). Не говоря уже о том, что отбор только высоких особей для мумификации — явление неизвестное, получается, что здесь они исчислялись сотнями. К тому же тщательное бальзамирование и захоронение говорят о том, что на Паракасе погребены не простые рыбаки или крестьяне, а представители знати.
Сравнивая черепа паракасских мумий с известными индейскими, Стюарт обнаружил также, что у первых заметно уже лицевая часть. Не найдя и тут анатомического объяснения, он предположил, что в районе Паракаса практиковалась искусственная деформация черепа. Малоубедительное предположение, если вспомнить, что в принципе искусственная деформация черепа младенцев применялась и в Новом, и в Старом Свете, но лицевая часть от этого уже не становилась.
Во избежание ошибочных заключений, основанных на деформации черепа, Стюарт воздержался от догадок о естественном черепном индексе паракасских мумий, который, как и форма лицевой части, отличался от нормы круглоголовых американских индейцев. Однако через год после исследований Стюарта другой специалист, Крэбер, изучавший доинкские черепа из погребений, раскопанных севернее в том же приморье, заявил, что большинство недеформированных черепов культуры ранняя чиму относятся к разряду длинноголовых (Croeber, 1944). Выходит, древние строители великих доинкских пирамид Перу не идентичны сменившим их исторически известным индейцам, которые все без исключения были круглоголовые, как обитатели Малайского архипелага. Индексы тиауанакских черепов варьируются от
71/
97 до
93/
79; другими словами, представлены как предельно длинноголовые, так и самые круглоголовые. Стало быть, до инков в основных культурных центрах на тихоокеанской стороне Южной Америки сосуществовали народы с самой различной формой черепа.
Пока Стюарт занимался аномальными скелетными остатками рыжеволосых паракасских мумий, М. Троттер произвела анализ кусочков скальпа с десяти черепов. Она сообщила, что преобладающий цвет волос «ржаво-коричневый», но попадались также «очень светлые, желтые волосы». Волосы двух скальпов она определила как «несомненно волнистые».
Троттер подчеркивает, что степень волнистости или курчавости человеческого волоса зависит от формы его сечения. Прямые монголоидные волосы современных американских индейцев в сечении всегда круглые, тогда как для волос европейцев типично овальное сечение. Волосы паракасских мумий не поддаются такому четкому разделению: «Форма сечения так разнообразна у мумий, что покрывает весь спектр разновидностей».
Ширина поперечного сечения еще один фактор, применяемый наряду с
цветом и формой сечения для определения типа человеческого волоса. Волосы монголоидов и американских индейцев значительно толще волос большинства европейцев. По свидетельству Троттер, волосы паракасских мумий и тут заметно отличаются от ожидавшейся нормы: «Толщина волос намного меньше той, которая установлена для других индейцев…» Несмотря на большие различия в скальпах, Троттер определила, что средняя толщина всех образцов процентов на тридцать меньше цифры, отвечающей стандартным типам американских индейцев. Озадаченная своими результатами, идущими вразрез с господствовавшими в антропологии взглядами, она, как и Стюарт в его исследованиях черепов и скелетов, предположила, что мумии не годятся как материал для выводов, поскольку могут быть нетипичными для жившего в те времена народа. Волосы седовласых индейцев могли пожелтеть в могиле, а черные волосы выцвели и стали рыжими; что же до толщины и формы сечения, то они могли измениться от высыхания (Trotter, 1943[309]).
В ответ на мой запрос Троттер в 1951 г. снова занялась этой проблемой. На сей раз она пришла к выводу, что в ее публикации 1943 г. есть две ошибки: во-первых, она неверно называла лиц, подвергшихся бальзамированию на Паракасе, «индейцами», а второй ошибкой было предположение, что волосы могли выцвести. Наличные свидетельства «не исключают возможности, что первоначальный цвет волос был рыжевато-каштановым и что они были тонкого сечения» (М. Trotter, письмо от 22. VI. 1951).
Не слишком ли много будет совпадений, если мы допустим, что избирательные захоронения, деформация черепов и посмертные изменения придали мумиям черты, резко отличающие их от обычных индейцев, зато по всем статьям сближающие с похожими на европейцев переносчиками культуры, которых так живо описали испанцам ацтеки и инки. Сознавая, что для науки изучение упомянутых мумий — самая непосредственная возможность определить физический облик основателей высокоразвитых доколумбовых культур, я обратился также к видному английскому авторитету в этой области Доусону, известному своими исследованиями мумий Египта и Перу. Вот что он ответил:
«На мой взгляд, волосы не изменяются сколько-нибудь заметно посмертно. Волнистые или курчавые волосы так и останутся волнистыми или курчавыми, прямые — прямыми. Волосы на мумиях и обезвоженных останках обычно становятся хрупкими и ломкими, но это естественный результат высыхания сальных желез… Весьма сомнительно, чтобы изменялся цвет волос покойника, не лежавшего на свету… Итак, все доступные мне свидетельства говорят о том, что после смерти природа волос не меняется, если не считать, что они делаются сухими и ломкими» (W. R. Dawson, письмо от 21. V. 1951; Dawson, 1928[91]).
Рыжеволосые мумии найдены также на Канарских островах, однако здесь цвет волос не подвергался сомнению, потому что первые пришедшие сюда европейцы воочию видели многих светлокожих гуанчей с рыжевато-каштановыми волосами. Египетские мумии черноволосые; такие же волосы были у древних египтян. Исключение составляет хорошо сохранившаяся мумия фараона Рамсеса II — у нее светлые волосы, но нам известно, что фараон и впрямь был блондином. Это видно на цветной фреске той же поры на стенах Карнакского храма, где изображен желтоволосый Рамсес II. Ввиду этого вряд ли справедливо утверждать, что изученные перуанские мумии дают неверное представление об этнической группе, к которой принадлежат. Если стоять на такой точке зрения, открытие паракасских мумий ничего не дает, по ним не установишь, как выглядели при жизни эти древние люди. Если же допустить, что мумии сохранили действительный облик бальзамированных покойников с немонголоидными, явно кавказоидными чертами, то мы нашли в доинкском Перу искомое: естественный источник этнической прослойки
уру-кеу на островах соседней Полинезии и разрешение проблемы светловолосых предков пасхальцев, прибывших, по словам самих островитян, из засушливой страны на востоке, именуемой Местом погребения.
В поисках источника наблюдавшегося в Полинезии кавказоидного элемента нет нужды отправляться на другой конец земного шара, в Европу или Малую Азию: археология собрала достаточно свидетельств, что такой физический тип был представлен на ближайшем к востоку континенте за сотни лет до того, как началось заселение полинезийских островов.
Могло ли Канарское течение доставить из Старого Света в Новый людей, которые затем прошли через тропические области Америки, оставляя на своем пути мумии и элементы культуры Восточного Средиземноморья? Знакомясь с литературой о Перу, быстро обнаруживаешь, что местные источники изобилуют рассказами о белых бородатых пришельцах, которые прибыли невесть откуда и ушли в Тихий океан задолго до прихода испанцев. Когда Франсиско Писарро открыл Перу, сопровождавший его родственник, хронист Педро Писарро, записал для потомства, что некоторые представители местного правящего класса были «белее испанцев» и он видел среди индейцев белокожих блондинов. Этих людей, добавляет он, инки считали потомками богов — виракочами (Pizarro, 1571[247]). В самом деле, не успели испанцы высадиться на побережье, как гонцы инков, сменяя друг друга, доставили обитавшему в горах правителю весть, что виракочи — люди «морской пены» — вернулись, как и обещали, согласно местным преданиям. Хотя жители Перу были безбородыми, в их языке было слово «борода»
(сонкхасана), а также слово, обозначающее белых чужеземцев
(виракоча); виракочами нередко называют европейцев и по сей день. Благодаря белой коже и бороде Писарро с горсткой людей смог без помех пройти по укрепленным горным долинам Перу и покорил величайшую в мире империю тех времен, огромная армия которой благоговейно созерцала возвратившихся виракочей, чьи предки играли столь важную роль в устных преданиях инков.
Мнимые виракочи под водительством Писарро в полной мере воспользовались тем, что инки приняли их за других. Они безнаказанно задушили императора на глазах у его воинов и вторглись в священный храм Куско, где обнаружили реалистичные золотые и мраморные изображения правителя подлинных виракочей — Кон-Тики Виракочи, обожествленного инками. Испанцы переплавили золотые личины и разбили на куски мраморные статуи; остались только записи, где сказано, что эти изображения «волосами, телосложением, чертами лица, одеждой и сандалиями в точности напоминали апостола св. Варфоломея, каким его рисуют живописцы» (Relatión Anónyma, 1615[258]).
Конкистадоры продолжали двигаться на юг вдоль Андского плато, грабя и разоряя все на своем пути — от Куско до огромного инкского храма Виракочи в Каче. Внутри этого архитектурного шедевра они увидели огромную каменную статую, опять-таки изображающую священного правителя Кон-Тики Виракочу в виде мужа с царственной осанкой, с бородой, в длинном халате. Хронист тех времен Инка Гарсиласо записал: «Увидя этот храм и эту статую в том виде, как ее описали, испанцы было решили, что, быть может, апостол святой Варфоломей дошел до Перу, чтобы проповедовать среди тех язычников, и что в память о нем индейцы соорудили статую и храм» (Инка Гарсиласо, 1974[1]). Бородатая статуя и рассказы инков о странствующем чужеземце, который в далеком прошлом явился в Перу вместе со своими белыми бородатыми сподвижниками, произвели на испанцев такое сильное впечатление, что они много лет не трогали храм и изваяние. А метисы Куско учредили монашеское братство, считавшее статую «святого Варфоломея» своим покровителем. Однако в конце концов испанцы поняли свою ошибку, и храм был разрушен, а бородатую статую сперва изуродовали, потом унесли и вовсе разбили на куски (там же; Karsten, 1938).
Продвигаясь по обширнейшей инкской империи, испанцы встречали огромные мегалитические сооружения доинкского происхождения, которые были заброшены за много веков до Колумба и обратились в развалины. Один из наиболее замечательных образцов мегалитического зодчества Нового Света находился в Винаке, между Куско и океаном. Испанский хронист Сиеса де Леон писал: «Когда спрашиваешь индейцев, кто соорудил эти древние памятники, они отвечают, что строителями были бородатые белые люди вроде нас самих, которые пришли в эти места за много столетий до начала правления инков и обосновались здесь» (Cieza de Leon, 1553[69]). Насколько прочно укоренились эти предания, лучше всего видно из того, что перуанскому археологу Валкарелю, изучавшему развалины Винаке 400 лет спустя после Сиесы де Леона, говорили то же самое: дескать, эти сооружения были возведены чужеземцами, «белыми, как европейцы» (Valcárel, устная информация).
Проследовав на юг до озера Титикака, испанцы очутились в самом очаге былой деятельности виракочей. Во всех концах инкской империи предания утверждали, что центр поселения виракочей находился на острове Титикака посреди одноименного озера и в расположенном по соседству городе Тиауанако с его огромными, облицованными камнем пирамидами, мегалитическими стенами и монолитными статуями. Сиеса де Леон пишет:
«Многие индейцы заявляют, что до покорения страны инками в Кольяо было два великих вождя, один — Сапана, другой — Кари, и они захватили много
пукара, как здесь называют крепости.
И будто бы один из этих вождей высадился на большом острове на озере Титикака и застал там белых бородатых людей; и завязалась такая битва, что все они были убиты…»
Дальше хронист возвращается к той же теме:
«Они рассказывают также то, о чем я писал в первой части, а именно что на острове Титикака в прошлые века жили бородатые люди, белые, как мы сами, и что вождь Кари прибыл из долины Кокимбо туда, где теперь находится Чукито, и после основания новых поселений высадился со своими людьми на том острове. И в жестокой войне с его обитателями всех их убил» (Cieza de Leon, 1553[69]).
В особой главе, посвященной древним строениям Тиауанако, Сиеса де Леон сообщает следующее:
«Я расспрашивал туземцев в присутствии Хуана де Варги, воздвигнуты ли эти сооружения при инках, и они со смехом отвечали, что сооружения построены задолго до правления инков… Из этого, а также из того, что они рассказывают про бородатых обитателей острова Титикака и про других, соорудивших величественное здание в Винаке, можно заключить, что до правления инков пришедшее неведомо откуда одаренное племя свершило эти деяния. Но их было мало, а туземцев много, и возможно, все они были убиты во время войн» (там же).
Когда Бандельер через 350 лет приступил к раскопкам руин острова Титикака, он снова услышал ту же версию. Ему поведали, что в давние времена на острове обитали господа неизвестного происхождения, похожие на европейцев, и они сожительствовали с местными женщинами, и дети их стали инками, которые «изгнали господ и сами заняли остров» (Bandelier, 1910[21]).
Все хронисты, сопровождавшие конкистадоров или посетившие Перу сразу после конкисты, упоминают в своих записках доинкских виракочей. Записки различаются в деталях, поскольку сведения собирались в разных концах огромной инкской империи, однако сходятся в основном. Среди информантов испанцев были инкские ученые, хранившие исторические сведения, передаваемые из поколения в поколение иногда при помощи узелкового письма
кипу или расписных дощечек. Общим для всех рассказов о том, как пришла культура в Перу, было признание, что инки вели более или менее дикий образ жизни, пока некий светлокожий бородатый чужеземец со своей свитой не прибыл в их страну, там он преподал им основы цивилизации и отбыл дальше.
Инка Гарсиласо приводит следующий выразительный рассказ о древнейшей истории Перу, услышанный им от своего царственного дяди:
«Племянник, я с большой охотой скажу тебе о них, тебе надлежит услышать и сохранить сказанное в своем сердце… Знай, что в древние века весь этот район земли, который ты видишь, был огромными горами, покрытыми зарослями, и люди в те времена жили, как неразумные звери и животные, без религии и порядка, без селений и домов, не возделывая и не засевая землю, не одевая и не прикрывая свое тело, потому что они не умели обрабатывать ни хлопок, ни шерсть, чтобы делать одежду. Они жили парами, по трое, как им случалось соединиться вместе, в пещерах и расщелинах скал и в ямах в земле; словно животные, ели они полевую траву, и корни деревьев, и дикие фрукты, которыми они пользовались, и человеческое мясо. Одни покрывали свое тело листьями, и корой деревьев, и шкурами зверей; другие ходили нагишом. Словом, они жили, как олени и стада диких животных, и даже к женщинам они относились, как скотина, так как они не знали ни собственных женщин, ни знакомых» (Инка Гарсиласо, 1974[1]).
Сиеса де Леон, описывая период «до того, как в этих королевствах стали править инки, когда о них даже еще и не слышали», сообщает, что варварство кончилось с появлением на острове Титикака земного воплощения солнца:
«Впоследствии, говорят они, пришел [в Куско] с юга белый человек большого роста, который своими манерами и внешностью внушал великое почтение и повиновение… Во многих местах он поучал людей, как следует жить, и он обращался к ним с любовью, с большой учтивостью, убеждая творить добро, не делать зла и не вредить друг другу, а быть ко всем добрыми и милосердными. В большинстве мест принято называть его Тикивиракоча, но в провинции Кольяо он известен под именем Туапака, а в других местах — Арунауа. Во многих местах были построены храмы, где устанавливались камни с его подобием…» (Cieza de Leon, 1560[70]).
Хронист Бетансос, участвовавший в открытии Перу, записал:
«Когда я спрашивал индейцев, как же выглядел этот Виракоча, которого видели их предки, они отвечали, что, согласно тому, что они слышали, это был высокий муж в белом облачении до пят, перехваченном поясом, и волосы он носил короткие, с тонзурой наподобие священника, и ступал он торжественно, и держал в руках некий предмет, который теперь кажется им похожим на требники, какие носят священники» (Betanzos, 1551[34]).
Однако ясных указаний, откуда пришел Кон-Тики Виракоча, нет. Хронист Андагойя, также участник конкисты, пишет: «Нет никаких данных, откуда он пришел, если не считать, что Виракоча на языке местного народа означает „морская пена“. Он белый и бородатый вроде испанцев. Жители Куско, видя его великую доблесть, посчитали его богоподобным и приняли как своего вождя…» (Andagoya, 1541–1546[14]).
Хронист Сарате называет местом, откуда, возможно, пришел Виракоча, озеро Титикака и добавляет: «Некоторые склонны считать, что его звали Инка Виракоча, то есть „морская пена“, ибо, не зная, где находится страна, откуда он вышел, полагали, что он явился на свет из того озера» (Zárate, 1555[324]). Однако Гамара писал: «Некоторые престарелые индейцы говорят также, что его звали Виракоча, то есть „морская пена“, и что он привел свой народ по морю» (Gómara, 1553; Bandelier, 1910[123, 21]).
Имя Кон-Тики Виракоча составлено из трех имен одного и того же белого бородатого божества. В доинкские времена он был известен в приморье Перу как Кон, а в горах — как Тики или Тикки; когда же инкское правление и инкский язык (кечуа) распространились по всей территории, инки убедились, что Кон и Тики — то самое божество, которое они называли Виракоча.
И чтобы угодить всем народам своей империи, они объединили три имени вместе.
В легендах приморских индейцев чиму на севере Перу видим интересную версию о том, что этот бог прибыл по морю с севера. Если в большинстве горных легенд он является вдруг на озере Титикака как олицетворение солнца, более приземленные предания приморья ниже Титикаки говорят просто о белом светловолосом Виракоче, который приплыл с севера и ненадолго задержался среди приморских индейцев, после чего поднялся на озеро Титикака, где обманом утвердил свою гегемонию, представив индейцам своих светловолосых детей как отпрысков солнца.
В человеческом облике рисует Виракочу и одно из горных преданий, где говорится, что он «был очень мудр и хитер и называл себя сыном солнца» (Stevenson, 1825; Bandelier, 1910 [294, 21]). Согласно всем горным легендам, он сперва обосновался на острове Титикака, затем на камышовых ладьях пристал к южному берегу озера и построил там мегалитический город Тиауанако. Виракочу и его белых бородатых сподвижников называют
митима — инкское слово, означающее «пришелец, переселенец». Они внедрили культурные растения и научили индейцев выращивать их на орошаемых террасах; показали, как строить каменные дома и жить организованными общинами, подчиняясь закону и порядку; ввели изготовление хлопчатобумажных тканей, солнцепоклонничество, камнетесное дело; строили пирамиды и воздвигали монолитные статуи в честь предков каждого подчиненного им племени.
Из Тиауанако, согласно легенде, Виракоча разослал во все концы Перу своих белых бородатых посланцев, чтобы поведали людям, что он их бог и творец. Однако дурное поведение и враждебность местных индейцев побудили Виракочу, солнце-короля Тиауанако, ставшего религиозным и культурным центром доинкской империи, уйти. Вплоть до прибытия испанцев жители всей этой огромной страны помнили маршруты, которыми следовали Виракоча и два его главных сподвижника. Выполняя указания Виракочи, один из сподвижников направился от озера Титикака по горам на север, читая наставления по пути; другой шел точно так же по низменному приморью. Сам Кон-Тики Виракоча избрал срединный путь на север через Качу, где в его честь изваяли статую, похожую на св. Варфоломея, и через Куско, где ему приписывают сооружение мегалитических стен. Наставив индейцев Куско, как им следует себя вести после его ухода, он спустился на побережье Тихого океана и встретился со своими сподвижниками у порта Манта в Эквадоре, почти в той самой точке, где экватор пересекает Южноамериканский континент, откуда эти солнцепоклонники отплыли на запад в Тихий океан.
Итак, индейцы северного приморья Перу сообщали, что панперуанский культурный герой ушел на запад, то есть в сторону Полинезии, хотя первоначально появился с севера. Севернее инкской империи, на горном плато Колумбии, ко времени прихода европейцев обитал народ чибча, тоже создавший высокоразвитую культуру. Предания чибча объясняют их культурные достижения наставлениями чужеземца, которого они именуют Бочика или Цуэ. Этот пришелец тоже был белый, с бородой до пояса, одетый в длинный халат. Он научил диких чибча строить, сеять, жить в селениях, подчиняясь организованному правлению и законам. Он правил сам много лет, потом удалился, назначив преемника, коему повелел управлять справедливо. Еще одно имя Бочики — Суа, как здесь называют солнце, и, когда появились испанцы, их приняли за его посланцев и называли суа или гачуа, что также означает солнце.
По преданию, Бочика, он же Суа, прибыл с востока. К востоку от земель чибча, в Венесуэле и соседних областях, мы снова встречаем воспоминания о странствующем культурном герое. Его именуют по-разному, где Цума, где Суме, и всюду он научил народ земледелию и прочим благим вещам. В одном предании говорится, что он собирал людей вокруг высокой скалы, а сам с ее вершины читал свои наставления и законы. Прожив какой-то срок с народом, он уходит. В одних местах предание сообщает, что он ушел по своей воле, в других его изгоняют строптивые слушатели, которым надоели наставления.
Прямо на запад от Колумбии и Венесуэлы, у панамских индейцев куна, вырезавших письмена на дощечках, сохранилось предание, что после катастрофического потопа «явился великий муж, который… учил людей, как жить, как именовать вещи и как ими пользоваться. С ним следовали сподвижники, распространявшие учение…» (Stout, 1948[300]).
Северо-западнее Панамы, в Мексике, ко времени прибытия испанцев процветала высокоразвитая цивилизация ацтеков. Их огромная военная империя, как и инкская, намного превосходила Испанию и любое другое европейское государство той поры. Тем не менее, когда Эрнан Кортес в 1519 г. высадился на мексиканском берегу, небольшой его отряд без помех проследовал через густые леса до ацтекской столицы в горах, где они расправились с могущественным правителем и подчинили себе его государство с такой же поразительной легкостью, с какой Писарро несколькими годами позже покорил империю инков. И вышло так вовсе не из-за военного превосходства испанцев или слабости индейцев, а потому что «возвращение» белых бородатых чужеземцев повергло в смятение религиозное население. На всем пути от Анахуака в Техасе до границ Юкатана ацтеки рассказывали о белом бородатом Кецалкоатле, как инки рассказывали о Виракоче. С момента высадки на мексиканском берегу белых бородатых испанцев ацтеки принимали их за возвратившихся людей Кецалкоатля.
В своей «Карта Сегунда», изданной в 1520 г., Кортес так излагает речь, с которой повелитель ацтеков Монтесума обратился к нему после того, как испанцев окропили кровью от человеческого жертвоприношения: «Нам известно с давних пор из записей, полученных от наших предков, что ни я, ни кто-либо другой из обитателей этой страны не являемся ее коренными жителями, а мы пришельцы из далеких краев. Нам известно также, что привел нас сюда некий правитель, коего подданными все мы были, а он вернулся в свою страну и после долгого отсутствия снова прибыл сюда, чтобы увести свой народ. Но люди успели обзавестись женами и домами, не хотели никуда уходить и не признавали его больше своим властителем, поэтому он вновь удалился. Мы всегда верили, что люди его рода когда-нибудь возвратятся и объявят эти земли своими владениями, а нас — своими вассалами. И вы пришли с той стороны, где восходит солнце, и поведали мне о пославшем вас великом господине, и мы верим и не сомневаемся, что он наш естественный властитель, тем более что ему, по вашим словам, давно ведомо о нас. Вот почему можете не сомневаться, что мы будем повиноваться вам и почитать вас как наместников великого господина, и во всех подвластных мне землях вы можете распоряжаться по своему усмотрению, и ваши приказы будут выполнены, и все, чем мы располагаем, будет к вашим услугам. И так как вы пришли в свои наследственные земли и свой родной дом, то располагайтесь и отдыхайте после тягот вашего путешествия и битв на вашем пути».
В своем труде о религиях американских аборигенов Бринтон комментирует:
«С таким необычным приветствием обратился самый могущественный вождь Американского континента к испанцу, сопровождаемому горсткой воинов. Оно означало полное повиновение без боя. И оно выражало всеобщее настроение. Когда испанские корабли впервые пристали к мексиканским берегам, индейцы целовали их борта и приветствовали белых бородатых чужеземцев с востока как богов, как сынов и братьев Кецалкоатля, вернувшихся из небесной обители, чтобы предъявить свои права на земли и вернуть местным жителям райские дни, — надежда, которая, как сухо отмечает Патер Мендиета, быстро улетучилась, едва несчастные индейцы ощутили на себе деяния пришельцев».
Похоже, что первоначально Кецалкоатль, как и Виракоча, было наследственным именем, вернее, титулом сменявших друг друга священных правителей, которые поклонялись носившему то же имя верховному солнечному богу и называли себя его потомками. Но со временем все Кецалкоатли — и все Виракочи — слились в одно, единое олицетворение бога-творца, культурного героя и смертного благодетеля.
Составное имя Кецалкоатль часто вольно переводится как «пернатый змей»;
кецал (Trogon splendens) — наиболее почитаемая ацтеками птица, а
коатль (змей) — священный символ света и божества как в Мексике, так и в Перу. Кецалкоатль был верховным божеством ацтеков, подобно тому как Виракоча у инков. Тем не менее, указывает Бринтон, «в мыслях ацтеков преобладал не бог Кецалкоатль, таинственный творец видимого мира, а верховный жрец Кецалкоатль в славном городе Толлане (Туле), учитель искусств, мудрый законодатель, благородный правитель, искусный зодчий и милостивый судья».
Кецалкоатль запретил жертвоприношения людей и животных, говоря, что богам довольно хлеба, цветов и благовоний. Он решительно выступал против войн, потасовок, набегов и других видов насилия, за что перед ним искренне преклонялись не только его подданные, но и люди далеких племен, совершавшие паломничество в его столицу. То, что ацтеки, широко применявшие человеческие жертвоприношения у своих пирамид и храмов, помнили великодушного, миролюбивого культурного героя, чье учение перекликалось с библейскими заповедями, произвело на испанских монахов такое впечатление, что они отождествляли Кецалкоатля с апостолом Фомой, точно так же как в Перу Виракочу смешивали со св. Варфоломеем. Бринтон сообщает, что бог Кецалкоатль в своем земном воплощении был также известен как Тонака текутли, то есть вождь Тонака.
Это тем более примечательно, что сходное слово Тонапа — одно из имен странствующего белого бородача Виракочи в Перу. Алонсо Рамос утверждает, что Тонапа — имя легендарного белого человека, убитого на острове Титикака, а хронист Пача-кути из племени кечуа отождествляет Тонапу со странствующим культурным героем, известным также под именем Виракочи с приставками Пача или Кан, и заявляет, что он спустился по реке Чакамарке и удалился в Тихий океан.
Описывая Кецалкоатля, предания сходятся в том, что он был белый, высокого роста, носил большую бороду, по мнению некоторых хронистов, рыжеватого цвета. На нем была необычная одежда, отличная от тех одежд, которые носили принимавшие его индейцы; историк Вейтиа записал, что он был «одет в длинный белый халат, расписанный красными крестами, и держал в руке посох». В странствиях его сопровождали зодчие, живописцы, астрономы и ремесленники; он строил дороги, насаждал цивилизацию и, переходя из одной области в другую, в конце концов исчез. По некоторым преданиям, он умер на берегу Мексиканского залива и прах его был предан сподвижниками земле тут же, на побережье, после того как они сожгли его тело и все имущество. Однако другие предания утверждают, что Кецалкоатль и его свита сели на волшебный плот из змей и уплыли, торжественно обещав вернуться и снова вступить во владение страной.
Соседями ацтеков были майя, занимавшие тропические низменности полуострова Юкатан, который выступает в Мексиканский залив. Хуан Грихальва, переправившийся с Кубы на Юкатан за год до высадки Кортеса на берегу Мексиканского залива, был принят воинственными индейцами так же почтительно, как в свой черед Кортес и Писарро. Великая цивилизация майя рухнула до прибытия испанцев, но разрозненные племена все еще хранили детальные предания о начале культуры, процветавшей при их предках. В преданиях говорилось о двух культурных героях — Ицамне и Кукулькане; оба были бородатые, но прибыли в разное время и с противоположных сторон привели предков майя на Юкатан.
О потомках майя Бринтон говорит:
«Они не считали себя исконными жителями, говоря, что их предки пришли из далеких краев двумя волнами. Наиболее древняя и многочисленная группа под водительством мифического носителя цивилизации Ицамны пришла с востока, через, а точнее, сквозь океан, потому что боги отворили 12 путей сквозь океан. Вторая, поздняя и не столь многочисленная группа во главе с Кукульканом прибыла с запада. Первое событие называлось Большим пришествием, второе — Малым пришествием… Древнего предводителя Ицамну народ почитал своим проводником, наставником и цивилизатором. Это он наименовал все реки и части страны, он был первым священником и научил людей, какими ритуалами ублажать богов и умерять их гнев; он был покровителем исцелителей и прорицателей и открыл им тайные свойства растений… Ицамна первым изобрел знаки или буквы, которыми майя писали свои многочисленные книги и которые они в таком обилии вырезали на камне и дереве своих сооружений. Он также составил календарь, еще более совершенный, чем мексиканский, хотя в общих чертах схожий с ним. Словом, об Ицамне — правителе, священнике, наставнике, вне сомнения, говорили как об историческом лице; таким он представлен у различных историков вплоть до самых недавних. После Большого пришествия следует Малое; вторым по значению героическим мифом майя был миф о Кукулькане. Он никоим образом не связан с мифом об Ицамне и, вероятно, возник позднее, в нем меньше национальных черт… Местный люд, по словам Лас Касаса, утверждал, что в стародавние времена прибыли в страну 20 чужеземцев, предводителя которых звали Кукулькан… Они носили длинные халаты и сандалии, у них были длинные бороды, голова обнаженная, и они повелели людям исповедываться и поститься…»
Кукулькан в памяти народной был великим зодчим и строителем пирамид; он основал город Майяпан и повелел возвести важные сооружения в Чичен-Ице. Он учил людей отказываться от употребления оружия даже для охоты, и при его милосердном правлении народ жил в мире и процветании, собирая обильные урожаи.
Сам факт, что жестокие и воинственные майя придумали такое миролюбивое учение, какое приписано мигрирующему священному правителю Кукулькану, не менее поразителен, чем утверждение безбородых индейцев, что у культурного героя и его спутников была светлая кожа, большая борода, длинные халаты. Как бы то ни было, гуманное учение и культурная активность Кукулькана во всем совпадают с тем, что рассказывали о Кецалкоатле. Больше того, если в ацтекском предании Кецалкоатль удаляется из Мексики на восток, в сторону Юкатана, то в предании майя Кукулькан приходит с запада, со стороны Мексики; не исключено, что речь идет об одном и том же персонаже. Бринтон отмечает, что одна из хроник майя начинается с упоминания Тулы и Ноноаля — двух имен, неразрывно связанных с преданием о Кецалкоатле, — и заключает: «Представляется вероятным, что Кукулькан — исконно майяское божество, один из божественных героев майя, миф о котором настолько перекликается с мифом о Кецалкоатле, что священники двух народов стали их отождествлять». В самом деле, слово «кукулькан» — попросту перевод слова «кецалкоатль». На языке майя
кукул — название птицы кецаль, а
кан — змей.
В конце концов, как было в Мексике и Перу, белый бородатый священный правитель покидает Юкатан. Бринтон пишет:
«Он собрал вождей и изложил им свои законы. В свои преемники он выбрал среди них члена древнего состоятельного рода Кукумов. После чего, как говорят некоторые, он направился на запад, в Мексику или некую другую область на закате».
Человек, направившийся с Юкатана на запад, неизбежно должен был очутиться в области цендалей, в лесах Табаско и Чиапаса в Мексике. Цендальская легенда, посвященная культурному герою Вотану, пришедшему со стороны Юкатана, была записана со слов представителя этого племени на его родном языке. Ссылаясь на эту рукопись, Бринтон сообщает:
«Трудно назвать другой героический миф, который дал бы повод для таких фантастических догадок, как миф о Вотане… В некие давние времена Вотан пришел откуда-то с востока. Он был послан всевышним, чтобы разделить между разными народами землю, на которой они обитали, и даровать каждому народу свой язык. Землю, откуда он явился, называли просто
уалум уотан — страна Вотана. Его проповедь была обращена прежде всего к цендалям. До его прихода они были невежественными варварами, не знавшими постоянной обители. Он собрал их в селения, научил возделывать маис и хлопчатник, изобрел иероглифические знаки, которые они стали вырезать на стенах своих храмов. Говорят также, что он написал этими знаками свою собственную историю. Он ввел гражданские законы, которыми они руководствовались, научил их надлежащим религиозным ритуалам… Именно ему они приписывали создание их календаря».
Его же почитали градостроителем и основателем Паленке, известного своими большими каменными пирамидами, две из которых, подобно древнеегипетским, содержали погребения. Цендальский текст продолжает:
«По одной версии, Вотан привел с собой, по другой — за ним последовали с его родины некие сопровождающие или подчиненные, называемые в мифе
цекиль, то есть одетые в юбку, потому что они носили длинные свободные халаты. Они помогали ему распространять цивилизацию… Когда наконец пришло время ему уходить, он удалился не через долину смерти, как надлежит всем смертным, а через пещеру проник в преисподнюю и обрел путь к „корню небес“» Словами об уходе в преисподнюю люди Чиапаса завершают свое повествование о Вотане. Однако с высокогорного плато Чиапаса нам достаточно спуститься не в преисподнюю, а на приморские низменности, населенные народом соке, где вновь появляется Вотан, но теперь уже под именем Кондоя. Бринтон пишет:
«Соке, чья мифология нам, к сожалению, очень мало известна, были соседями цендалей и постоянно сообщались с ними. Древняя мифология этих племен известна нам лишь фрагментами, однако сохранились легенды, из которых видно, что они тоже разделяли столь распространенную среди их соседей веру в милостивого бога, насаждавшего культуру. Миф повествует, что их праотец, он же верховный бог, вышел из пещеры на высокой горе в их стране, чтобы править ими и наставлять их… Они не верили, что он умер; по их версии, после некоторого времени он вместе со своими служителями и пленниками, которые несли ярко сверкающее золото, удалился в пещеру и запечатал вход в нее не для того, чтобы там оставаться, а чтобы явиться вновь в какой-то иной части мира и облагодетельствовать таким же образом другие народы. Имя — или одно из имен — этого благодетеля — Кондой…»
К югу от майя, цендалей и соке жили гватемальские киче, чья культура в своих истоках родственна культуре майя. Предания киче сохранились для потомства в списке с их народной книги «Пополь-Вух». Из этого источника видим, что киче хорошо знали «странника», который явно не однажды проходил по их землям. Известный в Гватемале под разными именами, одно из них — Гукумац, он просвещал и цивилизовал аборигенов этой страны, учил их развивать собственную цивилизацию. Бринтон заключает: «Однако, как было с Виракочей, Кецалкоатлем и другими героями этого ряда, местные жители не очень почтительно относились к нему, и, разгневанный такой неблагодарностью, он покинул их навсегда, чтобы искать более благородный народ» (Brinton, 1882[43]).
Итак, испанцы слышали одно и то же предание о белых бородатых переносчиках культуры по всей Центральной Америке, от мексиканских гор на юге до горных плато Перу и Боливии, — другими словами, всюду, где им встречались величественные руины забытой цивилизации. Однако многие современные комментаторы, привыкшие путешествовать поездом, на автомашинах и самолетах, не могут себе представить, чтобы некий «странник» мог покрыть такие огромные расстояния в доколумбовы времена. Они забывают, что средневековые испанцы тоже не располагали ни поездами, ни автомашинами, ни самолетами. Тем не менее за каких-нибудь два десятилетия после первой высадки в Мексике сравнительно небольшие отряды испанцев исследовали территорию Нового Света от Атлантического до Тихого океана, от Канзаса до Аргентины. В рамках того же периода Кабеса де Вака с тремя товарищами, после кораблекрушения у берегов Флориды, безоружный, босой, почти голый, восемь лет (1528–1536) пробирался через неизведанные болота, пустыни и горы от одного индейского племени к другому, пересек материк и в районе Калифорнийского залива вышел к только что основанным испанским поселениям. В пределах тех же двух десятилетий Орельяна, отплыв из Испании, пересек Панамский перешеек, поднялся на Анды с тихоокеанской стороны, прошел к истокам Амазонки и спустился по реке через весь континент к месту ее впадения в Атлантический океан, после чего вернулся на родину. Допускать, что немногочисленные группы испанцев могли совершить такие переходы по горам и лесам, и в то же время отрицать, что основателям доколумбовых империй было под силу одолеть те же леса и горы за 200 лет или 2 тысячелетия, — значит сильно недооценивать возможности последних. Это не вяжется с тезисом о единообразии людского поведения.
Многие годы предпринимаются отчаянные усилия объяснить кажущееся парадоксальным присутствие одетых в длинные халаты белых бородатых мужей в преданиях смуглых, безбородых, не знавших подобной одежды индейцев на всем пути от Мексики до Перу. Бринтон и другие предполагали, что пышные бороды и широкие халаты, возможно, служат естественному для солнцепоклонников аллегорическому изображению бога Солнца в ореоле лучей. Высказывались также догадки, что на самом деле перед нами не доколумбовы предания, что они возникли под влиянием прихода испанцев.
Оба этих предположения отражают присущую европейцам недооценку интеллекта дороживших своей историей носителей передовой цивилизации по ту сторону Атлантики и необоснованное убеждение, будто никто, с виду похожий на нас, не мог раньше нас достичь Америки. Достаточно напомнить, что рассказы о древних пришельцах, похожих на испанцев, передавались испанским путешественникам не только устно, они вошли уже в письменную историю Нового Света, как подчеркивал правитель ацтеков в обращенной к Кортесу приветственной речи. С развитием современной археологии утверждения индейцев исторической поры подтвердились: в погребениях и древних храмах найдены чрезвычайно реалистичные скульптуры и цветные изображения, многие из которых созданы не только до прибытия испанцев, но и задолго до возникновения культуры ацтеков и инков. Облик ранних пришельцев ярко передан в реалистическом искусстве ольмеков, мочика и других народов — основателей различных цивилизаций от Мексики до Перу. Пренебрегать этими древними свидетельствами, подтверждающими устную и письменную историю людей, принимавших испанцев, так же неправомерно, как заявлять, будто высокий рост доинкских мумий мог объясняться избирательным бальзамированием, европеоидная форма черепа — деформацией в младенчестве, рыжеватые и желтые волосы с европейским сечением — посмертными изменениями.
Доколумбово искусство подтверждает то, о чем свидетельствуют древние предания и особенности мумий.
Большинство из обнаруженных испанцами среди руин Тиауанако многочисленных статуй, изображавших родоначальников различных племен во владениях Кон-Тики Виракочи, были уничтожены католиками-конкистадорами, которые называли их языческими идолами. Однако несколько изваяний были спрятаны индейцами и спасены. В 1932 г. американский археолог Беннет, занимаясь раскопками в Тиауанако, нашел неповрежденную статую Кон-Тики Виракочи с бородой, в подпоясанном халате. Одеяние было украшено изображением рогатого змея и двух пум — общих для Мексики и Перу символов верховного божества. Беннет указывает, что эта скульптура была почти тождественна другой бородатой статуе, найденной на берегу озера Титикака, на полуострове неподалеку от острова Титикака, где высадился Виракоча, когда покинул свое убежище, направляясь в Тиауанако (Bennett, 1934[28]). Другие бородатые статуи, также доинкского происхождения, раскопаны в разных точках вокруг озера Титикака (Heyerdahl, 1952[148]). В пустынях на тихоокеанском берегу Перу почти не было пригодного для ваяния камня, но представители культур чиму и наска изображали древнего культурного героя с усами и бородой как в лепной керамике, так и в росписи на глиняных сосудах. Такие изображения Виракочи, известного здесь под именем Кон, особенно часто встречаются в северном приморье Перу, где предание говорит, что бородатый бог, придя с севера, поднялся в область, впоследствии управляемую инками. Керамические сосуды относятся к периодам раннего чиму и мочика, когда были заложены основы местной цивилизации и построены самые великолепные перуанские пирамиды. И во всех случаях мы видим изображение мужа с такими неамериканскими предметами одежды, как чалма и длинный халат, с усами и спускающейся на грудь заостренной бородой.
Керамические головы и фигурки, реалистично изображающие того же бородатого деятеля, обычны и дальше на севере, в Эквадоре и Колумбии, встречаются они и на Панамском перешейке, и в Мексике. Более того, чрезвычайно реалистичные иллюстрации бородатого мужа, подчас очень близкого к арабо-семитскому этническому типу, сплошь и рядом находят по всей Мексике, от Герреро до Юкатана, от Мексиканского высокогорья и северных лесов района Веракрус до Чиапаса, и дальше — в Гватемале и Сальвадоре. Его изображали в скульптуре, резным рельефом на плоских каменных стелах, в объемной керамике, в золоте, в росписи на глиняных сосудах и оштукатуренных стенах, на страницах испещренных пиктограммами складных рукописей доколумбовой поры. Борода — или короткая, или длинная, черная или каштановая, подстриженная или нетронутая, заостренная, круглая, даже раздвоенная и курчавая, подобно тому что мы часто видим в искусстве древнего Двуречья. В некоторых случаях безбородые майяские священники и другие представители знати носили накладную бороду в подражание божественным основателям их религии
[16].
В мощном пласте лесной почвы подходящего камня не было, и ольмеки совершали далекие переходы, чтобы добыть монолиты.
Судя по дошедшим до нас произведениям искусства, ольмеки сочетали два контрастных этнических типа. Один — типично негроидный, с толстыми губами, широким плоским носом и круглым лицом, хранящим простодушное, даже туповатое выражение. Археологи обычно называют этот тип «бэби фейс» (младенец). Второй тип — совсем другой, подчас весьма похожий на средиземноморский, с четким профилем, выступающим носом с изогнутой спинкой, узким лицом, тонкими губами и бородой, прямоугольной или козлиной, притом такой длинной, что археологи шутливо называют это изображение «дядя Сэм».
Ни один из этих двух контрастных типов не похож на известные нам этнические группы, которые проследовали через область Берингова пролива. Зато они удивительно близки к двум физическим типам создателей доевропейских цивилизаций в афроазиатской части средиземноморского региона. Эти автопортреты, выполненные основателями цивилизации Нового Света и сохранившиеся в тропических лесах приморья, там, куда природный конвейер приносит океанские воды от Северной Африки, разожгли фантазию диффузионистов и просто любителей истории, зато изоляционисты упорно обходили их молчанием. Как во времена испанских монашеских братств, так и теперь религиозные секты делают вывод, что библейские и мормонские персонажи некогда достигли берегов Мексиканского залива. Такие гипотезы вносили путаницу, вредили делу диффузионистов и сильнее любого другого фактора побуждали многих серьезных исследователей присоединяться к более осторожным, по видимости, изоляционистам. Да только можно ли считать осторожностью, когда люди намеренно закрывают глаза на такие своеобразные свидетельства, как ольмекские портреты и
настойчивые утверждения всех цивилизованных народов аборигенной Америки? Осторожно ли пренебрегать очевидной возможностью, что цивилизованный человек мог до 1492 г. свершить то, что европейские наследники его цивилизации проделали тысячи раз в последующие за этой датой десятилетия? Вправе ли разумный исследователь игнорировать тот факт, что представители высокоразвитых цивилизаций из афро-азиатского региона Средиземноморья плавали буквально в тех самых атлантических водах, которые непрерывно омывали берега Мексиканского залива, когда ольмеки закладывали основы американской цивилизации? Ныне, как и в дни древних солнцепоклонников, солнце Марокко через несколько часов становится солнцем Мексики, и так же марокканские воды через несколько недель становятся мексиканскими.
Океан занимал особое место в сознании даже самых сухопутных цивилизаций Мексики. Это видно из того, что жители гор — ацтеки, подобно населявшим приморье майя, хранили предания о том, что основатели их культуры пришли через Атлантику Больше того, в сердце Мексики, в важном культовом центре Теотихуакане, на высоте около 2250 м над уровнем моря, пирамида, посвященная Кецалкоатлю, украшена изображением этого мексиканского культурного героя в виде пернатого змея, плывущего среди сотен морских раковин, выполненных в цвете и рельефом на всех гранях пирамиды от основания до самого верха. Недавно в полутораста километрах от Мехико, в Какацтле, на горе обнаружен и раскопан важный храм. Его оштукатуренные стены были расписаны большими многокрасочными фресками, удивительно напоминающими искусство майя. Одно из главных изображений — некий муж, почти в натуральный рост, несомненно божество, с темной кожей и черными волосами — держит под мышкой огромную морскую раковину. А из раковины наполовину высунулся белый человек с длинными рыжевато-каштановыми волосами. Напрашивается вывод, что аллегория подразумевает рождение человека морем. Несомненно, эта фреска была полна глубокого смысла для доколумбовых священнослужителей на Мексиканском нагорье.
В одной из самых главных пирамид майя, в Чичен-Ице на Юкатане, лет сорок назад был обнаружен вход, ведущий во внутреннюю камеру, оштукатуренные стены и прямоугольные колонны которой были расписаны цветными фресками наподобие царских гробниц Восточного Средиземноморья. Тщательно скопированные археологами Моррис, Шарлотом и Моррисом, эти росписи затем погибли от влаги и от рук туристов. Среди наиболее важных мотивов — морской бой с участием представителей двух разных расовых типов. Белые люди с длинными желтыми волосами прибыли на ладьях с океана, символически обозначенного крабами, скатами и другими крупными морскими тварями. Одни из белых — голые, с признаками обрезания, другие одеты в туники. Один из них явно бородатый. Моррис, Шарлот и Моррис осторожно замечают, что необычайная внешность желтоволосых мореплавателей «дает повод для весьма интересных догадок об их личности» (Morris, Chariot and Morris, 1931[229]). Представители другого этнического типа — темнокожие, на них набедренные повязки и перьевые венцы. Темнокожие явно берут верх над белыми и некоторых со связанными руками уводят в плен. На другой части фрески двое темнокожих совершают жертвоприношение белого пленника с длинными, до пояса желтыми волосами. Еще один белый, преследуемый хищными рыбами, пытается спастись вплавь с опрокинутой ладьи, и длинные золотистые волосы его стелятся по волнам. Новый сюжет: белый мореплаватель спокойно идет куда-то, неся на спине подобие скатки и другое имущество, а неподалеку от берега стоит его желтая ладья с изогнутыми вверх носом и кормой, очень похожая на камышовые ладьи озера Титикака.
Камышовые лодки описаны после прихода Колумба в восьми мексиканских штатах, но на Юкатане их не наблюдали. Изображенное на майяской пирамиде судно напоминает камышовые ладьи Ликса на атлантическом берегу Марокко, откуда океанское течение направляется к мексиканским берегам. Сходные фрески в древнеегипетских гробницах изображают бои с участием папирусных ладей на Ниле. Рельеф из древней Ниневии показывает, что и месопотамцы вели морские бои на камышовых ладьях; мы видим бородатых воинов с длинными волосами, которые спасаются вплавь, причем океан, как и в Чичен-Ице, символически обозначен крупными крабами и другими морскими тварями. На ниневийском рельефе часть камышовых ладей уходит через море, унося мужчин и женщин, которые молитвенно воздели руки к солнцу.
Надо думать, битвы и бегство от врага приводили мореплавателей в неведомые воды с незнакомыми течениями нисколько не реже, чем штормы, туманы и другие стихийные бедствия. Участь спасающихся солнцепоклонников на ниневийском рельефе разделяли многие другие мореплаватели Малой Азии и Африки от самого начала цивилизации. Сходство основных черт людской природы ведет к тому, что история повторяется. Нам не дано узнать, что именно — война, случайный дрейф или намеренные исследования — привело высокорослых бородатых блондинов через морской простор из Африки на Канарские острова задолго до прихода туда европейцев. Из письменных сообщений об открытии Канарских островов европейцами за сто с лишним лет до плаваний Колумба мы знаем, что эта земля в Атлантике была населена смешанными этническими группами, получившими название гуанчей. Некоторые канарские аборигены были темнокожие, низкорослые, негроидного типа, другие — высокие, белые, светловолосые. На акварели Торриани, выполненной в 1590 г., видим шестерых гуанчей с очень белой кожей, желтыми волосами и бородой. У одних бороды длинные и нестриженые, у других аккуратные, заостренные; желтые волосы спадают на спину — совсем как у желтоволосых мореплавателей на фресках майяской пирамиды на Юкатане.
Следы исчезнувшей культуры, включая керамические печати и искусство трепанирования, четко связывают гуанчей с древними афро-азиатскими цивилизациями, распространенными от Двуречья до атлантических берегов Марокко. Марокканские берберы тоже неоднородны по этническому составу, подобно гуанчам и ольмекам. Среди берберов, населявших до вторжения арабов Марокко и прилегающие области Северной Африки, были и ярко выраженные негроиды, и высокорослые голубоглазые блондины, причем оба этих компонента и по сей день можно наблюдать в изолированных общинах от Атласских гор до Атлантического побережья.
Нередко светловолосых людей ошибочно ассоциируют с Северной Европой, где они преобладают в нынешнем населении. Но современная антропология подтверждает данные норманнских саг о том, что норманны вышли с прилегающих к Малой Азии равнин Прикавказья, где блондины и рыжеволосые встречаются достаточно часто. Особенно много рыжеволосых в Ливане, на родине древних финикийцев. Древние египтяне тоже знали средиземноморский народ, отличавшийся желтыми и рыжими волосами. Фараон Рамсес II был блондином; когда открыли гробницу невестки фараона Хеопса у подножия пирамиды ее супруга, Хефрена, оказалось, что она изображена голубоглазой блондинкой. Каштановые, а порой и желтые волосы видим у богов и простых мореплавателей на стенах древнеегипетских гробниц, как и на мексиканских фресках, так что кажущиеся «северными» черты такого рода были распространены в Средиземноморье задолго до того, как достигли Скандинавии.
Кем были светловолосые мореплаватели, заселявшие Канарские острова до прихода европейцев? Как смогли они из Марокко дойти до островов в струе сильного течения, направленного на запад, если островитяне не знали лодок, когда были открыты европейцами? Финикийцы, выходя из своих портов в Малой Азии и Северной Африке, обосновались на Канарских островах за много веков до нашей эры. Острова служили местом сбора, когда они отправлялись в поставляющие пурпур колонии, следы которых обнаружены к югу от Марокко вплоть до берегов нынешнего Сенегала.
Нередко высказывались предположения — может быть, верные, может быть, нет, — что бородатые финикийцы были светлокожими блондинами. Если так, без труда объясняется присутствие светлокожих и светловолосых гуанчей на Канарских островах. Если нет, стало быть, еще какие-то древние афро-азиатские мореплаватели, светлокожие, бородатые, с желтыми волосами, подобно легендарным героям аборигенов Мексики и Перу, выходили в Канарское течение вместе с негроидами и положили начало племени гуанчей.
Воды гуанчей через несколько недель становятся ольмекскими водами, и в такой же короткий срок перуанские воды становятся пасхальскими. Мне самому довелось пройти по этим путям на папирусной ладье и на плоту. Конвейеры, катящие в наши дни на запад вдогонку за солнцем, существовали и во времена гуанчей и ольмеков, и было бы опрометчиво полагать, что суда не могли пересекать океаны до 1492 г. а плоты — до наших дней.
Глава 5
Колумб и викинги
Сохранностью саг, в которых запечатлены древнейшие воспоминания народа, Норвегия обязана потомкам тех, кто бежал в Исландию более тысячи лет назад. Норвежские саги были тщательно записаны от руки латинскими буквами на пергаменте после официального введения христианства в Исландии в 1000 г. и образовали основу скандинавской литературы в века, предшествующие плаваниям Колумба. С принятием латинского алфавита было оставлено и забыто исконное норвежское письмо — руны. «Сага об Инглингах», посвященная начаткам норвежской истории и первоначальному заселению Скандинавии, была записана ученым-исландцем Стурлусоном (Holtsmark and Seip, 1942[162]). Обнаруживая основательное знание географии, автор предания о происхождении и миграциях первых скандинавских правителей помещает исконную родину этих полубогов у восточных берегов Черного моря, на границе Азии и Европы. На территории Прикавказья, от реки Дон до северо-восточной Турции, говорит сага, жили древние норвежцы, управляемые династией Инглингов. В те времена они подверглись натиску бесчинствующих римских легионов, и бегство было единственным способом уцелеть. Снорри подробно описывает странствие через Европу, переход из Саксланда (Саксония) в Данию, Швецию и Норвегию. По древней саге, эти первые переселенцы из Причерноморья несли с собой идею рунического письма.
Естественно, при таком историко-географическом прошлом викингам после их крещения было нетрудно находить путь в святую землю, и они часто ее посещали, спускаясь на многочисленных судах по русским рекам до Черного моря или огибая Испанию и входя в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Викинги проходили Гибралтар со стороны Атлантики спустя 2 тысячелетия после того, как финикийцы шли через тот же пролив в противоположную сторону. Но хотя эти два народа объединяет не только мореходное искусство, хотя их открытые суда с резными фигурами на носу, с прямым парусом и щитами вдоль бортов так похожи, что не различишь на изображениях, викинги не могли свершить того, что, возможно, удалось сделать финикийцам, — проплыть по Канарскому течению достаточно рано, чтобы повлиять на аборигенную ольмекскую культуру Америки. Сама хронология свидетельствует, что бородатые светловолосые благодетели, отображенные в текстах и иконографии доколумбовых цивилизаций Центральной Америки, не могли быть викингами.
Настоящая глава содержит доклад, прочитанный на норвежско-американском юбилейном торжестве 12 октября 1975 г. в Миннеаполисе (штат Миннесота). Сенат США единогласно постановил включить ее в «Вестник конгресса» от 30 октября 1975 г.
Кое-кто пытается умалить подвиг Христофора Колумба, заявляя, что он не первый ступил на берег Нового Света. Однако достижения Колумба и их радикальное воздействие на весь мир сохраняют свое значение независимо от того, сколько людей до или после него ступало по американской земле.
Согласимся тем не менее, что до Колумба пришли в Америку другие. Ацтеки, инки и сотни иных племен и народов уже обитали там, когда к берегам Нового Света впервые причалили европейцы. Пирамиды, города с улицами, монументами и величественными дворцами строились в Америке еще до нашей эры. В некоторых областях умеренного пояса ландшафт был испещрен архитектурными сооружениями и руинами, пересечен мощеными дорогами, зеленел полями хлопчатника и пищевых культур. В Мексике майя и ацтеки запечатлели на бумаге свою историю за сотни лет до рождения Колумба. Правители в Мексике и Перу располагали армиями, намного превосходящими вооруженные силы современных им европейских королей; астрономия, медицина и многие искусства и ремесла достигли уровня, до которого Старому Свету подчас было далеко.
Разумеется, все это нисколько не умаляет заслуг Колумба. Его место в истории не становится меньше от того, что ко времени его прихода из Европы земли Нового Света были основательно исхожены людьми.
Мы никогда не узнаем имя первого странника, пришедшего в Америку: в мире не было еще письменности, когда этот человек каменного века вместе со своим родом в поисках пищи где-то в Арктике перебрался из Азии на Аляску. Это никем не документированное начальное открытие состоялось по меньшей мере за 30 тысяч лет до н. э., а то и намного раньше.
Спустя тысячелетия, но все еще за много веков до Колумба внезапно начался расцвет замечательных культур в ограниченной сплошной полосе от Мексики по Перу. Народы Мексики стали высекать монументы и записывать тексты в память о выдающемся мореплавателе Кецалкоатле. Согласно иероглифическим текстам, этот белый бородатый основатель мексиканской иерархии пришел из-за Атлантического океана, как это впоследствии сделали испанцы.
Хотя предводитель ацтеков Монтесума в первый же день прибытия испанских конкистадоров к его двору поведал им об их предшественнике Кецалкоатле и его спутниках, европейцы никогда не признавали Кецалкоатля соперником Колумба. Его история была записана не понятными им латинскими буквами, а в языческих ацтекских кодексах, большинство которых тщательно собрали и сожгли, как дьяволово творение, сопровождавшие конкистадоров европейские священники.
Иначе вышло с появившимися много позднее записями о Лейфе Эйриксоне, сыне Эйрика Рыжего из Братталида в Гренландии. Письменные источники не ставили ему в заслугу каких-либо культурных подвигов или прочного влияния в Новом Свете, как это было с Кецалкоатлем. Все достижения Лейфа ограничивались короткими разведочными вылазками из дома, который он и его люди построили в приморье. Но его сага была записана латинскими буквами норманнскими поселенцами-христианами в Исландии и Гренландии, а потому значила для европейских умов больше, чем иероглифы ацтеков. В итоге Лейф Эйриксон, европеец, исторически известное лицо, а не Кецалкоатль, нечаянно оказался в глазах многих своего рода соперником Христофора Колумба.
Разумеется, никто не может лишить Лейфа Эйриксона и Христофора Колумба заслуженных ими лавров. Их деяния вообще несопоставимы. Тут не приходится говорить о каком-либо состязании или сравнивать их историческую роль; нет ни нужды, ни причин принижать одного, чтобы вполне оценить достижения другого. Попытаемся разобрать причины, породившие представление о каком-то «соперничестве», и воздадим каждому из этих двух исторических лиц по заслугам: Лейфу Эйриксону как первому европейцу, о котором точно известно, что он ступил на землю Нового Света в арктическом и субарктическом поясе, и Христофору Колумбу как человеку, открытие которым тропической зоны Америки распахнуло ворота для европейского завоевания Нового Света и становления известных ныне американских наций. Было бы одинаково несправедливо подвергать сомнению открытие Лейфа Эйриксона как выдумку языческих викингов и отрицать, что плавания Колумба изменили облик мира более, чем какое-либо иное событие христианского летосчисления.
Говоря об этих двух морепроходцах, попробуем взглянуть на них в истинном историческом свете. Коль скоро отпадает вопрос о каком-либо соперничестве, зачем нам теперь из национальных или религиозных побуждений смотреть на их плавания как на подобие гонки Амундсена и Скотта к Южному полюсу? Если сопоставлять этих двух мореплавателей так, словно перед нами и впрямь два соперника, получится искаженная картина, невыгодная для Лейфа Эйриксона. Он предстанет перед нами свирепым языческим викингом на открытой ладье, а рядом — ослепительный Колумб с его изящными каравеллами. Такой аберрации можно избежать, если рассмотреть их независимо, памятуя, что почти полтысячелетия разделяет две экспедиции. Срок, равный тому, который отделяет каравеллы Колумба от океанских лайнеров XX в. Если, устранив этот разрыв, взять уровень культуры испанцев X в., то норманнские мореплаватели мало в чем им уступали. Возможно, некоторым кругам трудно оценить по справедливости Лейфа Эйриксона и его деяния, потому что принято изображать его варваром в рогатом шлеме, с широким мечом в руках, выходящим в океан, чтобы грабить и избивать христиан, тогда как Колумб плыл под флагом святого креста, задавшись целью — не считая поиска золота и славы — принести христианскую веру заморским язычникам. Такое сопоставление несправедливо, надуманно и в корне неверно. Хотя Лейф Эйриксон намного опередил во времени Колумба, он взял на борт своей ладьи католического священника, и целью его трансатлантического плавания было принести христианскую веру в языческие поселения Гренландии.
Попробуем же восстановить страницы древненорвежской истории, позволяющие понять Лейфа Эйриксона и его мирную миссию. Представлять себе всех норманнов той поры викингами столь же ошибочно, как рисовать всех англичан XVIII в. буканьерами или всех римлян — воинами экспедиционных войск. Бо́льшую часть населения средневековой Норвегии составляли крестьяне, рыбаки, купцы; было немало искусных ремесленников и художников. В этом смысле норвежский народ не отличался от жителей других стран Европы. Викинги, в подлинном смысле этого старинного слова, составляли подвижные дружины, совершавшие морские набеги на чужие земли, от Руси на востоке до Ирландии на западе, от Шотландии на севере до Сицилии и мусульманского мира. Никто в наши дни не станет оправдывать эти жестокие рейды, но, если на то пошло, другие европейцы, от римских легионеров до испанских конкистадоров, когда позволяла сила, вторгались в чужие страны ничуть не менее свирепо, чем викинги. Однако словом «викинги» постепенно привыкли обозначать всех средневековых обитателей северных стран, откуда выходили боевые ладьи; иногда этим сомнительным прозвищем награждают и ныне живущих.
Английский историк Дэвид Уилсон писал:
«Хотя с британской точки зрения наиболее впечатляющи морские авантюры викингов, не менее важны и налаженные ими сухопутные связи с Востоком. Они играли главенствующую роль на великих торговых путях через земли, известные в наш век под названием Польши и западной части России, на юг — до Византии и на восток — до Волги и Персии. Косвенно викинги причастны и к торговым связям с Китаем по знаменитому „Шелковому пути“, который вел через Центральную Азию… Викинги были великими путешественниками, и на их счету выдающиеся достижения в мореплавании; их города были крупными торговыми центрами; их самобытное полнокровное искусство повлияло на другие народы; они обладали прекрасной литературой и развитой культурой».
Ему же принадлежат такие слова:
«Опустошительные набеги VIII и IX вв. принесли викингам прочную славу пиратов и разорителей, однако их культура во многом была такой же развитой, как и культура подверженных их набегам стран… В конечном счете они не уничтожили западную цивилизацию, а обогатили ее. Элементы их правовых установлений, традиции личной свободы, страсть к исследованиям и великие исландские саги, отражающие героическую эру, — все это стало частью нашего североевропейского наследия» (Wilson, 1970[319]).
Таково суждение английского историка. Древнейшая родина предков викингов неизвестна. Разумеется, они в Скандинавии — пришельцы. Большинство ученых полагает, что они пришли туда по суше или приплыли по великим русским рекам откуда-то с Кавказа. В пользу такой версии говорят записанные Снорри в XIII в. исторические предания, по которым родиной первого сохранившегося в народной памяти норвежского вождя было Причерноморье, к востоку от Дона. Отсюда и впрямь нетрудно было подняться по рекам, преодолевая небольшие волоки, до Балтийского моря и Скандинавии. И уж совершенно точно, что после принятия христианства норвежские викинги быстро проложили обратный путь в святую землю через Черное море и пролив Босфор. По Снорри, вождя викингов, приведшего свой народ на север из Причерноморья, звали Одином; после его смерти он был возведен викингами в ранг бога. Владения Одина распространялись вплоть до Турции, пока, как говорит тот же Снорри, римские императоры не стали повсеместно наступать, покоряя все страны. Тогда-то великий пращур норманнских королей ушел со своим народом на север и заселил сперва Данию, потом Швецию и, наконец, Норвегию. Снорри называет три десятка королей и описывает их деяния, прежде чем настает очередь Харалда Хорфагера, создавшего в Норвегии единое королевство. Здесь мы ступаем на твердую историческую почву, так как объединение произошло в 872 г., в разгар наиболее бурной поры эры викингов. Победа Харалда Хорфагера над многочисленными местными корольками и вождями вызвала смуту в стране. Многие видные мужи со своими семьями и приверженцами покидали Норвегию и заселяли ранее открытые острова в океане, которые до тех пор служили викингам лишь временным убежищем во время их походов. Среди тех, кто обосновался на берегах далекой Исландии, были родившийся под Ставангером Эйрик Рыжий и его жена Тьодхильд, мать Лейфа Эйриксона. Приблизительно через десять лет после бегства из Норвегии Эйрик Рыжий открыл Гренландию.
Называя этот остров «Зеленой землей», он поступил, как поступают в наши дни агенты по продаже недвижимости, рекламируя свой товар. Правда, обогнув суровый Южный мыс, он и впрямь увидел пригодные для пастбищ просторные луга у подножия высоких ледников на западной стороне острова, обращенной к Девисову проливу.
Возвратившись в Исландию, Эйрик Рыжий организовал и возглавил одну из самых смелых известных нам арктических экспедиций. Подробности этого предприятия записал Ари Фруде со слов своего дяди, который в свою очередь слышал рассказ одного из товарищей Эйрика. Тридцать пять открытых грузовых ладей, шире и массивнее, чем стройные и быстроходные ладьи викингов, участвовали в этом тщательно подготовленном походе переселенцев на запад через Атлантику. Целые семьи, несколько сот мужчин, женщин и детей со всем своим имуществом, включая лошадей, коров, овец, свиней и собак, вышли в море. Только четырнадцати судам с добровольными эмигрантами удалось обогнуть штормовой Южный мыс Гренландии и благополучно высадиться на более приветливом западном берегу. Здесь они построили селение, остатки которого сохранились до наших дней, и заложили основу общины, веками жившей в соседстве с эскимосами, всего в нескольких сотнях километров от американских индейцев, населявших другой берег Девисова пролива.
Пока юный Лейф Эйриксон в Западной Гренландии мирно подрастал на ферме отца, названной «Братталид», один молодой норвежский королевич странствовал по Европе как настоящий викинг. Звали его Улав Трюгвасон. Улав родился в Норвегии, но вырос на Руси при дворе князя Владимира. Вместе с другими викингами он побывал в странах Прибалтики, в Германии, Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, но когда его флот стоял на якоре у острова Силли в Атлантическом океане, к западу от Корнуолла, в жизни Улава произошла внезапная перемена. В это время, медленно распространяясь по Европе, до Силли дошло христианство. Встреча с местным христианским отшельником произвела на знатного викинга такое впечатление, что он вскоре крестился вместе со всей своей дружиной. Возвращаясь на родину после долгих странствий, они захватили с собой ученых мужей и священников. Еще до того датский король посылал в Норвегию вооруженный отряд, призванный насаждать христианскую веру, но эта миссия мало преуспела. Вернувшись теперь из похода и став королем Норвегии, Улав возвестил своему народу, что отныне христианство будет единственной законной религией в стране. Он лично разъезжал по королевству, проверяя, чтобы подданные крестились как положено, и повелел строить церкви на месте украшенных драконьей головой храмов Тура и Одина.
К этому времени Эйрик Рыжий со своей многочисленной группой переселенцев уже покинул Исландию и обосновался в Гренландии, по другую сторону Атлантического океана. Короля Улава не устраивало, что норманнская колония в далекой Гренландии остается языческой, тогда как все его подданные в странах вокруг Северного моря исповедуют христианскую веру. И вскоре выдался случай христианизировать Гренландию тоже. Гренландская колония повела более или менее регулярную торговлю с Бергеном и другими норвежскими портами, и одним из первых привел гренландское купеческое судно в Норвегию Лейф, сын открывшего Гренландию Эйрика Рыжего. Незадолго до конца правления Улава Трюгвасона, летом, Лейф Эйриксон приплыл в тогдашнюю столицу Норвегии — Нидарус (ныне Тронхейм). В рукописи «Флатэйбук», созданной за два столетия до плаваний Колумба, читаем:
«Лейф пришел со своим кораблем в Нидарус и тотчас отправился к королю. Король Улав изложил ему вероучение, как он делал это со всякими посещавшими его язычниками. Королю было нетрудно убедить Лейфа, и тот крестился вместе со всеми своими товарищами. Лейф всю зиму провел у короля, и тот оказал ему отменное гостеприимство» (Gray, 1930[126]).
Другие подробности содержатся в рукописи «Хаукбук» той же доколумбовой поры: «Однажды, беседуя с Лейфом, король спросил его: „Ты намереваешься летом плыть в Гренландию?“ „Да, таково мое намерение, — сказал Лейф, — если на то будет твоя воля“. „Я полагаю это благим делом, — ответил король, — и ты отправишься туда с моим поручением утвердить там христианство“».
Весной Лейф вышел в обратное плавание через Атлантику, и на борту его судна были католический священник и проповедники. Было это незадолго до смерти короля Улава, который скончался в 1000 г. Возвратившись в Гренландию, Лейф осуществил взятую на себя миссию
[17].
Согласно доколумбовым записям Снорри, Лейф на обратном пути из Норвегии в Гренландию случайно обнаружил ту часть Нового Света, которую исследовал и назвал Винландом. Другие, более древние рукописи позволяют предположить, что сперва вернулся на отцовскую ферму в Гренландии, а уже потом отправился искать плоский лесистый край, увиденный Бьярни Херьюлфссоном с корабля в Девисовом проливе. Как бы то ни было, все доколумбовы рукописи, повествующие об открытии Нового Света Лейфом Эйриксоном, согласны в том, что он первым ступил на его берега. Ступил как приверженец той же веры, которую много веков спустя исповедовал Колумб.
Нет необходимости повторять здесь все подробности, записанные доколумбовыми авторами в Гренландии и Исландии вскоре после состоявшегося открытия. Как известно, суда Лейфа подходили к трем разным районам побережья по ту сторону Девисова пролива. Он назвал эти районы Хеллюланд, Маркланд и Винланд и детально описал их географические особенности. Непосредственно открытие Лейфа не возымело фундаментальных последствий для внешнего мира, разве что внесло некоторое оживление в достаточно однообразную жизнь селений Гренландии с ее скудной природой. Надо взглянуть на его поход в более широком плане всей гренландской эпопеи, чтобы убедиться, что экспедиция Лейфа, возможно, повлияла на мировую историю больше, чем принято считать. Рукописи сообщают, что сперва Лейф и его товарищи, занимаясь разведкой нового края, построили себе небольшие хижины, но потом соорудили настоящий дом, в котором и перезимовали, прежде чем возвращаться на северо-восток, к своим семьям в Гренландии. Роль нового источника леса, дорогих мехов и других ценных товаров для соотечественников Лейфа очевидна и четко отражена в литературе той поры.
Едва Лейф вернулся с грузом леса и ягод, как его брат, Турвалд Эйриксон, тоже взял курс на новую землю. Его поход был неудачным: норманны убили немало местных жителей, но и Турвалд погиб и был похоронен в Новом Свете. Попытка третьего брата, Торстейна, забрать его тело провалилась, однако затем целый ряд судов из Гренландии ходили порознь через Девисов пролив и на юг вплоть до выстроенного Лейфом дома в Винланде, причем некоторые путешественники брали с собой женщин. Наиболее примечательны подробности плавания Турфинна Карлсефни. Он отправился в новый край с отрядом из 60 мужчин и пяти женщин и захватил скот, вознамерившись основать постоянное поселение. Вскоре появились аборигены; они говорили на непонятном языке, но в знак дружелюбия принесли шкурки белок, соболей и других животных, неизвестных в Гренландии, прося в обмен молоко и красную материю.
Эти аборигены — норманны называли их «скрелингами» — в испуге разбежались, завидев здоровенного мычащего быка. Норманны обнесли поселение прочной оградой. Вскоре Гюдрид, жена Карлсефни, родила мальчика, получившего имя Снорри; это был первый младенец европейского происхождения, родившийся в Новом Свете. Мирные поначалу торговые отношения с аборигенами продолжались недолго, и дело дошло до настоящей войны, когда с юга пришло столько лодок, что они, как сообщают рукописи, заполнили весь залив. Хотя скрелинги располагали только пращами и каменными топорами, а у викингов были мечи и железные секиры, под натиском превосходящих сил норманнам пришлось на время укрыться в лесу. Двое из отряда Карлсефни были убиты; аборигены понесли большие потери. Сага откровенно говорит о неудачах малочисленных викингов, и «Хаукбук» продолжает: «И стало ясно для Карлсефни и его людей, что, как ни привлекателен этот край, они обречены жить в постоянном страхе и тревоге из-за коренных обитателей, и они приготовились уйти оттуда и вернуться в собственную страну» (там же). Перед отплытием норманны захватили в плен двух юношей, которых крестили. Этих парней привезли в Гренландию и научили норвежскому языку, и они много поведали гренландцам про аборигенов нового края. Несомненно, это был первый в истории акт крещения обитателей Нового Света. Сыну Карлсефни, Снорри, было три года, когда незадачливые колонисты возвратились в Гренландию.
Важность подробных сообщений об этой бесплодной попытке утвердиться в Новом Свете заключается в том, что мы ясно видим, почему норвежская экспансия на запад через Исландию остановилась в Гренландии, хотя до лесов Америки было всего два-три дня плавания через Девисов пролив. Были предприняты и другие, столь же неудачные попытки заселить новые земли; к ним относится несчастливая экспедиция Фрейдис, внебрачной дочери Эйрика Рыжего. Вскоре плавания через Девисов пролив приняли иной характер, вылившись в торговые экспедиции купцов, которые предпочитали не порывать со своими родными домами в Гренландии.
Обширные следы непрерывного четырехсотлетнего пребывания норманнов в Гренландии не утрачены, хотя сами норманны исчезли из этих областей около 1500 г. Датским археологам было где потрудиться, и они проделали превосходную работу, раскапывая сосредоточенные в двух обширных районах норманнские дома доколумбовой поры. Однако следы норманнских поселений на американском берегу были потеряны и забыты, пока энергичный норвежский исследователь Хельге Ингстад, руководствуясь описаниями в древних гренландских и исландских сагах, не сумел отыскать знаменитую ныне стоянку викингов в Л’Анс-о-Медоу у северной оконечности Ньюфаундленда. В начале 1960-х годов его супруга, археолог Анна Стина Ингстад, к которой затем присоединились другие скандинавские и американские ученые, раскопала еле заметные фундаменты построек. Были найдены норманнские изделия, включая типичную бронзовую булавку, стеатитовое пряслице и куски железных игл, а также кузница скандинавского типа. Больше того, в каменных очагах характерных норманнских домов сохранились угольки, и радиоуглеродный метод показал даты, близкие к 1000 г. и вполне подтверждающие данные саг о Лейфе Эйриксоне, Карлсефни и других мореплавателях той поры. Ни один профессиональный археолог не станет оспаривать, что Ингстады нашли в Америке древнее норманнское поселение. Можно сомневаться, в самом ли деле речь идет о доме Лейфа Эйриксона. В пользу такого вывода говорит тот факт, что Ингстад нашел стоянку, следуя точным географическим указаниям в саге о Лейфе.
За недолгим пребыванием гренландских норманнов на американских берегах последовал длительный период торговых связей. Америка была ближайшим соседом гренландцев, и короткий торговый путь через Девисов пролив давал возможность жить благополучно, ведь по нему шли драгоценный лес, пушнина и бивни, которые регулярно отправлялись морем в торговые центры Норвегии. Как будет показано дальше, по велению папы римского гренландцы были обязаны вносить натурой дань для финансирования крестовых походов, собираемую церковью на судах, приходивших в Норвегию из Гренландии. Среди этих товаров в списке архиепископа Эрика Вальккдорфа значатся шкуры черного медведя, бобра, выдры, горностая, соболя, росомахи и рыси — североамериканских животных, которые в Гренландии не водились. Американский историк Энтерлайн показывает, что белые кречеты, столь популярные среди венценосных охотников средневековой Европы, тоже могли поставляться только гренландскими купцами, так как эти птицы водятся исключительно в Гренландии и на крайнем севере Америки (Enterline, 1972[107]).
Скотоводство, охота, рыбная ловля и торговля способствовали процветанию и росту основанной Эйриком Рыжим гренландской колонии; об этом ясно говорят и археология, и старинные письменные источники. Католическая церковь, интродуцированная Лейфом Эйриксоном в 1000 г., стала в период с XII по XIV в. заметной силой и крупным землевладельцем в Гренландии. Многие удивятся, услышав, что в эту доколумбову пору на западном берегу острова, обращенном к Америке, за проливом, было построено 17 церквей. Старания норвежского монарха в XI в. услужить римско-католической церкви настолько пришлись по душе папе, что монарх был причислен к лику святых, — честь, которой не удостоились впоследствии король Фердинанд и королева Исабелла.
Все это я подчеркиваю лишь потому, что нам очень важно учитывать тесные связи в рассматриваемый период между Норвегией с ее колониями и римско-католической церковью, поскольку эти связи неизбежно должны были отразиться на последующих событиях более глобального значения. Вряд ли можно назвать страну, где хватка римской церкви сказывалась сильнее, чем в Норвегии, где правил король Улав Святой и его преемники вплоть до лютеранской Реформации. Раскол произошел только в XVI в., через несколько десятков лет после времен Христофора Колумба.
Тесные связи Колумба с Ватиканом хорошо известны. Пожалуй, менее известны контакты между жившими дальше норманнами и Ватиканом вплоть до эры Колумба. Прямые связи Норвегии с Римской империей восходят к давним временам. Сперва они осуществлялись через Русь и Босфор; впоследствии норманнские колонисты, основавшие около 840 г. город Дублин в Ирландии, проникли в Средиземноморье с другого конца, через Гибралтарский пролив. К началу XII в. визиты викингов в Средиземное море были настолько частыми, что норвежский король Сигюрд Магнюссон, подойдя на 60 кораблях к Гибралтару, вынужден был сразиться с другими, враждебными викингами, которые шли ему навстречу.
Как только христианство достигло Норвегии, норвежские короли и вельможи стали совершать регулярное паломничество в Рим и святую землю. Так, королевский бард Улава Святого Сигват Скальд узнал о кончине своего повелителя, возвращаясь на родину через Рим из святой земли, а Туре Хюнд, вассал короля, умер в Палестине. Брат и преемник Улава на норвежском троне — Харалд Хардроде много лет провел в Средиземноморье на службе у правителя Восточной Римской империи, командуя смешанным норманнским и латинским войском. Со своим христианским флотом он атаковал мусульманские укрепления на островах и вдоль побережья Северной Африки. Богатую добычу, включая золото, полученное от императора в награду за служение христианству, Харалд и его викинги доставляли в Иерусалим и приносили в дар церкви. Не удивительно, что в древнейшей части храма на горе Елеонской до сих пор рядом с иудейским, латинским, арамейским и другими библейскими текстами «Отче наш» можно прочесть и древненорвежский, ведь Норвегия была одним из самых рьяных участников битв в защиту христианских интересов в Палестине.
[18] Норвежский историк Алескандер Бюгге называет католическую церковь главной силой в Норвегии той поры.
На фоне столь прочных связей между Римом и Норвегией в XII в. рассмотрим теперь роль гренландской колонии. Мы уже увидели, что король Улав направил в Гренландию католического священника вместе с Лейфом Эйриксоном, перед тем как тот в 1000 г. открыл Винланд. К 1112 г. Гренландия уже удостоилась первого епископского визита. К тому времени церковь отлично знала об открытии новых земель к западу от Гренландии; в исландских летописях указано даже, что епископ Эйрик Гнюпссон, посетив гренландский приход, оттуда направился с визитом в Винланд Лейфа Эйриксона. Вскоре после этого гренландская колония послала несколько кораблей с моржовым клыком, мехами и живым белым медведем королю Сигюрду, прося его назначить в Гренландию постоянного епископа. Король тотчас исполнил их просьбу, и с 1126 г. в Гренландии жил епископ. А затем к нему прибавился и второй, поскольку усадьбы и церкви норманнов в Западной Гренландии были разбросаны на огромных расстояниях. Ватикан, конечно же, знал об этих христианских приходах. Однако географическая изоляция гренландской колонии от католического мира на европейской стороне Атлантики неизбежно осложняла для местных норманнов исполнение некоторых обрядов и норм.
Папским декретом было запрещено бракосочетание людей, разделенных меньше чем семью коленами родства, но при малочисленном населении молодой гренландской колонии было трудно избежать браков между более близкими родственниками. И Норвегия отправила в Рим посланцев просить папу Александра III, чтобы было сделано послабление, ведь гренландцам надо было совершить опасное двенадцатидневное плавание через океан, чтобы найти себе христианскую супругу. Папа пошел на то, чтобы норвежский архиепископ в исключительных случаях разрешал браки между родственниками в пятом колене.
Еще одна проблема возникла в связи с тем, что для причастия требовался хлеб и вино, но в этой арктической области не было ни винограда, ни своего зерна. И гренландский приход снова обратился в Рим, прося дозволения заменять хлеб мясом или еще чем-нибудь, а вино — пивом или соком вероники. Однако папа Григорий в личном послании норвежскому архиепископу в 1237 г. потребовал, чтобы гренландские прихожане для причастия непременно употребляли хлеб.
Позднее, в 1276 г., папа Иоанн XXI отклонил просьбу норвежского архиепископа, который пытался избавиться от недавно возложенной на него обязанности лично отправляться в Гренландию, чтобы взимать с заморских епископов «крестоносную» дань. Только в 1279 г. папа Николай III разрешил архиепископу послать вместо себя доверенное лицо в столь долгое и опасное плавание. Через три года поверенный возвратился в Норвегию, и архиепископ сообщил папе, что гренландский приход беден, есть только шкуры и моржовый клык, вряд ли представляющие собой большую ценность. Тем не менее папа не освободил Гренландию от дани и в послании от 1282 г. настаивал на том, чтобы сия норманнская колония по ту сторону Атлантики и впредь вносила в натуре «крестоносную» дань, которую церкви надлежало обращать в деньги в Норвегии.
До тех пор пока в норманнских поселениях Гренландии жили люди, Ватикан последовательно охранял там свои интересы. А норманны оставались в Гренландии и некоторое время после того, как Колумб отплыл через океан. Там еще были поселенцы около 1500 г., однако уже намечался быстрый упадок. В начале XVI в. хозяева покинули последнюю из многочисленных ферм; процветавшая ранее колония совсем разорилась. Точная причина не установлена. Высказывались разные предположения: эпидемии, голод, изменение климата, попытки перебраться на земли американских индейцев, где были более тучные пастбища. Но всего вероятнее, что миролюбивые гренландские потомки свирепых викингов были перебиты английскими пиратами, которые в ту пору совершали набеги на незащищенные гренландские селения. В Англии хорошо знали о существовании гренландской колонии; в 1432 г. был даже заключен договор между норвежским и английским королями, чтобы положить конец налетам английских пиратов на далекую христианскую колонию норманнов.
Пагубное появление европейских пиратов в Девисовом проливе между Гренландией и Америкой задолго до плаваний Колумба свидетельствует, что не только в Норвегии и Ватикане народ знал о гренландских поселениях. Грамотные европейцы располагали этой географической информацией четыре сотни лет; даже открытие Винланда упоминается в «Географии северных земель» немецкого историка Адама Бременского около 1070 г. Возрастающее внимание к изолированной гренландской колонии послужило ей больше во вред, чем на благо, как это видно из папского послания двум исландским епископам. В 1448 г. папа Николай V писал о пиратских набегах в Гренландию:
«От близлежащих языческих берегов 30 лет назад явился флот варваров, которые совершили жестокое нападение на местных жителей и разорили огнем и мечом их земли со священными постройками, так что осталось лишь девять церквей в наиболее глухих и недоступных гористых местах. Несчастных жителей обоего пола, особенно тех, кого посчитали достаточно крепкими и здоровыми для несения тяжелого бремени рабства, тираны угнали в неволю в свою страну. Но… со временем многим удалось вернуться из неволи в родные пределы, и кое-где дома восстановлены. А потому они теперь желают возродить и продолжить богослужение» (Kolsrud, 1913[190]).
Несмотря на большие расстояния, христианский мир не терял из виду гренландский приход, пока он существовал. Под конец XV в. до Ватикана дошло, что уцелевшие обитатели гренландских поселений вконец обеднели, кормятся в основном вяленой рыбой и молоком. Об этом сказано в папском послании, написанном в 1492 году — том самом
году, когда Колумб отплыл в Америку. Стало быть, трансатлантические плавания норманнов отнюдь не были забыты средиземноморским миром, когда Колумб начинал свою историческую миссию.
Есть ли тут связь? Или Колумб вовсе не знал о регулярных плаваниях норвежских и исландских крестьян, купцов, священников, монахов, монашенок и епископов, а также о вылазках английских пиратов через северную область того самого океана, который он сам намеревался пересечь?
Колумб был не только отважным, смелым мореплавателем. Прежде всего он был блестящим организатором и для своего времени весьма просвещенным географом, а не каким-нибудь наглым и пустым авантюристом. Во всех биографиях Колумба подчеркивается, как тщательно он перед выходом в океан собирал все данные о течениях, дрейфах, жертвах кораблекрушений и разных открытиях, лично странствуя вдоль атлантических берегов Европы и Африки. Не все согласны, что он побывал в Исландии, хотя его сын писал, что такое плавание состоялось, однако документально установлено, что Колумб поддерживал связи с наиболее учеными мужами Англии и Рима, накапливал географическую информацию, которая могла пригодиться в его расчетах, и собирал он ее в период, когда Англия и Рим вели дипломатическую и церковную переписку с Норвегией касательно судьбы чахнущей гренландской колонии. Он не мог не слышать о ее существовании.
Только согласившись, что Колумб знал о точном местоположении Гренландии не меньше, чем глава его собственной церкви и английские пираты, мы в полной мере можем воздать должное отлично продуманной и основательно рассчитанной экспедиции, приведшей к открытию тропической Америки. Колумб не пошел по стопам норманнов, не повторил их маршрутов и открытия, а совершил вполне самостоятельное плавание, всецело основанное на его примечательных расчетах.
В одном Колумб оспаривал религиозные догмы своего времени: он был убежден в шарообразности Земли. Хотя церковь в XV в. все еще цеплялась за представление о плоской Земле, мысль о ее шарообразности была высказана еще древнегреческими астрономами, которые с поразительной точностью вычислили ее окружность — около 40 тысяч км. Эти классические данные, основанные на астрономических наблюдениях, были хорошо известны ученым во времена Колумба, который хотя и признавал взгляд Птолемея на Землю как на шар, однако сомневался в верности определения ее размеров. Колумб не был астрономом; стало быть, у него были какие-то особые географические причины полагать, что окружность Земли составляет только
1/
5 цифры, на которой остановились древние греки. Столь огромная ошибка, тем не менее приведшая его к успеху, может быть объяснена лишь тем, что Колумб знал об открытиях норманнов и положил указанную ими долготу в основу своих вычислений. Другими словами, если пренебречь норманнскими открытиями, мы никогда не сможем оценить величие Колумба и понять причину его торжества.
До Колумба европейцы продвигались через моря сперва на запад, в Гренландию, затем на восток, в Азию, оставляя и тут и там поселенцев, которые поддерживали торговые и религиозные связи с Европой. Подобно всем своим современникам, Колумб верил, что есть лишь один большой Мировой океан. Соответственно европейцам по ту сторону этого единственного океана виделась на севере Гренландия, на юге — Индия. Марко Поло, уроженец Северной Италии, как и Колумб, но живший двумя столетиями раньше, исследовал морские берега далекой Азии. Затем испанцы и португальцы учредили важные торговые фактории в Малайском архипелаге, и во времена Колумба европейцы хорошо знали, что где-то на северо-востоке Азия заходит в субарктическую зону. Поскольку царило убеждение, что Гренландия и Азия расположены по ту сторону одного и того же океана, логически вытекало, что первая является северной оконечностью второй, тем более что северо-восточное положение Азии, по Марко Поло, во всем было похоже на субарктические берега, открытые Лейфом Эйриксоном. Как тут не заключить, что они совпадают!
Колумб достиг Америки в тот самый день и в том самом месте, когда и где он рассчитывал прийти в Азию. Тихий океан занимает половину земного шара, так что Колумб прошел лишь
1/
5 расстояния до Индии, и, однако, же земля оказалась именно там, где он ожидал. Трижды успешно пройдя через Атлантику, Колумб тем не менее умер в твердом убеждении, что пересек единственный Мировой океан и дошел до Индии. Из-за этого заблуждения острова Карибского моря по-прежнему именуются Вест-Индией, а американских аборигены, которых норманны назвали скрелингами, навсегда остались индейцами, хотя Индия расположена предельно далеко от них, на другом конце земного шара.
Что же могло внушить Колумбу такую уверенность, что он найдет землю там, где его и впрямь ждала Америка? Только твердое убеждение, что Азия составляет продолжение области в Северной Атлантике, где обосновались норманны. Только представление об Азии Марко Поло как о юго-западном продолжении Винланда Лейфа Эйриксона могло породить в сознании Колумба значительно уменьшенную картину мира, с которой он вышел в Атлантический океан и с которой не расставался до самой смерти. И, только зная направление и расстояние до северо-восточного угла Атлантики так же хорошо, как их знали норвежские купцы и английские пираты, мог он определить долготу заокеанского материка с такой точностью, с какой он сделал это перед началом плавания.
Участник третьего плавания Колумба знаменитый хронист Лас Касас подчеркивал, что Колумб был так уверен в местоположении заветной земли, словно она находилась «в его собственной комнате». Более того, по словам некоторых участников первого плавания, Колумб наперед заверил их, что земли следует ждать, когда будет пройдено всего 800 испанских миль; так и вышло. Колумб упорно следовал вдоль 28-й северной параллели — широта Флориды, которая подходит к азиатским берегам намного севернее Индии и Малайского архипелага. Тем не менее он был настолько уверен в курсе, что наотрез отказался повернуть на юго-юго-запад, как того требовали упавшие духом офицеры и матросы, уверяя, что заметили признаки суши в той стороне. Как видно из личного дневника Колумба и из судового журнала, в который он заносил преуменьшенные данные о пройденных расстояниях, чтобы экипаж думал, что до дома не так уж далеко, Колумб твердо стоял на том, что избранный им курс — кратчайший путь к суше. Кратковременное отклонение от курса, предпринятое во избежание мятежа, готовившегося помощником Колумба, только подтвердило его правоту. 11 октября 1492 г., когда уставшая команда потеряла надежду на успех, а до берегов подлинной Индии оставалось в 4 раза больше пути, уже пройденного экспедицией, Колумб объявил, что земля покажется завтра. И в самом деле, на другой день был открыт островок, расположенный у берегов Флориды. Дальнейший путь преграждали многочисленные острова и материк скрелингов.
Колумбу было что предложить католическим правителям Испании, когда он уговаривал их финансировать его дорогостоящее предприятие. Мысль о шарообразности Земли была далеко не нова, советники испанского двора могли и отвергнуть ее, не дожидаясь визита Колумба. Но у него на руках были козыри, без которых ослабленные войной правители Испании ни за что не дали бы иностранцу из Генуи то, что он запросил. А запросил — и получил — Колумб три полностью снаряженных корабля, команду в 120 человек, включая дворян, чиновников и солдат, 2 миллиона мараведи наличными, звание испанского дворянина, титул Великого адмирала, должность вице-короля и пожизненного губернатора всех островов и материков, какие он сам или кто-либо из его людей откроет и покорит в океане, наконец, заверение, что все эти привилегии будут переходить по наследству к старшему сыну из поколения в поколение. Столь огромная цена, названная в собственном обращении Колумба «Во имя господа нашего Иисуса Христа» к королю Фердинанду и королеве Исабелле, лучше всего показывает, что иностранец из Генуи мог предложить в обмен не одно красноречие.
То, что продал Колумб, могло быть продано любым другим открывателем той поры, но сделал это именно он, и всем нам известна история про колумбово яйцо. Отнюдь не везение, а пытливый ум, тщательная подготовка и логические расчеты обусловили успех великого предприятия. Тот, кто пытается принизить значение древних норманнских открытий, указывая на последующие достижения Колумба, невольно делает ему плохую услугу. Если бы он не знал об уходящих на юго-запад берегах Винланда, мы вправе были бы назвать его безответственным командиром, который взял на свои корабли всего
1/
5 потребного провианта и вел людей на верную смерть, подтасовывая данные в судовом журнале. Но Колумб умер, искренне веря, что Индия и впрямь находится так близко от Европы, как он предсказывал. Примечательно и поучительно, что это его убеждение побудило Колумба изменить взгляд на шарообразность Земли. Зная, что путь в Индию гораздо дольше для тех, кто плывет в противоположную сторону в южном полушарии, он после своего третьего, и последнего, плавания в Америку пришел к странному выводу. Вот его слова: «Я убедился, что она не такая круглая, какой ее описывают, а похожа формой на грушу, на круглой поверхности которой есть заметная выпуклость со стороны черешка; или ее можно сравнить с круглым мячом, на котором есть нечто вроде женского соска, и эта выступающая часть поднимается наиболее высоко и находится ближе всего к небесам» (Caddeo, n. d.[58]).
Колумба высмеивали за эту идею, звучавшую абсурдно в устах человека, которому повсеместно воздают должное за то, что он делом доказал шарообразность Земли. Однако он сделал вполне оправданный и логический вывод, если помнить, что, в его представлении, норманнские поселения находились на севере Азии. Колумб верил, что дошел до находящихся к востоку от Индии «островов пряностей», плывя через «верхнюю», северную часть грушевидной планеты более коротким путем, нежели тот, который проделывали следовавшие через «нижнее», южное полушарие.
Только воздав должное норманнским открывателям Гренландии и Северной Америки, видим мы в надлежащем свете Колумба — не как безрассудного мореплавателя, случайно наткнувшегося на Америку, потому что она преградила ему путь на Индию, а как человека, сочетавшего творческое воображение с глубокой ученостью и располагавшего нужной информацией, чтобы планировать поиски земли, оказавшейся именно там, где он рассчитывал ее увидеть.
ЧАСТЬ III
Проблема Тихого океана

Глава 6
Благоприятный путь из Азии в Полинезию
Масштабы тихоокеанской проблемы определяются масштабами Тихого океана. Он один охватывает половину поверхности земного шара; на экваторе его азиатское и американское побережья занимают антиподальное положение. В отдаленные геологические эпохи два типа малых островов поднялись на поверхность этого морского полушария: одни были образованы бурлящей лавой из подводных вулканов, другие медленно складывались коралловыми полипами на гребнях кратеров, которые не дотянулись до поверхности воды. Если исключить Новую Зеландию, общая площадь океанических островов Тихого океана не покроет и половины штата Нью-Йорк. И поскольку океан этот площадью равен всем континентам мира и всем остальным океанам, вместе взятым, расстояние между клочками суши, естественно, огромное. Так что подвиг людей каменного века, обосновавшихся на этих островах задолго до того, как сюда пришли европейцы, намного затмевает европейское открытие материка Америки по ту сторону узкой Атлантики.
К востоку от Азии и к северу от линии экватора расположилась микронезийская часть Тихого океана; ширина только этой области равна ширине Атлантического океана, и в ней укрылись от внешнего мира крохотные островки, главным образом коралловые атоллы, еле-еле выступающие над волнами, — и не увидишь, пока не подойдешь вплотную. Общая площадь этих островов около 3500 кв. км, что меньше площади острова Лонг-Айленд, составляющего часть Нью-Йорка. Мы уже видели, что даже наиболее высокие вулканические острова, расположенные ближе к Азии, были открыты европейцами, выходившими из Америки, причем о многих из них внешний мир узнал лишь в XIX в.
К югу от Микронезии находится Папуа-Меланезия, не менее обширная океанская область, начинающаяся от окраин Малайского архипелага и простирающаяся на 6500 км от западных берегов Новой Гвинеи до восточных островов Фиджи. Большие и высокие острова континентального типа образуют в этом регионе почти непрерывный мост; только группа Фиджи лежит в стороне.
Восточнее Микронезии и Папуа-Меланезии, в прилегающей к Америке половине Тихого океана, находится Полинезия. Разбросанные на большой площади крохотные острова и атоллы этой области образуют как бы треугольник от Гавайских островов на севере до Новой Зеландии на юге и острова Пасхи на востоке. Между Полинезией и Америкой нет обитаемой земли.
Вопрос о том, как люди каменного века сумели заселить полуконтинентальные территории Папуа-Меланезии, не вызывал особых споров среди ученых, хотя археология показывает, что человек начал осваивать эти острова чрезвычайно давно. Не вызывало сомнения, что темнокожее негроидное население Папуа-Меланезии, подобно аборигенам Австралии и Тасмании, могло прийти чуть ли не пешком из Южной Азии и Индонезии в геологический период, когда эти кучные участки суши разделялись еще меньшими водными пространствами, чем в наши дни. Если исключить, пожалуй, Фиджи, здесь не было никаких мореходных проблем.
Вопрос о том, как Микронезия в гораздо более поздние времена была заселена примитивными племенами, мало заботил ученых, которые довольствуются наблюдением, что микронезийские племена, судя по всему, представляют собой смесь некоего неопознанного народа с последующими пришельцами из Меланезии на юге и Полинезии на востоке. Ветры и течения благоприятствуют дрейфам из названных соседних областей.
А вот вопрос о заселении Полинезии вызвал больше споров, чем любая другая загадка в истории антропологических наук. Множество взаимно исключающих гипотез выдвинуто учеными разных областей, еще больше — псевдоучеными и популяризаторами. Во всех этих гипотезах видим лишь два общих основных положения: Полинезия — последняя заселенная человеком обширная область земного шара, и выходцы из Азии сыграли ведущую роль в постепенном освоении всего тихоокеанского полушария, включая далекую Полинезию. Одновременно все исследователи искали и предлагали свои варианты маршрутов из Азии, в обход 6500-километрового расового и культурного буфера Микронезии и Папуа-Меланезии или через него, которые могли использовать полинезийцы при заселении уединенных островов за этими областями.
Предлагаемый здесь миграционный путь из Азии в Полинезию впервые был намечен мной еще в 1941 г. в статье о происхождении полинезийцев, опубликованной в «International science» (Нью-Йорк). Из-за второй мировой войны эта публикация не привлекла внимания, а когда я в 1946 г. вернулся в Америку, чтобы годом позже выйти из Перу на бальсовом плоту «Кон-Тики», азиатский компонент гипотезы был оттеснен на второй план из-за повышенного внимания к самому плаванию и неожиданно острого интереса широкой публики, которая узнала об экспедиции из книги и фильма. Повсеместно ученые и популяризаторы обвиняли меня в том, что я пренебрегаю Азией и пытаюсь доказать, будто Южная Америка — единственный источник населения Полинезии. В опубликованной в 1952 г. монографии «Американские индейцы в Тихом океане» я еще раз попытался исправить широко распространенное недоразумение, всецело посвятив первые 178 страниц разбору наиболее благоприятных путей для азиатского компонента в, несомненно, смешанном населении полинезийских островов. В разделе «Новый Свет — трамплин для маори-полинезийцев: новый путь, но не новый источник» содержалось такое объяснение:
«Я отнюдь не намерен отрицать, что у полинезийцев в известной степени есть дальние родичи среди малайских народов. Сомневаюсь только, чтобы прямые предки полинезийцев обитали на островах Малайского архипелага. Мне непонятно, почему, обсуждая малайско-полинезийский вопрос, мы всегда должны рассматривать полинезийцев как пришельцев в Полинезии, а малайцев — как стационарных жителей Малайского архипелага. Хорошо известно, что малайцы не автохтоны в этом архипелаге, они пришли туда с континента. А потому весьма возможно, даже очень вероятно, что нынешние малайцы в той же мере, что и полинезийцы, основательно перемещались за века, минувшие с тех пор, как соприкасались их предки. В таком случае ни Малайский архипелаг, ни полинезийские острова нельзя считать географической областью, где сливаются генеалогические линии этих двух народов. Происхождение малайцев, как и полинезийцев, восходит в континентальной Азии. Не Малайский архипелаг, а малайский
народ обнаруживает рудиментарные следы древнего контакта с палеополинезийским племенем.
Предки полинезийцев покинули приморье Восточной Азии на неолитической стадии, до того как в этой области сложилась высокоразвитая цивилизация. Это же относится к малайцам и ко всем американским индейцам. Мы не погрешим против известных фактов и утвердившихся принципов полинезийской антропологии, если предположим, что предки полинезийцев, выйдя из Восточной Азии в свое долгое неолитическое странствие до Полинезии, не обязательно плыли (медленно или быстро) через воды Микронезии, а следовали вдоль азиатского побережья или по направленному на восток течению Куросио — от материка Юго-Восточной Азии (или даже с Филиппинских островов) до временной обители в более высоких широтах Тихого океана, откуда и начали заключительный этап» (Heyerdahl, 1952[148]).
О предложенном тогда маршруте из Юго-Восточной Азии и пойдет речь в этой главе; он составлял главное содержание доклада «Морские пути в Полинезию», прочитанного в музее Пенсильванского университета в апреле 1961 г. и затем опубликованного в музейном бюллетене. Этот же маршрут из Азии был темой доклада «Примитивное мореходство», представленного XIII Тихоокеанскому конгрессу в Ванкувере (Британская Колумбия) в августе 1975 г. и позднее опубликованного в трудах конгресса, а затем и в «Научно-футурологическом ежегоднике Британской энциклопедии» за 1976 г. Нижеследующая глава составлена из двух названных публикаций.
Двести лет назад было принято мнение, что полинезийские племена уединенных островов на востоке Тихого океана — американские индейцы, которых, как и всех первых в этих краях европейцев, доставили туда господствующие восточные ветры и течения. Мы видели, что 500 лет, от времен Марко Поло до путешествий капитана Кука, ни одно европейское судно не могло пробиться в какую-либо часть Полинезии из Азии или из колоний в Малайском архипелаге. Все без исключения плавания в полинезийские воды совершались от Америки в сторону Азии, а чтобы вернуться из Азии, надо было от Малайского архипелага идти вдоль Японии до высоких широт между Алеутскими и Гавайскими островами.
Странствуя в Тихом океане, капитан Кук первым обнаружил, что некоторые полинезийские слова родственны словам, обозначающим аналогичные понятия в малайских языках. Одновременно Кук, подобно его современникам Ванкуверу и Диксону, отметил в физическом облике и культуре жителей полинезийских островов примечательные черты сходства не с малайцами, а с индейцами, населяющими континентальный архипелаг у побережья Северо-Западной Америки. Исследователи XVIII в. заинтересовались заморскими связями трех островных народов, живущих в разных областях одного и того же океана. В XIX в. этнологи установили, что не одни лишь неясные лингвистические свидетельства связывают Полинезию со Старым Светом: полинезийцы разводили кур, свиней, выращивали хлебное дерево, банан, сахарный тростник, ямс, таро, они пользовались лодками с аутриггером — все это бесспорные элементы азиатской культуры.
Общепринятая точка зрения изменилась. Теперь казалось, что этнографически проблема происхождения полинезийцев решается просто: достаточно найти район Малайского архипелага, откуда предки полинезийцев шли от острова к острову до своей нынешней обители. Гипотеза «от острова к острову» получила широкую поддержку кабинетных исследователей, знакомых с огромным тихоокеанским полушарием лишь по испещренным островами картам, на которых неизбежно преувеличенные пятнышки и крупные названия образуют сплошной ковер от Малайского архипелага почти до острова Пасхи. Людей, воочию изведавших водные просторы этой половины земного шара, было не так-то легко убедить. Географы указывали на обстоятельство, рассмотренное выше, в главе 2: острова Тихого океана расположены на пути постоянно движущихся стихий, диктовавших всем первым европейским мореплавателям маршруты в этой области. Географы понимали также, что маленькие листы бумаги — карты, на которых они размещали всю информацию о тихоокеанском полушарии, неизбежно будут вводить в заблуждение и питать гипотезы о продвижении от острова к острову. В своем труде «География Тихого океана» Грегори предусмотрительно подчеркивает: «Однако океанические острова не создавали благоприятных условий для миграции. Они вовсе не обозначают какие-либо маршруты. Острова эти малы, неравномерно разбросаны на большом удалении друг от друга, и требовались исключительные обстоятельства, чтобы растения и люди могли на них попасть» (Gregory, 1927[129]).
Затруднения этнологов, поддерживавших гипотезу «от острова к острову», еще более усугубились, когда археологи не смогли найти никаких следов пребывания полинезийцев в Малайском архипелаге и других районах на западе Тихого океана, откуда те будто бы вышли, а специалисты по физической антропологии принялись искать западнее малайской обители народ, чье телосложение и облик лучше отвечали бы характеристикам высоких полинезийцев с их четко очерченными лицами, нежели физические особенности низкорослых плосколицых малайцев. Так в конце XIX в. родилась полинезийская проблема, и представители разных областей науки принялись спорить, выдвигая противоречивые догадки и гипотезы. Чуть ли не каждую страну на материках за Индонезией, от Китая и Индокитая до Индии, Двуречья и Египта, даже до Скандинавии, совершенно серьезно называли возможной родиной предков полинезийского народа. Проблема еще более осложнялась тем, что большинство исследователей видели в Полинезии следы повторных миграций и эта область представлялась им, так сказать, расовым и культурным тиглем.
Сто лет филологических исследований подтвердили основательность лингвистических данных, однако никуда не привели. Давно обнаружено, что по структуре полинезийский и малайский языки сильно отличаются друг от друга и что менее одного процента лексики этих двух народов восходит к близким или тождественным корням, причем в полинезийском языке нет ни подлинно малайских, ни рано проникших на Малайский архипелаг санскритских слов. К тому же реалии предположительного корневого родства с Полинезией распределены в рамках Малайского архипелага настолько редко и беспорядочно, что ни один конкретный остров не годится на роль места предположительного племенного контакта. В итоге сложились две различные лингвистические школы. Одни стали искать общий малайско-полинезийский праязык в пределах континентальной Азии, откуда могли независимо выйти малайцы и индонезийцы; ведь за много веков островной изоляции эти два народа могли сохранить больше от некогда общего праязыка, чем их родичи, оставшиеся на материке, где они были гораздо сильнее подвержены завоеваниям, а также расовым и языковым примесям. Другие предположили, что полинезийский язык вообще складывался не в Азии и не на Малайском архипелаге, а в Океании, где-то на соседствующих с нынешней Полинезией архипелагах. Дескать, отсюда полинезийцы, носители общего языка, распространились по всем отдельным островам и островным группам, разбросанным по Восточной части Тихого океана; из того же эволюционного центра в Океании какие-то реалии проникли в противоположном направлении, в область малайцев. Словом, лингвисты приблизили нас к решению сложной проблемы не больше, чем обе существующие противоположные гипотезы, которые вместе противостоят тем, кто ищет исконную родину полинезийцев в Малайском архипелаге.
Хотя язык, таким образом, не может служить надежным ключом, есть другие пути преодоления тупика в малайско-полинезийской проблеме. Физическую антропологию принято считать более надежным указателем расового родства, чем лингвистику, поскольку лексика не обусловлена так сильно в своем распространении родственными связями. Полвека назад видный американский специалист по физической антропологии Салливен провел первое систематическое сопоставление соматологии полинезийцев и малайцев. Он установил, что эти два физических типа заметно различаются по степени пигментации, волосатости тела и лица, толщине губ, рисунку глаз, и объявил индонезийца антиподом полинезийца, если говорить о росте, форме головы, лица и носа. По Салли вену, тесное физическое родство исключалось, поскольку налицо «заметное расхождение чуть ли не всех изученных черт» (Sullivan, 1922[301]).
Никто из специалистов по физической антропологии не оспаривал впоследствии этих наблюдений, напротив, они подтверждены недавними исследованиями групп крови. Сотрудники серологической лаборатории в Мельбурне (Австралия), в частности Симмонс, Грейдон и их ассистенты, тщательно изучили распространение групп крови в Тихоокеанской области и установили, что полинезийцы по этому признаку заметно отличаются от всех народов Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Доминантные факторы вроде
В, которые, согласно закону Моргана о наследственности, не могут совершенно исчезнуть в семье, где они отмечены, полностью отсутствуют среди всех чистокровных полинезийских племен, хотя мировой максимум их приходится на Юго-Восточную Азию, включая Индонезию, Меланезию и Микронезию. Изучение систем антигенов
ABO, MNS, Rh, Р, Lea, Fya и
К выявило отчетливо выраженную грань, отделяющую полинезийцев от всех их соседей на западе, и явное сходство с типами крови американских индейцев (Simmons et al., 1955[281]).
Поскольку полинезийцы в силу кровногенетических факторов не могли быть потомками нынешнего населения Юго-Восточной Азии и характер их крови не мог измениться путем смешения с занимающими промежуточное положение островитянами Меланезии и Микронезии, возникла новая дилемма. До тех пор преобладало мнение, что предки полинезийцев прошли от острова к острову через 6500-километровую буферную меланезийско-микронезийскую территорию так быстро, что не успели утратить светлую кожу и европеоидные признаки при смешении с народами, отличающимися еще более темной кожей и негроидностью, чем малайцы. Но состав крови исключал вероятность столь быстрого прохождения, ведь фундаментальное вытеснение индонезийских признаков полинезийскими потребовало бы больше времени. И наиболее ревностные сторонники миграции из Индонезии на восток теперь предложили прямо противоположный вариант: дескать, предки полинезийцев проходили через Микронезию так медленно, что по пути факторы крови и другие физические характеристики вполне могли измениться в ходе «микроэволюции». По этой гипотезе, небольшое число мужчин и женщин, почему-то не обладавших доминантным фактором
В, расстались где-то в Азии со своими родичами, имеющими этот антиген, и заселили необитаемый атолл в Микронезии. Далее, только те их потомки, которые также не обладали фактором
В, продвинулись на следующий остров. Если всякий раз отделялась малочисленная группа таких людей, оставляя позади родичей с фактором
В, «микроэволюция» избранных индивидуумов могла в конечном счете привести к тому, что заключительный отряд переселенцев достиг Полинезии и распространился по ее островам, почти совсем лишенным фактора
В, столь характерного для их предков в Юго-Восточной Азии.
У этого предположения много слабых мест. Во-первых, мы не наблюдаем постепенного уменьшения повторяемости антигена
В, продвигаясь с запада на восток через область Микронезии или Меланезии. Фактор
В исчезает в том месте, где кончаются эти острова и начинается Полинезия. Во-вторых, очень уж мала вероятность, что только супруги без антигена
В всякий раз отплывали на восток в неведомые дали, и уж вовсе исключено, чтобы одновременно происходила такая же «микроэволюция» систем
MNS, Rh и прочих, а также черт физического облика, присущих полинезийцам и столь заметно отличающих их от народов западной части Тихого океана.
Обратившись к сомнительным предположениям о длительном пребывании полинезийцев в Микронезии или Меланезии, мы возвращаемся к исходной точке всех проблем; к тому же мы наталкиваемся на археологические препятствия. Микронезийские атоллы очень малы по площади, сухой коралловый грунт ничего не скрывает, и, однако, здесь не найдено никаких следов пребывания полинезийцев. Исключение составляют юго-восточные атоллы Капингамаранги и Нукуоро, однако лингвисты и этнологи установили, что эти острова были заселены подлинными полинезийцами, приплывшими сравнительно недавно по ветру с Самоа. Не обнаружив каких-либо признаков прохождения полинезийцев через Микронезию, некоторые исследователи отвергли вариант с этими голыми атоллами в пользу больших, покрытых лесом, гористых островов Меланезии. Но о какой долговременной полинезийской «микроэволюции» можно говорить, когда речь идет о протянувшейся на 6500 км враждебной территории, издревле густо населенной негроидами!
Следы недавних полинезийских колоний отмечены на восточных берегах ряда островов Меланезии, а также на восточном мысу Новой Гвинеи, но эти поселения, как и два названных микронезийских очага, также, как установлено, возникли в результате плаваний по ветру из районов Самоа или Тонга в самой Полинезии (Murdock, 1949; Те Ранги Хироа, 1959[232, 6]).
Питер Бак (он же Те Ранги Хироа), наиболее видный сторонник гипотезы о миграции из Малайского архипелага на восток, решительно не признавал меланезийский маршрут и писал: «Веским аргументом в пользу микронезийского пути являются те самые соображения, которые говорят против пути через Меланезию» (Те Ранги Хироа, 1959[6]). Других аргументов в пользу микронезийского пути у него не нашлось, причем, отвергая меланезийский маршрут, он отверг также долго ценимые флористические доводы в пользу малайской родины полинезийцев. На сухом, песчаном грунте микронезийских атоллов росли только кокосовая пальма и таро, известные также в аборигенной Америке, тогда как другие, более влаголюбивые пищевые культуры Океании здесь совершенно отсутствовали. Бак вполне отдавал себе отчет в этом пробеле и сделал вывод:
«Микронезийский путь, следовательно, не годился для растений… хотя полинезийцы и прибыли в Центральную Полинезию микронезийским путем, такие важные пищевые культуры, как хлебное дерево, банан, ямс и менее грубое таро, были сначала завезены из Индонезии на Новую Гвинею и затем распространены меланезийцами вплоть до их крайнего восточного форпоста — Фиджи».
Заслуга Бака в том, что он показал: названные пищевые культуры не были доставлены первоначальными полинезийскими переселенцами, а приобретены путем пограничных связей между Полинезией и Меланезией, после того как между Самоа — Тонга на полинезийской стороне и Фиджи на краю Меланезии надолго установились хорошо известные торговые отношения. Так же решил Бак вопрос о домашних животных, которых многие почитали свидетельством индонезийского происхождения полинезийцев: «В старину коралловые атоллы представляли собой барьер, препятствовавший распространению домашних животных. Они, по всей вероятности, были перевезены по меланезийскому пути и перешли на Самоа с островов Фиджи».
Более того, Бак указывает, что в самоанском предании прямо говорится: предки островитян не знали свиньи, впервые они увидели ее, когда один самоанец побывал на Фиджи и привез оттуда поросят. Бак утверждает:
«Значение острова Фиджи как торгового центра нельзя переоценить. Западный треугольник Самоа — Тонга — Фиджи стал важным районом обмена и диффузии… Изменения в области культуры, которые произошли в западном треугольнике, первоначально были вызваны торговлей и обменом пищевыми культурами и домашними животными… растения и животные были перевезены в Центральную Полинезию, однако фиджийские обычаи укоренились только на западных островах» (там же).
Животные, о которых идет речь, — свинья и курица. Дальше мы увидим, что третье, и последнее, полинезийское домашнее животное — собака осталась неизвестной в Меланезии и Микронезии, зато она сходна с древними американскими породами. Тем примечательнее, что маори Новой Зеландии собаку знали, а свиней и кур нет. Мы увидим также, что собака упоминается в древнейших преданиях и мифах, но о курице и свинье в племенных легендах маори почему-то не говорится ни слова. Впрочем, это объяснить нетрудно. Изучение генеалогий показывает, что новозеландские маори прибыли из Восточной Полинезии в начале нашего тысячелетия и после ограниченного периода тесных контактов с островами на северо-востоке полностью обособились от остальной Полинезии и не воспринимали никаких импульсов из внешнего мира вплоть до прибытия Тасмана в 1642 г. Оттого-то пищевые культуры, куры и свиньи, которые в пору торговой и мореплавательской активности в Центральной Полинезии распространились от Фиджи, не дошли до племен изолированной Новой Зеландии. Эти племена во всех смыслах оставались наиболее чистыми представителями исконно полинезийских родов. Чрезвычайно важно помнить, что межостровная диффузия, влиявшая на полинезийскую культуру в последние столетия перед приходом европейцев, не затронула маори. А потому не менее важно учитывать, что даже такое полезное и нужное изобретение, как аутриггер, не дошло ни до маори, ни до их соседей — мориори на островах Сан-Кристобаль (Чатем), хотя вместе с другими фиджийскими достижениями распространилось почти на всех остальных островах Полинезии.
Перед лицом прямых свидетельств, что полинезийцы первоначально прибыли на свои острова без растений и животных Старого Света, не зная даже двойного и одинарного аутриггера, мы не только лишаемся последних аргументов в пользу гипотезы о движении из Малайского архипелага на восток, но и должны искать совсем другой район, откуда маори-полинезийцы могли попасть в Восточную Полинезию, будучи незнакомыми с аутриггером — самым необходимым для мореплавателя азиатским изобретением. По всему Малайскому архипелагу, от Суматры и Филиппин до ближайшей к ним оконечности Новой Гвинеи, малайцы и индонезийцы издревле применяли
двойной аутриггер — другими словами, прикрепляли к своим лодкам для устойчивости плавучие балансиры с обеих сторон. Микронезийцы и меланезийцы применяли
одинарный аутриггер, поэтому микронезийцы даже строили асимметричные челны. Когда полинезийцы научились оснащать свои
симметричные каноэ одним балансиром, они следовали не микронезийскому, а фиджийскому образцу. Иначе говоря, ни индонезийский, ни микронезийский тип лодки с аутриггером не дошел до восточной части Тихого океана. Гипотеза о миграции из Индонезии, обусловившей заселение Новой Зеландии и прочих островов в период, согласующийся с известными данными о расселении полинезийцев, наталкивается и на другие препятствия. В частности, исследователи указывают, что распространившиеся по своим островам в нынешнем тысячелетии полинезийцы представляли культуру каменного века, однако на Филиппинах знали не только бронзу, но и железо уже ко II в. до н. э., а вскоре после того и по всей Индонезии.
Крисчен, кроме того, обратил внимание на отсутствие колеса в Полинезии, хотя в Индонезии оно было известно так же рано, как и железо (Christian, 1910[65]). Некогда отсутствие колеса в древней Америке служило главным аргументом против контактов со Старым Светом; почему этот же аргумент не был признан для Полинезии?
Петри в своем труде о денежных системах Тихоокеанской области показывает, что для неолита Юго-Восточной Азии характерно применение камней и раковин как платежного средства и эта система распространилась повсеместно в Индонезии, Микронезии и Меланезии. Его поражало неожиданно полное отсутствие какой-либо денежной системы в Полинезии; за неимением других объяснений он писал о возможном «культурном регрессе» (Petri, 1936[245]).
Продолжая исследования своего коллеги Зееманна, ботаник Кук заявил, что незнание аборигенами Полинезии алкоголя говорит о том, что эти островитяне не могли быть выходцами из какой-либо части малайской области, «потому что переселенцы из Азии, несомненно, владели бы азиатским приемом подсочки пальм для получения из сока сахара и напитка. Подобные факты склоняют к выводу, что земледельческие навыки исконных обитателей остовов Тихого океана не связаны с азиатскими источниками… коль скоро полинезийцы не знали употребления пальмового сока» (Cook, 1910–1912[80]).
Еще примечательнее, что аборигены Полинезии не только не знали алкоголя, им был не знаком обычай жевать бетель, присущий миллионам жителей Юго-Восточной Азии. А ведь это был чрезвычайно древний обычай на островах западной части Тихого океана, как подчеркивает Фридеричи; от Индии он через Малайский архипелаг распространился до восточных рубежей Меланезии, а дальше вдруг исчез. Зато по всей Полинезии наблюдается ритуальное потребление
кавы, приготовляемой следующим образом: женщины пережевывают корни определенных растений, выплевывают жвачку в теплую воду, дают забродить и фильтруют, после чего напиток готов. По мнению Фридеричи, способ приготовления
кавы и сопряженные с ее потреблением ритуалы настолько схожи с древней процедурой в Южной Америке, что «явно говорят в пользу связей между этими двумя областями» (Friederici, 1929[118]). Первые европейские исследователи Тихого океана тоже отмечали это сходство; так, Мэренхут писал о полинезийской каве: «Американские индейцы приготовляют такой же напиток, только из других растений» (Moerenhout, 1837[223]). Браун ссылается на записки Броувера о путешествии в Чили в 1643 г., из коих следует, что здесь словом
кавау называли напиток, приготовляемый женщинами, которые пережевывали определенный корень и выплевывали жвачку в сосуд с водой (Brown, 1924[46]). Характеризуя потребление полинезийцами
кавы вместо алкоголя и бетеля, Браун заключает:
«Еще одна загадка — почему переселенцы, захватив с собой кокосовый орех, отказались от одного из его главных применений, предпочли гораздо менее крепкий и соблазнительный напиток кава в центральных областях Тихого океана, приготовляемый из выплевываемой жвачки… Напиток этот родствен чиче на тихоокеанском побережье Южной Америки; на запад он распространился только до юго-восточной части Новой Гвинеи, где встретился с продвигавшимся на восток обычаем жевать бетель» (Brown, 1927[47]).
Итак, полинезийцы вместо принятого в Старом Свете обычая пить алкоголь и жевать бетель осуществляли ритуальное потребление
кавы, совсем как в областях высокоразвитых американских культур, где аналогичный напиток у инков назывался
чича; другие местные названия —
а’ка или
акка (Перу),
кавау (Чили),
аба (Колумбия) и
касава (Бразилия).
Джонстон отметил, что способы толчения камнями в Полинезии «указывают на давнее отделение от Азиатского материка, до того как там стало обычным пользоваться ступой» (Johnston, 1921). Такой же вывод напрашивается, когда видишь, что по всей Полинезии не знали таких древних азиатских элементов материальной культуры, как арка в каменных строениях, уключины, руль и деревянные гвозди при строительстве лодок. Отсутствие всех этих древних изобретений сближало полинезийцев с Новым Светом. С другой стороны, полное незнакомство также с гончарством и ткачеством ко времени прибытия европейцев настолько отличает полинезийцев от их соседей как на западе, так и на востоке, что для удовлетворительного решения полинезийской проблемы необходимо вполне объяснить историю этих примечательных и существенных черт маори-полинезийской культуры.
Обнаруженная европейцами полинезийская культура повсеместно основывалась на немногих и достаточно простых элементах: неолитический четырехгранный топор с наточенным краем и коленчатой рукояткой, каноэ, специфические рыболовные крючки, колотушка для луба, пест для
пои, земляная печь, ритуальное потребление
кавы. Поскольку речь идет о чертах панполинезийского распространения, все они, очевидно, присутствовали в той области, откуда пришли предки нынешних жителей полинезийского треугольника.
Общеполинезийский четырехгранный топор — существеннейшая черта полинезийской культуры и вместе с тем одна из ее наиболее противоречивых черт. Бейер первым отметил в 1948 г., что четырехгранники, сходные с полинезийскими, найдены в древних археологических слоях на севере Филиппин, а в других частях Малайского архипелага не встречены. «Но на Филиппинах, — пишет он, — эти топоры были в ходу между 1750 и 1240 годами до н. э.» (Beyer, 1948[35]). Спрашивается, как они могли попасть в Полинезию. В Меланезии четырехгранники неизвестны, сечение топора всегда цилиндрическое. Хейне-Гельдерн, тщетно пытаясь наметить маршрут через эту область, признает, что четырехгранный топор с наточенным краем не мог здесь оказаться ввиду «коренного различия между полинезийскими и меланезийскими формами» (Heine-Geldern, 1932[144]). Бак, также в поисках маршрута переселенцев, заключил, что полинезийские топоры не могли пройти через Микронезию по той простой причине, что на ее атоллах не было камня и микронезийцам приходилось делать все режущие орудия из раковин. Он писал, что полинезийские формы топора вообще не могли происходить из Юго-Восточной Азии, ведь на микронезийской территории, протянувшейся на 6500 км, не было сырья и полинезийцы, добравшись до своих вулканических островов на востоке Тихого океана, были вынуждены сами изобретать свои топоры (Buck, 1949[55]).
Мы видели, однако, в главе 2, что есть другой вполне удобный морской маршрут из Юго-Восточной Азии в Полинезию — единственный путь, оказавшийся пригодным для первых в здешних водах европейских парусников. Этот маршрут совершенно минует микронезийско-меланезийскую буферную территорию; начинаясь от
Филиппинского моря, он следует с течением Куросио и западными ветрами к изобилующим островами прибрежным водам Северо-Западной Америки, где стихии дружно поворачивают и направляются к Гавайским островам. Стоит заменить Микронезию и Меланезию этой областью в роли промежуточной станции для азиатских мореплавателей, следующих в восточную часть Тихого океана, как мы тотчас находим трамплин для четырехгранного топора с наточенным краем, который был важнейшим орудием индейцев Северо-Запада вплоть до прибытия европейцев. Капитан Кук первым отметил, что эти племена пользовались такими же топорами, как жители Таити и других полинезийских островов (Cook, 1784[77]), а затем капитан Диксон записал, что топоры индейцев приморья, «сделанные из яшмы, такие же, как применяемые новозеландцами» (Dixon, 1789[94]). Капитан Якобсен подчеркивал: «Деревянная рукоятка и способ крепления к ней топора у полинезийцев те же самые, что у индейцев Северо-Запада» (Jacobsen, 1891[175]).
В XX в. специалисты подтвердили эти первые наблюдения. Холмс указывал, что четырехгранные топоры индейцев Северо-Запада похожи больше на океанические, чем на орудия других американских племен (Holmes, 1919[161]), а Олсон в своем исследовании северо-западного топора с коленчатой рукояткой писал: «Тот факт, что он присутствует в Полинезии почти в таком же виде, как в Америке, указывает на его древний возраст и внеамериканское происхождение» (Olson, 1927–1929[237]). Очень может быть, что четырехгранный топор с наточенным краем, характерный лишь для весьма раннего периода в Азии и на северных Филиппинах, много позже распространился в Полинезии, пройдя естественным морским путем через Северо-Западную Америку.
Как уже говорилось, Тихий океан образует полушарие, экватор — не прямая, и то, что на карте представляется кружным путем на севере, на самом деле требует лишь малую часть усилия и времени, потребных для движения прямо на восток от Малайского архипелага. И если мы просто минуем чреватые проблемами области Микронезии и Полинезии, войдем в Полинезию через Гавайские острова, а не через Самоа, исчезают, как это получается с четырехгранным топором, не только перечисленные антропологические, но и все навигационные затруднения. Прежде всего, если острова у северо-западного побережья Америки послужили трамплином на пути из Азии в Полинезию, то физический тип полинезийца из проблемы превращается в логическое следствие. Мы видели, что щуплые обитатели Малайского архипелага относятся к самым малорослым в мире, тогда как полинезийцы стоят в ряду самых высоких. Индейцы материкового Северо-Запада несколько выше малайцев, зато хайда на островах Королевы Шарлотты и квакиютли на острове Ванкувер — одни из самых высокорослых на земном шаре. Цифры, приводимые Боасом (Воас, 1895[41]) для индейцев северо-западного побережья, и данные Шапиро (Shapiro, 1940[277]) о полинезийцах совпадают: для наиболее высокорослых племен средняя цифра превышает 170 см, причем в обеих областях нередко встречались аборигены ростом до 180 см.
Индонезийцы и их соседи — брахицефалы (короткоголовые), как и большинство американских индейцев. Однако на северо-западном побережье археологи часто находили черепа долихоцефалов (длинноголовых), и такие же черепа постоянно встречаются в ряду смешанных черепных форм Полинезии. По Хрдличке (Hrdlička, 1944[168]), средний черепной индекс индейцев северо-западного побережья для мужчин 81, 19, для женщин — 81, 4. Это достаточно близко к 81, 27, что, согласно Шапиро, составляет средний черепной индекс шести главных полинезийских групп, а именно гавайской, островов Общества, самоанской, тонганской, маркизской и новозеландской.
Присущие большинству полинезийцев европеоидные черты вызывали еще более фантастические догадки, чем высокий рост, так как светлая кожа, густая растительность на лице, часто мягкие и волнистые волосы, иногда разных оттенков каштанового цвета, тонкие губы и обычно тонкий орлиный нос сильно отличают их от жителей Малайского архипелага и еще сильнее от народов, населяющих промежуточные области. Почему-то, как подчеркивали все первые европейские мореплаватели — Кук, Диксон, Ванкувер, у аборигенных обитателей островов Северо-Западной Америки кожа также намного светлее, чем у других представителей индоамериканской семьи. И для волос типичны те же немонголоидные особенности, что у полинезийцев: далеко не всегда они черные и жесткие, часто встречаются мягкие, нередко разных оттенков каштанового цвета. Еще одно наблюдение, поражавшее первых европейских посетителей: среди совершенно безбородых, как американские индейцы и индонезийцы, в северо-западном приморье встречались усачи и, как писал Кук, мужчины «с густой и широкой прямой бородой» (Cook, 1784[77]). Узкий, часто ярко выраженный орлиный нос, отличающий большинство полинезийцев от жителей Малайского архипелага с их широкими, плоскими носами, не менее обычная черта у индейцев северо-западного побережья, чем в других частях Нового Света, и то же можно сказать про тонкие губы и немонголоидные глаза — черты, которые опять-таки придают полинезийцам сходство с европеоидами. Капитан Ванкувер так писал о морских племенах центральной части северо-западного побережья до их смешения с европейцами: «Их выпуклые лица правильностью черт напоминают северных европейцев» (Vancouver, 1798[312]).
Учитывая совпадение черепных и лицевых характеристик, волосы, рост и телосложение, не удивимся, что столь хорошо знавшие племена Северо-Запада исследователи XIX в., как капитан Якобсен и профессор Хилл-Тут, с трудом отличали посетителей с полинезийских островов от местных аборигенов. Пораженный, по его словам, примечательным сходством хайда, квакиутлей и гавайцев, Якобсен писал: «Так, я однажды встретил на островке по соседству с Ванкувером гавайца, который обзавелся семьей на новом месте. Невозможно было отличить его от его детей и соседей…» (Jacobsen, 1891[175]). Хилл-Тут добавляет: «Мне встречались люди племени скамиш, которых я лишь с трудом отличал от самоанцев, возвращавшихся с Чикагской ярмарки и временно обитавших в селении скамишей» (Hill-Tout, 1898[159]). Мне самому довелось провести зиму 1939/40 г. в долине Белла-Кула на северо-западе Америки, после того как я год прожил среди полинезийцев Маркизского архипелага, и меня поражало, до чего некоторые чистокровные индейцы племени селиш похожи на моих полинезийских друзей на Таити и Маркизах.
В 1952 г., снова посетив обе области, я впервые собрал вместе все наличные данные о группах крови
АВО, чтобы показать, что полинезийцы, решительно отличающиеся от жителей Юго-Восточной Азии по кровногенетическим характеристикам, вполне могли быть выходцами из северо-западного угла Северной Америки. Мне доводилось в прошлом заниматься биологией, а в данном случае меня подтолкнуло опубликованное в 1946 г. Мэтсоном открытие, что у североамериканских индейцев черноногих и кроу повторяемость фактора
А такая же, как у исконных гавайцев (Matson, 1946[212]). Этим вопросом тотчас занялся специалист по серологии Тихоокеанской области Грейдон, который к моим наблюдениям добавил группы
MN и
Rh и заключил, что серологические данные говорят в пользу американо-полинезийского родства, «причем вероятно, что острова Полинезии были преимущественно заселены выходцами из континентальной Америки» (Graydon, 1952[127]). В 1954 г. Муран свел воедино все накопленные к тому времени данные по группам крови и тоже заключил: «…генетическая конституция полинезийцев во многом может быть отнесена за счет американского, особенно северо-западного, происхождения…» (Mourant, 1954[230]). Подстегнутые этими наблюдениями, Симмонс, Грейдон, Семпл и Фрай провели полное исследование систем
А1А2ВО, MNS, Rh, Р, Lea, Fya и
K и пришли к выводу, «что налицо тесное кровногенетическое родство между американскими индейцами и полинезийцами, но такого родства не обнаруживается при сравнении полинезийцев с меланезийцами, микронезийцами и индонезийцами, исключая в основном сопредельные районы прямого контакта» (Simmons et al., 1955[281]). Этот важный вывод был затем подтвержден в 1972 г. международной рабочей группой в составе Э. и А. Торсбю, Коломбани, Доссе и Фигероа (Thorsby et al., 1972[308]).
К сожалению, язык индейцев Северо-Запада, которых принято считать потомками кого-то из последних азиатских пришельцев в Америке, настолько изменился, что теперь невозможно сказать, каким он был первоначально. Близкие по физическому типу и культуре племена, хотя они и жили рядом друг с другом, говорят на языках, которые никак не кажутся родственными; кое-кто объясняет это, во-первых, смешением с континентальными племенами, во-вторых, местной практикой табу на отдельные слова. Несомненно, жесткая, горловая речь северо-западного побережья, особенно континентальных жителей, резко отличается от мягкой, вокализованной речи полинезийцев. Было бы, однако, интересно, если бы кто-нибудь из современных лингвистов принял вызов, брошенный лингвистами прошлого столетия Кемпбеллом и Хилл-Тутом. Кемпбелл пришел к выводу, что язык хайда в центральной части северо-западного побережья вместе с полинезийским должен быть отнесен к океанийской группе (Campbell, 1897–1898[59]). А Хилл-Тут нашел столько структурального и лексического сходства в языках индейцев Северо-Запада и полинезийцев, что говорил о «цепи свидетельств общего происхождения, начисто исключающих случайность» (Hi 11-Tout, 1898[159]).
Индейцы северо-западного побережья жили на покрытых могучими лесами островах, разделенных проливами и отгороженных от внутренних областей Американского континента обрывами и дикими горами. Как указывал Годдард, «северо-западное побережье Америки крайне благоприятствует развитию культуры, почти всецело зависящей от лодок для транспорта и передвижения и от моря как поставщика пищи» (Goddard, 1924[122]). Народ, который в далеком неолитическом периоде вышел из Азии и заселил эти берега, был облагодетельствован мягким климатом, обусловленным постоянно омывающим здешние острова теплым течением из Филиппинского моря, так что можно было круглый год ходить босиком и в лубяных одеждах. Культура местных индейцев ко времени прихода европейцев во всем отвечала неолитической культуре рыбаков Полинезии, их непосредственных соседей в море на юго-западе.
Второе место по значению после общего для обеих областей специфического топора с коленчатой рукояткой занимает морское каноэ; оно особенно важно для изучения полинезийских миграций в восточной части Тихого океана. Долго соприкасавшийся в прошлом веке с обитателями северо-запада Америки Ниблак красочно писал: «Каноэ для северо-западного побережья — то же самое, что верблюд для пустыни. Для местного индейца оно значит столько же, сколько конь для араба. Оно — зеница его ока, предмет постоянного внимания и заботы. Оно достигло своего наивысшего развития у индейцев хайда на островах Королевы Шарлотты» (Niblack, 1888[234]).
В самом деле, некоторые здешние морские суда достигают 20 м в длину, 2 м в ширину, 1,5 м в глубину и вмещают до 100 человек (Dreyer, 1898). На таких больших каноэ хайда, квакиутли и индейцы долины Белла-Кула смело выходили в чрезвычайно бурное море между Ванкувером и островами Королевы Шарлотты. Уже в наши времена капитан Фосс прошел на каноэ северо-западного побережья от острова Ванкувер до Тонгаревы в Центральной Полинезии (Voss, 1926[313]).
Мы уже видели, что ни проа, ни характерная для Малайского архипелага лодка с двойным аутриггером не дошли до восточных островов Тихого океана. Полинезийцы прибывали на свои острова на больших симметричных каноэ — одинарных или двойных, соединенных поперечными жердями, что обеспечивает очень устойчивую, надежную конструкцию. Мы видели также, что неизвестный маори и мориори аутриггер был со временем освоен полинезийцами через соседей на Фиджи. За пределами Полинезии обычай выходить в открытый океан на двух соединенных вместе одинаковых лодках отмечен только у индейцев северо-западного побережья, а они, согласно Олсону, могли перенять этот прием у пользовавшихся менее совершенными лодками юкагиров и коряков Северо-Восточной Азии (Olson, 1927–1929[237]). Среди народов, плававших в Тихом океане на каноэ, самым удобным путем в Полинезию располагали моряки Северо-Запада. Браун говорит об их лодках: «…из всех примитивных судов они лучше всего приспособлены для трудностей океанского плавания и очень похожи на военные каноэ маори…» (Brown, 1927[46]).
Сходство северо-западных каноэ с большими лодками маори распространялось на размеры, принцип конструкции и орнаментации. Проявлялось оно и в отсутствии киля, руля, банок, уключин, шипов для соединения досок. В обеих областях наращивали нос, корму и — при надобности — борта сшиванием, вырезали и раскрашивали сложные носовые украшения, применяли также для украшения раковины «морское ухо». Совпадение усиливается общим для названных областей обычаем для дальних плаваний связывать две лодки борт к борту и накрывать одной дощатой палубой. На лодках маори и северо-западного побережья не было постоянной мачты; только при попутном ветре поднимали подобие плетеного паруса.
На Северо-Западе и в Новой Зеландии был отмечен своеобразный обычай: приставать к берегу полагалось кормой, ибо только небожители могли причаливать к суше носом (Best, 1925; Swanton, 1905[33, 304]).
Весла одинаковы в обеих областях, аналогичны и приемы маневрирования. Бэнкрофт пишет об индейцах северо-западного побережья: «Когда они отчаливают, один сидит на корме, правя веслом, другие попарно опускаются на колени на дно каноэ и, сидя на пятках, гребут веслами у ближайшего к ним борта. Таким способом они преспокойно одолевают самую высокую волну и бесстрашно выходят в море при волнении, которого другие суда и моряки не выдержали бы ни одной минуты» (Bancroft, 1875[20]). А вот слова Беста о маори: «Команда военного каноэ опускается попарно на дно на колени, садится на пятки и работает веслами длиной от метра с четвертью до полутора метров; у рулевого на корме весло длиной 2 м 70 см. Военные каноэ скользят через бурные волны, словно морские птицы» (Best, 1925[33]).
Несомненно, большую роль для полинезийских мореплавателей, когда они осваивали острова, играли и три основных типа рыболовных крючков: составной со стержнем из камня или раковины и костяным острием, цельный из раковины или кости с загнутым внутрь острием, большой составной из дерева и кости для лова акул или руветы. Распространение этих разновидностей по всей Полинезии, отчасти в Микронезии и в прилегающих районах Меланезии говорит в пользу их внеокеанического происхождения. Поражает, что рыболовные крючки вообще не были известны на Малайском архипелаге и во всей Юго-Восточной Азии. Малайцы и их соседи никогда не ловили рыбу на лесу с крючком. В бассейне Тихого океана этот способ применялся лишь в Северной Азии, откуда через Аляску распространился на юг до Перу и Чили. Организованная Экхольмом и Хейне-Гельдерном в 1947 г. выставка в Американском музее естественной истории впервые показала, что два типа археологически известных рыболовных крючков тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки полностью совпадают с полинезийскими: цельным из раковины с загнутым внутрь острием и составным из камня и костяного острия. Особенно примечательно совпадение чрезвычайно специализированного составного крючка: в основании сигаровидного каменного стержня есть продольный желобок для крепления костяного острия, а заостренные концы опоясаны бороздами — вверху для крепления лесы, внизу для приманки из перьев. Широко распространенный в Орегоне, а также на южноамериканском побережье прямо на восток от Полинезии, этот тип недавно обнаружен археологами в мусорных кучах на территории индейцев Северо-Запада, причем образцы в музее на острове Ванкувер (Британская Колумбия) очень похожи на крючки из новозеландских раскопок. Если такие крючки, а также цельные из раковины или кости могли проникнуть в Океанию из Северной или Южной Америки, то большой составной крючок с загнутым внутрь под острым углом костяным острием на деревянном стержне известен за пределами Полинезии только у индейцев Северо-Запада, которые ловят на него палтуса. И тут сходство настолько велико, что Гаджер включил северо-западные образцы в свой труд о крючках Океании именно из-за «примечательного совпадения материала и конструкции» (Gudger, 1927[132]).
Еще одна характерная черта общеполинезийской культуры — рифленая колотушка для
тапы (материи из луба), сделанная из дерева или китовой кости. Это примитивное орудие — прямой результат отсутствия в Полинезии ткацкого станка и подлинного ткачества. Ткацкий станок издревле известен по обе стороны Тихого океана, особенно среди народов с развитой мореходной культурой. Колотушка тоже была широко распространена по обе стороны, но только среди отсталых или изолированных племен, не выходивших в море. Исключение составляет северо-западное побережье Америки, здесь племена приморья не знали ткацкого станка до прибытия европейцев и, подобно полинезийцам, пользовались рифленой колотушкой из дерева или китовой кости, выколачивая ею луб подходящих древесных пород. Колотушки из китовой кости найдены при раскопках в мусорных кучах Северо-Запада, и сходство их с костяными колотушками Полинезии поразительно. Луб бумажной шелковицы и хлебного дерева, полученных полинезийцами с Фиджи, позволял изготовлять волокнистую материю выколачиванием и валянием крест-накрест, но у маори и мориори далеко на юге таких деревьев не было, они вынуждены были сплетать пальцами отбитое растительное волокно, полученное из луба местных деревьев, совсем как это делали племена северо-западного побережья. Эта параллель также была впервые подмечена капитаном Куком, когда он посетил острова Северо-Запада: «В большинстве домов мы видели женщин за работой, они делали одежду из упомянутого выше растения или коры — делали точно так же, как изготовляют свою одежду новозеландцы» (Cook, 1784[77]). Капитан Якобсен писал о готовом продукте: «Их предметы одежды почти тождественны одежде новозеландских маори как по форме, так и по материалу и способу изготовления. Сходство настолько велико, что некоторые покрывала из двух названных областей почти нельзя различить, когда повесишь их рядом» (Jacobsen, 1891[175]). В своей работе о Самоа Шойрманн указывает, что лубяные покрывала или циновки использовались для расчетов с местными плотниками. Он сообщает: «Эти циновки… самоанский символ благосостояния. У кого много хороших циновок, тот богач, у кого мало — бедняк» (Scheurmann, 1927[274]). Да и Петри в уже упомянутой работе о денежных системах Тихоокеанской области показывает, что полинезийцы заметно отличаются от своих западных соседей отсутствием платежных средств в виде камней и раковин, зато во всяких сделках таким средством в разных частях Полинезии служили циновки. Он пишет: «Многие авторы называют плетеные циновки своего рода деньгами полинезийцев» (Petri, 1936[245]). Нетрудно определить, откуда мог прийти этот своеобразный обычай. У индейцев Северо-Запада тоже не было
вампума и иных денег, но Дрейер писал в конце прошлого века, что они рассчитывались с плотниками лубяными покрывалами (Dreyer, 1898[99]).
Кроме плетеных циновок на земляном полу в домах аборигенов Северо-Западной Америки и Полинезии не было никакой обстановки, да и утварь не отличалась разнообразием. Однако всякий работавший в Полинезии археолог знает столь важные в хозяйстве великолепно исполненные традиционные песты для
пои, сделанные из твердого шлифованного камня. Вместе с каменными топорами и рыболовными крючками это общеполинезийское изделие чаще всего встречается при раскопках, и наряду с большими каменными рыболовными крючками острова Пасхи это орудие считают вершиной океанийского каменотесного искусства. Известны три специализированных типа: колоколовидный, с длинной и тонкой рукояткой, оканчивающейся маленьким диском или шишечкой (наиболее совершенные образцы найдены на Рапаити и Маркизских островах); Т-образный с горизонтальной рукояткой и загнутыми вверх «ушками» (характерен для островов Общества); наконец, D-образный, который существует на Гавайских островах наряду с колоколовидным. Все эти три специфические формы были основным орудием для приготовления пищи также у индейцев Северозападного побережья; здесь тоже их сплошь и рядом находят при раскопках. Американские формы отличаются от полинезийских лишь плоским основанием; ими продукт растирали, а слегка выпуклыми полинезийскими пестами колотили. Однако Стоукс показал, что гавайские археологические образцы позволяют проследить эволюцию от пестов для сухого продукта до пестов для измельчения таро и плодов хлебного дерева с целью приготовления
пои (Stokes, 1932[297]). Важное наблюдение, поскольку расположение Гавайских островов делает их естественным трамплином на пути от архипелагов Северо-Запада к тропическим островам, где выращивали таро и хлебное дерево.
Общеполинезийское пользование земляной печью связано с тем, что в Полинезии (поразительный факт) не знали гончарства. Гончарный круг был известен по всей Юго-Восточной Азии, включая Малайский архипелаг; в большей части Нового Света и в Меланезии с раннего неолита знали налепную керамику. Судя по тому, что археологи находили черепки налепной керамики и на восточной, и на западной окраине Полинезии, первые обитатели этой области, очевидно, владели техникой ее изготовления. И тот факт, что исторические и протоисторические племена на всех островах Полинезии вовсе не применяли керамики и не варили пищу, а пекли ее в обложенных камнем земляных печах, настолько примечателен, что требует объяснения, ведь в подходящей для гончарных изделий глине недостатка не было. Снова мы видим: в отличие от всех других народов на берегах Тихого океана, исключая огнеземельцев, индейцы северо-западного побережья тоже не знали гончарства. Вплоть до прибытия европейцев они пользовались точно такими же земляными печами, как полинезийцы. Одним из первых оценил значение этого своеобразного географического распространения земляной печи отважный исследователь Макмиллан Браун, который писал:
«…это одна из наиболее типичных черт полинезийской культуры, она следовала за полинезийцами повсюду. Родилась эта конструкция, вероятно, в мерзлой почве Севера с его суровыми зимами, и, поскольку мы видим ее у жителей северо-западного побережья Америки, она может служить одним из свидетельств родства между ними и полинезийцами» (Brown, 1924[46]).
У племен маори видим мало характерных черт, которые нельзя назвать общеполинезийскими, да и то родственные следы находим по всей Полинезии. Чрезвычайно интересна изумительно сделанная традиционная короткая боевая палица из камня и китовой кости. Индейцы Северо-Запада, как и полинезийцы, знали столь распространенный среди их соседей лук со стрелами, но на войне им не пользовались, предпочитая рукопашные схватки с применением традиционного типа коротких палиц, дающих одинаковые шансы обеим сторонам. Великолепно выполненные, шлифованные палицы высоко ценятся коллекционерами со времен первых европейских плаваний в Тихом океане, и капитан Якобсен писал: «Среди оружия маори видим боевую палицу, которая прежде была общеупотребительной. Обычно ее делали из китовой кости, из нефрита или другого камня. Точно таким же оружием пользовались обитатели островов Ванкувер и Королевы Шарлотты. Сходство формы и размеров так очевидно, что даже великий путешественник капитан Кук был этим поражен, когда впервые увидел оружие маори, а затем — американских индейцев» (Jacobsen, 1891[175]).
Отталкиваясь от утверждения Ратцеля и других основоположников этнологии, которые отмечали почти полное тождество боевых палиц двух упомянутых районов, Имбеллони провел специальное исследование и пришел к выводу, что вряд ли можно считать случайным совпадением, если воины маори и Северо-Запада вырезали однотипные палицы из однотипного материала, а именно
пату онева из камня и
пату параоа из китовой кости. Он показал, что просверленное в тонкой рукоятке каменной палицы отверстие для ремня требовало от мастера такого умения и терпения, что независимая эволюция мало вероятна. Далее, он обратил внимание на то, что толстый конец костяных палиц обеих областей обычно украшен стилизованным профильным изображением птичьей головы, и отметил наличие на Северо-Западе таких специфических маорийских типов палицы, как
мере онева, мере поунаму и
мити. И он заключил: «…достаточно вспомнить топоры, песты, рыболовные крючки и т. п. Полинезии и северо-западного побережья Америки, чтобы доказать перенос неотъемлемого наследства» (Imbelloni, 1928[172]).
Однако Имбеллони предположил, что палицы северо-западного побережья первоначально были созданы маори и попали на северо-запад Америки с Новой Зеландии. Специалисту по культуре маори Скиннеру не стоило труда опровергнуть эту гипотезу, показав, что в Новой Зеландии нет никаких стратиграфических свидетельств местной эволюции названных типов, а потому сам он считал, что маори восприняли их из некоего неопознанного источника в Азии (Skinner, 1931[282]). Недавние исследования выявили большую древность и ряд переходных форм в пределах Северо-Западной Америки, однако ни Имбеллони, ни Скиннер не подумали о том, что распространение могло идти в противоположном направлении.
В самом деле, удивительно, как это все занимавшиеся американо-океанийскими параллелями мыслили «донорами» только полинезийцев. Для нас очевидно, что главная проблема маори-полинезийцев — вопрос об их происхождении. Мы знаем также, что обитатели северо-западного приморья Северной Америки, как и жители Малайского архипелага, — потомки народов восточноазиатского приморья и что течение от их континентального архипелага в отличие от течений в области Микронезии устремляется прямо к Полинезии с такой мощью, что гавайцы строили свои самые большие каноэ из огромных стволов, приплывших от северо-западного побережья. Далее, в 300–400 км от этого побережья вступают в силу северо-восточные пассаты, которые бо́льшую часть года дуют через всю Полинезию в сторону Новой Зеландии. И однако, подсознательно мы настолько пленены былой лингвистической гипотезой о происхождении полинезийцев от малайцев, что, найдя район, изобилующий полинезийскими параллелями, отвергаем их лишь потому, что Полинезия явно не могла быть их источником.
В статье «Контакты с Америкой через южную часть Тихого океана» видный этнолог Диксон подчеркивает, что сходство культур северо-западных индейцев и маори-полинезийцев стало очевидным с тех пор, как европейцы начали исследовать окружающие океан берега:
«Многие первые английские исследователи северо-западного побережья, например Кук и Ванкувер, прежде занимавшиеся Южными морями, были поражены при встрече с индейцами этой области сходством некоторых черт их культуры с культурой новозеландских маори. Прочные дощатые дома с замысловатым резным и расписным орнаментом, крепости, искусно сплетенные плащи, короткие костяные и каменные палицы тотчас заставляли вспоминать аналогичные элементы у маори и родили предположения о возможном родстве между обоими народами» (Dixon, 1933[97]).
Не совсем ясно, почему эти суждения, встречаемые не только у Диксона, но и у других современных этнографов, неизменно подразумевали, что Океания была «донором», а не восприемником; ведь такой подход порождал лишь новые проблемы, не решая прежних. Конечно, полинезийцы, народ неизвестного происхождения, могли принести древним аборигенам северо-западного приморья Америки какие-то идеи и изделия, но не их же винить в том, что здесь не знали ткацкого станка и гончарства и не могли они повлиять на северо-западные племена так основательно, что физический облик, группы крови и все важнейшие стороны местной культуры уподобились маори-полинезийским категориям! По отношению к культуре племени Северо-Запада культура маори-полинезийцев выглядит скорее дочерней, чем материнской.
Последовательно сопоставляя племена квакиютль, хайда, сэлиш Северо-Западной Америки и маори-полинезийцев, мы увидим, что различия не выходят за рамки тех, которые наблюдаются от острова к острову внутри самих этих сопредельных областей. Перечень совпадений выходит далеко за грань того, что бросается в глаза с первого взгляда, но и то ранние исследователи подметили, а иногда и подчеркнули достаточно много.
Примечателен обычай маори устанавливать под открытым небом высокие деревянные столбы, изображающие фигуры, которые стоят на голове друг у друга. Полак видел у маори такие старинные столбы высотой до 10 м (Polack, 1838[250]). Подобное чередование фигур известно и на Таити. Налицо прямое повторение типичного для северо-запада Северной Америки обычая устанавливать вблизи своих селений так называемые тотемные столбы. В труде, посвященном тотемным столбам Северо-Запада, Барбо показывает, что характерные для этой области роскошные столбы последних десятилетий появились с введением европейского железного инструмента, а доевропейские образцы были скромнее, обычно ограничивались двумя фигурами, как это было принято в Новой Зеландии. Он говорит даже об «ошеломляющем сходстве» с новозеландскими столбами, подкрепляя свои слова иллюстрациями крупных маорийских образцов в одном ряду с северо-западными (Barbeau, 1929[22]). В обеих областях резные столбы иногда украшали дома; узкий просвет между расставленными ногами нижней фигуры играл роль двери.
Одинаково выглядели в обеих областях тщательно построенные жилища: большие, просторные, в плане — прямоугольные. Стены и кровлю набирали из толстых широких досок. Опирающаяся на крепкие угловые столбы крыша нависала коньком над низкими боковыми стенами. Окон не было, дверь в передней стене делали маленькую, и саму стену охотно украшали резьбой или росписью. На земляном полу лежали плетеные циновки, другой обстановки не было. В селениях Северо-Запада такие дощатые дома достигали в длину 20 м; Бахманн описывает дощатый дом маори длиной 25 м, шириной 10 м и высотой под коньком 7 м (Dreyer, 1898; Bachmann, 1931[99, 15]). В больших домах и у маори, и у северо-западных индейцев можно было видеть внутри подпирающие кровлю резные столбы. Такие селения, обнесенные деревянным частоколом и окруженные группами старинных столбов, резко выделялись на фоне других селений Тихоокеанской области; в жарком климате остальной Полинезии островитяне предпочитали легкие постройки из крытых соломой жердей.
Сходен общественный строй в обеих областях; в отличие от всех других племен севернее Мексики у индейцев северо-западного приморья было три сословия: правящая верхушка, рядовые члены общины и рабы. То же видим у маори и у многих других полинезийских племен. Полинезийская община была патриархальной, тогда как на Малайском архипелаге и в Меланезии преобладал матриархат. На Северо-Западе наблюдались обе формы, но у квакиютлей центрального приморья господствовал патриархат. Сопоставляя общество двух областей, Ниблак заключал: «Политическая организация племени, форма землевладения и законы кровной мести одинаковы» (Niblack, 1888[234]).
Еще одна общая для обеих областей черта — наличие не только знахарей, но и
ареои и
хамеце, своеобразных религиозных обществ, нечто вроде странствующего объединения искусно татуированных шаманов, которых повсюду принимали с великими почестями и гостеприимством, хотя они совершали жестокие, каннибальские ритуалы и устраивали необузданные оргии. После них и племенных вождей следующими по рангу в общинах были ораторы. Красноречие ценилось высоко, и речи произносились по всяким поводам. Оратор отлично знал местные предания; нередко он выступал перед народом с каким-нибудь знаком отличия вроде ритуального жезла. В своем труде об аборигенной культуре северо-западного приморья Дракер пишет:
«В связи с системой многостепенного, отчасти наследственного статуса повышается интерес к историческим преданиям. Генеалогии тщательно сохранялись в памяти, и ораторы в торжественных случаях перечисляли предков. Родовые предания, охватывавшие историю рода со времен древнейших предков, отнюдь не сводились к перечню имен и степеней родства; они повествовали о войнах и набегах, о переселении рода с одного места на другое. В них говорилось о действительно существовавших, давно оставленных селениях. Эти предания настолько реалистичны и внутренне последовательны и, главное, родовые генеалогии так хорошо согласуются с преданиями соседей, что ни один работавший в этой области этнограф не отрицал их исторической ценности» (Drucker, 1943[100]). То же самое вполне можно сказать о всех маори-полинезийских племенах. Живя в прошлом веке среди квакиютлей, населяющих северную часть острова Ванкувер и соседнее приморье, Доусон записал их главные племенные предания, вращающиеся вокруг странствующего культурного героя, к младшему брату которого вожди относят свое божественное происхождение:
«Имя этого героя, подобно другим словам их языка, звучит неодинаково в разных диалектах. Слыша его на севере Ванкувера и на западном побережье, я остановился на варианте „Кан-э-а-ке-лух“ как наиболее верном. В произношении людей клана навитти имя это больше похоже на „Кан-э-а-кве-а“».
Вместе с тем Доусон цитирует миф, где имя того же божества дано с другим суффиксом: Кāни-кē-лāк. Легенды о Кан-э заканчиваются тем, что он женился на «женщине с моря» и уплыл через океан, навсегда покинув круг смертных, так что «люди почитают солнце его воплощением».
«Тесная связь культурного героя Кан-э̄-а-ке-луха с солнцем и раньше выражалась в относящихся к нему преданиях вместе с верой, что вожди — или некоторые из них — состоят с ним в родстве как потомки его младшего брата. Несомненно, с этим связано и то, что солнце — на-ла — под именем Ки-а-кун-ā-э, что означает „наш вождь“, прежде обожествлялось и к нему обращали молитвы о добром здоровье и других благах» (Dawson, 1888[90]).
Боас в своей монографии «Предания квакиютлей» также указывает, что герой, именуемый им Кāнекелак или Кане-ке-лак, был старшим богом и божественным предком местного народа, но в конце концов удалился, объявив, что отправляется в более южные широты (Boas, 1935[42]). Достаточно продвинуться на юг до Гавайских островов, и мы, подобно Форнандеру, увидим, что племенные предания приписывают открытие этих островов мифическому «странствующему вождю», прибывшему с огромного острова или материка на севере, который называли не конкретным именем, а «утраченным домом Кане». Солнце — на языке квакиютлей
на-ла, у гавайцев просто
ла (в других полинезийских диалектах —
ра) — на Гавайских островах называли также «местом упокоения Кане». Гавайцы видели в Кане своего старшего бога и прямого предка правящих родов, а квакиютли, как мы отметили, вели свое происхождение от младшего брата Кан-э. Записывая в прошлом веке гавайские предания, Форнандер отмечал:
«Вера в „Кане“ гавайских преданий, потускневшая от времени и последующих наслоений, остается тем не менее ценнейшим пережитком духовного склада, религиозных воззрений и исторических воспоминаний древних полинезийцев. Насколько я мог убедиться при своих расспросах, нигде больше в Полинезии она не сохранилась в такой полноте; вообще же ее следы встречались мне чуть ли не повсеместно, пусть в более или менее искаженном виде, и в этом случае я полагаю, что всеобщность предания среди столь далеко разбросанных племен доказывает его древность» (Fornander, 1878[114]). Одно из полных имен Кане на Гавайских островах — Кане Уакеа, то есть «Кане-свет» (Malo, 1898[209]), что тесно перекликается с называемым Доусоном Кан-э-а-кве-а квакиютлей.
Нет нужды подробно рассматривать другие вероположения и обычаи, в которых маори-полинезийские племена близки к своим северо-западным соседям, как-то: потирание носами в знак приветствия, пучок волос в мужской прическе, украшение волос перьями крупных птиц, уплощение черепа, татуировка, отсечение пальцев, хождение по огню, боевое снаряжение, показ языка в знак неповиновения и изготовление оружия в виде стилизованной головы, где высунутый язык служит клинком, незнакомство со струнными музыкальными инструментами, главный мировой центр которых располагался между Индией и Малайским архипелагом, ударные инструменты и деревянная флейта в виде гротескного человеческого лица, испускающего звуки широко открытым ртом, система табу, погребальный обряд: в обеих областях предпочитали не зарывать покойника в землю, а класть его на возвышенную деревянную платформу, после чего высохшие останки завертывали в лубяные покрывала и помещали в сидячем скорченном положении в пещерах, на деревьях или в части челна (Heyerdahl, 1952[148]).
Казалось бы, северо-западный архипелаг во всем отвечает роли трамплина на пути из более древней обители в какой-то не опознанной еще области Юго-Восточной Азии и подходящего географически, антропологически, хронологически источника населения и культур на крайнем востоке Тихого океана. Однако это не так. Мы видели, что полинезийская проблема достаточно сложна и сами маори-полинезийские племена утверждали, что их предки застали на всех этих островах других людей. Как указывает Бак, «…предания утверждают, что прибывшие позже полинезийцы застали более древних обитателей на Гавайских островах, островах Кука и в Новой Зеландии… Пришельцы покорили предшественников, но не истребили их, а поглотили» (Buck, 1933[51]). В разных концах Полинезии генеалогические датировки, исходящие из продолжительности жизни одного поколения в 25 лет, свидетельствуют, что в зависимости от расположения различные острова заселялись нынешними маори-полинезийскими племенами в первые века нынешнего тысячелетия. Видный знаток полинезийских генеалогий Форнандер, всю жизнь посвятивший изучению истории местных племен, полагал, что 30 поколений назад, считая от конца прошлого столетия, «правящая верхушка всех племен, так сказать, снова тронулась в путь». После этого на протяжении нескольких поколений родословные правителей прерываются и сменяются новыми: «Волна переселений захлестнула островной мир Тихого океана, увлекая в своем водовороте все основные племена и, вероятно, все мелкие». «Она оставила глубокие, неизгладимые следы. Она изменила древние обычаи, верования и образ правления. Она повлияла даже на язык». Форнандер показывает, что на смену старым божествам пришли новые, изменились географические названия и, похоже, что в это время прекратилось строительство пирамидальных каменных платформ (Fornander, 1878[114]).
Сто с лишним лет назад собиравший племенные предания маори Шортленд писал: «Из этого авторитетного источника мы узнаем, что предки нынешнего народа пришли с далекого острова Гаваики, лежащего к северу или к северо-востоку от Новой Зеландии, либо с группы островов, один из которых носил это имя» (Shortland, 1856[280]). Такое же предание существовало на Таити, но там остров называли «Гавай’и», помещая его на севере. Легенда о пришествии предков из Гаваики или Гавай’и широко распространена в Центральной и Южной Полинезии, однако совсем отсутствует на Гавайских островах. Кроме Гавайи на северо-востоке Тихого океана только Савайи (острова Самоа) мог превратиться в Гаваики в маорийской речи. Предположение, что в преданиях подразумевается Савайи, высказывалось давно, поскольку его местоположение хорошо согласовывалось с гипотезой о расселении из малайской обители от острова к острову. Но в преданиях маори говорится о дальних плаваниях, которые их предки совершали между Гаваики и Самоа, и, кроме того, Раротонга в Центральной Полинезии фигурирует как промежуточная остановка на пути от Гаваики до Новой Зеландии, поэтому савайский вариант был отвергнут, и все современные исследователи согласны, что маори пришли не с Самоа, а откуда-то из Восточной Полинезии.
Нетрудно отождествить легендарный Гаваики маорийских преданий с Гавайскими островами, логическим географическим трамплином для мореплавателей из Северо-Западной Америки. Изучая ранние маорийские генеалогии, Форнандер сделал такое открытие:
«…в числе других важных имен, фигурирующих в преданиях до того, как маори покинули Гаваики, видим четыре, которые встречаются также в гавайской генеалогии Улу между именами
Аиканака и
Паумакуа. В новозеландских легендах эта четверка выступает в роли вождей или
арики Гаваики и сменяет друг друга в той же последовательности, что и в гавайской родословной. Вот эти имена с указанием гавайского произношения в скобках:
Хема (Хема),
Тавхаки (Кахаи),
Вахиероа (Вахиелоа),
Рака (Лака)».
Форнандер признает: «Вряд ли вероятно, что были два ряда вождей… с тождественными именами в одинаковой последовательности; за одним исключением, такое же тождество наблюдается для имени жен троих из них…» Он установил также, что у гавайцев сохранилось предание о местном вожде, который в давние времена покинул Гавайи, чтобы искать новую обитель в далеких краях; сравнивая это гавайское предание с воспоминаниями маори о событиях из жизни предков в Гаваики, он обнаруживает такое сходство, «что обе легенды, как это сразу видно, излагают две версии одного и того же события» (Fornander, 1878[114]).
Другой хорошо известный специалист по полинезийским генеалогиям, Перси Смит, обнаружил, что среди видных гавайских вождей, покинувших Гавайи между 1100 и 1200 гг. в поисках новой обители на юге, был некто Олопана, жену которого звали Лу’укана. «По известным правилам смены букв имена Олопаны и его жены на языке маори превратятся в Коропанга и Рукутиа. Так вот, в маорийской истории мы находим Ту-те-Коропангу и его жену Рукутиа, которые жили в Гаваики…» (Smith, 1910[291]).
Но если легендарный остров Гаваики и Гаваи’и племенных преданий маори и Центральной Полинезии — Гавайские острова, то северный угол великого полинезийского треугольника оказывается воротами, через которые проходили нынешние обитатели Полинезии. Мы уже видели, что Самоа на западе треугольника затем стали важным узлом контакта, воспринимая меланезийские достижения с Фиджи и направляя по ветру переселенцев в сопредельные части Микронезии и Меланезии. Третий угол, остров Пасхи, — одинокий восточный форпост на полпути к Южной Америке. Мы возвратимся к нему дальше в этой книге в поисках недостающего компонента смешанной полинезийской культуры, поскольку видели, что есть еще один, более мощный морской путь в восточную часть Тихого океана, который заслуживает наибольшего внимания в связи с постоянно возникающим аргументом о наличии субстрата некоего более древнего народа в Полинезии. Есть убедительные физико-антропологические и культурные свидетельства, позволяющие верить в настойчивые утверждения дорожащих
своей историей островитян от Пасхи до Гавайских островов и Новой Зеландии, что другие люди уже обитали на этих островах, когда 30 поколений назад через Гаваики сюда пришли предки нынешнего населения. Прежние жители и многие их верования и обычаи не столько искоренялись, сколько абсорбировались пришельцами. Они не были плотниками, мастерами резьбы по дереву и изготовления досок, как исторически известные маори-полинезийские племена и их северные соседи в лесистом приморье северо-западной части Северной Америки, зато это были искусные каменотесы, которые вырубали огромные глыбы на склонах гор, обтесывали и подгоняли камень для своих храмовых построек и монументов, подобно обитателям безлесных районов Андской области. Руками этих древних поселенцев созданы мегалитические сооружения и исполинские антропоморфные изваяния, воздвигнутые и потом заброшенные на ближайших к Южной Америке окраинных островах; это они интродуцировали употреблявшуюся в пищу маори-полинезийскую собаку, распространили в Полинезии выведенный человеком 26-хромосомный американский хлопчатник, и батат вместе с его южноамериканским названием
кумара, и бутылочную тыкву, которую использовали в качестве сосуда, погремушки или поплавка для рыбацких сетей; интродуцировали также целый ряд других полезных американских растений, к которым мы вернемся в главе 9, в том числе важный пресноводный камыш тотора, применявшийся пасхальцами для вязания бунтовых лодок наподобие древнеперуанских и для кровли круглых каменных домов неполинезийского типа, опять-таки перекликающихся с южноамериканскими. По всей Полинезии находим мы элементы этого протополинезийского субстрата не обязательно в виде археологических остатков, очень часто в виде культурных черт, воспринятых новыми переселенцами и дошедших через века вплоть до исторических времен.
Могучий поток стихий от берегов Перу не обрывается в Полинезийском треугольнике, он проникает также в Меланезию, и многие черты на Фиджи и других окраинных островах этой области лучше всего объясняются иммиграцией по ветру из Южной Америки во времена первого заселения необитаемых тогда клочков суши. Сложное искусство трепанации черепа, известное в Азии только на Ближнем Востоке, — один из веских примеров; уже упомянутое ритуальное потребление
кавы — еще одна черта, непрерывно присутствующая от Центральной и Южной Америки до западных рубежей Полинезии, где она вдруг сталкивается с продвигавшимся из Азии обычаем жевать бетель. Праща как боевое оружие неизвестна на Малайском архипелаге, а в Южных морях описаны три специфических типа, в точности повторяющие перуанские. Мумификация не применялась на Малайском архипелаге, однако, невзирая на неблагоприятные климатические условия, попытки мумифицировать останки предпринимались в разных частях Полинезии, и процедура аналогична древнеперуанской. Искусно выполненные яркие головные уборы и плащи из перьев для знатных лиц, типичные для обширной области полинезийской культуры, не наблюдались на востоке Азии, включая Малайский архипелаг, зато они характерны для древней Америки, особенно для Мексики и Перу. Деревянные дощечки с бустрофедонными надписями (бустрофедон чередует строчки, написанные слева и справа налево) и полинезийские
кипона — сложная мнемоническая система узелкового письма — не имеют близких параллелей на западе Тихого океана, зато такие параллели есть в Новом Свете. Поклонение богу-прародителю Тики, которому на большинстве полинезийских островов соответствует Кане, дальше на запад не известно, зато оно составляло основу доинкских верований Америки. Этот список может быть значительно расширен (см. главу 13).
Свидетельством культурного субстрата в Полинезии считают также, как уже говорилось, черепки керамики, найденные при раскопках как на Маркизских островах, так и на островах, сопредельных с Фиджи. На тех же Маркизах и вообще в Полинезии вплоть до Фиджи европейцы застали одичавший длинноволокнистый хлопчатник — очевидное свидетельство прошлой культивации народом, который умел и прясть и ткать. Гончарство и ткачество, как мы уже видели, теоретически могло попасть на эти острова в дополинезийские времена как из Старого, так и из Нового Света. В Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге применяли гончарный круг, тогда как в Новом Свете керамическую посуду изготовляли кольцевым налепом стенок валиками. Полинезийские черепки, а также сосуды прилегающих островов Меланезии свидетельствуют об использовании здесь, как и в Америке, налепного способа, причем на Фиджи, где европейские коллекционеры еще застали целые образцы, специфические формы настолько похожи на древнеперуанские фигурные и гроздевидные сосуды, что их можно было бы принять за местные варианты, будь они раскопаны в доинкском погребении в северном приморье Перу. …Гончары, которые, не располагая гончарным кругом, лепили сосуды из валиков, и ткачи, которые изготовляли пряжу из 26-хромосомного американского хлопчатника, вполне могли приплыть на острова из Перу, но никак не из Малайского архипелага.
Подытожим. Полинезийская океанская область огромна, общая площадь суши мала, культура, несомненно смешанная в пределах треугольника, один угол которого вторгается в Меланезию, а два других расположены на пути океанских конвейеров, движущихся один со стороны Перу, другой — с Северо-Западной Америки. Древний культурный субстрат из Перу, наиболее типично представленный на востоке на острове Пасхи, обогащенный окраинным контактом с Фиджи, сосредоточенный на западе на Самоа и перекрытый последующей маори-полинезийской миграцией через Гавайские острова на севере, — вот возможный ответ на часто предполагаемое тройное происхождение смешанной культуры восточной части Тихого океана. Можно сказать и так: с востока пришел американский батат, с запада — меланезийское хлебное дерево, а с севера пришли захватчики, собравшие урожай. Эти победители представляли в Полинезии азиатский элемент, потомков выходцев из Юго-Восточной Азии, они обошли и Микронезию, и Меланезию.
Глава 7
Инки указали европейцам путь в Полинезию
Во всем Тихом океане не было ни одного пригодного для обитания островка, который не был бы освоен человеком до прибытия европейцев. Тем не менее мы приписываем открытие каждого из них тому или иному европейскому мореплавателю. Дескать, испанец Альваро Менданья де Нейра открыл Маркизские острова в 1595 г., голландский адмирал Роггевен — остров Пасхи в 1722 г., английский капитан Кук — Гавайские острова в 1778 г. и т. д. На самом деле первые европейцы, узнавшие про обитаемые острова в Тихом океане, пользовались указаниями, которые они получили от аборигенов Перу.
Со времен конкисты у европейцев повелось смотреть на людей иной культуры чуть ли не как на животных, во всяком случае пока те не восприняли христианскую веру и не научились письму, которое мы сами получили из Азии. Переймут наши верования и обычаи — тогда они нам ровня, тогда они заслуживают защиты и признания их собственных открытий. При встрече с другими представителями человеческой расы в Новом Свете, а затем в Океании чувство превосходства белого человека, подкрепляемое его оружием, усугублялось смиренным поведением намного превосходивших его числом великодушных мужчин и женщин. Мы видели в главе 4, что от Мексики до Перу первых европейских гостей повсеместно принимали с благоговением и почестями, как возвратившихся посланцев белых бородатых предшественников, которые некогда облагодетельствовали местных жителей различными достижениями цивилизации. И такой же прием ожидал белого человека, когда он, руководствуясь указаниями инкских информантов, отправился к ближайшим островам в океане.
Видный специалист по древнеполинезийским легендам Перси Смит писал:
«Где бы мы ни встречались с этой расой, всюду видим прослойку светлокожих людей, которые не являются альбиносами, однако у них очень светлые волосы и белые лица. У маори такие люди прослеживаются подчас через многие поколения; иногда похоже, что перед нами реверсия к исходному типу, давшему начало этому элементу. У маори есть даже предания о расе „богов“, именуемых пакепакеха, будто бы они всегда живут на море и кожа у них белая; оттого маори называли белых пакеха, когда впервые узнали нас в XVII в. …Мы видим, таким образом, что в полинезийских преданиях сохранилось некое смутное воспоминание о белом, или светлокожем, народе. Пытаясь разобраться в происхождении этой версии, вполне естественно приписать ее контакту со светлокожей расой в незапамятные времена» (Smith, 1910[91]).
В своей статье «Полинезийская религия» Хэнди, долго проживший на Маркизских островах, писал, что местные жители верили в двух различных богов-прародителей — Тане, который, «по их словам, был „белый“ и светловолосый и считался праотцем „белых“ чужеземцев (хао’э), в отличие от Атеа, праотца самих маркизцев, такого же смуглого и темноволосого, как и они». Хэнди указывает, что на Мангаиа рыжевато-песчаные волосы приписывали другому полинезийскому богу — Тангароа (Тана Великий), отчего на этом острове людей капитана Кука приняли за светловолосых сынов Тангароа (Handy, 1927[139]).
[19]
Лишь на таком историческом фоне можно понять, почему великие народы древней Америки и прилегающей области океана с такой готовностью покорялись европейским пришельцам, позволяя им выступать в роли суперменов и открывателей.
Настоящая глава основана на докладе, прочитанном в Барселоне в 1964 г. на XXXVI Международном конгрессе американистов и затем опубликованном в трудах конгресса.
19 ноября 1567 г. из гавани Кальяо в Перу вышла испанская экспедиция — 150 человек на двух каравеллах. Король Испании Филипп II повелел мореплавателям отыскать в Тихом океане еще не известные европейцам острова и обратить в христианскую веру их обитателей. Начальником экспедиции был назначен племянник вице-короля Альваро Менданья де Нейра; вместе с ним плыл знаменитый мореплаватель и хронист Сармьенто де Гамбоа, по инициативе которого было затеяно все дело. Проведя два года в Мексике и Гватемале, Сармьенто де Гамбоа в 1559 г. прибыл в Перу. Здесь он первые семь лет изучал аборигенную культуру и составил для Филиппа II важные записки по истории инков. Сармьенто настолько увлекся устными преданиями инков, что вице-король Перу называл его «наиболее сведущим человеком в этой области, какого я нашел в стране» (Amherst, Lord and Thomson, 1901[12]), хотя именно он буквально подвел черту под историей инков, собственноручно выследив и схватив последнего инку, Тупака Амару. И тот же Сармьенто первым доложил о повторных утверждениях инков, что далеко в Тихом океане лежат обитаемые острова. Он настолько уверовал в истинность этой информации перуанцев, что в конце концов убедил правителя снарядить экспедицию, чтобы проверить древние навигационные указания индейцев.
Известно, что обе экспедиции Менданьи прошли успешно, однако мало кто задумывался над вкладом инков в успех испанцев. Может быть, это не так уж и удивительно, ведь обнаруженные экспедицией Соломоновы острова лежали не в том районе, о котором говорили инки, и нынешние исследователи полагали, что суда древних инков вообще не годились для океанских плаваний. Тем не менее в 1722 г., через полтораста лет после попытки Сармьенто последовать навигационным указаниям инков, голландский адмирал Роггевен нечаянно наткнулся на обитаемый остров как раз там, где его надлежало искать испанцам; правда, к тому времени, когда Роггевен открыл остров Пасхи, его современники давно забыли сообщения инков, сохранившиеся для будущих поколений только в записках Сармьенто и его спутников. Открытие Роггевена и установленный в наше время факт, что бальсовые плоты с инкскими
гуарами могут ходить в любую часть Тихого океана и возвращаться обратно, дают основание вернуться к предыстории экспедиций Менданьи, вновь обратиться к исконным инкским сообщениям и выяснить, почему Сармьенто верил в перуанские рассказы о дальних плаваниях в Тихом океане.
Испанцы общались с перуанскими аборигенами уже 40 лет, когда Сармьенто убедил свое правительство в реальности утверждений инков. В эти десятилетия, предшествовавшие полному крушению местной культуры, конкистадоры единодушно поражались размаху аборигенного мореходства. Естественно, внимание всех хронистов в основном привлекали важные центры в высокогорных районах, где были сосредоточены несметные богатства правящей инкской верхушки. Но до нас дошли исторические источники, подтверждающие также данные археологии о жизни многочисленного сословия отважных рыбаков и торговцев, которые обитали в крупных поселениях вдоль открытого побережья и почти всецело зависели в своем хозяйстве от даров морского течения.
Сармьенто и его современники хорошо знали, что их соотечественники почти за год до первой высадки на перуанском побережье встречали далеко в море перуанские суда с инкскими командами. У северных берегов Эквадора с передовой каравеллы водоизмещением 40 т с десятью испанцами на борту заметили идущий встречным курсом бальсовый плот, который вез 30 т груза и около 20 перуанцев обоего пола. Испанцев поразили отменная оснастка и хлопчатобумажные паруса, подобные в действии их собственным (Sáamanos, 1526[268]). На пути к Перу каравелла Писарро обогнала еще пять торговых парусных плотов, а на подходе к Тумбесу испанцы увидели целую флотилию бальсовых плотов, направляющихся с инкским войском на остров Пуна, расположенный в 40 милях от берега.
Когда Сармьенто в 1559 г. сам попал в эти области, бальсовые плоты все еще использовали в торговле и транспорте вплоть до Центрального и Южного Перу, за три с лишним тысячи километров от всех бальсовых лесов. Жители долины Чикама ходили в расположенный в 800 км на севере Гуаякиль на бальсовых плотах с провиантом и другими грузами. На бальсовых плотах инки доставляли в разные области приморья гуано с островов Чинча, что лежат поблизости от Писко и Паракаса. Современники Сармьенто восхищались мореходным искусством аборигенов и качествами их своеобразных плотов. С большой похвалой отзывались они о стройных мачтах и реях, называли «превосходной» местную хлопчатобумажную парусину, говорили о веревках, что они «прочнее испанских» (Andagoya, 1541–1546[14]).
Вплоть до времен Сармьенто испанцы охотно использовали бальсовые плоты с инкской командой, потому что на плотах можно было пройти над отмелями и через прибой, где не было доступа европейским судам. Овьедо рассказывает, как во времена конкисты индейцы на парусных плотах перебросили через море на остров Пуна конный отряд Франсиско Писарро (Oviedo, 1535–1548[241]). Сарате записал, что до 50 солдат с тремя лошадьми грузились на один парусный бальсовый плот с особыми веслами, предоставляя управление плота индейцам, «потому что индейцы сами превосходные моряки» (Zárate, 1555[324]). Педро Писарро сообщал в 1571 г., что перуанцы столкнули его, Алонсо де Месу, капитана Сото и многих других видных конкистадоров с плотов прямо в волны сильного прибоя и они с великим трудом выбрались на берег, меж тем как искусные инкские моряки ушли в море (Pizarro, 1571[247]). Сиеса де Леон и Сарате писали, что индейцы прибрежных областей столько времени проводят в море, что сами уподобились рыбам; нередко они отделяли бревна от плотов, так что их менее привычные к морю враги проваливались в воду и тонули (Zárate, 1555; Cieza de Leon, 1553[324, 69]). Инка Гарсиласо сообщал, что этот коварный прием часто применялся в прошлом, когда жителей приморья заставляли перевозить по морю горных инков. Весело перекликаясь, они обрезали веревки и сталкивали врага в воду, «потому что жители побережья, так много упражнявшиеся на море, имеют такое же преимущество над жителями материка как на воде, так и под водой, как морские животные над сухопутными» (Инка Гарсиласо де ла Вега, 1974[1]). Приморские жители каждый день выходили в море на своих больших плотах, а подчас отправлялись в плавание на целые недели со всей семьей и скарбом. Эти люди и еще более многочисленные владельцы малых камышовых судов добывали в коварном течении в 20–50 милях от берега столько даров моря, что даже горные инки получали свежую рыбу, доставляемую им за два дня сменявшими друг друга гонцами
каски (Cobo, 1653[72]).
Инка Гарсиласо показывает, что морское рыболовство и дальние перевозки и торговля составляли неотъемлемую часть хозяйственной системы инков, когда испанцы завоевали Перу (Инка Гарсиласо де ла Вега, 1974). Об этом, хотя бы вскользь, говорят все тогдашние хронисты, хотя основное их внимание сосредоточено на богатстве и могуществе владык высокогорья. По данным Сармьенто и его испанских современников, инкские моряки на бальсовых плотах выходили в неведомые дали так же смело, как европейцы на своих судах; это объясняет, почему конкистадоры охотно верили информации инков о морских предприятиях.
Приводя ниже записанные примеры слухов, преданий и исторических сведений, которые в XVI в. были в ходу в Перу, мы видим, что они вполне могли раздразнить воображение такого моряка, как Сармьенто, и побудить его к действию. Ведущий знаток истории инков, он заинтересовался тем, что устные предания изобилуют рассказами об убывающих и прибывающих бальсовых плотах, а то и о дальних плаваниях туда и обратно, совершаемых целыми флотилиями.
Важную роль в рассказах инков о морских путешествиях играет район порта Манта на крайнем севере Инкского государства (нынешний Эквадор). Отсюда будто бы ушел в Тихий океан их главный культурный герой Кон-Тики-Виракоча, и отсюда же впоследствии выходил со своим флотом искать острова в океане Инка Тупак Юпанки (он же Тупак Инка). Тем примечательнее, что Сармьенто и его товарищи избрали не этот северный район, а стартовали в Центральном Перу, направляясь еще дальше к югу.
Тупак Инка был дедом братьев-правителей, которых застали испанцы, и Сармьенто созвал 42 виднейших инкских историка, чтобы с их слов записать наиболее точную версию о его походе. Таким образом, Сармьенто отлично знал, что Тупак Инка начал плавание на севере. О захвате Тупаком северного побережья он писал в 1572 г., что тот «воевал на суше и сражался на море на
бальсас от Тумбеса до Хуанапи, Хумао, Манты, Туруки и Кисина. Продвигаясь вперед, Инка захватил в приморье район Манты, и остров Пуна, и Тумбес, и в это время в Тумбес пришли с запада купцы на парусных
бальсас». Сармьенто приводит историю о том, как эти купцы рассказали о виденных ими обитаемых островах и как этот рассказ соблазнил горного инку попытать счастья на море. «Однако он не сразу поверил купцам-мореплавателям, ибо этим людям, великим болтунам, не следует слишком доверять».
Но когда собственный прорицатель Тупака сообщил ему дополнительные сведения, Инка решил посетить далекие острова.
«Он велел построить огромное количество
бальсас, на которых разместилось более 20 тысяч избранных людей, и капитанами он взял с собой Хуамана Ачачи, Кунти Юпанки, Кихуала Тупака (это все хананские куско), Янкана Майту, Кису Майту, Качимапака Макуса Юпанки, Льимпиту Уску Майту (это все хуринские куско), и его брат Тилька Юпанки был командиром всего флота. Апу Юпанки был назначен командовать войском, оставшимся на берегу. Тупак Юпанки плавал до тех пор, пока не открыл острова Ава-Чумби и Нина-Чумби…»
Одни информанты говорили Сармьенто, что морской поход длился девять месяцев, другие — год. Возвратившись, Тупак привез «черных людей» и иную добычу, которая хранилась в крепости Куско до прибытия испанцев. Сармьенто даже опрашивал сторожа, охранявшего эти сокровища (Sarmiento, 1572[271]).
О том, что Инка выходил в океан на севере, сообщал также патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа, прибывший в Перу за год до того, как Сармьенто отправился искать острова Инки. Бальбоа писал о Тупаке Инке, называя его королем Топой:
«…и обсудив свои планы и замыслы с офицерами, он вышел в поход с несметным войском и разместился в Манте, и в Чарапуку, и в Пикуаре, ибо не было возможности разместить и прокормить на меньшей площади такое множество людей, какое было с ним. Именно здесь король Топа Инка впервые увидел океан, после чего повелел надлежащим образом поклоняться ему, назвав его Мамакоча, что означает „мать озер“. Он приказал снарядить большое количество судов, какими пользовались местные жители, и делались такие суда из сотен бревен особенно легкого дерева, связанных вместе одно за другим, и на эти бревна настилали сотни сплетенных вместе камышовых циновок, так что получались очень надежные и удобные суда, называемые нами „бальсас“. Приготовив затем обильные запасы всего необходимого для многочисленного войска, которое должно было его сопровождать, и отобрав среди жителей приморья самых опытных кормчих, вышел он в океан с тем же мужеством и отвагой, которые всю жизнь приносили ему успех. Об этом плавании я не хочу говорить больше того, что представляется вполне достоверным, но те, кто рассказывали о подвигах сего храброго Инки, уверяют, что в этом походе он провел в море год, по словам некоторых — и больше, и что он открыл острова, получившие наименования Хагуа-Чумби и Нина-Чумби, и лежат эти острова в Южном море, от берегов которого отчалил Инка».
Бальбоа тоже сообщает, что на плотах Инки были привезены в Южную Америку «многочисленные пленники с черной кожей» (Balboa, 1576–1586[17]).
Бетансос, попавший в Перу с первыми испанцами до прибытия Сармьенто, записал гораздо более старинную легенду о выходе в океан из того же района Манты народа белых виракочей; это предание занимало воображение жителей Инкской империи куда сильнее, чем недавний поход Тупака Инки. Люди твердо верили, что легендарный культурный герой Виракоча вместе со своим доинкским народом проследовал из Тиауанако на север и через Куско достиг эквадорского побережья. Собравшись у Пуэрто-Вьехо, вблизи Манты, они отплыли в Тихий океан (Betanzos, 1551[34]). Сармьенто сопоставил эти широко распространенные инкские предания с исторически известным ему и всем конкистадорам фактом, что первых испанцев здесь приняли за вернувшихся из Тихого океана белых бородатых виракочей, — ошибка, которая, как мы видели, помогла Писарро с его отрядом захватить без боя всю обширную инкскую империю с ее мощной армией и укреплениями (Sarmiento, 1572[271]).
Вероятно, Инка Тупак не случайно избрал для старта северный порт, откуда вышел в море его легендарный предшественник: Манта лежит почти точно на экваторе, а Тупак, подобно Виракоче, поклонялся солнцу, почитая его своим предком и покровителем. К тому же Эквадор был единственным поставщиком бальсы, которая шла на строительство плотов по всему приморью инкской империи, и, чтобы добыть нужное количество бальсовых бревен и бамбука для целого флота морских плотов, Инке пришлось отправиться со своими людьми в этот лесной край. Из сообщений инкских информаторов следует, что флот затем взял курс на южную часть океана; это и побудило Сармьенто идти из Кальяо на запад-юго-запад.
В 1100 км к югу от Манты, на засушливом побережье Северного Перу, испанцы услышали не менее яркие рассказы о плаваниях представителей культуры мочика на бальсовых плотах. Патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа записал:
«Люди из Ламбайеке говорят — и все обитающие по соседству подтверждают, — что в незапамятные времена пришел с большим флотом
бальсас из Северного Перу основоположник рода, муж великой отваги и большого ума, по имени Наймлап, и привез с собой много наложниц, но главной его женой называют Сетерни. Его сопровождало много людей, которые называли его капитаном и своим предводителем» (Balboa, 1576–1586[17]).
По преданиям жителей северного приморья, прибытие этих мореплавателей привело к основанию династии и культуры чиму.
Сходные версии о становлении инкской династии рассказывались индейцами побережья Центрального Перу еще в прошлом столетии (Stevenson, 1825[294]). Предания племен, обитающих вокруг Лимы, говорят, что первые королевские Инки обманом пришли к власти, внушив горным народам, будто происходят от солнца. Раньше других это обвинение записал иезуит Анельо Олива, поселившийся в XVI в. среди равнинных племен. Ему поведали, что первые королевские Инки на самом деле были потомками моряков, приплывших из Эквадора (Oliva, 1631[236]).
Патер Иосеф д’Акоста записал, что индейцы Ики, а также лежащей в 1250 км южнее Арики рассказывали испанцам, будто в прошлом моряки выходили в южные моря и посещали какие-то острова далеко на западе (Acosta, 1590[9]). Акоста полагал, что эти доиспанские экспедиции совершались на плотах из наполненных воздухом тюленьих шкур, однако многочисленные шверты из твердой древесины и модели бревенчатых плотов, найденные при раскопках соответственно в Ике и Арике, подтверждают, что эти две области были старейшими доинкскими центрами мореплавания на бревенчатых плотах (Heyerdahl, 1952[148]).
Капитан де Кадр записал указание мудрого старого индейца Чепо (ему будто бы было 115–120 лет), что Арика и Ило, две важнейшие гавани на побережье ниже Тиауанако, считались особенно удобными исходными пунктами для плаваний к обитаемым тихоокеанским островам. По словам Чепо, индейцы обычно начинали плавание в Арике и Ило и после двухмесячного перехода на запад подходили сперва к необитаемому острову Коату с тремя высокими горами и множеством птиц. Чтобы попасть на лежащую за ним обитаемую землю, надо было продолжать путь, оставляя Коату слева. Следующий уединенный остров, называемый Кюэн, был густо населен; на нем жил вождь по имени Кюэнтике и еще два вождя — Укенике и Каманике. В десяти днях пути на запад от Кюэна находился другой, еще более крупный обитаемый остров — Акабана. Когда Чепо пригрозили смертью, если он не скажет всей правды, старик стал расписывать капитану великие богатства этих далеких островов. Под конец он по собственной воле добавил, что для плавания использовали деревянные плоты. Испанцы полагали, что Чепо подразумевает Соломоновы острова (так они называли все острова, будто бы расположенные к западу от Перу), однако Амхерст и Томсон, издавшие в 1901 г. английский перевод старой рукописи, полагали, что старик пересказал искаженную версию о действительно состоявшемся индейском плавании. В сноске они указывают, что Пасха и предшествующий ему голый островок Сала-и-Гомес удивительно подходят к описанию, полученному капитаном де Кадром (Amherst, Lord and Thomson, 1901[12]).
На самом деле задолго до случайного открытия Пасхи Роггевеном старик Чепо сообщил испанцам точное навигационное описание пути до этого острова от самых удобных гаваней на побережье Южного Перу. Теперь нам досконально известно: чтобы достичь на плоту ближайшего обитаемого острова, надо из Ило или Арики идти сперва на скалистый птичий базар Сала-и-Гомес, лежащий прямо на пути к Пасхе. Плавание с попутным пассатом вдоль южного изгиба Перуанского течения и впрямь, как утверждал старик индеец, займет около двух месяцев. Его описание Сала-и-Гомеса также отвечает истине. Голый остров кишит птицами, которых видно издали. И при подходе с востока в самом деле кажется, что из воды торчат три горы.
Если из Ило или Арики идти строго на первый обитаемый остров — Пасху, Сала-и-Гомес действительно надлежит оставить слева; следующий обитаемый остров — Мангарева.
Не менее интересно имя Кюэнтике, которым Чепо называл верховного вождя острова Кюэн: первые испанцы, посетившие Пасху в 1770 г., записали, что вождь у пасхальцев называется
текетеке (возможный вариант —
тики-тики) (Agüera, 1770[10]). Так что Кюэнтике вполне можно перевести как «вождь» острова Кюэн.
Итак, аборигены Южного Перу точно знали направление и расстояние до острова Пасхи, указали даже характерные приметы единственного ориентира на этом пути. Такие же сведения получил в 1600 км к северу, в Кальяо, Сармьенто; стало быть, древние перуанцы были в состоянии определить позицию острова Пасхи с помощью крюйс-пеленгов. Как известно, внутренние разногласия привели к тому, что экспедиция Менданьи изменила первоначальный курс, намеченный Сармьенто по указаниям индейцев; разберемся вкратце, что же произошло.
В своем превосходном труде об этой экспедиции Амхерст и Томсон показывают, что с утверждением организованного управления в Перу испанские авантюристы стали жадно прислушиваться к ходившим среди индейцев и моряков Кальяо рассказам о неведомых островах и даже целом континенте на западе. Кабацкие сплетни превратились в тему дворцовых бесед, и Педро Сармьенто де Гамбоа «объявил во всеуслышание, что может определить местоположение островов, о которых местные ученые согласно говорили, что они суть аванпосты южного материка, простирающегося от Огненной Земли на север до широты 15°, примерно в 600 лигах от Перу».
Действительно, все считали, что следует идти примерно 600 лиг от Перу. Недаром, как пишут те же авторы, провиант экспедиции Менданьи был взят с учетом того, что земля лежит в 600 лигах от гавани Кальяо (Amherst and Thomson, 1901[12]). Примечательно, что испанцы, которые 200 лет спустя дошли до острова Пасхи из Перу, так определили его положение: «около 600 лиг от Кальяо и примерно столько же от чилийского побережья» (Gonzalez, 1770–1771[124]). Шестьсот лиг — это немногим больше 2 тысяч морских миль, что как раз соответствует расстоянию до Пасхи. Члены экспедиции Менданьи не сомневались также и в том, что ближайший остров должен лежать точно на запад-юго-запад от гавани Кальяо. Достаточно сопоставить отчет Сармьенто с дневниками его противников — официального летописца экспедиции Катойры, руководителя экспедиции Менданьи и первого штурмана Гальего, а также с анонимной рукописью еще одного члена команды, чтобы убедиться: все явно считали, что искома земля находится на запад-юго-запад от Кальяо, ибо из дневников видно, что 10 дней (у Гальего — 12) корабли неуклонно следовали этим курсом, который должен был привести их к острову Пасхи. Однако в конце ноября, когда корабли достигли 15°45′ ю. ш., начались распри. Сармьенто, хотя и слыл человеком вздорным, по праву считал себя компетентным в вопросе о местоположении островов. Говоря о себе в третьем лице, он пишет, что это он, Педро Сармьенто де Гамбоа, представил правителю Перу «сведения о многочисленных островах и о континентах, находящихся в Южном океане, и лично вызвался открыть их именем Его Величества, с каковой целью он собрал свидетельства и изготовил карты… Предполагалось, что они будут следовать курсом запад-юго-запад до 23°, то есть до широты, определенной Педро Сармьенто…».
Если бы намерение Сармьенто искать в океане землю в 600 лигах, то есть примерно в 2 тысячах морских миль к западу-юго-западу от Кальяо, осуществилось, корабли пришли бы почти к самому острову Пасхи. Правда, рассчитывая широту острова, он промахнулся на четыре градуса — простительная ошибка, если вспомнить, что первый штурман определил координаты хорошо известной им гавани Кальяо в 12°30′ ю. ш., тогда как на самом деле они равны 11°56′. Так или иначе, этот самый главный штурман, дойдя до 15°45′ ю. ш., внезапно свернул с прямого курса на остров Пасхи и повел корабли на запад. Сармьенто был в ярости и пишет в своем отчете: «Педро Сармьенто со всей решительностью обратился к генералу [Менданье] по поводу этой перемены курса и заявил ему во всеуслышание, что с этим нельзя соглашаться, это нужно отменить, иначе он не совершит открытия и собьется с пути…»
Но молодой Менданья поддержал штурмана, и экспедиция 20 дней шла примерно вдоль пятнадцатого градуса на запад. Всем было ясно, что главный штурман свернул с намеченного курса задолго до установленной Сармьенто отметки в 600 лиг, однако никто не возражал. Причина заключалась в том, что Гальего, долго ходивший штурманом у берегов Перу и Чили, получил другую информацию в Кансильерии в Лиме. Вот как Гальего обосновывал потом свои действия: «Я следовал вдоль этой широты, так как сеньор президент сказал, что на пятнадцатом градусе широты в 600 лигах от Перу находится множество богатых островов». И в самом деле, главный штурман теперь взял курс на самое сердце Полинезии, ведь большая часть архипелага Туамоту, острова Общества, Самоа, Фиджи и множество других обитаемых островов группируются в полосе между 10° и 20° ю. ш.
Вместо того чтобы плыть на уединенный остров Пасхи, корабли теперь шли в гущу островов Туамоту. Однако буквально на пороге архипелага, когда оставалось совсем немного до островов Пукапука и Рароиа (к которому пристал плот «Кон-Тики»), своенравный штурман опять внезапно повернул и лег на северо-западный курс. В итоге оба корабля прошли в конце декабря через просвет между Маркизами и Туамоту. Спустя три недели был замечен остров Нукуфетау в архипелаге Эллис, а на 80-й день с начала плавания экспедиция причалила к одному из Соломоновых островов в Меланезии. После этого испанцам понадобилось почти 400 дней на то, чтобы пробиться обратно в Перу. Характерные для Полинезии западные ветры и течения вынудили их плыть в высоких широтах севернее Гавайских островов (Amherst and Thomson, 1901[12]). Двадцать шесть лет спустя вторая экспедиция Менданьи снова вышла из Кальяо и достигла Маркизских островов; как уже упоминалось, это было первое европейское открытие Полинезии.
Если бы штурман следовал инструкциям Сармьенто, у первой экспедиции Менданьи были все шансы открыть остров Пасхи; будь он чуть более последователен в своих собственных решениях, они попали бы на Туамоту. А так из-за его колебаний суда экспедиции миновали ближайшие острова и очутились в далекой Меланезии.
Тупак Инка в своем доевропейском плавании тоже вполне мог дойти до Меланезии; это объяснило бы, откуда взялись доставленные им обратно в Перу чернокожие пленники. Но скорее можно полагать, что он в отличие от маленького отряда Сармьенто шел на многочисленных плотах веерным строем и обнаружил ближайшие острова. Мы уже видели, что последующие обитатели империи Тупака знали направление и расстояние до Пасхи от Ило и Арики, а также от Кальяо, и надо думать, кормчие самого Тупака за два-три поколения до прихода испанцев были осведомлены не хуже. Следующий за Пасхой обитаемый остров — Мангарева в юго-восточной оконечности архипелага Туамоту. Его жители подтверждают, что Тупак со своим флотом доходил сюда: главные их предания рассказывают о визите чужеземного короля Тупы. Первым эти рассказы опубликовал в 1924 г. Крисчен, который не знал истории инков: «Есть у мангаревцев предание о рыжеволосом вожде по имени Тупа, который пришел с востока на судах неполинезийского типа, скорее напоминающих плот, — несомненно, тут отразилось воспоминание о каких-то перуанских
бальсас» (Christian, 1924[66]). В 1928 г. Риве, ссылаясь на Крисчена, первым предположил, что мангаревцы сохранили память о визите Тупака Инки (Rivet, 1928[260]). Далее, Бак опубликовал дополнительные подробности из старинной, так называемой Тирипонской рукописи, составленной через несколько десятилетий после прихода европейцев сыном мангаревского вождя: «Одним из видных посетителей Мангаревы был Тупа. Согласно местному преданию, он прибыл, когда правили короли-братья Тавере и Тарои… Тупа подошел к Мангареве через юго-восточный пролив, названный потом Те-Ава-нуи-о-Тупа (большой пролив Тупы)». И дальше: «…мореплаватель Тупа… подошел к самой Мангареве и остановился в большом проливе Тупы. Он ступил на берег островка Те-Кава». В той же полинезийской рукописи говорится, что Тупа, прежде чем возвращаться на родину, «поведал мангаревцам про обширную страну… где живет большой народ, управляемый могущественными королями» (Buck, 1938[53]).
Кава, островок в восточной части барьерного рифа, где, по преданию, сошел на берег Тупа, и большой пролив Тупы, где была стоянка его плотов, заставляют вспомнить слова инков про остров Ава, или Ава-Чумби, — один из островов, на которых побывал флот Тупака. Второй назывался Нина-Чумби, то есть Огненный остров, — меткое наименование для острова Пасхи, каким он представлялся мореплавателям. Все первые европейские путешественники, от Роггевена и Гонсалеса до Бичи, пишут, что пасхальцы разжигали по всему побережью множество костров, посылая к небу столбы дыма, очевидно сигнализируя приближающимся судам. Некоторые исследователи полагали, что название «Огненный остров» подразумевает Галапагосы с их дремлющими вулканами, однако, как будет показано в главе 10, инки хорошо знали острова Галапагос, к тому же на них не было постоянного населения (Heyerdahl and Skjölsvold, 1956; Heyerdahl, 1961[157, 151]). «Чернокожих» вполне можно было найти среди мангаревцев, ведь первый европейский посетитель острова, Бичи, обнаружил среди чрезвычайно пестрого по составу населения людей с такой же темной кожей, как у меланезийцев (Beechey, 1831[25]). Темнокожие пленники — единственная примечательная добыча, которую могущественный Инка мог привезти с тихоокеанских островов, населенных бедными представителями каменного века. Наверно, он вернулся в Перу не менее разочарованный, чем жадная до золота экспедиция Менданьи, и, возможно, он возвращался тем же северным путем, с заходом в Мексику или Центральную Америку, где к темнокожим пленникам можно было добавить металлический трон и другие диковины, виденные испанцами во времена внуков Тупака.
Отсутствие золота и других сокровищ на открытых островах и чрезвычайно трудный обратный путь в Перу — достаточно ясные причины, из-за которых открытия Менданьи почти два столетия пребывали в забвении, пока во второй половине XVIII в. их не повторили другие европейцы. Бедные острова не соблазнили инков, не привлекли они и следовавших по их стопам испанских правителей Перу.
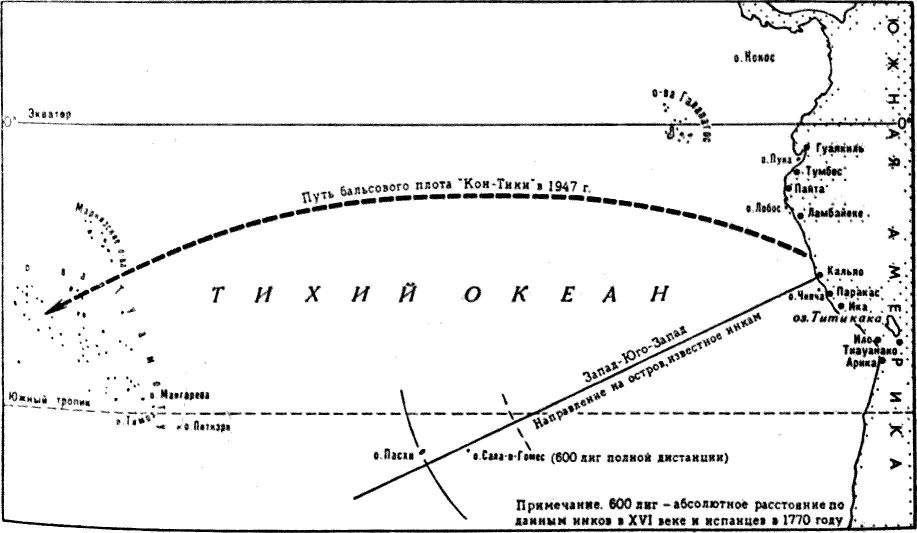
Указанный инками маршрут к ближайшему обитаемому острову в Тихом океане.
Глава 8
Плавание на бальсовых плотах
Посетителям современной Полинезии обычно представляется, что долбленка с одинарным аутриггером — единственный известный аборигенам этих островов вид судна. Мы видели, однако, в главе 6, что полинезийцы пришли на восток Тихоокеанской области вообще не зная аутриггера. Типичный для Малайского архипелага двойной аутриггер так и не дошел до полинезийских племен, но если новозеландские маори вовсе не оснащали аутриггером свои лодки, то племена тропических островов со временем восприняли меланезийский одинарный аутриггер через соседей на Фиджи.
А как насчет плотов? Вот уж, наверно, неподходящая конструкция для таких мореходов, как полинезийцы? Перед нами еще одно ошибочное мнение, распространенное среди тех, кто подходит к проблеме поверхностно. Когда «Кон-Тики» пристал к острову Рароиа в архипелаге Туамоту, обнаружившие нас островитяне сразу воскликнули: «Паэпаэ!» (так в Полинезии называют плоты). Кстати, тот, кто считает, что плот чужероден для Полинезии, с таким же успехом мог спросить, когда много лет спустя по моей просьбе на острове Пасхи поднимали упавшую статую: «К чему заниматься каменными исполинами в Полинезии, если всем известно, что полинезийские племена занимались только плотницким делом и резьбой по дереву и никогда не работали с камнем?» И ведь это утверждение верно. Тем не менее, если нынешние полинезийцы обрабатывают только дерево и ловят рыбу с лодок, оснащенных одинарным аутриггером, это вовсе не исключает возможности древнего субстрата ваятелей и плотоводителей в той же области. Не будем забывать о смешанном характере полинезийской культуры; в островной регион на востоке Тихого океана проник не один народ.
В обширном трехтомном труде «Каноэ Океании» Хэддон и Хорнелл ссылаются на сообщения о бытовавших в прошлом на островах Общества плотах, похожих на бальсовые, и добавляют:
«Эти сведения ставят острова Общества в ряд с Маркизскими островами, а также с Мангаревой, Самоа, Тонга, Фиджи и Новой Зеландией, обитатели которых хорошо знакомы с плаванием на плотах. Они подтверждают мнение, что плоты широко применялись, во всяком случае при некоторых передвижениях от острова к острову первых поселенцев в Океании».
Продолжая затем говорить о пропускающих воду плотах, которые были единственными судами на островах Сан-Кристобаль (Чатем), авторы отмечают, что это «подкрепляет гипотезу, по которой многие древнейшие передвижения в Тихом океане совершались людьми, применявшими какого-то вида парусный плот в своих плаваниях от острова к острову» (Haddon and Hornell, 1936[135]).
В специальной работе о южноамериканских бальсовых плотах Хорнелл затрагивает и прилегающую островную область:
«Повсеместно в Океании мы находим свидетельства пользования плотами в настоящем или в прошлом. На Мангареве… по существу самом восточном из сколько-нибудь значительных островов Полинезии, если не считать Пасху, употребляются или употреблялись до недавнего времени плоты, довольно похожие на парусные бальсовые конструкции Эквадора» (Hornell, 1931[165]).
В самом деле, на Мангареве — том самом острове, где сохранилась память о визите чужеземного короля Тупы, — только плотами и пользовались, когда капитан Бичи в 1825 г. наткнулся на этот остров, идя со стороны Южной Америки. Он не увидел лодок ни на одном из островов Гамбье, зато опубликовал рисунок бревенчатого плота с 13 мангаревцами на борту и сообщил, что такие плоты достигают в длину от 12 до 15 м и могут перевозить до 20 человек (Beechey, 1831[25]).
Наряду с бревенчатым плотом в прошлом в Полинезии тут и там, во всех углах треугольника, была в ходу камышовая лодка. Кнудсен в своей статье «Следы камышовых лодок в Тихом океане» показывает, что в гавайском фольклоре не раз упоминаются лодки из камыша. Важные легендарные предки вроде Каны и светловолосого бога Лоно, за которого приняли Кука, тоже упоминаются в связи с лодками из камыша и плетенок (Knudsen, 1963[189]).
На Пасхе камышовые лодки наподобие перуанских по-прежнему употреблялись для ритуальных состязаний, когда на остров впервые пришли европейцы, причем, как будет показано в следующей главе, камыш был тот же самый, из какого вязали лодки в Перу, а именно
тотора. В 1956 г. Кастро привез с озера Титикака в тихоокеанское приморье для испытания лодку из
тоторы; пролежав в соленой воде 14 месяцев, она совсем не намокла, не было также следов гниения или обрастания морской фауной. Этот обладающий высокой плавучестью камыш похож на папирус, однако речь идет о сугубо американском пресноводном растении, произрастающем за пределами материка только в кратерных озерах Пасхи. И хотя на Новой Зеландии с камышом плохо, даже здесь, далеко на западе, сохранялась традиция вязки камышовых лодок, когда сюда прибыли европейцы. Торговец Полак, живший среди маори с 1831 по 1837 г., писал:
«В старину обитатели Новой Зеландии делали лодки только из камыша. Между Каипарой и Хокиангой мы видели одну из этих старинных лодок длиной
около 20 м, способную поднять столько же людей, но они совсем вышли из употребления. Они были очень толстые, всецело, кроме банок, сделаны из камыша и во всем напоминали линии каноэ. Их отличала поразительная легкость… хотя на конструкцию уходило немало бунтов, и они шли, подгоняемые веслами, с большой скоростью, пока не намокали и не погружались глубоко в воду. Таких судов больше не делают, и сохранилось чрезвычайно мало образцов» (Polack, 1838[250]).
В статье «Каноэ маори» Бест воспроизводит старый рисунок маорийской камышовой лодки, называемой
мокихи, вместе с рисунком южноамериканской камышовой лодки с озера Титикака, чтобы показать их поразительное сходство (Best, 1925[33]). Хорнелл тоже обратил внимание на сходство с перуанскими лодками и добавляет по поводу второго типа маорийского камышового судна: «Еще более примитивная форма
мокихи, как называли эти плоты, аналогична перуанской
кобальито, на которую рыбак садится верхом и гребет веслами». Он продолжает:
«Одна деталь, которая может существенно помочь в объяснении рассматриваемой проблемы, заключается в том, что для связывания камышовых бунтов титикакских
бальсас используют не веревки, а плетеные камышовые жгуты. Точно так же полинезийцы использовали для всякой вязки плетеные жгуты, но из кокосового волокна — наиболее подходящего из доступных им материалов. „Сеннит“, как называют эти жгуты, изготовляются точно тем же способом, что и камышовые жгуты в Перу» (Hornell, 1931[165]).
Поскольку каноэ, таким образом, отнюдь не были единственным известным в Полинезии судном и поскольку Полинезия, несомненно, лежит в пределах досягаемости для южноамериканских судов, как это доказано плаваниями 13 плотов за последние десятилетия, вполне уместно, исследуя происхождение полинезийцев, рассмотреть мореходную активность перуанских аборигенов.
Данная глава основана на моей статье «Бальсовый плот в аборигенном мореплавании у берегов Перу и Эквадора», напечатанной в 1955 г. в «Southwestern Journal of Anthropology» (т. II, № 3) университета Нью-Мексико, и на докладе «Маневрирование гуарами, свойственное Южной Америке», который был прочитан на XXXIII Международном конгрессе американистов в Коста-Рике в 1958 г. и затем опубликован в трудах конгресса.
Мореходные качества бальсовых парусных плотов в древней Южной Америке
Современные судостроители и этнологи мало знают и неверно судят о мореплавании аборигенов Перу и прилегающих областей на северо-западе Южной Америки. Причина ясна: местное судостроение основывалось на совсем иных принципах, чем те, которыми руководствовались наши собственные предки. Как уже говорилось выше, в представлении европейца, единственный тип мореходного судна — наполненный воздухом водонепроницаемый корпус, достаточно высокий и большой, чтобы его не могли захлестнуть волны. Для древних перуанцев размеры не играли такой роли; с их точки зрения, мореходным было судно, которое вообще не могло быть затоплено волнами, ибо открытая конструкция не создавала вместилища, способного удержать воду. И они достигали своей цели, строя обладающие превосходной плавучестью суда типа плотов из бревен бальсы или другой легкой древесины, либо из связанных в виде лодки бунтов камыша или тростника, либо из образующих подобие понтона, наполненных воздухом тюленьих кож, на которые настилали своего рода палубу.
Человеку, не знакомому с мореходными качествами такого судна, оно может показаться примитивным, громоздким и ненадежным; только этим можно объяснить широко распространенное ошибочное мнение, будто у народов древнего Перу, страны с морским побережьем протяженностью 3200 км и с выдающейся почти во всех отношениях культурой, не было мореходных судов и умелых моряков.
Когда я в 1941 г. (Heyerdahl, 1941[147]) впервые попытался привлечь внимание к возможностям древнеперуанского мореплавания, те немногие этнологи, которые знали, что бальсовый плот составлял один из элементов доевропейской культуры, не придавали ему особого значения; многие даже упускали из виду, что эти плоты ходили под парусами. В других частях древней Америки употребление парусов не отмечено. Преобладающее мнение явно совпадало с приговором Хатчинсона в его труде «Антропология доисторического Перу», где бальсовый плот назван «плавучей связкой пробкового дерева» (Hutchinson, 1875[171]). Три современных автора — Лотроп (Lothrop, 1932[206]), Минз (Means, 1942[213]) и Хорнелл (Hornell, 1945[166]) — опубликовали интересные статьи о древнеперуанских судах и мореходстве, в которых превосходно описали конструкцию бальсового плота, но, как мы увидим дальше, чисто умозрительно заключили, что бальса впитывает воду и не годится для плаваний в открытом море.
Все эти скороспелые суждения побудили меня получше изучить и реабилитировать перуанское мореходство, потому что на основе других данных я полагал, что перуанские бальсовые плоты ходили за 4 тысячи миль на острова Полинезии.
Первые записи о перуанском бальсовом плоте сделаны еще до открытия Инкской империи. Когда Франсиско Писарро в 1526 г. вышел с Панамского перешейка во второе, более успешное плавание на юг вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, его экспедиция встретила в море перуанских купцов далеко от их родины. Штурман Писарро, Бартоломео Руис, шел первым, исследуя берега у экватора, и, когда его корабль поравнялся с северным побережьем Эквадора, испанцы неожиданно увидели плывущее навстречу им парусное судно, мало уступавшее по размерам их собственному. Это был большой плот, и команду составляли перуанцы — первые перуанцы, увиденные европейцами. Хуан де Сааманос тогда же отправил донесение Карлу V, так что случай этот был описан еще до того, как испанцы достигли Перу (Sáamanos, 1526[268]). В 1534 г. об этом же писал личный секретарь Писарро — Франсиско де Херес (Xeres, 1534[321]). Оба источника сообщают, что бальсовый плот с командой из 20 индейцев был захвачен испанцами. Одиннадцать человек бросили за борт, четверых оставили на плоту, а двух мужчин и трех женщин взяли на каравеллу, чтобы сделать из них переводчиков, имея в виду дальнейшие плавания.
Бальсовый плот оказался торговым, на нем был большой груз. Испанцы определили его грузоподъемность примерно в 36 т; водоизмещение их собственного судна равнялось 40 т, и команда каравеллы составляла лишь половину команды плота. Испанцы сделали подробную опись груза и обнаружили такие товары, которые могли быть только из Перу (Murphy, 1941[233]).
По словам Сааманоса судно представляло собой плоский плот, бревенчатая палуба покрыта тростниковым настилом, поднятым настолько, что груз и команда не смачивались водой. Бревна и тростник были крепко связаны веревкой из генекенового волокна. О парусе и такелаже Сааманос писал: «Он был оснащен мачтами и реями из очень хорошего дерева и нес хлопчатобумажные паруса такого же рода, как наш корабль. Отличные снасти сделаны из упомянутого генекена, который напоминает пеньку; якорями служили камни, подобные мельничным жерновам» (Sáamanos, 1526[268]).
Руис вернулся с пленниками и добычей к Писарро, и через несколько месяцев новая экспедиция во главе с Писарро вышла на юг, к северным берегам Инкской империи. По пути к острову Санта-Клара в открытом Гуаякильском заливе Писарро за два дня нагнал пять бальсовых плотов и провел успешные переговоры с их командами. Пересекая залив, он взял курс на перуанский порт Тумбес, откуда были родом некоторые из пленников. Недалеко от берега испанцы увидели идущую им навстречу целую флотилию бальсовых плотов с вооруженными инками на борту. Поравнявшись с плотами, Писарро пригласил к себе на каравеллу нескольких инкских капитанов, установил с ними дружеские отношения с помощью переводчиков (тех самых пленников, что были захвачены ранее) и выяснил, что флотилия направляется к подвластному перуанским правителям острову Пуна.
Из бухты вышли другие бальсовые плоты с дружественными дарами и провиантом для испанцев, и двоюродный брат Франсиско Писарро, Педро, сообщает, что, продолжая следовать на юг вдоль перуанского побережья, экспедиция вскоре настигла плоты, на которых были драгоценные металлы и одежда местного производства, и все это испанцы забрали, чтобы доставить в Испанию и показать королю (Pizarro, 1571[246]).
Но еще до того, как Руис у берегов Эквадора захватил первый торговый плот, испанцы слышали от аборигенов Панамы рассказы о перуанском мореходстве. Хронист Лас Касас, сын историка, сопровождавшего Колумба, записал, что у аборигенов Перу есть бальсовые плоты, которыми управляют с помощью парусов и весел, и что об этом еще до конкисты знал старший сын Комогре, видного панамского вождя, поведавший патеру Кабельо де Бальбоа о могущественном приморском государстве на юге, чьи жители выходили в Тихий океан под парусом и с веслами на судах, немногим уступавших по величине испанским (Las Casas, 1559[195]).
Подробные описания плотов, принадлежавших жителям приморья Эквадора и Северного Перу, оставили современники Писарро — Овьедо, Андагойя и Сарате (Oviedo, 1535–1548; Andagoya, 1541–1546; Zárate, 1555[241, 14, 324]). Все они сообщают, что для плотов брали нечетное число — пять, семь, девять или одиннадцать — «длинных легких бревен» и связывали их вместе поперечинами, на которые настилали палубу, что для передвижения служили паруса и весла, что самые большие плоты могли перевезти до 50 человек и трех лошадей и что на палубе было особое место для приготовления пищи.
Итальянский путешественник Джироламо Бенцони, прибывший в Перу около 1540 г., опубликовал очень примитивную зарисовку небольшого перуанского плота из семи бальсовых бревен, с маленьким парусом на двуногой мачте и с индейской командой из восьми человек. В тексте сообщается, что мореходные плоты делали и гораздо больших размеров — из девяти или одиннадцати бревен, с парусами, соответствующими размерам судна (Benzoni, 1565[30]).
Инка Гарсиласо де ла Вега, сам из инкского рода, выехавший из Перу в Испанию в 1560 г., останавливается в своих записках на пропускающих воду рыбачьих лодках из камыша или тростника, которые явно преобладали в перуанском приморье; он сообщает, что они выходили в море на четыре — шесть лиг (15–24 английских мили), а то и больше, если необходимо. Гарсиласо добавляет, что для перевозки тяжелых грузов в открытом море применяли деревянные плоты с парусами (Инка Гарсиласо де ла Вега, 1974).
Патер Реджинальдо де Лисаррага, прибывший в Перу в тот год, когда оттуда уехал Инка Гарсиласо, сообщает о жителях долины Чикама: «Эти индейцы — замечательные мореплаватели; у них есть большие плоты из легких бревен, на которых они выходят в океан, и во время рыбной ловли они удаляются от берега на много лиг». Он пишет также, что купцы из долины Чикама поддерживали сношения с расположенным в 800 км к северу Гуаякилем, перевозя на бальсовых плотах продукты моря и другой груз (Lizarraga, 1560–1602[205]).
Мы уже видели, что патер Кабельо де Бальбоа, прибывший в Перу в 1566 г., услышал от инкских историков, что за два-три поколения до появления в этой стране Писарро в приморье спустился Инка Тупак Юпанки, отобрал самых лучших местных кормчих и вышел с большой армией в море на многочисленных плотах. Прошел почти год, прежде чем он вернулся в свою империю (Balboa, 1586[18]). Хронист Сармьенто де Гамбоа в 1572 г. также записал рассказы инков о походах бальсовых плотов к далеким тихоокеанским островам; мы видели, как этот знаменитый мореплаватель признавал, что, убеждая вице-короля Перу снарядить экспедицию Менданьи, он опирался на сообщения о плаваниях перуанских купцов и об экспедиции Инки Тупака Юпанки (Sarmiento, 1572[271]).
Один из первых историков, писавших о Перу, Бернабе Кобо, очень подробно описывает достоинства бальсовых бревен, применяемых для мореходных плотов, и называет аборигенов искусными навигаторами и пловцами. Он добавляет:
«Самые большие плоты перуанских индейцев, живущих вблизи лесов, скажем в портах Паита, Манта и Гуаякиль, состоят из семи, девяти и даже большего числа бревен. Вот как их делают: лежащие рядом бревна связывают друг с другом лианами или веревками, которые захватывают также другие бревна, положенные поперек. Среднее бревно в носовой части длиннее остальных, по обе стороны от него укладывают все более короткие бревна, так что видом и соотношением они придают носу плота сходство с пальцами вытянутой руки, а корма ровная. Поверх бревен кладут настил, чтобы вода, проникающая снизу в щели между большими бревнами, не намочила людей и одежды. Этими плотами индейцы управляют в море с помощью парусов и весел, и есть такие большие плоты, что без труда перевозят 50 человек» (Cobo, 56[72]).
Грубая зарисовка бальсового плота под парусами была затем сделана художником голландского адмирала Йориса ван Шпильбергена, совершившего кругосветное плавание в 1614–1617 гг. Шпильберген сообщает, что на этом плоту команда из пяти аборигенов выходила на два месяца ловить рыбу, и улова, доставленного в Паиту, что лежит примерно в 200 км южнее перуанского порта Тумбес, хватило, чтобы снабдить все голландские корабли, стоявшие в бухте (Spilbergen, 1619[292]). Рисунок Шпильбергена интересен тем, что команда показана в работе: два индейца заняты парусами, остальные трое рулят, поднимая и опуская шверты, просунутые в щели между бревнами. Применение таких швертов было освоено европейскими судостроителями лишь через 250 лет, в 1870 г.
Первая, неудачная попытка ввести употребление швертов в Европе была предпринята в 1748 г. испанскими военными моряками Хуаном и Ульоа. Двенадцатью годами раньше они провели в Гуаякильском заливе интересное исследование остроумных приемов управления аборигенным бальсовым плотом. Хуан и Ульоа опубликовали превосходный рисунок бальсового плота в море, передав такие детали, как устройство двуногой мачты с парусом и такелажем, крытую камышом рубку в средней части судна, «камбуз» с открытым очагом и запасом воды в кувшинах на корме, выдвижные шверты на носу и на корме. Они решительно утверждали, что индейская команда, владеющая искусством маневрирования швертами, при любом ветре могла заставить бальсовый плот идти не хуже настоящего корабля (Juan and Ulloa, 1748[182]).
Далее Лекалье опубликовал рисунок большого плота из девяти бальсовых бревен с просторной рубкой посредине; команда управляла в море плотом при помощи швертов и большого квадратного паруса на двуногой мачте. Труд Лекалье, напечатанный в 1791 г. по велению французского короля как наставление для кадетов, включал основательное описание аборигенного бальсового плота и своеобразных способов управления, применявшихся только индейцами северо-западного побережья Южной Америки. Ссылаясь на Хуана и Ульоа, Лекалье подчеркивал: будь принципы такого управления швертами известны в Европе, многие жертвы кораблекрушений могли бы спастись, дойдя на плотах до ближайшего порта (Lescallier, 1791[201]).
В 1801 г. Чарнок в своем большом труде о судостроении также предпринял бесплодную попытку заинтересовать остальной мир остроумными принципами управления выдвижными швертами; он тоже писал, что этот способ применяется индейцами перуанского и эквадорского приморья, а в Европе еще неизвестен (Charnock, 1801[63]).
Александр Гумбольдт опубликовал в 1810 г. великолепную акварельную иллюстрацию большого парусного бальсового плота со швертами и с очагом на корме (Humboldt, 1810[169]), а в 1825 г. Стивенсон напечатал превосходное описание крупных бальсовых плотов, все еще ходивших вдоль побережья в области древней культуры чиму вплоть до Хуанчако, южнее Чикамы. На самых больших плотах стояли крытые соломой бамбуковые хижины с четырьмя-пятью помещениями; такие плоты «ходили против ветра и течения на расстояния, равные четырем градусам широты, с грузом пять-шесть кинталей (25–30 т), не считая индейской команды и ее провианта». Стивенсон тоже описывает шверты и сообщает: «Поднимая или опуская эти доски в разных частях плота, аборигены могут выполнять все маневры, которые выполняются на настоящем корабле с совершенным такелажем…» (Stevenson, 1825[294]).
В неизданной рукописи 1840 г. Джорджа Блэксленда, хранящейся в библиотеке Митчелла в Сиднее, воспроизведена зарисовка бальсового плота из девяти бревен, который управляется парусом и выдвижными швертами. Рукопись содержит также рапорт офицера одного из кораблей британского флота, встретившего целое перуанское семейство на бальсовом плоту около острова Лобос-де-Афуэра, примерно в 60 милях от побережья Перу. Индейцы как раз готовились идти против ветра к скрытому за горизонтом материку.
«…Они вышли из родной деревни три недели назад и теперь возвращались с грузом вяленой рыбы; семья состояла из девяти человек, с ними были еще собаки и весь скарб… Судно, на борту которого я находился, — шхуна водоизмещением 40 т, — направлялось в тот же пункт, и нас поразило, как круто шел плот против ветра, развивая скорость до четырех-пяти узлов. Некоторое время мы шли рядом и прибыли на следующий день с разрывом в несколько часов… На отдельных участках побережья все морские перевозки осуществляются такими плотами, а в Ламбайеке из-за сильного прибоя только на них можно подойти к берегу. Они перевозят также соль из порта в порт на расстояние 200–300 миль, что еще раз доказывает их надежность» (Blaxland, 1840[40]).
В 1841 г. подробный технический чертеж привел Пари в своем труде о судостроении неевропейских народов. Он еще застал в Южной Америке перуанские бальсовые плоты до того, как на стыке столетий их сменили европейские суда, однако изучал их только на якорной стоянке в заливе. Хотя Пари тщательно зарисовал и описал шверты, или
гуары, как их называли местные жители, он не совсем разобрался в их действии, ограничившись указанием: «Их выдвигают больше или меньше на носу или на корме, чтобы приводиться к ветру или разворачиваться. Других способов управления плотами в океане нет…» (Paris, 1841[244]).
Совершенно очевидно, что
гуара, или шверт, в отличие от гребного или рулевого весла могла действовать только в союзе с парусом. Без паруса в шверте нет смысла. Об этом уже говорили Лотроп и другие, и факт этот очень важен, если учесть, как много швертов найдено при раскопках погребений в пустынях северного и южного приморья Перу. Изумительно орнаментированные шверты из твердой древесины, обнаруженные в многочисленных погребениях Паракаса и Ики на юге Перу, показывают, что парусные плоты были существенным культурным элементом и в этих южных широтах, притом задолго до появления письменных источников, даже до инков. Так, Беннет приводит иллюстрацию, на которой изображен украшенный замечательной резьбой и росписью шверт из доинкского погребения в южном приморье Перу (Bennett, 1954[28]). Археология позволила нам также узнать мелкие, но достаточно существенные детали, не отмеченные ранними хронистами и исследователями, а именно как крепились найтовы к скользким стволам и какую форму придавали бревнам на носу и на корме, чтобы уменьшить сопротивление воде. Эту информацию дают крохотные модели плотов, так сказать «духи плотов», найденные в больших количествах в погребениях Арики на засушливом тихоокеанском берегу ниже озера Титикака. Речь идет о доисторических изделиях, захороненных за тысячу с лишним лет до прибытия Писарро и первых европейцев; на них видно, что найтовы из пенькового каната или из кожаных ремней (применялись кожи тюленей) входили в опоясывающие бревна желобки. Видно также, что на носу и на корме для меньшего сопротивления воде плот заострялся наподобие лодки (Bird, 1943; Heyerdahl, 1952[37, 148]). Маленький плот, найденный при раскопках Уле, и опубликованный в 1922 г., был оснащен прямоугольным парусом из камыша вроде тех, какими поныне пользуются по соседству горные индейцы на озере Титикака (Uhle, 1922[310]). Эта находка из могилы на месте примитивного рыбачьего селения была датирована первыми веками нашей эры, что побудило Норденшельда заключить: «На побережье Перу парус, вероятно, был известен раньше гончарного ремесла и ткачества…» (Nordenskiöld, 1931[235]).
Как мы уже видели у Инки Гарсиласо, в засушливом приморье древнего Перу самым распространенным судном был камышовый плот рыбака; парусные деревянные плоты использовались только для перевозки тяжелых грузов и для плаваний в океане. В инкские времена главными перуанскими гаванями были Паита, Тумбес и другие селения на северном побережье, поблизости от обширных бальсовых лесов Эквадора, однако вплоть до 1900 г. важные порты находились также в Секуре, Ламбайеке, Пакасмайо и Хуанчако, в 800 км к югу от Гуаякиля. Во времена инков бальсовыми плотами пользовались в 800 км южнее; на них в разные области Перу перевозили гуано для удобрения с островов Чинча в районе Писко. Инки транспортировали по суше в дальние концы своей империи бальсовые бревна для плотов. Когда первый испанский отряд под предводительством Эрнандо Писарро, выйдя из Куско, продолжал движение через Анды, он нашел в нынешней Боливии множество длинных бревен, доставленных местными носильщиками и предназначенных для строительства бальсовых плотов на озере Титикака по велению Инки Капака (Valverde, 1879[311]).
Таким образом, сочетание исторической и археологической информации дает нам довольно полное представление о принципах строительства и о значении своеобразного плота, который обеспечил возможность аборигенного мореплавания в Перу и в прилегающих областях Тихого океана. И когда известный американист Лотроп в 1932 г. собирал материал для своей интересной статьи «Мореходство аборигенов у западных берегов Южной Америки», он смог дать хорошее описание бальсового плота. Правда, оценивая его возможности, Лотроп утверждал, что бревна «быстро впитывают воду и через несколько недель совершенно теряют плавучесть… Поэтому приходилось время от времени разбирать
жангаду [бальсовый плот] и вытаскивать бревна на берег, что бы как следует их просушить». И он заключил, что бальсовый плот не годился для заморских плаваний, не мог дойти не только до Полинезии, но даже до островов Галапагос, лежащих в 1000 км от материка (Lothrop, 1932[206]).
Лотроп ссылался на Байема; однако Байем, английский путешественник XIX в., сам не изучал бальсовые плоты. В его книге, изданной в 1850 г., читаем, что парусник, на котором шел Байем, встретил бальсовый плот в районе Кабо-Бланко (Северное Перу). Он наблюдал издалека, как плот идет против свежего ветра южным курсом, и все данные о плавучести этого судна были почерпнуты им из слов капитана парусника (Byam, 1850[56]). Так Лотроп невольно внес в этнологическую литературу ошибочное суждение, возымевшее немалые последствия.
В остальном же исследование Лотропа было достаточно ценным, и после него мало кто из этнологов углублялся в этот вопрос. Кое-какой дополнительный материал представил в 1942 г. видный знаток инкской истории Минз. В интересной статье «Доиспанское мореходство у Андского побережья» он, ссылаясь на Лотропа, разделяет его негативную умозрительную оценку бальсового плота: «…несомненно, этот тип судна мог вызвать только пренебрежение у судостроителей едва ли не любой другой мореходной нации мира». И он заключает:
«Итак, мы вправе сделать вывод, что в перуанском аборигенном мореходстве до завоевания страны испанцами плот из бальсовых бревен, с парусами, рубкой и грузовой палубой был наименее жалким и наименее несовершенным среди известных судов. Что и говорить, невелика похвала, но таковы уж факты, что лучшего отзыва не заслуживает судостроительное искусство древних жителей Андов, предельно чуждых морю» (Means, 1942[213]).
Крупный авторитет по вопросам судов и мореходства аборигенов Хорнелл тоже обратился к этому предмету, сперва в статье 1945 г. «Был ли доколумбов контакт между народами Океании и Южной Америки?», затем в статье 1946 г. «Как попал батат в Океанию?». Хорнелл не сомневался, что древние перуанцы оказали влияние на земледелие полинезийских островов, а потому был осторожен в оценке бальсового плота, однако заключил: «Обыкновенный, ничем не обработанный бальсовый плот никак не мог совершить дальнего океанского плавания, разве что инкские моряки знали действенный способ пропитки гигроскопичных бревен каким-то водоотталкивающим составом…» (Hornell, 1946[166]).
Уверенно негативная оценка немногих американистов, действительно изучавших основные принципы перуанского судостроения, сильно повлияла на современную этнологию. Заклеймив бальсовый плот как «немореходный», упомянутые исследователи лишили аборигенов Перу важнейшего навигационного средства и создали о них впечатление как о чуждом мореплаванию, сугубо сухопутном народе. Это однобокое представление о ранних высокоразвитых культурах тихоокеанского побережья Южной Америки проникло как в специальную, так и в общую литературу и вскоре отразилось также на изучении важных проблем полинезийской этнологии.
В 1932 г. видному знатоку Тихоокеанской области Диксону удалось доказать, что батат вместе с его кечуа-перуанским названием
кумара был доставлен человеком из Перу в Полинезию до прихода испанцев в Южную Америку. Указывая на бальсовый плот, он предположил, что переносчиками были перуанские или иные американские индейцы (Dixon, 1932[96]). В том же году Лотроп опубликовал свое упомянутое выше исследование перуанского мореплавания, и двумя годами позже Диксон в новой статье вернулся к этому вопросу уже с другим мнением: «Поскольку у нас нет никаких свидетельств, что индейцы тихоокеанского побережья Южной Америки, где возделывался батат, когда-либо располагали судами или навыками дальних морских плаваний, приходится заключить, что растение перенесли полинезийцы» (Dixon, 1934[98]).
Знаток полинезийской археологии Эмори в 1933 г. писал по поводу древних мегалитических сооружений острова Пасхи, островов Общества, Маркизских, Гавайских, Тубуаи и Тонга:
«Вполне правомерно предположить американское происхождение такого специализированного элемента культуры, как каменная кладка. Этот очень приметный элемент сосредоточен в той части Америки, которая находится ближе всего к Полинезии и откуда течения устремляются в сторону острова Пасхи и архипелага Туамоту… Разве не мог какой-нибудь мореходный плот древних инков, подхваченный этим течением, доставить уцелевших за 2 тысячи миль, на остров Пасхи на западе?»
Но в 1942 г. в одной из своих последующих статей Эмори отказался от этого взгляда, ибо, как он писал, Диксон указал ему, что бальсовый плот тихоокеанского приморья Южной Америки быстро пропитывается водой (Emory, 1942). В свою очередь Морган в 1946 г. ссылается уже на Эмори, который сообщил ему, что «бальсовые плоты в несколько дней пропитываются водой, если их не вытаскивать на берег для просушки» (Morgan, 1946[228]).
К этому времени вынесенный бальсовому плоту приговор превратился в аксиому, и, издавая в 1945 г. свое «Введение в полинезийскую антропологию», Бак сбросил со счетов половину прилегающих к Тихому океану областей, заявив: «Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками» (Buck, 1945).
Столь же убежденно Уэклер заявил в 1943 г. в своей монографии «Полинезийские исследователи Тихого океана», что «у американских индейцев не было морских судов, способных на такие переходы, как плавание в Полинезию» (Weckler, 1943[315]).
Этот взгляд так утвердился среди американистов и тихоокеанистов, что, когда я в 1941 г. попытался оспорить его (Heyerdahl, 1941[147]), моя статья, как и следовало ожидать, не вызвала отклика. Стало очевидно, что есть лишь один способ разрешить спор, а именно построить судно, о котором идет речь, и на деле получить удовлетворительный ответ. А потому в 1947 г. я организовал и возглавил экспедицию «Кон-Тики».
Плот «Кон-Тики», названный в честь ушедшего в море культурного героя Перу и общеполинезийского бога-прародителя Тики, состоял из девяти бревен полуметровой толщины длиной от 10 до 15 м; самым длинным было среднее бревно. Основа была связана с поперечинами, на которых лежала бамбуковая палуба и стояла открытая надстройка. Конструкцию довершали двуногая мачта для прямоугольного паруса, пять
гуар (швертов) и рулевое весло. 28 апреля 1947 г. плот вышел из перуанского порта Кальяо с командой из шести человек; спустя 93 дня он миновал первые обитаемые полинезийские острова. Пройдя за 101 день 4300 миль, «Кон-Тики» сел на риф атолла Рароиа в архипелаге Туамоту, доставив в полной сохранности к цели команду и почта весь груз.
Задача экспедиции состояла в том, чтобы изучить и проверить на деле качества и возможности бальсового плота и, главное, получить ответ на старый спорный вопрос: были ли острова Полинезии досягаемы для плотоводцев древнего Перу?
Судно продемонстрировало замечательные мореходные качества и отлично доказало свою возможность перевозить тяжелые грузы в открытом океане. Из всех его ценных свойств нас больше всего удивила и поразила исключительная надежность и остойчивость при любой погоде. После уникальной способности всходить на волну стоит, пожалуй, назвать грузоподъемность; впрочем, тут удивляться не приходилось, ведь еще первые испанцы описывали бальсовые плоты, перевозившие 30 т и более.
Теоретики считали бальсовый плот непригодным для мореплавания, ссылаясь на то, что из-за гигроскопичности бревен он затонет без регулярной просушки его частей; к этому добавляли, что веревки, соединяющие бревна и всю остальную конструкцию, будут истерты при качании бревен на волнах. Считалось также, что легкая пористая древесина слишком хрупка, не выдержит сосредоточенной в центре нагрузки (команда и груз), если нос и корму одновременно поднимет на двух волнах. И наконец, полагали, что при высоте надводного борта всего в 0,5 м команда и груз на открытом плоском плоту окажутся не защищенными от ярости океана.
Наш опыт дал ответ на эти вопросы и показал, что у представителей древних культур Перу и Эквадора были все основания создать именно такой тип мореходного судна и сохранить ему верность.
Известная нынешнему покупателю коммерческая сухая бальса чрезвычайно гигроскопична и не подходит для строительства плотов, а вот древесина только что срубленных стволов почти не впитывает морской воды. Хотя вода постепенно проникает в просушиваемые солнцем внешние слои, внутрь ее не пускает сок самого ствола. Когда «Кон-Тики» через год с лишним после экспедиции извлекли из воды, чтобы поместить его в музей в Осло, он еще мог поднять не одну тонну груза.
Бальсовые бревна не истирали найтовы по той простой причине, что их поверхность стала мягкой, губчатой и веревки в желобах оказались словно утопленными в пробку. Полуметровой толщины было достаточно, чтобы бревна устояли против двух штормов, во время которых волны вздымались выше плота; они выдержали даже столкновение с рифом в Полинезии.
Секрет надежности и остойчивости открытого бальсового плота, несмотря на незначительную высоту надводного борта, объясняется его исключительной способностью прилаживаться к волне. Плот легко переваливал через грозные горы воды, которые подмяли бы почти любое другое малое судно. Вторая причина — остроумная конструкция, позволяющая воде тотчас уходить, как сквозь сито. Ни могучие валы, ни разбивающиеся ветровые волны не могли одолеть плот, и мы испытывали чувство безопасности, какого не могло дать ни одно известное нам до тех пор открытое или малое судно. Больше того, малая осадка и обусловленная независимыми креплениями гибкость конструкции позволили посадить плот прямо на риф с наветренной стороны коварного архипелага Туамоту. Как уже сказано в главе 2, после экспедиции «Кон-Тики» много других бальсовых плотов прошли от берегов Южной Америки до Полинезии, Меланезии и даже Австралии.
Во время плавания было проведено несколько опытов с упомянутыми выше швертами, которые индейцы называют
гуарами. Выяснилось, что пяти надежно закрепленных
гуар длиной 180 см и шириной около 50 см достаточно, чтобы плот мог идти почти под прямым углом к ветру. Подтвердилось также, что можно править плотом без рулевого весла, если поднимать или опускать
гуару на носу или на корме.
Но попытка идти галсами против ветра кончилась полной неудачей, поэтому команда временно склонилась к общепринятому взгляду, что перуанский бальсовый плот, подобно любому другому плоскодонному судну, может ходить только в общем направлении попутных ветров. Однако после экспедиции я постепенно начал склоняться к мнению, что наша неудача объясняется скорее неопытностью команды плота, чем недостатками древнеперуанской конструкции. Эта мысль побудила меня организовать второй эксперимент с бальсовым плотом, о котором пойдет речь в следующем разделе.
Техника управления гуарами
За сведениями о способах управления древними судами у западных берегов Южной Америки мы в основном обращаемся к записям ранних хронистов и в какой-то мере к археологии, в частности к предметам изобразительного искусства приморских жителей доиспанской поры. Некоторые детали, не подмеченные хронистами, во всяком случае не отраженные в их писаниях, иллюстрированы на реалистично выполненных фигурных сосудах или нарисованы на керамике, даже отражены в текстильных изделиях доевропейских художников Перу. Многие, а то и большинство таких мореходных мотивов относится к доинкским временам. Чаще всего внушительные камышовые суда и бревенчатые плоты показаны в искусстве культур раннего чиму или мочика, созданных древними строителями пирамид, одними из основателей южноамериканской цивилизации. Большие камышовые суда с множеством пассажиров и с грузом, нередко с двойной палубой и раздвоенной кормой представлены в керамике мочика. Встречаются также, хотя и намного реже, фигурные сосуды, изображающие мореплавателей на бревенчатых плотах.
Старейшие письменные сообщения о применении паруса на аборигенных судах Перу видим у Сааманоса, Хереса, Андагойи, Овьедо, Сарате, Лас Касаса, Бальбоа, Гамбоа, Гарсиласо, Бенсони и Кобо. Все они указывают, что в инкской империи знали парус и пользовались им в море на бальсовых плотах. В горах под парусом ходили камышовые ладьи даже на озере Титикака, а о жителях приморья Инка Гарсиласо говорит: «Они не ставили парус на лодках из тростника… На плоты из дерева они ставили парус, когда плавали по морю» (Инка Гарсиласо де ла Вега, 1974).
Мы уже видели, что первый встреченный европейцами бальсовый плот — тот самый, который захватил штурман Писарро, — шел с грузом более 30 т против ветра и сильного течения Эль-Ниньо. Трудный морской маневр осуществлялся не гребными веслами, да это практически было бы невозможно на широком бревенчатом плоту с 20 пассажирами и 30 т груза. Из сообщения Сааманоса королю Карлу V в 1526 г. мы узнаем, что огромный грузовой плот был оснащен всем необходимым для активного плавания. На нем были мачты и реи из отменного дерева, превосходные снасти из генекеновой конопли, и он «нес паруса такого же рода, как наш корабль».
И после этого хронисты указывали, что инкские рыбаки и торговцы могли совершать активные плавания на плотах, идя против ветра, — маневр, который современные специалисты по плотам и мореходству считали невозможным. Опыты военного времени с резиновыми шлюпками и спасательными плотами из дерева или алюминия убедили военные и гражданские инстанции, что на парусном плоту нельзя идти к определенной цели, потому что плоскодонное судно окажется беспомощной жертвой стихий, будет плыть по прихоти ветра боком или задом наперед. Дескать, как ни надежен плот на сильной волне, никакие рули и рулевые весла не позволяют управлять им так, как управляется спасательная шлюпка с полым корпусом и килем. Тем примечательнее свидетельства очевидцев, что инкские моряки ходили под парусом против ветра к Панаме, к острову Пуна, к островам Лобос и Чинча и т. д., заплывали даже в коварные стремнины течений Гумбольдта и Эль-Ниньо, чтобы через много дней вернуться с тяжелым грузом вяленой рыбы.
Не секрет, что инкские мореплаватели совершали свои морские экспедиции, применяя уже упоминавшиеся
гуары, шверты из твердого дерева, испытанные нами с ограниченным успехом на «Кон-Тики».
Гуары бальсовых плотов сильно отличаются размерами соответственно габаритам и типу судна, зависят также от размеров имеющейся древесины. Обычная длина — 120–210 см, ширина — 12,5–25 см; впрочем, у лесистых берегов Эквадора они достигали 3–4 м в длину и 0,5 м в ширину.
Гуара представляет собой прямоугольную доску без рукоятки, но с выступом или вырезом на верхнем конце. Если для изучения древнеперуанских судов мы располагаем только записками хронистов и более или менее условными изображениями в аборигенном искусстве, то для знакомства с
гуарами к нашим услугам подлинные экземпляры, которыми пользовались древние мореплаватели. Обычно вырезанные из твердой и долговечной древесины альгарробо,
гуары принадлежат к наиболее многочисленным находкам в доиспанских погребениях на побережье Перу. Некоторые из них, мастерски вырезанные и художественно оформленные, присутствуют в перуанских разделах музеев всего мира. Но большинство
гуар были сделаны просто, без всяких украшений, а так как представляющие чисто прикладной интерес изделия не привлекали коллекционеров, непросвещенные кладоискатели
хуакеро часто выбрасывали их. Пожалуй, можно сказать, что соотношение между профессиональной археологией и простым кладоискательством в перуанском приморье прямо пропорционально соотношению примитивных и роскошно украшенных
гуар или соотношению между гладкой перуанской керамикой и спасенными для музейных коллекций декорированными фигурными сосудами.
Наиболее искусно украшены образцы из районов Писко, Паракаса и Ико в южной части побережья Центрального Перу. Но и здесь при раскопках находят гладкие, грубо сделанные
гуары из альгарробо. Если на орнаментированных гуарах из района Чиму на севере Перу мы обычно видим только объемное изображение одной птицы или одного животного в верхней части (как и на местных веслах), то на самых роскошных образцах из Паракаса резные или рисованные изображения птиц, рыб, людей или символические орнаменты расположены в два-три ряда. Часто верхний ряд составляют фигуры шести — восьми мужчин, которые стоят бок о бок, держась за руки так, что получается волнообразная линия.
Высказывались предположения, что некоторые особенно искусно оформленные
гуары были ритуальными эмблемами ранга; вероятно, это так и есть. Однако я не видел еще ни одного образца, который нельзя было бы использовать по прямому назначению: в каждом случае взята достаточно твердая древесина и резные изображения размещены так, что не могли помешать пользованию
гуарой. Резьба, как правило, ограничивается верхней частью; в тех редких случаях, когда орнамент спускается ниже, он нанесен на боковую грань так, чтобы доска все равно могла свободно ходить в прорези или щели между мягкими бальсовыми бревнами. Примечательно, что резьбой украшали только ту часть
гуар, которая оставалась на виду над палубой, а погружаемую часть, скрытую от глаз команды и пассажиров, оставляли гладкой. Естественно ожидать, что чисто ритуальный предмет будет украшен во всю длину, как это делали с рукоятками обрядовых топоров или жезлов. Учитывая функции
гуары, верхняя часть которой остается на виду и не изнашивается, можно уверенно предположить, что подавляющее большинство даже наиболее богато орнаментированных образцов использовалось по прямому назначению — вероятно, более высокопоставленными членами приморской общины.
Когда в конце прошлого столетия в музеи и частные коллекции впервые поступили добытые при раскопках искусно обработанные доски из Писко, их просто посчитали замечательными образцами доинкской резьбы по дереву, и, хотя Гретцер в 1914 г. заключил, что речь идет о морских
гуарах, впоследствии мало кто задумывался над подлинным назначением этих досок.
Гретцер, проживший не один десяток лет в приморье Перу, имел полную возможность наблюдать, как последние, уходящие в прошлое бальсовые плоты с
гуарами все еще доставляли тонны вяленой рыбы на север, в Эквадор, а оттуда везли на юг строительный лес и другие грузы. При раскопках в долинах Писко и Ики он сразу же определил назначение обнаруженных им в большом количестве
гуар, хранящихся теперь в Берлинском музее этнографии. Гретцер видел в этой находке убедительное доказательство того, что жители приморья уже в доинкские времена регулярно выходили в океан и совершали плавания, подобные тем, которые засвидетельствовали первые в этих краях испанцы (Gretzer, 1914[130]).
Тому, кто не знаком с примечательными мореходными качествами инкских камышовых и бальсовых плотов, может показаться, что жители приморья делали только первые шаги в судоходстве.
На самом деле древние перуанцы хорошо знали долбленку и лодку с нормальным корпусом (Cobo, 1653[72]) и все-таки предпочитали выходить в море на специально созданных для этого судах, которые, как уже говорилось, были великолепно приспособлены к особенностям местных географических условий. Широко распространившаяся недооценка якобы примитивной ладьи из камыша
тотора и бальсового плота, возможно, была одной из причин того, что до сих пор поразительно мало внимания уделялось источникам, трактующим вопрос о мореходстве аборигенов. Даже после публикации Гретцера нередко можно было увидеть в музеях перуанские
гуары с биркой «ритуальная лопата» или что-нибудь в этом роде, хотя всякий мог на деле убедиться, что
гуары никак не подходят для земляных работ. По мере того, как все больше образцов не просто приобретали у коллекционеров, а находили в раскопках, стало очевидно, что речь идет о принадлежности морской оснастки, ибо в погребениях
гуары обычно лежали вместе с рыболовными снастями или иными предметами, указывающими скорее на морской промысел, чем на земледелие. Бросалось также в глаза, что узоры в верхней части
гуар и местных весел повторяют друг друга, а потому с недавних пор
гуары стали экспонировать с бирками «весло особого рода» или даже «руль».
Однако достаточно взглянуть на ручку, чтобы сразу понять, что это своеобразное изделие не могло быть ни тем, ни другим. Важнейшее свойство весла — безупречный баланс: рукоятка должна симметрично венчать центральную ось, чтобы лопасть не вертелась при гребке. А ручка широкой
гуары вовсе не сбалансирована, она отнесена к самому краю, поэтому грести такой доской невозможно. И нигде не ухватишься для баланса второй рукой. На большинстве
гуар южного побережья видим всего лишь прорезь для пальцев, получается нечто вроде ручек полиэтиленовой сумки. Ясно, что
специализированная ручка
гуары рассчитана только на вертикальный подъем и опускание широкой доски одной рукой, а не на сбалансированные гребки двумя руками. Столь же мало ручка
гуары годится на роль румпеля; совершенно очевидно, что
гуара по своему назначению не может быть сравнима ни с какими частями оснастки обычных европейских плавучих средств.
Совсем недавно, в 1963 г., Айслеб провел систематическое исследование обширной археологической коллекции гладких и орнаментированных перуанских гуар, хранящихся в запасниках Берлинского музея этнографии. Он установил, что у всех этих досок есть общая характерная черта: они подобны ножу, одна грань острее и уже другой, что позволяет
гуаре рассекать воду с минимумом сопротивления (Eisleb, 1963[103]). Такая форма окончательно доказывает, что перед нами именно шверт.
Когда Лотроп в 1932 г. опубликовал первое систематическое исследование аборигенного перуанского мореходства, он одинаково хорошо знал вопросы парусной навигации и мореплавания, с одной стороны, и местную археологию — с другой, и, подобно Гретцеру, определил, что необычный предмет морской оснастки —
гуара — особый вид шверта, которым пользовались в северном приморье вплоть до начала нашего столетия. Он подчеркнул также, что наличие
гуар в погребениях доиспанского периода в перуанском приморье служит археологическим свидетельством того, что здесь ходили под парусами в доколумбовы времена. Он говорит: «…очевидно, что шверт ни к чему на судне без парусов» (Lothrop, 1932[206]). Словом, в отличие от руля или рулевого весла выдвижная
гуара — принадлежность только парусного судна, она вовсе не нужна на судне, приводимом в движение веслами.
Впервые придя в эту область на своих каравеллах, испанцы не обратили внимания на
гуары как таковые, хотя отмечали, с каким искусством местные моряки управляют своими плотами. Но голландский адмирал Шпильберген на опубликованной в 1619 г. зарисовке бальсового плота в Паите (Перу) изобразил двух индейцев в плащах: маневрируя парусом, они подают команды троим другим, которые, сидя на корточках, держат каждый свою
гуару, просунутую вертикально в щели между бревнами. Ни руля, ни рулевого весла не показано. В тексте Шпильбергена о
гуарах ничего не сказано; он сообщает лишь, как отмечали до него испанцы, что бальсовый плот — превосходное судно: данный экипаж на два месяца выходил в море на рыбную ловлю и вернулся в Паиту с таким уловом, что его хватило для всех стоявших в порту голландских кораблей (Spilbergen, 1619[292]).
Важно учитывать, что Шпильбергену
гуары ничего не говорили, поскольку в тогдашней Европе вообще не были известны шверты. Потому-то он, хотя оставил потомству самое первое изображение принципов управления швертами, никак не комментировал этот факт, ограничившись словами об отменном качестве парусов и плота.
Прошло 130 лет, прежде чем два испанских военных моряка, Хуан и Ульоа, настолько заинтересовались приемами навигации южноамериканских индейцев, что решили вплотную заняться тайнами местных
гуар. В составленном ими в 1748 г. превосходном описании виденных в Гуаякиле бальсовых плотов различных типов и размеров они говорили:
«До сих пор мы касались только конструкции и применения этих плавучих средств, но главная их особенность заключается в том, что они ходят под парусом и поворачивают при противных ветрах не хуже кораблей с килем и очень мало подвержены сносу. Достигается это не рулем, а другим способом управления, а именно при помощи досок длиной 3–4 м, шириной около полуметра, называемых
гуарами, которые помещаются вертикально на носу и на корме между бревнами основы. Погружая одни из этих досок глубоко в воду и поднимая другие, они спускаются под ветер, приводятся к ветру, лавируют, ложатся в дрейф, выполняя все те же маневры, какие выполняет обычный корабль. Неизвестное до сих пор большинству просвещенных народов Европы изобретение…
гуара, если опустить ее в носовой части, заставляет судно приводиться к ветру, если же ее поднять, оно спускается под ветер. Далее, если опустить
гуару на корме, судно спустится под ветер, а если поднять, оно приведется к ветру. Таков способ, при помощи которого индейцы управляют бальсовым плотом; иногда они применяют пять или шесть
гуар, чтобы предотвратить снос — естественно, чем больше площадь погруженных
гуар, тем сильнее сопротивление боковому ветру, так что
гуары выполняют роль шверцов, применяемых на малых судах. Метод управления
гуарами настолько легок и прост, что, когда плот ложится на нужный курс, достаточно маневрировать одной доской, поднимая и опуская ее при надобности, и таким образом плот все время идет в заданном направлении» (Juan and Ulloa, 1748[182]).
Перуанские навигационные приемы произвели на Хуана и Ульоа такое впечатление, что они настоятельно рекомендовали ввести эту же систему в Европе. Однако когда Лекалье и Чарнок опубликовали свои труды по истории мирового мореходства (соответственно в 1791 и 1801 гг.), они могли сослаться только на сделанные в Эквадоре наблюдения Хуана и Ульоа и подчеркнуть, что способ управления швертами применяется лишь индейцами южноамериканского приморья, а в Европе все еще неизвестен. Как уже говорилось, Лекалье в своем наставлении для французских кадетов выступил за оснащение европейских спасательных плотов
гуарами, но его рекомендация осталась втуне.
Впоследствии о перуанских способах маневрирования
гуарами писали Гумбольдт в 1810 г. и Стивенсон в 1825 г.
В 1832 г. Морелл сообщал, что бальсовые плоты все еще можно наблюдать в 80 км от суши и они «лавируют против ветра подобно лоцманским катерам…» (Morell, 1832[227]).
До того как Пари в 1841–1843 гг. издал свой обширный труд о неевропейских судах, он отправился на северо-запад Южной Америки, чтобы изучить бальсовые плоты. Вот его слова: «В Перу по-прежнему употребляются плоты древней конструкции, настолько приспособленные к местным условиям, что их предпочитают всем прочим судам». Он опубликовал приведенный здесь чертеж бальсового плота с
гуарами, однако сам не видел, как плоты лавируют в море. Суждения Хуана и Ульоа о неограниченных возможностях управления
гуарами он воспринял скептически: «Нам не пришлось наблюдать эти остроумные плоты настолько, чтобы с уверенностью сказать, что они и впрямь выполняют все эти маневры…» И все же признал: «Других устройств для управления в океане на плотах нет» (Paris, 1841[244]).
Несколько позже, в 1852 г., Скугман видел бальсовые плоты с
гуарами вдали от берегов Северного Перу и сообщил, что они ходят на острова Галапагос, расположенные примерно в 1000 км от материка (Skogman, 1854[284]).
Прошло еще 20 лет, прежде чем на европейских судах впервые установили шверты, причем никто не воздал должного древним народам, столетиями применявшим эту систему. По Лотропу, опыты применения швертов на некоторых малых судах делались в Англии в 1790 г., но по-настоящему шверты вошли в употребление в Англии и США около 1870 г. До тех пор европейские моряки пользовались только шверцами, единственное назначение которых, подобно килю, уменьшать снос.
К началу нашего столетия использование плотов с
гуарами прекратилось вместе с исчезновением последних остатков аборигенной культуры в приморье Перу и Эквадора. Секреты управления
гуарами были утрачены прежде, чем эту систему могли перенести на европейские спасательные плоты.
Когда плот «Кон-Тики» в 1947 г. был оснащен
гуарами, этнологи и специалисты по мореходству в один голос твердили, что эти доски не позволят маневрировать судном. Членам экспедиции удалось показать, что с пятью
гуарами можно спускаться под ветер и идти почти под прямым углом к ветру, но все наши попытки поворачивать на обратный курс и лавировать против ветра кончились неудачей. И мы вернулись из экспедиции, разделяя мнение Пари и последующих исследователей, что плот может идти только с попутными ветрами.
Однако в 1953 г. при любезном содействии Эмилио Эстрады (Гуаякиль) нам предоставилась возможность продолжить опыты с бальсовым плотом нормальных размеров в районе залива Плаиас в Эквадоре, где местные рыбаки и поныне используют маленькие, связанные из трех бревен плоты типа бразильской жангады. С помощью рыбаков был построен бальсовый плот из девяти бревен с бамбуковой палубой, чуть поменьше «Кон-Тики», но такой же конструкции. Вместе с Эстрадой и мной на борту находились археологи Рид и Шёльсволд. Снова был поднят прямоугольный парус на двуногой мачте, и между бревнами воткнули шесть
гуар: две на самом носу, две на корме, еще две наугад, поскольку они должны были играть роль неподвижных шверцов. Без руля, без гребных или рулевых весел мы вышли под парусом в море, руководствуясь наставлениями, полученными Эстрадой от рыбаков. После некоторых попыток согласованное маневрирование парусом и
гуарами на носу и на корме позволило нам лавировать против ветра и в конечном счете вернуться к той самой точке берега, откуда мы вышли. Когда освоишь способ управления
гуарами, невольно поражаешься его простоте и действенности. На «Кон-Тики» мы уже установили: если, идя под парусом, вынуть из воды рулевое весло, плот сам ляжет на устойчивый курс под определенным углом к направлению ветра, и этот угол зависит от соотношения погруженной части
гуар на носу и на корме. При боковом ветре плот поворачивался вокруг точки опоры, роль которой играла мачта, и, чтобы прекратить поворот, надо было сильнее погружать
гуары в той части плота, которая уваливалась, или поднимать
гуары на другом конце. На первых порах единственной проблемой было совершить полный поворот и лавировать против ветра, но и эта задача решилась, когда мы подняли рею прямоугольного паруса до места соединения колен двуногой мачты, чтобы она могла свободно разворачиваться в разные стороны. Быстро разворачивая парус и так же быстро изменяя соотношение погруженной части
гуар перед мачтой и позади нее в критический момент, когда судно принимало ветер с траверза, мы добились того, что плот послушно выполнял полный поворот и ложился на новый курс, против ветра. После этого оставалось только подправлять
гуары, чтобы лавировать в нужном направлении под теми же углами, под какими лавирует обычный килевой парусник (Heyerdahl, 1954[149]).
Итак, теперь нам известно, что нет никаких пределов дальности плаваний аборигенных южноамериканских судов в Тихом океане. Древние жители Эквадора и Перу, которые умели лавировать под парусом на своих вместительных и остойчивых бальсовых плотах, прекрасно освоили морское дело, так что современным исследователям надлежит в корне пересмотреть свое предвзятое отношение к искусству судовождения Андской области. Тогда мы уже не будем поражаться сообщению историков о том, что люди Писарро встретили большой перуанский бальсовый плот с товарами для Панамы, что вместе с моряками на борту находились женщины, что рыбаки, воины и исследователи надолго выходили в далекие плавания в Тихом океане.
Среди поистине выдающихся представителей древних культур Перу были племена, даже целые народы, приросшие душой скорее к морю, чем к суше, и основывавшие свое существование на давней мореходной традиции.
Глава 9
Культурные растения и древние мореплаватели
Американский этнолог и специалист по географии растений Картер сказал однажды по поводу независимой эволюции: «Всякий дурак может сделать наконечник для стрелы, но только богу под силу сделать батат». Аргумент этот был призван обратить внимание ученых других областей на исключительное значение биологии при поисках утраченных следов древних мореплавателей в Тихом океане. В этом духе высказывался и другой этнолог — Фердон, когда после археологических раскопок в Восточной Полинезии он произвел тщательное исследование источников, собирая наблюдения первых посетивших острова этой области европейцев. Он записал, что к числу самых интересных найденных им свидетельств относится запись в путевом дневнике Байрона, сделанная на атолле Такароа, расположенном как раз там, куда с наибольшей скоростью подходит Перуанское течение со стороны Южной Америки: «Среди виденных нами на берегу птиц были попугаи и попугайчики, а также дивные голуби, такие ручные, что они подлетали к нам вплотную и часто заходили в хижины туземцев» (Byron, 1764–1766). Попугаи в Полинезии не водятся. Что же до тихоокеанского побережья Южной Америки, то эти птицы сопровождали человека даже в море, судя по акварельной иллюстрации в книге Гумбольдта, где на огромном бальсовом плоту с грузом плодов и других товаров видим сидящего на штаге зеленого попугая. Когда «Кон-Тики» выходил в плавание из Перу, нам подарили попугая; как известно, «Кон-Тики» финишировал в том же архипелаге, в который входит Такароа. Птицы эти были чрезвычайно популярны в Перу; в доевропейских погребениях находят и чучела и перья попугаев. Всякий художник может нарисовать попугая, но только мореплаватели могли доставить неспособную к дальним перелетам лесную птицу за тысячи километров на клочок суши в океане.
Собака еще один биологический указатель людских миграций в Полинезии. Полинезийская собака Canis maori не родственна дикой динго Австралии, дворняжке Юго-Восточной Азии или арктической лайке, зато по найденным на Маркизах скелетным остаткам, собранным в Новой Зеландии шкурам и описаниям первых европейских мореплавателей установлено близкое генетическое родство с упоминавшимися выше аборигенными породами Мексики и Перу. Если свинья и курица, как отмечалось, распространились в Полинезии через Фиджи после того, как обособились маори, то собаку полинезийцы не могли получить из Меланезии, ибо там ее, судя по всему, до прибытия европейцев не было. Плававший вместе с Куком Форстер записал, находясь в самом центре Меланезии: «Вот их домашние животные: свиньи и обыкновенные куры; мы добавили к этому собак, продав им пару щенков, захваченных с островов Общества. Они приняли их с явным выражением высшего удовлетворения, но, так как называли их свиньями (
пуаха), мы не сомневались, что собаки здесь совершенная новость» (Forster, 1777[115]).
Маори считают, что собака прибыла вместе с бататом (
кумара) во время исходных плаваний с родины их предков. Уайт в труде «Древняя история маори, его мифология и предания» показывает, что воспоминания о собаке и батате восходят к временам, предшествующим выходу предков маори в море к их последующей полинезийской обители. По преданию, предки у себя на родине срубили «деревья с легкой древесиной и собрали бревна в истоках реки Тохинга. Они связали вместе бревна лианами
пирита и веревками и сделали очень широкий плот (
моки)». Далее, они «построили дом на плоту и припасли в нем много продовольствия, корни папоротника,
кумару и собак» (White, 1889[317]).
Открывая в 1961 г. этноботанический симпозиум на X Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу, председатель симпозиума ботаник Барро предложил заново пересмотреть все наличные свидетельства о родстве и распространении флоры тихоокеанских островов с учетом новых указаний, что аборигенные мореплаватели на плотах могли пересечь океан между Южной Америкой и Полинезией до прибытия европейцев.
Данная глава представляет собой дополненную версию статьи, первоначально опубликованной под названием «Флористические свидетельства доколумбовых контактов с Америкой» в «Antiquity» (т. 34, 1964).
Ботаника, как никакая другая область науки, ощутила на себе влияние предвзятых мнений среди этнологов относительно возможной дальности аборигенных плаваний. Ботаники, как правило, не считают себя знатоками древнего мореплавания и примитивных судов, а потому обращались к этнологам за квалифицированными суждениями по морским делам. И этнологи охотно давали свои заключения, после чего пользовались ответными выступлениями ботаников, чтобы подкрепить свои изоляционистские взгляды на древнюю историю Америки.
Видный ботаник де Кандоль издал в 1884 г. основополагающий труд «Происхождение культурных растений» и стал как бы отцом этноботанической науки. Обобщая все наличные в то время ботанические свидетельства, де Кандоль заключил: «В истории культурных растений я не нашел ни одного указания на связи между народами Старого и Нового Света до открытия Америки Колумбом» (Candolle, 1884[60]). Эти слова оказались важнейшим биологическим аргументом в происходившей тогда дискуссии между этнографами и специалистами по древней истории. Хотя де Кандоль был осторожен в своих выводах, тот факт, что он не обнаружил признаков обмена пищевыми культурами через Атлантический и Тихий океаны в доколумбовы времена, вполне согласовывался с растущей тенденцией к изоляционизму в оценках путей культурной эволюции. С той поры все большее число этнологов задавало вопрос: если кто-то до Колумба плавал между Америкой и Старым Светом, почему ни одна из зерновых культур Старого Света не была интродуцирована в древней Мексике или Перу и почему другие континенты не знали американской кукурузы?
В начале XX в. другой видный ботаник, Меррилл, безоговорочно принял сторону изоляционистов, всецело положившись на обоснованность их аргумента, что до появления европейских каравелл ни одно судно не могло дойти через океан до Америки. Верный последователь де Кандоля, на учении которого он основывал свои взгляды, Меррилл воспринял и развил тезис о том, что до норманнов и Колумба не было никаких контактов между Старым и Новым Светом. Убежденность и энергичная борьба Меррилла за свои взгляды сделали его одним из ведущих поборников новой гипотезы, будто великие океаны, омывающие тропическую и умеренную зоны Нового Света, были сплошным неодолимым барьером для древних мореплавателей. Однако если де Кандоль ограничился заключением, что доступный ему ботанический материал не говорит в пользу контактов между Старым Светом и аборигенами Америки, то Меррилл настаивал, что негативные флористические свидетельства доказывают отсутствие таких контактов.
В числе первых ботаников, утверждавших, что ботанические свидетельства говорят в пользу континентов между Америкой и Полинезией, были американские коллеги Меррилла — О. и Р. Кук. В первые два десятилетия нашего столетия они выдвинули ряд примеров, говорящих о распространении американского земледелия в Полинезии (О. Cook and R. Cook, 1918; О. Cook, 1901, 1903, 1910–1912, 1916
a, 1916
b, 1925[84, 78, 79, 80]). Меррилл ответил на их ботанические аргументы аргументом из области этнологии: «Господствующая среди этнологов гипотеза подразумевает распространение культуры через Тихий океан
на восток, а не
на запад». Дескать, если и были какие-либо американо-полинезийские контакты, то «гораздо логичнее говорить о движении со стороны Тихого океана в Америку, чем отстаивать миграцию из Америки в Тихий океан» (Merrill, 1920[216]).
Уже в 1937 г. Меррилл писал: «Поскольку земледелие в Америке было автохтонным, мы вправе предположить, что автохтонными были и культуры, на которых оно основывалось». Это категорическое, вновь и вновь повторяемое утверждение видного ботаника, к тому же одного из немногих пионеров этноботаники, не могло не произвести впечатление на современных ему этнологов.
Однако выводы Меррилла постепенно подвергались сомнению другими ведущими ботаниками и специалистами по географии растений, придерживающимися других взглядов. Наиболее видные среди них — О. и Р. Кук, к которым со временем присоединились Зауэр, Картер, Хатчинсон, Силоу, Стефенс, Стонор и Андерсон. Все они представили исторические или генетические свидетельства того, что древний человек
переносил культурные растения через тропическую зону океанов, окружающих Новый Свет. Благодаря успехам современной археологии была получена важная ботаническая информация, неизвестная во времена де Кандоля, и Мерриллу становилось все труднее отстаивать категорические взгляды, которые он так упорно защищал в 20-х и 30-х годах.
Сила и убедительность негативных суждений Меррилла покоились на тезисе о полном и безусловном отсутствии в обоих полушариях культурных растений общего происхождения. Это негативное свидетельство, пусть не окончательное, казалось веским аргументом против трансокеанских плаваний. Однако стоило найти хотя бы одно исключение из правил Меррилла, и рухнула бы вся его аргументация. Так что Мерриллу надо было, фигурально выражаясь, следить за тем, чтобы его бочка нигде не протекала. Потеря даже одной клепки сделала бы всю бочку непригодной, и негативное суждение, обратившись позитивным свидетельством, ударило бы по нему с удвоенной силой.
Одно из культурных растений, чье повсеместное присутствие в Полинезии ко времени прихода европейцев давно озадачивало этнологов, — батат Ipomoea batatas. Сугубо американское растение это задолго до прибытия испанцев в Новый Свет проникло на полинезийские острова и от Пасхи до Новой Зеландии было основной пищевой культурой. Ни одно другое растение не занимает столь видного места в маори-полинезийских легендах о древних предках-мореплавателях и исконной родине, и во всей Полинезии, от Пасхи до Гавайских островов и Новой Зеландии, батат называли
кумара с небольшими диалектными вариациями.
Кумара называли этот американский вид также аборигены древнего Перу; дальше на север, включая Панаму, видим названия
ккумара, кумар, умар, кумал, умала и
куала (Heyerdahl, 1952[148]).
Этнологи не раз пытались исключить батат из ряда аргументов в пользу доевропейских контактов между Полинезией и Америкой. Ученые совершенно серьезно высказывали предположение, что батат был захвачен корнями упавшего дерева в перуанском приморье и без участия человека доплыл до Полинезии. Эта гипотеза не объясняет, как же название приплыло вместе с растением, а потому не встретила большой поддержки. Более убедительным казалось предположение, что батат вместе со своим перуанским названием попал в Полинезию, когда в конце XVI и начале XVII в. первые испанские каравеллы выходили из Перу в Восточную Полинезию. Однако в 1932 г. видный этнолог Диксон опубликовал исследование «Проблема батата в Полинезии», где смог показать, что
кумара прочно укоренился во всем полинезийском треугольнике задолго до того, как там появились испанцы (Dixon, 1932[96]).
Меррилл не мог ничего возразить против исторических свидетельств Диксона, и, понимая, что уязвимый клубень батата мог пересечь океан только с помощью человека, он сдался, поскольку речь шла о сугубо американском культурном растении, неизвестном нигде в диком виде. В 1946 г. он выбил первую клепку из собственной бочки, признав, что аборигенные мореплаватели во всяком случае доходили из Нового Света до островов Полинезии. Меррилл писал: «…они ввезли в Полинезию одно важное пищевое растение американского происхождения — батат — и распространили его от Гавайских островов до Новой Зеландии… задолго до прихода европейцев в Тихий океан». Затем он пошел еще дальше и в 1954 г. подчеркнул, что для успешного переноса батата требовался тщательный уход за клубнями, аборигенные мореплаватели должны были везти из Америки живое растение кумара в соответствующей почве, иначе никакие клубни больше 1–1,5 месяцев не сохранили бы жизнеспособность во влажной атмосфере на уровне моря. Меррилл, отметив, что «Кон-Тики» потребовалось три месяца на то, чтобы пересечь океан, добавил: «Было бы нелепо утверждать, что до Магеллана не было никаких сообщений через Тихий океан…» — и заключил, что общеполинезийское возделывание американского батата служит положительным свидетельством доевропейских контактов (Merrill, 1954[220]).
Тем временем в новом освещении предстал также вопрос о доевропейском распространении кокосового ореха. В высшей степени полезная кокосовая пальма впервые была встречена европейцами в Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге, почему ее почитали азиатским видом. Позднее, когда европейцы дошли также до Вест-Индии и тропической зоны Америки, они и тут застали ту же пальму; больше того, дикорастущие кокосовые пальмы встречались им в тропических лесах на севере Андов, а культурные рощи — на всем пути от Эквадора до Гватемалы. В своем труде о пальмах Марциус уже в 1823 г. заключил, что кокосовые орехи из района Гуаякиля в Эквадоре и с островов вблизи Панамы доплыли с течением через тропические широты Тихого океана до Азии (Martius, 1823[211]).
Де Кандоль первым признал весомость ботанических свидетельств в пользу американского происхождения кокосовой пальмы Cocos nucifera. Многочисленные виды подсемейства Cocoinae типичны для тропического пояса Америки, и ни один из них не известен в Азии. Только полезный культивируемый вид с его съедобной костянкой был встречен европейцами в аборигенных поселениях от Месоамерики через весь Тихий океан до приморья Азии. Наличие дикой пальмы в Южной Америке вместе с данными преданий и историческими сведениями о сравнительно недавней интродукции в азиатском приморье вызвало шквал противоречивых гипотез в среде ботаников, и главенствующая роль принадлежала тут де Кандолю:
«Обитатели азиатских островов были куда более отважными мореплавателями, чем американские индейцы. Очень может быть, что лодки с азиатских островов с кокосовыми орехами в качестве провианта по воле шторма или из-за неверных маневров были прибиты к островам или к западным берегам Америки. Обратное в высшей степени невероятно» (Candolle, 1884[60]).
Английский ботаник Геппи, лично занимавшийся четыре года исследованиями в Тихом океане, способствовал в 1906 г. возрождению первоначальной точки зрения Марциуса. Понимая, что географические условия не допускали переноса кокосового ореха на дрейфующих судах из Малайского архипелага до Южной Америки, он писал: «Остается… заключить, что он первоначально вышел из Америки — родины этого вида, возможно, в виде дара, доставленного Экваториальным течением из Нового Света в Азию» (Guppy, 1906[133]).
Вследствие этого многие ботаники начала XX в. считали возможным естественное проникновение кокосового ореха через Тихий океан. Но и эта гипотеза встретила сопротивление. К 1941 г. была закончена серия опытов с плавающими орехами на Гавайских островах. Они опровергли давнее убеждение, будто кокосовый орех, пройдя любое расстояние в океане, может прорасти, когда его вынесет на берег. Было установлено, что глазки плывущего в море ореха заражаются гнилостными бактериями, поэтому при длительном плавании, например между Новым Светом и Полинезией, он утрачивает жизнеспособность (Edmondson, 1941[102]).
Пришлось Мерриллу расставаться со второй клепкой: «…добавим еще одно утверждение, каким бы ошеломляющим оно ни показалось: вряд ли подлежит сомнению, что полинезийцы интродуцировали кокосовый орех на западном побережье Америки между Панамой и Эквадором сравнительно незадолго до прихода испанцев». Борясь до последнего против гипотезы об американском происхождении кокосовой пальмы, он стоял на своем: «Мы не знаем окончательно, откуда происходит вид… Одно несомненно: кокосовая пальма прочно утвердилась на влажном тихоокеанском побережье Панамы и сопредельной Колумбии до прибытия испанцев» (Merrill, 1954[220]). Не успел Меррилл заявить, что вынужден пересмотреть свои ранее опубликованные взгляды о перевозках человеком батата и кокосового ореха между доколумбовой Америкой и Полинезией, как из его бочки выпало еще одно важное культурное растение — тыква Lagenaria siceraria. Эта тыква считалась одним из важнейших культурных растений, получивших общеполинезийское распространение в доевропейские времена.
В противоположность Линнею де Кандоль, а за ним и Меррилл полагали, что до Колумба коренное население Америки вовсе не знало бутылочной тыквы. Но вот археологи начали находить в древних погребениях Перу и Чили тыквенные семена и изделия из высушенных бутылочных тыкв, и это растение стало этноботанической проблемой. В 1931 г. Норденшельд указал на большое сходство таких изделий Океании и доиспанской Южной Америки и назвал бутылочную тыкву «главным доказательством доколумбовых связей между Океанией и Америкой» (Nordenskiöld, 1931[235]).
В 1938 г. Бак воспринял взгляд на бутылочную тыкву как свидетельство того, что полинезийские мореплаватели, совершая на лодках дальние плавания в начале нынешнего тысячелетия, несомненно, доходили до Южной Америки. В 1945 г., за два года до плавания «Кон-Тики», он повторил это утверждение и заявил: «Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками» (Buck, 1945[54]).
Мнение сего часто цитируемого этнолога снова повлияло на ботаников, и в 1943 г. Имз и Сен-Джон писали: «Ныне полагают, что до XIII в. полинезийские мореплаватели с Мангаревы или Маркизских островов ходили на восток до Перу, потом возвращались. Такое плавание может объяснить интродукцию батата… в Полинезии и бутылочной тыквы… в Южной Америке» (Eams and St. John, 1943[101]).
В 1950 г. даже Меррилл признал, что распространение бутылочной тыквы не может подтверждать его прежних взглядов, «ибо очевидно, что это культурное растение присутствовало в обоих полушариях до Магеллана». И еще: «Возможно, оно обязано своим присутствием в доколумбовой Америке полинезийским мореплавателям…» (Terrill, 1950[219]). Однако и это предположение было поколеблено постепенно накапливающимися свидетельствами. Одновременно с экспедицией «Кон-Тики», доказавшей возможность плаваний на плотах из Перу, археолог Джуниус Берд раскопал на перуанском побережье мусорную кучу и обнаружил, что представители одной южноамериканской рыбачьей культуры выращивали и использовали для изготовления разных предметов бутылочную тыкву свыше 3 тысяч лет назад, задолго до того, как полинезийцы поселились в Океании (Bird, 1948; Whitaker and Bird, 1949[38, 316]). Хронологическое свидетельство говорило о том, что тыква появилась в Перу раньше, чем в Полинезии; стало быть, она была доставлена в Полинезию из Перу, а не наоборот. В 1954 г. Меррилл отказался от идеи, что бутылочная тыква интродуцирована в Америке полинезийцами. Теперь он предложил считать исконной родиной этой тыквы Африку, откуда она-де попала в древнюю Америку через Атлантический океан. Он объявил, что распространением в Америке и Полинезии тыква также обязана человеку.
Отстаивать изоляционизм, цепляясь за оставшиеся от бочки клепки, было бессмысленно. И под напором свидетельств Меррилл перестал отрицать, что банан не был интродуцирован в Новом Свете португальцами, как он ранее полагал, а культивировался в Перу и Бразилии еще до плаваний Колумба. В 1954 г. он написал:
«С полным основанием можно признать, что одна или несколько из многочисленных полинезийских разновидностей банана были доставлены самими полинезийцами в Южную Америку, поскольку „глазки“ легко поддаются транспортировке на большие расстояния и сохраняют жизнеспособность, не требуя особого ухода. Возможно, одна разновидность, интродуцированная в приморье Перу, была перенесена через Анды и достигла верховий Амазонки» (Merrill, 1954[220]).
В это время в орбиту дискуссии было вовлечено еще одно полинезийское растение, которое раньше все упускали из виду. Когда европейцы впервые пришли на Маркизские острова, острова Общества, Гавайские острова и подверженные полинезийскому влиянию Фиджи, они нашли там дикорастущий хлопчатник. Много лет это растение не беспокоило этноботаников: ведь исторически известные полинезийцы не знали ткачества, материал для своей одежды изготовляли, подобно некоторым племенам Малайского архипелага и всем индейцам северо-западного приморья Америки, отбивая колотушками луб. Никому не приходило в голову, что здесь мог существовать четко определяемый культурный субстрат, знакомый с ткацким станком и даже с гончарством. Хотя европейцы установили, что из хлопчатника островов Общества и Маркизских можно получить пряжу, островитяне безучастно отнеслись к их попыткам наладить организованное возделывание сей непищевой культуры и трудоемкое прядение и ткачество. И много лет единственной примечательной особенностью полинезийского линтерного хлопчатника почиталось лишь его географическое распространение: никаких видов дикого или культурного хлопчатника не было в других частях Тихоокеанской области, включая Австралию и Малайские острова, зато он рос на необитаемых островах Галапагос, перебрасывая тем самым мостик к диким и культурным хлопчатникам Нового Света.
В 1947 г. Хатчинсон, Силоу и Стефенс опубликовали цитированное выше генетическое исследование диких и культурных разновидностей хлопчатника всего мира. Ко всеобщему удивлению, они обнаружили, что полинезийский хлопчатник относится к 26-хромосомному неамериканскому виду, выведенному гибридизацией аборигенными селекционерами Мексики и Перу. Все дикие хлопчатники Америки насчитывают 13 хромосом; столько же хромосом у всех культурных и диких разновидностей Старого Света. А древним селекционерам Америки, как уже говорилось, удалось скрещиванием вывести разновидность, сочетающую 13 больших и 13 малых хромосом; получился 26-хромосомный, тетраплоидный, линтерный хлопчатник. Вместе с полинезийскими разновидностями это единственные тетраплоиды во всем роде хлопчатника. А потому из чисто ботанических соображений три названных ботаника вынуждены были предположить, что линтерный хлопчатник достиг Полинезии «после того, как в тропическом поясе Америки развилась цивилизация» (Hutchinson, Silow and Stephens, 1947[170]).
Зауэр показал в 1950 г., что сравнительно позднее, но все же доевропейское распространение культурного хлопчатника из Америки в Полинезию нельзя приписать ни морским птицам, которые не едят семян Gossipium, ни океанским течениям, поскольку хлопчатник отнюдь не приспособлен к дальним плаваниям. Он показал также, что
дикий 13-хромосомный хлопчатник мог попасть в Америку естественным путем в отдаленные геологические периоды, когда география земного шара была иной, однако такое объяснение не годится для «гораздо более поздних времен, когда возникла тетраплоидная группа. И эта гипотеза никак не позволяет объяснить присутствие хлопчатника явно американского происхождения в области от островов Галапагос до Фиджи. Волей-неволей мы должны допустить посредничество человека в географическом распространении рода Gossipium. Речь идет всецело о линтерных формах, используемых человеком» (Sauer, 1950[272]).
Картер спрашивал в 1950 г.: «Может быть, хлопчатник первоначально переносили как источник масличных семян, как полагают Хатчинсон, Силоу и Стефенс? Или же в тихоокеанской области было ткачество, от которого затем отказались в пользу лубяных материй?» (Carter, 1950[62]).
Словом, полинезийский линтерный хлопчатник вторгся в сферу этноботаники так же решительно, как батат, кокосовый орех и бутылочная тыква. Даже Меррилл, касаясь опознания в полинезийском хлопчатнике американского гибрида, заявил в 1954 г.:
«Этот гибрид вполне мог достичь Таити с помощью человека до того, как прекратились плавания полинезийцев».
Перед лицом растущего числа свидетельств прямых американо-полинезийских контактов в доколумбовы времена Меррилл был вынужден выдернуть все клепки из своей изоляционистской бочки: «Приходится согласиться, что случайные контакты время от времени возникали между народами Полинезии и Америки и даже между американскими индейцами и жителями островов Восточной Полинезии…» Не считая больше полинезийцев единственными мореплавателями Тихого океана, он добавлял: «Мы должны признать… что аборигены Южной Америки смогли достичь некоторых тихоокеанских островов на бальсовых плотах» (Merrill, 1954[220]).
Признание Меррилла в его последней, предсмертной публикации явилось вехой и обозначило поворот в американской и полинезийской этноботанике. Никто не отстаивал доктрину полной изоляции Америки до Колумба с такой страстной убежденностью, как он. Меррилл и его сподвижники любой океан, несмотря ни на какие течения, считали барьером для перемещения человека, а не подвижной средой, способствующей активным плаваниям и дрейфам. Критический подход сторонников этой точки зрения, несомненно, сыграл ценнейшую роль плотины, без которой американскую этнологию в наши дни захлестнула бы волна диффузионистских гипотез. Необходимо подчеркнуть, что уступки по поводу трансокеанских контактов, обусловленные накопленными свидетельствами, ограничиваются аборигенными плаваниями через сравнительно короткие открытые пространства между Южной Америкой и Полинезией. Ботанические свидетельства прямого контакта с Азией или Малайскими островами отсутствуют. В Полинезии не обнаружено ни одно пищевое растение азиатского происхождения, кроме уже называвшихся ранее культур, полученных из Меланезии путем контакта с Фиджи.
И еще одно важное для всей Полинезии растение стало предметом горячих споров среди этноботаников. Только тот, кому доводилось жить среди полинезийцев и участвовать в их повседневной борьбе за существование, поймет, почему такое невзрачное на вид растение, как Hibiscus tiliaceus, играло важнейшую роль в жизни островной общины. В отличие от упоминавшихся до сих пор растений гибискус дает семена, приспособленные для естественного распространения по морю, поэтому он вполне мог раньше человека попасть в Полинезию. Тем не менее целенаправленное возделывание гибискуса в этой области, а также некоторые лингвистические наблюдения послужили причиной того, что и он стал предметом этноботанической дискуссии. Ботаник Браун справедливо говорит о гибискусе: «Одно из самых полезных растений, возделывавшихся древними полинезийцами» (Brown, 1935[45]). О. и Р. Кук первыми подняли вопрос о гибискусе, или
махо, заявив в 1918 г.: «Хотя многие ботаники называют
махо космополитическим растением морских берегов, возможно, что своим широким распространением он, как и кокосовая пальма, в большой мере обязан посредничеству человека». Они показали, что этот кустарник в диком виде встречается в изобилии и даже преобладает в растительности многих районов Центральной Америки и дальше на юг, до берегов реки Гуаякиль на тихоокеанском побережье Южной Америки, где аборигенное население изготовляло из его луба материю и не боящиеся воды веревки, использовало его для разведения огня. О. и Р. Кук установили, что у полинезийцев гибискус нашел в общем то же применение и назывался похоже. Если в тропической зоне Америки он был известен как
махо или
махагуа (с некоторыми вариантами), то в полинезийских диалектах видим названия
мао, мау, вау, фау, хау и
ау. Названные авторы заключают:
«Махо, махагуа, или липолистный гибискус, — хозяйственное растение, о котором следует помнить, когда изучаешь проблему доисторических контактов между обитателями тропического пояса Америки и тихоокеанских островов. Хотя его считают уроженцем Америки, оно распространилось на островах и берегах Тихого и Индийского океанов явно до прихода европейцев. Простота размножения кустарника и перевозки черенков облегчила его разведение и распространение первобытными народами. Хотя для расселения
махо участие человека не столь необходимо, как для батата и других растений, размножаемых черенками, его названия являют собой почти такое же убедительное свидетельство контактов, как и в случае с общим для полинезийцев и перуанских индейцев названием батата —
кумара. Название
махо или
махагуа с многочисленными местными вариантами широко распространено в тропической зоне Америки, и на многих тихоокеанских островах встречаем сходные обозначения либо самого растения, либо важнейших областей его применения (для волокна, лубяной материи, разведения огня)… Очевидно, первобытные полинезийцы знали
махо до того, как познакомились с аналогичными азиатскими растениями; это следует из того, что полинезийские названия других важных культурных растений — бумажной шелковицы (Papyrius или Broussonetia), китайской розы (Hibiscus rosa sinensis) и винтовой пальмы (Pandanus) — суть производные от
махо. Добывание огня трением, изготовление материи отбиванием луба рифлеными колотушками — специальные приемы, которые, возможно, распространились вместе с
махо из Америки в тропические области Старого Света» (О. Cook and R. Cook, 1918[84]).
Меррилл тогда оспаривал этот взгляд, утверждая, что названный вид никогда не
возделывался за пределами Полинезии. Дескать, если его возделывали в Полинезии, то потому, что гибискус был лучшим или одним из лучших волокнистых растений, доступных первобытным полинезийцам. Он настаивал, что Hibiscus tiliaceus — вид, получивший естественное пантропическое распространение, и что его семена разнесли морские течения. Ссылаясь на господствовавшую в ту пору этнологическую доктрину, будто американские аборигены не были мореплавателями, Меррилл утверждал, что, если человек и впрямь был причастен к распространению, разумнее полагать, что растение попало с островов в Америку, а не наоборот (Merrill, 1920[216]).
В 1950 г. Картер вернулся к изложенным выше противоречивым гипотезам:
«Эти аргументы представляются мне яркими примерами того, к чему приводят навязчивые идеи. Кук так старался доказать американское происхождение земледелия, что неосторожно, чтобы не сказать неразумно, сослался на галофит, семена которого хорошо приспособлены для переноса водой, как на
доказательство того, что человек перевозил растения через океан. В свою очередь Меррилл то ли был очень возмущен настоятельным заступничеством Кука, то ли вообще не переносил мысль о транстихоокеанских контактах (а может быть, и то и другое) настолько, что, ослепленный своими страстями, не видел достоинств аргументации Кука… Судя по ветрам и течениям, если растение в самом деле было перенесено через Тихий океан естественным путем, то именно в направлении из Америки в Полинезию. Однако естественный перенос оставляет нерешенным вопрос о применении и названии… Совпадающие в Полинезии и в Америке названия и способы использования кустарника вкупе с положительным свидетельством в виде батата позволяют утверждать, что независимо от того, естественным или искусственным путем пересекло это растение океан, название его и скорее всего способы применения были перенесены через этот самый океан человеком. Очень похоже, что и растение доставил человек».
Картер пишет там же: «Трудно назвать более ясное доказательство контактов между народами Тихого океана и Центральной Америки, чем то, которое дают нам батат и гибискус, известный под названием махо» (Carter, 1950[62]).
Как мы уже видели в главе 6, Бак в поисках маршрута для миграции из Малайского архипелага
признавал, что ни одно из полинезийских растений не могло прийти оттуда, поскольку сухие песчаные атоллы Микронезии служили барьером. Он показал, что все культивируемые в Полинезии пищевые культуры Старого Света (хлебное дерево, влаголюбивое таро, сахарный тростник и пр.) были получены полинезийцами в недавнем прошлом, в пору оживленных межостровных контактов, когда посещавшие Фиджи гости через Самоа и Тонга распространили эти растения почти по всему Полинезийскому треугольнику. Вместе с фиджийским аутриггером, вместе с курицей и свиньей меланезийские растения постепенно переходили с острова на остров после того, как маори обособились от родственных племен в собственно Полинезии. Рис, с древнейших времен основная пища на Малайском архипелаге и в Юго-Восточной Азии, не был известен на Фиджи и других островах Меланезии, а потому так и не дошел до полинезийцев.
Хотя соседство Фиджи сильно влияло на экономику Полинезии в столетия, предшествующие появлению здесь европейцев, далеко не все полезные растения, которые распространились в разных частях Полинезии в доевропейские времена, можно привязать к этому архипелагу. Хорошо известно, что исконная флора до прихода человека, несомненно, была чрезвычайно бедна полезными растениями, однако европейцы застали уже совсем другую картину. Мы видели, что общеполинезийское возделывание батата, бутылочной тыквы, кокосовой пальмы, а также наличие в треугольнике хлопчатника и гибискуса вызвали оживленную дискуссию ученых, привыкших считать, что эти острова были недосягаемы для южноамериканских аборигенных судов. Но к этому списку можно добавить еще много растений той же немеланезийской категории; правда, они распространены в Полинезии не так широко.
Три островные территории, образующие фасад Полинезии со стороны Америки, считая с юга на север, — остров Пасхи, Маркизские острова и Гавайские острова. Во всех этих местах обнаружены примечательные ботанические свидетельства, озадачившие ботаников и требовавшие непредвзятого объяснения.
Ближайшая к Южной Америке полинезийская территория — остров Пасхи. Его хозяйство ко времени прихода европейцев, как и хозяйство Гавайских островов и Новой Зеландии, всецело основывалось на возделывании южноамериканского батата. Пасхальцы выращивали несколько разновидностей, известных здесь под общим перуанским названием
кумара. Голландцам преподнесли большое количество батата (Roggeveen, 1722; Behrens, 1722[263, 26]); отряд Кука наблюдал обширные плантации этого растения (Forster, 1778[116]). Первые обосновавшиеся на Пасхе миссионеры писали: «Вечно они варят этот батат. Батат — повседневное блюдо, основная, неизменная пища аборигенов, взрослых и детей… ненарушимое однообразие: всегда батат, всюду батат…» (Eyrand, 1864[109]).
Первые на Пасхе европейцы видели также на полях бутылочную тыкву (Hervé, 1770[146]), и, когда прибыл Томсон, чтобы провести важные исследования для Национального музея США, он отметил: «Распространена дикая бутылочная тыква, она служит единственным сосудом и предметом домашней утвари, известным островитянам». И еще: «Эти калебасы растут в изобилии на острове, но заслуживают внимания еще и потому, что занимают большое место в преданиях, так как первые семена были привезены исконными поселенцами» (Thomson, 1889[307]).
Интересно, что прибывшим из Перу испанцам пасхальцы поднесли «бананы, чилийский перец, батат и птицу» (Hervé, 1770[146]). Все названные растения были известны в доевропейском Перу; их находят в древних, доинкских погребениях на побережье материка. Чилийский перец (Capsicum), похоже, рано попал также на Маркизские острова, где его часто можно видеть дикорастущим у заброшенных селений, но наиболее точные исторические сведения дает нам остров Пасхи. Все виды Capsicum американского происхождения; ни один не числится уроженцем Старого Света.
Заинтриговало ботаников также присутствие в чрезвычайно скудной пасхальной флоре мелкого томата и низкорослой разновидности ананаса. Томсон писал в прошлом веке: «Были также найдены дикорастущие томаты, и во многих случаях они вносили ценное разнообразие в наши нехитрые припасы» (Thomson, 1889[307]). Однако в начале XX в. Кнохе, отметив наличие на Пасхе чилийского перца, добавляет: «…мелкий томат (Solanum lycopersicum) …исчез с острова Пасхи». Он пишет также, что из-за отсутствия ухода почти вовсе исчез полудикий низкорослый ананас (Knoche, 1925[187]).
Томат и ананас — сугубо американские растения, они не могли попасть в Полинезию с Фиджи. Оба росли в диком виде в районах домиссионерских поселений на восточном берегу Пасхи, откуда пасхальцы перебрались в Хангароа на западном берегу, когда на острове впервые поселились европейцы. В тех же районах росли также озадачившие ботаников маниок, маранта и табак; все это американские виды, и, однако, местные предания приписывают их интродукцию предкам в отличие от других растений, привезенных чужеземцами. В первые десятилетия европейской колонизации Томсон записал: «Мы видели растущий в глухих местах табак, но не могли определить, кем и когда он интродуцирован. Туземцы утверждали, что семена были в числе тех, которые привезли на остров первые поселенцы» (Thomson, 1889[307]). Местное название табака —
ава-ава, из чего следует, что листья жевали, как жуют листья
ава или
кава, тогда как табак европейцев называли
одмо-одмо (всасывать) или
пухи-пухи (дуть). В Андской области, пока европейцы не перенесли сюда с севера обычай курить табак, его выращивали для жевания.
Важно отметить, что первые чужеземные растения, успешно интродуцированные на острове Пасхи, были доставлены миссионерами, прибывшими за два десятилетия до Томсона. А первая вообще документированная попытка была предпринята Лаперузом в 1786 г.: его огородник посадил на Пасхе капусту, морковь, свеклу, кукурузу, тыкву, грушу, сливу, вишню, апельсин, лимон и хлопчатник (La Pérouse, 1797[194]), но пасхальцы уничтожили посевы, не дав растениям укорениться.
Когда на Пасху впервые приплыли из Перу испанцы, они обратили внимание еще на одно важное американское растение. В их записках читаем, что для строительства своих жилищ пасхальцы собирали на плантации тот самый камыш
тотора, который культивировали и использовали аборигены Перу (Hervé, 1770; Agüera, 1770[146, 10]). Этот камыш Scirpus riparius и поныне играет важнейшую роль в хозяйстве острова, но растет дико на частично заболоченных кратерных озерах Пасхи. Ко времени прихода европейцев он был главным строительным материалом не только для жилищ, но и для лодок; помещения обставлялись только циновками из
тоторы; из нее же плели шляпы и корзины; чрезвычайно прочные волокна шли на изготовление рыболовных сетей, веревок и толстых плетеных канатов; покойников хоронили в обертке из
тоторы. Этот пасхальный камыш — единственный за пределами Нового Света представитель сугубо американского вида. Углеродная датировка оберток, анализы пыльцы и документальные источники — все говорит о том, что данное растение интродуцировано на Пасхе до прихода европейцев (Smith, 1961[290]). Поскольку речь идет о пресноводном растении с орошаемых полей в приморье Перу, корневища его не переносятся морскими течениями, морские птицы не едят его семян и не могли перенести их на своих перьях за три тысячи с лишним километров. И так как пасхальцы вязали из
тоторы такие же лодки, какими пользовались древние рыбаки вдоль всего тихоокеанского побережья Южной Америки, ботаники и в этом случае предоставили этнологам искать ответа на загадку. Первоначально пасхальский камыш получил латинское наименование Scirpus riparius var. paschalis, но в 1956 г. видный знаток пасхальской флоры Скоттсберг провел новое исследование и пришел к выводу, что речь идет не о варианте, а о растении, тождественном перуанскому Scirpus riparius. Ученый заключил, что это растение было интродуцировано аборигенами: «Трудно представить себе прямой перенос семян через океан без участия человека, а говорить о сухопутных мостах несерьезно» (Scottsberg, 1956[287]).
Пасхальское предание утверждает, что один из древних предков островитян, Уре, привез с собой первые корневища
тоторы и посадил их в кратерном озере Рано-Као. Отметим, что «уру» — название племени в области озера Титикака, чье хозяйство особенно зависит от камыша
тотора. Большинство уру в наши дни живут на плавучих островах из камыша, строят свои лодки и жилища из того же материала.
Единственный спутник
тоторы в кратерных озерах Пасхи, если не считать торфообразующего мха, — Polygonum acuminatum, еще одно ввезенное аборигенами сугубо американское пресноводное растение. Его трансокеанское распространение наводит на такое же размышление, как
тотора. Древние пасхальцы и обитатели бассейна Титикаки использовали его как лекарственное растение.
Дикая или предположительно дикая флора уединенного острова Пасхи была чрезвычайно бедна. В 1934 г. Скоттсберг насчитал здесь всего 31 цветковое растение, из них 11 пантропических или широко распространенных в тропической зоне, а остальные 20 известны в ограниченной полосе к востоку или к западу от острова. Только семь играли существенную роль в хозяйстве пасхальцев, причем два были принесены из Полинезии и пять из Южной Америки
[20]. Присутствие двух полезных полинезийских видов вполне объясняется тем, что предки нынешних пасхальцев, как известно, пришли из Полинезии, зато пять полезных южноамериканских растений основательно озадачили ученых. В 1934 г. Скоттсберг писал: «С ботанической точки зрения эти растения, исключая американские виды, не представляют большой проблемы, если признать, что в самом деле была трансокеанская миграция… однако наличие американского элемента вызывает недоумение». Когда экспедиция «Кон-Тики» показала способность южноамериканских бальсовых плотов проходить расстояние, по меньшей мере вдвое большее того, которое требовалось, чтобы доставить на Пасху семена и корневища, Скоттсберг с новых позиций вернулся к загадочному происхождению пасхальской флоры и заявил, что интродукция аборигенами во всяком случае двух пресноводных видов вполне вероятна и такое допущение намного упрощает сложную ботаническую проблему трансплантации в доевропейские времена (Skottsberg, 1934, 1957[286, 288]).
Установив, что на острове Пасхи предостаточно биологических свидетельств древнего привоза растений с Американского материка, обратимся теперь к Маркизским островам; до них от Южной Америки вдвое дальше, зато они омываются главным потоком Перуанского течения. Флора Маркизских островов тщательно изучена Брауном; его трехтомный труд издан Музеем Бишоп в 1931–1935 гг. Браун установил, что важное хлебное дерево и влаголюбивое таро — неизвестные на Пасхе пищевые культуры маркизцев — были привезены аборигенами с Фиджи; вместе с тем из чисто ботанических соображений он оспаривал господствующие среди этнологов взгляды, утверждая, что другие растения маркизской флоры столь же убедительно свидетельствуют о доевропейских плаваниях из Южной Америки.
Мы увидим в главе 11, что племенные предания на Маркизских островах ясно говорят о далекой стране на востоке (где лежит Южная Америка), откуда предки маркизцев привезли первые кокосовые орехи. Далее, здесь, как и всюду в Полинезии, единственным сосудом была бутылочная тыква. Батат —
кумара — возделывался тут, как и на других островах, хотя не играл такой роли, как на Пасхе и на Гавайских островах, поскольку его оттеснило гораздо более удобное в культуре хлебное дерево. Культурный линтерный хлопчатник одичал. Браун дополнил этот ряд ананасом (Ananas sativus), сугубо американским растением, мелкоплодная разновидность которого свободно произрастает от Бразилии до Андского высокогорья. По его мнению, доколумбово присутствие ананаса на Маркизах говорило о древних плаваниях аборигенов через восточную часть Тихого океана:
«…уроженец тропической Америки, он явно доставлен в древности аборигенами на Маркизские острова, где его видишь во всех обитаемых долинах. Можно встретить отдельные растения тут и там на малых высотах, но похоже, что чаще его сажали на засушливом нагорье… Одна из самых больших ананасных плантаций на Маркизах — на востоке Фату-Хивы, на сухих, открытых, каменистых склонах Моуна-Натаху, на высоте 900 м» (Brown, 1931[44]).
В 1937 г. я прожил несколько месяцев в совершенно изолированной долине Уиа у подножия названной горы и мог убедиться, что дикие ананасы растут в самом неприступном уголке острова, куда вряд ли забирался кто-нибудь из европейцев, кроме бесстрашного Брауна (Heyerdahl, 1952; Хейердал, 1978[148, 8]). В зажатых горными массивами долинах восточного приморья Фату-Хивы никогда не селились европейцы, и даже сами полинезийцы покинули их вскоре после первого контакта с миссионерами. Мелкие местные ананасы были заброшены в покинутых районах Маркизских островов, когда европейцы интродуцировали более крупную разновидность, и островитяне четко различали их; новый ананас всегда рос около их нынешних поселений. Документально известно, что более совершенная разновидность ананаса на Маркизах впервые была интродуцирована в долине Таиохаэ на острове Нукухива в начале XIX в. (Porter, 1815[252]). Браун приводит и еще свидетельства того, что мелкий ананас произрастал на расчистках доевропейской поры:
«Местные названия
хаа хока (северный диалект) и
фаа хока (южный диалект) на Маркизах,
хара на островах Кука… Их мелкие плоды намного превосходят более крупные коммерческие разновидности тонкостью запаха и вкусом. Следующие шесть культивируемых разновидностей, составлявшие неотъемлемую часть древней материальной культуры, очевидно, выведены маркизцами из одного бразильского вида. Это убедительно говорит о том, что древние полинезийцы через контакт с Америкой получили исходный материал задолго до открытия Маркизских островов европейцами» (Brown, 1931[44]).
Папайя Carica papaya — еще одно растение, неспособное распространяться по морю. Принадлежит к роду Carica; родина — тропический пояс Америки; более мелкая разновидность с не такими вкусными плодами произрастала от Колумбии до Перу, где найдено много керамических изображений папайи, выполненных доинкскими гончарами.
Браун пишет: «Carica papaya …на Маркизских островах по меньшей мере две разновидности:
ви инана (ви ината), которую маркизцы считают одной из своих древних пищевых культур, несомненно, привезена аборигенами. Плоды мелкие и не такие вкусные, как у
ви Оаху, привезенной, по словам островитян, с Гавайских островов первыми миссионерами. Обе разновидности обильно плодоносят. Местные названия: на Маркизах —
ви инана, ви ината или
ви Оаху, на Таити —
ита, на Раротонге —
нинита, на Риматаре —
эита, на Гавайских островах —
хеи. Сок папайи, желательно мужского дерева (мамее), применяется для припарок. Происхождение — тропическая Америка; в Полинезии интродуцирована аборигенами» (Brown, 1935[45]).
Наличие заметного южноамериканского элемента в маркизской флоре поразило Брауна не меньше, чем такой же элемент поразил Скоттсберга на Пасхе, и, хотя он допускал прибытие ряда видов естественными путями из Нового Света, Браун подчеркивал, что другие виды намеренно или ненамеренно были доставлены аборигенами. Поскольку его биологические наблюдения не согласовывались с господствовавшими этнологическими гипотезами, он заключал: «Хотя похоже, что основной поток населения Полинезии в отличие от флоры пришел с запада, между аборигенами Американского континента и Маркизских островов, несомненно, происходило какое-то общение» (там же).
Обратимся теперь к Гавайским островам, которые лежат далеко к северу от экваториальной штилевой полосы и за пределами природных конвейеров. Хиллебранд в своей «Флоре Гавайских островов» подчеркивал, что эти острова расположены в области продолжения Куросио, отраженного северо-западным побережьем Америки; вместе с тем чисто гипотетически он предположил наличие побочной ветви течения со стороны Южной Америки: «Это побочное течение, возможно, причастно к прослеживаемому в гавайской флоре важному американскому элементу из Андского региона» (Hillebrand, 1888[160]).
Андский элемент на Гавайских островах включал уже рассмотренный в связи с Пасхой и Маркизами ананас. Бертони в своей работе, посвященной роду Ananas, одним из первых указал, что эта пищевая культура, видимо, попала на тихоокеанские острова из Южной Америки в доколумбовы времена (Bertoni, 1919[32]). В 1930 г. Дегенер в статье о гавайских растениях сослался на письменные источники, удостоверяющие, что первые привезенные европейцами ананасы были посажены на Гавайских островах в 1813 г., то есть через 25 лет после того, как Кук открыл эти острова; однако он же добавил, что «гавайцы выращивали это растение в полудиком виде задолго до того» (Degener, 1930[93]). Коллинз в статье по истории ананаса также обращает внимание на его давнее присутствие на Гавайских островах, где аборигены знали его под названием
хала Кахики (Collins, 1949[75]). «Кахики» — полинезийское наименование легендарной родины предков, а
«хала» созвучно
ха’а и
хара, как аборигены называли то же растение соответственно на Маркизах и на островах Кука.
Гавайские острова — еще одна полинезийская группа, где европейцы застали дикорастущий линтерный хлопчатник. Gossypium tomentosum одно время считали гавайским эндемиком, но в 1947 г. уже упоминавшееся исследование, проведенное Хатчинсоном, Силоу и Стефенсом, доказало, что речь идет о прямом деривате 26-хромосомного хлопчатника, искусственно выведенного представителями древних культур Мексики и Перу. Авторы заявляют, что «ввиду его тесного родства с хлопчатниками Нового Света G. tomentosum мог попасть на Гавайские острова только после утверждения цивилизации в тропическом поясе Америки» (Hutchinson, Silow and Stephens, 1947[170]).
Еще один примечательный вид в ряду американских пищевых культур, известных гавайским аборигенам, — перувианская вишня Physalis peruviana. Хиллебранд считает ее натурализованной и приводит местное название
поха. На Гавайских островах Physalis культивировали в прошлом ради съедобных ягод, которые можно хранить несколько месяцев (Hillebrand, 1888[160]). Родина перувианской вишни — область от Мексики до Перу. В Новом Свете возделывались две разновидности, но попавшая на Гавайские острова Physalis peruviana культивировалась преимущественно аборигенами Перу. Картер выделяет в труде Хиллебранда девять американо-гавайских растений и заявляет, что все они заслуживают изучения с этноботанической точки зрения. О перувианской вишне он говорит: «Подобно хлопчатнику, батату и гибискусу, Physalis опять-таки указывает на Перу». И еще:
«Даже эти немногие выдержки из старого труда содержат ключ к вопросу происхождения американского элемента во флоре Гавайских островов. В самом деле, было бы странно, если бы оказалось, что природа доставила на Гавайские острова только те „космополитические травы“, которые использовались человеком в Америке, причем и сам способ употребления совершил то же путешествие, как мы это видим в случае с Argemone» (Carter, 1950[62]).
Присутствие на Гавайских островах сугубо американского Argemone (A. alba var. glauca) было отмечено еще капитаном Куком, когда он открыл этот архипелаг, и заставило ученых основательно поломать голову. В статье о роде Argemone Прейн пишет, что его присутствие в аборигенной Полинезии «трудно объяснить» (Prain, 1895[253]), и его коллега Федде позднее в параллельном исследовании повторяет следом за ним: «право же, трудно объяснить» (Fedde, 1909[111]).
Ближайший родственник гавайского Argemone с белыми цветками растет на тихоокеанском побережье Южной Америки. Аборигены Перу культивировали его ради наркотических и анестетических свойств (Yacovleff and Herrera, 1935[322]), и такое же применение нашел он на Гавайских островах. Не удивительно, что это растение вскоре привлекло внимание этнологов. Сотрудник Музея Бишоп на Гавайских островах Стоукс, один из тех, кого заинтриговала роль американского батата для древних гавайцев, писал: «Если между Гавайскими островами и Центральной Америкой были древние контакты, не так уж и удивительно, что люди Кука обнаружили на островах мексиканский мак (Argemone mexicana). Тогда он мог сюда попасть на судах, а не с помощью ветра, как обычно утверждают» (Stokes, 1932[297]).
Наконец Картер сделал решительный шаг:
«Это не сорняк, а растение с определенным применением в рамках данной культуры. Поскольку растение прибыло на острова вместе со специфическими способами его применения, можно предполагать намеренную, а не случайную доставку… Оно используется здесь в медицине так же, как и в Америке: применяют не только масло из семян, но и млечный сок (от хронических кожных заболеваний). Кук застал это растение, когда открыл острова. Федде давно отмечал, что этот вид произрастает на открытых пространствах, а это, как еще раньше указывал Энглер, характерно для интродуцированных растений на островах. Федде не считал этот вид древнейшей интродукцией. Названные свидетельства убедительно говорят о том, что растение доставлено на Гавайские острова человеком». И еще: «Argemone — признак того, что обмен знаниями касался не только пищевых культур, но и медицины с сопутствующими магическими ритуалами» (Carter, 1950[62]).
Как мы уже говорили, неверно представлять себе Полинезию островным раем до прибытия первых поселенцев. Всюду, где сохранились предания, мы узнаём, что люди не застали на островах почти никаких полезных растений. На благодатном ныне острове Мангарева предание говорит: «Когда туда прибыли Миру и Моа, там вовсе не было людей. Не было и высоких деревьев от берега до подножия гор. Земля была голая» (Buck, 1938 b[53]).
Хотя некоторые американские растения вроде камыша
тотора и папайи, видимо, достигли только ближайших к их родине тихоокеанских островов, другие, как линтерный хлопчатник, распространились через острова Общества вплоть до Фиджи. А такие, как батат, проникли в глубь Меланезии всюду, где были полинезийские колонии, но не дальше. А вот кокосовый орех дошел через Тихий океан до Малайских островов и далее за несколько веков до прихода в эти области европейцев. Причина достаточно ясна: кокосовая пальма хорошо приспособлена для путешествия через сухие коралловые атоллы промежуточной микронезийской территории; стоило ей где-то прижиться, как она становилась верным спутником человека в дальних плаваниях благодаря тому, что содержимое ореха, включая молоко, долго сохраняется.
Мы видели в главе 2, что первые европейские мореплаватели, да и многие бальсовые плоты в XX в., миновав мелкие острова Полинезии, подходили к суше в обители негроидов — Меланезии. То же самое вполне могло происходить в доевропейские времена. Даже если перуанские предшественники маори-полинезийцев в своих экспедициях выходили на какие-то полинезийские острова, они мало что могли там найти помимо рыбы и морских птиц, так что естественно было, оставив необитаемые и невозделанные клочки суши, двигаться дальше, к большим лесистым островам Меланезии, где весьма древнее полуконтинентальное население могло предложить выращенные им тропические культуры.
В пользу очень давнего прихода в Меланезию аборигенов Америки говорят не только археологические и исторические данные о наличии там налепной керамики американского типа и другие примеры культурных параллелей, но и присутствие линтерного хлопчатника, который в отличие от батата и бутылочной тыквы не мог быть посажен обходящимися
тапой маори-полинезийцами. К тому же на запад вплоть до треугольника Самоа — Тонга — Фиджи проникли и другие полезные растения Нового Света. В прошлом веке Зееманн установил американское происхождение многих фиджийских растений (Seemann, 1865–1873[275]), и Меррилл признал: «…хотя полинезийцы могли сами вывезти батат из Америки в Полинезию, они могли также интродуцировать некоторые американские сорняки» (Merrill, 1946[216]). Но опять-таки бросается в глаза высокий процент
полезных растений. Среди них Heliconia bihai — сугубо американское волокнистое растение, неожиданно появляющееся в сопредельной зоне Полинезии — Меланезии. Бейкер установил, что тихоокеанская геликония — культурная разновидность, родственная видам, которые выращивались аборигенами Мексики и Перу (Baker, 1893[16]). Ботаник Кук первым предположил, что она была доставлена человеком, ведь листья геликонии шли на кровлю, изготовление шляп, циновок, корзин, а богатые крахмалом клубни употребляли в пищу. Он писал:
«Хотя это растение больше не возделывается полинезийцами, оно прочно обосновалось в горах Самоа и на многих архипелагах дальше на запад. В Новой Каледонии из крепких листьев и в наши дни плетут шляпы, однако уроженец Малайской области панданус больше подходит для всяких хозяйственных нужд, и на полях полинезийцев он вытеснил Heliconia» (Cook, 1903[79]).
Этнологи всегда считали, что таро интродуцировано в Полинезию из Меланезии, и это несомненно так в отношении истинного таро Colocasia antiquorum, которое произрастает только на сырой почве и на орошаемых полях. Иное дело — предпочитающее сухую почву таро Xanthosoma atrovirens, известное на Таити и Маркизах как
таруа, — единственная разновидность таро, встречаемая на острове Пасхи на сухой земле среди лавовых глыб (Heyerdahl, 1961[151]). Сухолюбивое таро могло явиться лишь из Америки, родины всех видов этого рода. Подобно Куку, Зауэр показывает, что Xanthosoma, как и истинное таро, обычно культивируют на относительно влажных низменностях. В Перу корни его сушат для длительного хранения.
В той же пограничной полинезийско-меланезийской области видим американские ямсовые бобы Pachyrrhizus. Поскольку они тесно связаны в своем распространении с собственно ямсом Dioscorea, следует, пожалуй, начать с последнего, у которого более замысловатая история. Принято считать ямс меланезийским растением, доставленным в Полинезию вместе с хлебным деревом. Однако это еще надо доказать. Род Dioscorea получил транстихоокеанское распространение в доколумбовы времена; европейцы в своем продвижении встречали его от атлантических берегов Центральной Америки до Малайских островов. Специалист по географии растений Зауэр в своем обзоре культурных растений Южной и Центральной Америки показывает, что в тропиках Нового Света произрастает ряд диких видов Dioscorea, в том числе есть виды со съедобными клубнями (Sauer, 1950[272]). Картер сообщает, что ямс (местное название
ахес) подробно описан уже во времена первой высадки испанцев на островах Карибского моря. Самое первое упоминание — в записках Наваррете о плавании Колумба: «Итак, вот еще одно растение, которое, подобно батату, размножается вегетативно, а потому вряд ли способно пересечь морские просторы с ветром, течением, птицами, вообще без помощи человека и, однако же, пересекло океан в доколумбовы времена» (Carter, 1950[62]).
Браун также вполне отдавал себе отчет в том, что аборигенный ямс попал на Маркизы скорее из Нового Света, чем из Меланезии. Узнав от островитян, что они называют эти клубни
пуахи, он записал:
«Материала для точного определения недостаточно, но это растение как будто близко, если не тождественно Dioscorea саyenensis Lamarck, уроженцу Африки, который издавна возделывался в тропической Америке… Его подземные клубни охотно применяются в пищу аборигенами… На Маркизских островах ямс очень редок. Всего один экземпляр найден на Фату-Хиве, самом южном острове архипелага. Несомненно, интродуцирован аборигенами в давние времена. Если это и впрямь D. cayenensis, на который он очень похож, перед нами еще одно указание на контакт с Америкой» (Brown, 1931[44]).
Джейкмен также отнес ямс наряду с бататом, хлопчатником, гибискусом, кокосовой пальмой и Argemone к этноботанически общей группе культурных растений, которые возделывались на островах Тихого океана до всякого контакта с европейцами:
«Эти растения, вероятно, уроженцы Америки и оттуда попали на острова… поскольку основные течения Тихого океана направляются от Америки на запад, к островам. Большинство этих растений не просто прибыло на острова случайно с течениями, их сознательно доставили туда переселенцы из древней Америки, это видно из того, что лишь немногие из них, а именно те, которые не боятся соленой воды, могли бы пересечь океан без помощи человека…» (Jakeman, 1950[176]).
В пользу того, что ямс попал на острова скорее из Америки, чем с Малайского архипелага, говорит также упомянутая выше связь с ямсовыми бобами Pachyrrhizus. Ямсовые бобы, известные индейцам кечуа под названием
ахипа, обнаружены в Паракасе, в перуанском приморье, при раскопках доинкских могил рыжеволосых мореплавателей, ходивших на швертовых плотах (Yacovleff and Herrera, 1934[322]). Племена Андской области культивировали ямсовые бобы вместе с ямсом как инсектицид (Clausen, 1944[71]). Однако он известен больше как пищевая культура благодаря сочным и сладким клубням. Встреча с ямсовыми бобами в Океании поразила Геппи:
«…родина Pachyrrhizus — Америка. Спрашивается, как растение такого происхождения вообще могло попасть на запад Тихого океана?.. Я тщательно искал, однако семян так и не обнаружил. На Тонге, как сообщает Грэффе, его часто сажают, чтобы улучшить почву для собственного ямса…» (Guppy, 1906[133]).
И опять же Кук явно первым среди ботаников понял, что, «если считать время и трудности путешествия, тихоокеанские острова находились ближе к аборигенам перуанского приморья, чем многие внутренние области материка, покоренные доевропейскими правителями этой империи». Он видит здесь объяснение, почему съедобные клубни такого представителя бобовых, как ямсовые бобы, могли распространиться от Перу до Тонга и Фиджи. И отмечает:
«Аборигены островов Тонга больше не выращивают Pachyrrhizus для питания, но поощряют его рост на паровых землях, считая, что это растение помогает быстрее получать более высокие урожаи ямса… иногда это растение почему-то фигурирует в их религиозных ритуалах; видно, в древности оно играло более важную роль» (Cook, 1903[79]).
Против комплекса биологических свидетельств, которые говорят о том, что важные элементы древнего земледелия тихоокеанских островов были доставлены человеком из Южной Америки, выдвинут только один аргумент: кукуруза, очень древняя в Новом Свете, классическая американская пищевая культура, не возделывалась в Океании, пока ее не интродуцировали европейцы. Поскольку этот неоспоримый ботанический факт согласовывался с господствовавшим мнением о полной изоляции Нового Света от всех заморских территорий, кроме Сибири, он особенно сильно влиял на позицию этнологов. А потому стоит напомнить, что экспедиция Менданьи, вышедшая из Перу и в 1595 г. открывшая первые полинезийские острова — Маркизы, везла с собой кукурузу. Черным по белому было записано, что команда «посеяла кукурузу в присутствии туземцев» (Guiros, 1609[255]). Тем не менее, когда Кук повторно открыл те же острова в 1774 г., там не было кукурузы, не культивируют ее на Маркизах и в наши дни. Далее, Лаперуз в 1786 г. посадил кукурузу на острове Пасхи, но, прибыв туда почти через сто лет, миссионеры кукурузы не застали и сеяли ее заново. Никто не станет оспаривать исторически известных посещений Менданьей Маркизских островов и Лаперузом острова Пасхи на том основании, что посеянная ими кукуруза не принялась. Конечно же, о трансокеанских плаваниях следует судить по большому количеству американских пищевых культур, которые росли в полинезийских поселениях до прихода европейцев, а не по одному отсутствующему виду. Если отсутствующее растение можно считать аргументом против контакта, почему бы не уделить такое же внимание основной пищевой культуре Малайского архипелага — рису.
Подведем итог. Всякий ученый, с интересом следивший, как в этом столетии росло число убедительных этноботанических свидетельств, не может не согласиться всецело с заявлением Барро при открытии возглавлявшегося им симпозиума по растениям и миграциям тихоокеанских народов на Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу в 1961 г. Признавая, что ботаника Тихого океана слишком долго руководствовалась признанной почти всеми догмой об одностороннем движении человека в этой области, он счел желательным пересмотреть все ботанические данные в свете установленного ныне факта, что люди на бальсовых плотах из Южной Америки вполне могли быть переносчиками андского элемента в доевропейской флоре Океании (Barrau, 1963[23]).
ЧАСТЬ IV
Ступеньки на Запад из Южной Америки
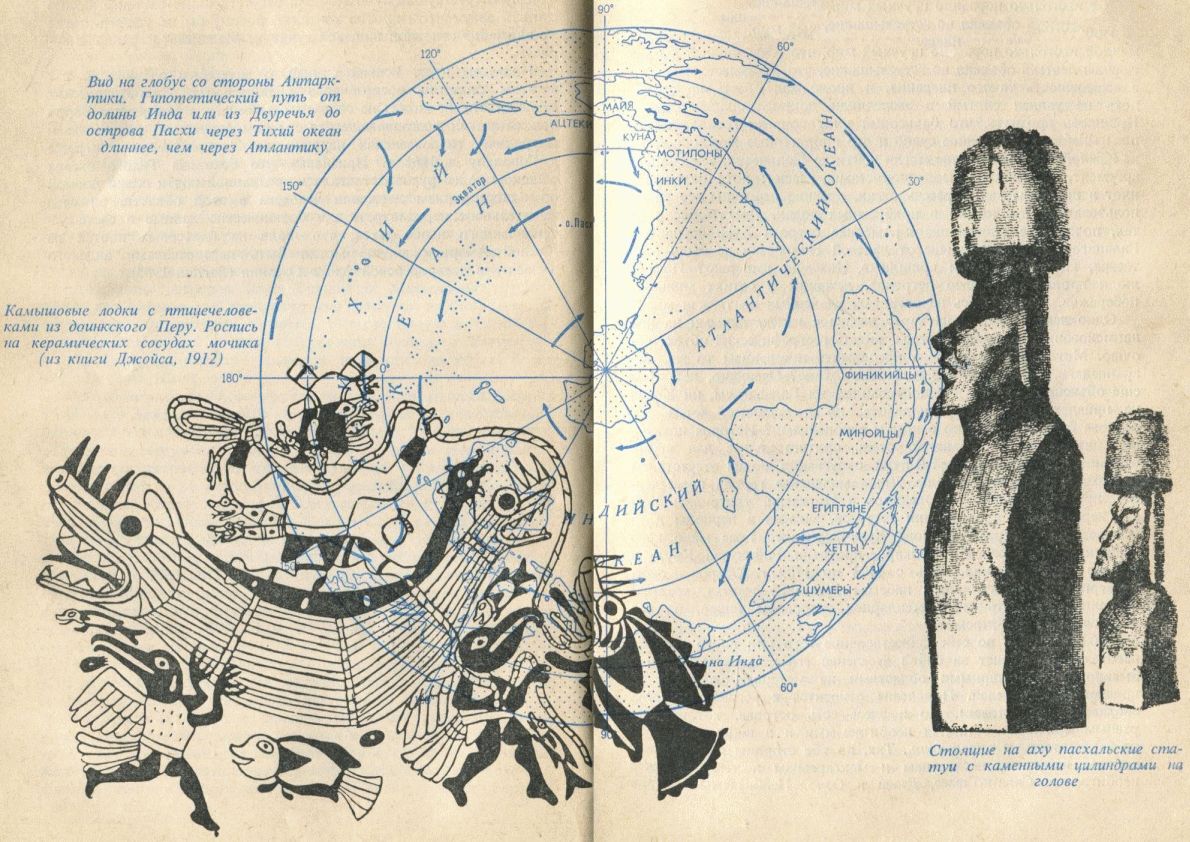
Глава 10
Использование островов Галапагос до испанцев
Прибытие в Полинезию бальсового плота «Кон-Тики» с командой настолько поразило научный мир, что один видный американский деятель объявил во всеуслышание, что отказывается верить в возможность такого плавания, и продолжал стоять на своем, пока не увидел снятый в экспедиции документальный фильм. Пришлось признать, что бальсовый плот вопреки господствовавшим мнениям мореходное судно и что аборигенные мореплаватели из Южной Америки вполне могли дойти до Полинезии. Следующий аргумент, выдвинутый изоляционистами, гласил: хотя бальсовый плот в принципе мог пересечь океан, древние перуанцы все равно пользовались им только в прибрежных водах. Дескать, если не так, почему же ближайшие к Америке острова Хуан-Фернандес, Галапагос, Кокос в отличие от далекой Полинезии не были обитаемы, когда европейцы пришли в Инкскую империю? Почему люди проплывали мимо островов, лежащих в сотнях миль от побережья, и поселялись на островах, удаленных на тысячи миль?
Одно дело — глядеть на карту океана с напечатанными на ней наименованиями, совсем другое — видеть географический объект воочию. Могли ли эти острова предложить поселенцам то же, что архипелаги, расположенные дальше в океане? Очевидно, нет. Чем еще объяснить, что ни Хуан-Фернандес, ни Галапагосы, ни Кокос не привлекли не только индейцев, но и испанцев, когда эти острова были официально открыты европейцами? История показывает, что острова Галапагос, столь притягательные для игуан, огромных черепах, тюленей и птиц, отпугивали людей отсутствием постоянных источников воды. Лишь маленькая группа переселенцев, преимущественно из Эквадора и Норвегии, ухитрилась кое-как перебиваться в окружении кактусов, запасая в периоды дождей воду в цистерны. Острова Хуан-Фернандес тоже мало кого манили, хотя Александр Селкирк, прототип Робинзона Крузо в романе Дефо, прожил здесь с 1704 по 1709 г. Остров Кокос, подвергавшийся регулярным набегам искателей счастья, которые надеялись отыскать там легендарное сокровище инков, по сей день остается необитаемым.
Выходит, само по себе существование того или иного острова необязательно влечет за собой заселение его человеком, как это бывало и с обширными областями на материке, которые не привлекли обитателей. Полинезия относится к регионам, всегда соблазнявшим человека. Но и здесь есть острова, которые по разным причинам остаются необитаемыми и в наши дни, хотя по карте этого не определишь. Так, по обе стороны Пасхи лежат хорошо известные пасхальцам и мангаревцам и тем не менее необитаемые Сала-и-Гомес, Дюси и Оэно. Необитаемый остров Хендерсон играет важную роль в экономике жителей Питкэрна, плавающих туда на лодках за древесиной для резных изделий. Да и сам Питкэрн неизвестно почему был безлюден, когда Флетчер Крисчен и другие бунтовщики с «Баунти» прибыли туда в 1790 г. и основали существующую поныне колонию. Между тем аборигенные мореплаватели знали про Питкэрн; это видно из того, что люди Крисчена находили мелкие каменные статуи и другие следы былого поселения, включая неполинезийские кварцевые и базальтовые наконечники для копий, хранящиеся ныне в одном из музеев Оксфорда (Heyerdahl and Skjölsvold, 1965[157]).
Можно ли представить себе, что такой крупный архипелаг, как Галапагос, расположенный относительно близко к берегам Эквадора и омываемый главным потоком Перуанского течения, был известен южноамериканским морякам, однако не располагал их к постоянному поселению? Не говоря уже о предельно скудном ландшафте с его вечными кактусами, где все выпадавшие в сезон дождей осадки тотчас уходили в пористую лавовую почву, известно, что действующие вулканы производили опустошения на этих островах и в исторические времена.
Исследование наличной литературы об этом архипелаге выявило единодушное мнение авторов, что на островах Галапагос нет никаких археологических остатков, что до европейцев здесь не ступала нога человека. Однако все эти утверждения основывались не на личных наблюдениях археологов, а исходили от зоологов, ботаников, геологов и авторов путевых записок, которые, судя по всему, просто цитировали друг друга и повторяли суждение, ставшее аксиомой. Выяснилось, что ни один археолог и не пытался заниматься островами Галапагос, поскольку считалось, что 600-мильное расстояние, отделяющее их от материка, не могло быть преодолено судами южноамериканских аборигенов.
Обстоятельства, которые в конце концов привлекли внимание археологов к Галапагосам, можно назвать забавными. В руки сотрудников Американского музея естественной истории попала фотография странной каменной головы, обнаруженной ботанической экспедицией на острове Санта-Мария (Чарльз) (Orcutt, 1953[239]). Обросшая лишайником и затененная листвой, голова эта выглядела настолько подлинной, что специалист по этнологии острова Пасхи Метро заключил, что этот образец ваяния вдалеке от материка обязан своим рождением полинезийским мореплавателям. Археологи упомянутого музея полагали, что стоит исследовать территорию, где найдена скульптура. Я пригласил заведующего археологическим отделом Управления национальных парков США Рида и главного куратора кафедры археологии в университете Осло Шёльсволда, и мы приступили к первым систематическим поискам следов доевропейских поселений на островах Галапагос.
Фотография с Санта-Марии (Чарльз) оказалась сплошным разочарованием: непосредственный осмотр камня позволил установить, что он недавно обработан добродушным немецким поселенцем, который немного подправил естественную поверхность лавы на радость своим детям, и у него не хватило духу сказать об этом, когда он увидел, как ликовали при виде камня приезжие ботаники. Впрочем, не менее забавно, что тот же поселенец, господин Виттмер, узнав о наших планах, отвел нас в курятник, где куры уже давно, на удивление хозяину, выкапывали из земли старые черепки. Не так давно после особенно сильного ливня такие же черепки обнажились на склонах небольшого овражка. Так получилось, что не ученые, а куры первыми открыли археологические свидетельства на островах Галапагос.
Наши исследования были ограничены островами Санта-Мария (Чарльз), Санта-Крус (Индефатигабл) и Сан-Сальвадор (Джеймс). Способ отбора наиболее многообещающих мест для закладки шурфов был очень прост: мы ходили вокруг островов на маленькой лодке и высаживались там, где, как нам представлялось, захотели бы высаживаться наши предполагаемые предшественники. Таких мест на Галапагосах чрезвычайно мало. Эродированные скалы и застывшие лавовые потоки с острыми гранями не благоприятствовали высадке, а там, где все-таки можно было высадиться, редко удавалось найти подходящий ровный участок для лагеря среди лавовых глыб и острых скал. Тем не менее на всех трех названных островах нашлись исключения, и в каждом случае лопатки археологов подтвердили, что раньше нас на берег сходили аборигенные мореплаватели.
Следующая глава основана на докладе «Археология островов Галапагос», прочитанном на X Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу в 1961 г. Полный иллюстрированный отчет о находках Галапагосской экспедиции опубликован мною совместно с Шёльсволдом под названием «Археологические свидетельства доиспанских посещений островов Галапагос» в Memoir of the Society for American Archaeology (1956, № 12).
Археологическим исследованием островов Галапагос до недавнего времени пренебрегали, полагая, что они находились за пределами досягаемости для примитивных судов как Южной Америки, так и Полинезии. Примечательно, однако, что авторы XVI–XIX вв., знакомые со швертовыми бальсовыми плотами, полагали Галапагосы вполне достижимыми для аборигенных судов Южной Америки. Убеждение, будто сюда могли дойти только европейские суда, возникло после того, как европейцы перестали встречать в море бальсовые плоты.
Мы уже говорили, что и Мигель Кабельо де Бальбоа, и Педро Сармьенто де Гамба знали и лично описали парусные бальсовые плоты еще до того, как были записаны предания о длительном океанском плавании Инки Тупака. Испанцы тогда уже знали Галапагосы, но Полинезии не знали, поэтому Бальбоа предположил, что флот Инки посетил именно острова Галапагос. Однако Сармьенто де Гамбоа собрал более обширную информацию, в том числе точные навигационные указания, и убедил вице-короля снарядить экспедицию Менданьи на поиски острова в 2400 милях (600 лигах
[21]) на юго-юго-запад от Кальяо, далеко в стороне от Галапагосов.
Чтобы лучше судить о предыстории этих островов, остановимся сначала на исторически известных первых европейских посещениях архипелага.
Впервые европейцы посетили архипелаг в 1535 г., когда корабль, на котором находился епископ Панамы Томас де Берланга, следуя вдоль побережья на юг, в Перу, был подхвачен неблагоприятным течением. Там, где течения Эль-Ниньо и Гумбольдта объединяют свои силы, на шесть дней наступило затишье, и парусник Берланги начало быстро сносить в море. Беспомощно продрейфовав 10 дней в экваториальной штилевой полосе, судно в десятый день марта очутилось на расстоянии видимости какого-то острова. В донесении королю Испании, датированном 26 апреля 1535 г., Томас де Берланга сообщает о тщетных поисках воды на новооткрытой земле, где команде встретились странные игуаны, похожие на змей, и такие большие черепахи, что на них можно было ездить верхом. На острове окружностью 4–5 лиг не нашлось ни капли воды, а тут и на корабле кончились ее запасы, отчего сильно страдали испанцы и их лошади. На другой день был обнаружен еще один остров, больше первого и с высокими горами. Из-за течений и штилей шли до этого острова три дня; он насчитывал в окружности 10–12 лиг. Когда корабль бросил якорь, все сошли на берег; одних послали внутрь острова искать воду, другие вырыли колодец, из которого пошла вода «соленая, точно в море». За два дня и тут не было найдено пресной воды; испанцы спасались тем, что выдавливали и потребляли сок кактусов. Здесь, как и на первом острове, водились тюлени, черепахи и игуаны, не говоря уже о разных птицах, таких ручных, что многих ловили руками.
Епископ выражал сомнение, чтобы на этом острове можно было найти клочок, пригодный для посева хотя бы одного бушеля зерна: кругом сплошной шлак с кактусами вместо травы и груды камней в таком количестве, словно
«всевышний некогда наслал на эту землю каменный ливень». Из-за безводья испанцы потеряли двух членов команды и десять лошадей. В конце концов удалось в одном овраге найти среди камней воду и набрать в бочонки и кувшины около 2 тысяч литров.
С этого острова было видно еще два: один средних размеров, другой — намного больше всех прочих, по меньшей мере 15–20 лиг в окружности. Было определено, что острова лежат между 0°30′ и 1°30′ ю. ш. Испанцы не стали исследовать два других острова; вместо этого, полагая, что новый архипелаг, до которого они дошли очень легко, находится всего в 20–30 лигах от перуанского побережья, они взяли курс на материк с уже упомянутым скудным запасом воды. Однако вскоре им снова пришлось убедиться в силе направленного к западу течения: 11 дней они плыли, не видя суши. На 3° ю. ш. Берланга понял, что взятый курс завел их в еще более сильную струю океанского течения, приказал лечь на другой галс, и еще через 10 дней судно пришло в Каракасский залив в Эквадоре, нисколько не приблизившись к Перу.
Следующее посещение островов Галапагос, еще более кратковременное и поверхностное, чем первое, состоялось в 1546 г. Во время гражданской войны между Писарро и вице-королем Перу капитан Диего де Риваденейра украл корабль в Арике, на северном побережье нынешнего Чили, и взял курс на Новую Испанию, после того как ему не позволили высадиться в Куильке. После 25 дней плавания без приборов и карт корабль приблизился к очень высокому острову, который и обошел за три дня.
Бурное волнение не дало команде высадиться на берег, и судно продолжало бороться с сильными течениями. При этом было замечено еще 12 островов, размерами уступавших первому. Лишь в одном месте людям Риваденейры удалось наконец высадиться для поисков воды, но и то они поспешили вернуться на корабль, боясь, как бы товарищи не бросили их на этом пустынном клочке земли. Разведчики доставили на борт несколько птиц, команда снова подняла паруса и покинула засушливый архипелаг, так и не запасшись водой. Людям Риваденейры пришлось очень туго; наконец сильный ливень помог им утолить жажду. После этого они пристали к берегу в Гватемале, где Риваденейра сообщил о своем открытии и описал виденных на островах огромных черепах, игуан, морских львов и птиц.
В конце XVI в. к Галапагосам подходили и другие испанские каравеллы, но засушливые, бесплодные острова не нашли применения. Местные течения и завихрения постоянно сбивали корабли с курса, так что казалось, эти странные острова перемещаются по поверхности океана. Вот почему их называли Лас-Ислас-Энкантадас — Заколдованные острова. Никто не видел в них никакой пользы, пока под конец XVII в. на архипелаге не высадились английские буканьеры. С той поры колдовство было развеяно, и буканьеры предпочитали называть острова более реалистичным именем — Галапагосы, которое впервые употребил еще в 1570 г. фламандский картограф Абрахам Ортелиус в честь огромных местных черепах, так поразивших первооткрывателей.
Первый отряд буканьеров, задумавший обосноваться здесь в 1680 г., возглавлял капитан Бартоломью Шарп. Поначалу его судно следовало на юг, в сторону Перу, но у мыса Парина свернуло в океан, избегая встреч с испанцами. Оказавшись в районе, где Перуанское течение устремляется к Галапагосам (к тому же дул очень сильный береговой ветер), буканьеры увидели идущий под парусом торговый бальсовый плот. Штурман посоветовал не связываться с командой плота, «потому что было еще не известно, сумеем ли мы их догнать…».
Из тех же записок мы узнаём, что бальсовые плоты «превосходно» ходят под парусом, причем самые большие перевозят до 250 тюков муки из долины Перу до Панамы, не замочив ни одного тюка (Shar, 1704[278]).
В 1684 г. пиратский корабль «Услада холостяка», войдя в Тихий океан, соединился с кораблем «Никлас», и вместе они возле островов Лобос у берегов Перу захватили три испанских торговых судна. Один из пиратов, Уильям Эмброуз Каули, поведал об этом историческом событии в рукописи, хранящейся в Британском музее. Каули сообщает: «…мы пошли на запад, чтобы попытаться найти эти острова под названием Галиполус, а испанцы подняли нас на смех, они называли их заколдованными островами и говорили, что никто, кроме капитана Пориальто, их не видел, да и то он не мог подойти к ним вплотную и бросить якорь, ведь это призраки, а не настоящие острова» (Cowley, 1684[86]).
Приводимые здесь строки были частью опущены, частью искажены, когда Хакке опубликовал рукопись в 1699 г. в «Сборнике настоящих плаваний» под заголовком «Плавание капитана Каули вокруг земного шара».
После трехнедельного плавания Каули и его пиратская шайка нашли острова Галапагос. Они простояли на якоре 12 дней, деля добычу и занимаясь на берегу лечением больного капитана Джона Кука. Пираты посетили несколько островов, и Каули на правах первооткрывателя дал им названия. Он успел также составить первую карту архипелага. Каули и его сподвижники, включая Уильяма Дампира, Эдварда Девиса, Лайонела Уэфера, Безила Рингроуза и Джона Кука, нашли пресную воду только в бухте Джеймс на острове Джеймс, или Сан-Сальвадор (у Каули — залив Олбэни на острове Герцога Йоркского). Здесь им попалась «отличная пресная вода», и они свезли на берег несколько тысяч тюков муки и 8 т айвового конфитюра, составивших часть своеобразной добычи, взятой на испанских кораблях. Последующие посетители часто указывали на множество однотипных больших разбитых «испанских сосудов», обнаруженных на этом берегу, и нет никакого сомнения, что эти черепки и впрямь представляют остатки сладкой добычи «Услады холостяка».
Освободившись от части груза, пираты снова пошли на север, чтобы поискать еще пресной воды на других островах, однако попали в такое сильное течение, что не смогли даже вернуться на остров Сан-Сальвадор (Джеймс), чтобы пополнить убывающие запасы. Пришлось взять курс на северо-северо-восток, который и привел их в конце концов к берегам Новой Испании.
В последующие месяцы 1684–1685 гг. «Услада холостяка» вместе с другими пиратами, вошедшими в Тихий океан, грабила испанские корабли у северо-западных берегов Южной Америки. Вице-король Перу проведал о том, что английские пираты хранят на Галапагосах провизию и держат там коз, и послал отряд с заданием уничтожить провиант и отвезти на берег собак, чтобы те расправились с козами. В 1685 г. «Услада холостяка», вернувшись на заколдованные острова, смогла забрать всего лишь 500 тюков муки, да и те были отчасти попорчены птицами. На сей раз пиратам больше повезло с водой благодаря необычно сильным ливням, и они приметили участки хорошей почвы.
В последующие годы острова Галапагос служили важной базой пиратов, совершавших набеги на побережье Южной Америки. Этот район был достаточно удален от главных трасс испанского судоходства, пиратам не надо было опасаться внезапной атаки, и они спокойно укрывались здесь между битвами и походами. На острова привозили домашних животных; дичая, они служили дополнением к провианту в виде черепах, игуан, птицы и рыбы. Постепенно пираты разведали все немногочисленные непересыхающие источники пресной воды.
По следам британских пиратов в 1700 г. на Галапагосы прибыла французская экспедиция в составе двух кораблей во главе с Бошаном-Гуэном. Французы занимались торговыми операциями, идя вдоль южноамериканского побережья до Кальяо, причем пережили немало неприятностей, потому что их постоянно принимали за недавно бесчинствовавших здесь буканьеров. В конце концов французы ушли от побережья, чтобы исследовать Галапагосы, известные некоторым членам команды, которые и впрямь прежде были пиратами. Экспедиция провела на архипелаге месяц, посетив четыре острова, однако с дровами было плохо, с водой еще хуже, и, покидая архипелаг, французы назвали его «самым отвратительным местом в мире» (рукописный журнал Бошана, хранящийся в Военно-морском музее).
В 1709 г. острова Галапагос дважды посетили снаряженные бристольскими купцами для каперства «Дюк» и «Дюшес». Командир отряда капитан Вудс Роджерс, как и Бошан, отозвался о Галапагосах куда менее восторженно, чем пираты, которые двадцатью годами раньше расхваливали этот архипелаг.
После англичан и французов снова наступила очередь испанцев. Карл III снарядил экспедиции для исследования тихоокеанских вод у берегов Америки, и в 1789 г. на Галапагосы прибыл Алонсо де Торрес. Он переименовал острова и составил новую карту — похуже той, которую на 100 лет раньше начертил Каули.
Насколько можно судить по источникам, заход Торреса на «Заколдованные острова» был первым важным по своим последствиям посещением архипелага испанцами после его открытия Берлангой в 1535 г. — факт, достаточно существенный для нашего истолкования обнаруженной на островах керамики, которое последует дальше.
Годом позже, в 1790 г., Галапагосы посетила первая совсем непродолжительная научная экспедиция на кораблях «Дескубиерта» и «Атревида» под командованием Алессандро Маласпины. К сожалению, вернувшись на родину, Маласпина попал в тюрьму за политическую деятельность, а потому его рукописи не были опубликованы.
В 1793 г. прибыла на архипелаг еще одна экспедиция, открывшая важную страницу в его истории. Английский капитан Джеймс Колнетт был направлен в Тихий океан на корабле «Рэттлер», чтобы исследовать районы китобойного промысла и разведать острова и порты, куда китобойцы могли бы заходить для ремонта и пополнения припасов. Колнетт посчитал расположение Галапагосов удобным для китобоев; здесь можно было вытаскивать суда на берег и в обилии запасаться свежим провиантом, включая вкусное и очень легко добываемое мясо черепах. Он составил первую отвечающую современным требованиям карту архипелага и дал наименования островам, которые не смог опознать по старым картам. Источник на острове Сан-Сальвадор (Джеймс), снабжавший водой пиратов, высох, но капитан предположил, что в глубине острова можно найти другие. Кругом валялись брошенные пиратами испанские кувшины, в том числе совершенно целые. Здесь же были найдены и другие следы пребывания буканьеров — старые кинжалы, гвозди и прочие предметы.
С публикацией в 1798 г. пространного отчета Колнетта о его миссии началась китобойная эра в жизни островов Галапагос. Пиратская эра кончилась давно. Лишь в 1816 г. архипелагу снова нанесли короткий визит авантюристы этого склада: корсары Бушар и Браун пришли сюда, чтобы разделить добычу. Если буканьеры в прошлом отдавали предпочтение бухте Джеймс на острове Сан-Сальвадор (Джеймс), то китобои пользовались удобной якорной стоянкой в заливе на западном берегу Исабелы (Албемарл); с той же поры Почтовая бухта на Санта-Марии (Чарльз) стала регулярным портом захода: идущие на промысел суда оставляли здесь в бочке почту, которую забирали другие суда, возвращавшиеся домой.
В 1812 г. на Галапагосы пришла война: американский капитан Дэвид Портер, получивший задание очистить Тихий океан от английских китобойцев, явился сюда на фрегате «Эссекс». Американский китобоец, занимавшийся промыслом у берегов Южной Америки, привел его в Почтовую бухту с ее знаменитой бочкой. Капитан Портер нашел в письмах важные сведения и смог перехватить немало вражеских судов.
К тому же времени на архипелаге появился первый в исторические времена поселенец. Ирландский моряк Патрик Уоткинс не поладил со своим капитаном и по собственной просьбе был высажен на берег Санта-Марии (Чарльз) поблизости от Почтовой бухты. Километрах в полутора от берега он нашел подходящий, достаточно влажный клочок земли, построил себе хижину и на одном гектаре выращивал картофель и тыквы, сбывая урожай регулярно навещавшим остров китобоям. Капитан Портер в своем журнале, опубликованном в Лондоне в 1823 г., ярко описывает этого отшельника, который пристрастился к рому, а затем хитростью и силой задержал четверых других моряков с разных кораблей и обрек их на роль своих невольников. Повествуя о том, как Патрик и его странная компания в конце концов покинули остров на украденном суденышке, капитан Портер предсказывал, что Галапагосы еще на много десятилетий останутся необитаемыми. Прошло немногим больше десяти лет, и Хосе Вильямил предпринял первую организованную попытку колонизовать архипелаг.
До тех пор ни одно государство не предъявляло своих прав на Галапагосы, но генерал Вильямил из только что обретшего независимость Эквадора задумал организовать компанию по освоению архипелага и в 1832 г. официально вступил во владение им от имени эквадорского правительства. Он переименовал Галапагосы в архипелаг Колона. Добившись помилования 80 солдат, приговоренных за бунт к смертной казни, он отправил их с женами на Санта-Марию (Чарльз), чтобы впервые в исторические времена заложить на архипелаге поселение в глубине острова, в нескольких километрах от Черного берега. Здесь, на высоте 300 м над уровнем моря, из скал бьет небольшой родник с превосходной водой и есть достаточно почвы, чтобы вести скромное хозяйство и держать небольшое количество домашних животных. Однако для поселенцев начались неприятности, когда правительство решило разместить на острове штрафную колонию и пополнило население двумя сотнями ссыльных. Спустя несколько лет Вильямил, разочаровавшись, отказался от губернаторства; последовали мятежи и стычки, большинство ссыльных бежало. В 1845 г. сильно уменьшившееся поселение было перенесено в бухту Врэк на острове Сан-Кристобаль (Чатем), в горах которого обнаружились источники пресной воды. На Санта-Марии (Чарльз) осталось совсем немного жителей из числа ссыльных.
Приблизительно в это время шведский капитан Скугман, совершая кругосветное плавание в 1851–1853 гг., прошел через здешние воды и сделал запись о встречах с бальсовыми плотами, оснащенными двуногой мачтой с парусом и длинными
гуарами на носу и на корме. Стоит отметить, что эти плоты явно поддерживали давнюю мореплавательскую традицию, поскольку Скугман пишет об их заходах на далекие острова Галапагос (Skogman, 1854[284]).
Вторую попытку колонизовать Санта-Марию (Чарльз) предпринял в 1870 г. Вальдисиан, но правительство снова вмешалось, превратив обычную колонию в штрафную. В стычке Вальдисиан был убит ссыльными, а уцелевшие колонисты покинули остров. Брошенные сады и одичавший скот побудили Антонио Джиля в 1893 г. сделать на том же острове третью попытку, но через четыре года он и его компания также сдались и перешли на Исабелу (Албемарл), где и основали поселение на юго-восточном берегу. Они обходились солоноватой водой из источника среди скал у побережья, кормясь тем, что возили серу из местного кратера в Гуаякиль в Эквадоре. Порт на Исабеле (Албемарл) был наименован в честь Вильямила; в 1902 г. здесь обосновался небольшой гарнизон.
В это время штрафная колония располагалась на Сан-Кристобале, и некий Мануэль Кобос, выступая в роли местного диктатора, безжалостно эксплуатировал ссыльных на сахарной плантации, которую он разбил на высоком внутреннем плато в 1880 г. Затем ссыльных перевели в Вильямил на Исабеле (Албемарл), а бухта Врэк на Сан-Кристобале (Чатем) стала уже в наше время главным портом и центром местного управления, и здесь размещен немногочисленный эквадорский гарнизон. В годы второй мировой войны американцы провели из внутренних районов острова водопровод, снабжающий поселение водой, которая до тех пор сбрасывалась в море водопадом на непригодной для обитания стороне Сан-Кристобаля (Чатем).
В 20-х и 30-х годах нашего столетия на Галапагосы, иногда организованными группами, прибывали норвежские, эквадорские и немецкие эмигранты. Почти все они затем покинули острова из-за нехватки пресной воды. Однако несколько человек обосновались на Санта-Крусе (Индефатигабл), в районе Академической бухты, одни — среди шлака и кактусов на самом берегу, где в расчищенном между камней колодце можно было добыть солоноватую воду, другие — у конца дорожки в нескольких километрах от моря, на возвышенности, где есть участок подходящей почвы и можно собирать воду в цистерны во время дождей. Впоследствии к европейцам в Академической бухте (единственное на всем острове поселение) присоединилось несколько эквадорцев, а на Сэймуре, сухом островке у северной оконечности Санта-Круса (Индефатигабл), где американские ВВС построили посадочную площадку во время второй мировой войны, разместился маленький эквадорский гарнизон, всецело зависящий от привоза воды. На Сан-Кристобале (Чатем) освоен только район бухты Врэк; единственное поселение на Исабеле (Албемарл) — Вильямил. Недавно с десяток эквадорцев вновь поселились на Черном берегу Санта-Марии (Чарльз), а один немец с семьей благополучно устроился в горах у источника, разведанного в свое время Вильямином и его спутниками. В остальном архипелаг остается необитаемым и неиспользуемым, если не считать его почти неисчерпаемые рыбные богатства. Попытка основать рыбачий поселок в Почтовой бухте провалилась; не удались и планы вывозить соль из кратерного озера у бухты Джеймс на Сан-Сальвадоре (Джеймс). В 30-х годах нашего столетия из озера извлекли некоторое количество соли, а первыми это месторождение взяли на примету еще буканьеры. В последние годы еще кое-кто пытался обосноваться в бухте Джеймс, а также на других островах, в основном на Санта-Марии (Чарльз), но эти попытки были недолгими, и от хижин почти не осталось следов.
В XX в. ученые впервые стали обсуждать возможность доиспанских посещений Галапагосов. Специалисты по истории инков, от Маркхэма в 1907 г. до Минза в 1942 г., не сомневаясь в подлинности сведений об океанском плавании Инки Тупака, полагали, что армада его плотов посетила ближайшие к материку океанические острова Галапагос. Тем не менее неверное суждение Лотропа и др. о бальсовых плотах не поощряло археологов исследовать необитаемые Галапагосы. А другие посетители архипелага, вместо того чтобы попытаться искать следы доинкских визитов, просто отрицали, что таковые могут быть. Так, фон Хаген заявил: «Какие бы острова ни посетил Инка, это были не Галапагосы». Цитируя в подтверждение этих слов якобы авторитетные указания, что жители Андского приморья были «полнейшими невеждами» в морских делах, он решительно отрицал всякую возможность высадки инков на Галапагосах (Hagen, 1949[137]).
Последующие опыты показали, что эти современные оценки бальсовых плотов ошибочны.
С полной верой в бальсовый плот, на котором я в 1947 г. прошел до Полинезии, отправился я в 1953 г. на Галапагосы вместе с археологами Ридом и Шёльсволдом. Мы не собирались досконально изучать весь архипелаг или хотя бы какой-то остров; места для исследования выбирали с учетом географических условий для аборигенных стоянок и возможностей подхода на примитивных судах.
Всего на трех островах были обнаружены следы четырех доиспанских стоянок. Самая большая стоянка — на плато над бухтой Джеймс на острове Сан-Сальвадор (Джеймс); здесь сохранились следы восьми аборигенных лагерей. Горная гряда отделяет их от стоянки в бухте Пиратов на том острове. Остальные две стоянки находятся в Китовой Бухте на острове Санта-Крус (Индефатигабл) и на Черном берегу острова Санта-Мария (Чарльз). Уже после нас Куффер и Холл нашли древнюю стоянку на мысу Колорадо острова Санта-Крус.
Собранный в скудном почвенном слое и в трещинах в застывшей лаве материал включал черепки аборигенных изделий, терракотовую свистульку в виде птицы (культура мочика), лепных лягушек (культура чиму), меловое пряслице, несколько кремневых и обсидиановых скребков. В общей сложности на всех стоянках найден 1961 черепок аборигенных изделий по меньшей мере от 131 сосуда. Сорок четыре сосуда идентичны с известной керамикой приморья Эквадора и Северного Перу; еще 13 сосудов предположительно соответствуют посуде из той же области. Из остальных 74 аборигенных сосудов 67 не удалось определить из-за недостаточно характерного материала, а семь налепных сосудов вовсе не поддаются отождествлению, хотя материал вполне характерен. На одних стоянках были черепки только перуанских изделий, на других — и перуанских, и эквадорских. Керамика, происходящая из северного приморья Перу, была изучена и определена ведущими авторитетами древней посуды этой области, сотрудниками Смитсонова института Эвансом и Меггерс. Вот результаты определения галапагосского материала:
Формованная посуда Ла-Плата представлена тремя сосудами из двух разных точек на берегу бухты Джеймс; формованная посуда Сан-Хуан — один сосудом из третьей точки на том же берегу; лощеная гладкая Кенето — двумя кувшинами из двух разных точек района бухты Джеймс; тиауанакоидная посуда — тремя кувшинами из двух различных точек на берегу бухты Джеймс. Формованная посуда Сан-Николас представлена одним кувшином с берегов бухты Джеймс; гладкая Томавал — минимум 15 кувшинами из района бухт Джеймс, Пиратов, Китовой и с Черного берега. К тому же типу предположительно отнесены еще пять сосудов с трех стоянок. Не менее десяти кувшинов из района бухт Джеймс и Китовой, а также с Черного берега отнесены к группе гладкой посуды Кастильо. На Черном берегу найдена также глиняная свистулька культуры мочика. Еще шесть кувшинов, видимо, представляют гладкую посуду Кастильо. Остальные поддающиеся определению кувшины — гладкая посуда, характерная для района Гуаяс в Эквадоре.
За исключением трех кувшинов неизвестного прежде неевропейского типа, представленных 337 черепками (край, ручка, тулово) очень тонкой посуды сложной формы с толстой красной глазурью, явно новых типов керамики не обнаружено. Другими словами, сам по себе материал особой научной ценности не представляет. Важно лишь то, что сосуды были оставлены на Галапагосах в 1000–1600 км от места их происхождения на материке.
Естественно спросить: не могли ли какие-то из них попасть на острова в океане во времена после Колумба?
Как мы уже видели, архипелаг был случайно открыт европейцами в 1535 г., когда корабль епископа Томаса де Берланга, идя из Панамы в Перу, был подхвачен мощной ветвью течения, направленной в океан. Испанцы провели день на одном острове, еще два — на другом в тщетных поисках воды, после чего с трудом добрались до Эквадора. Поскольку судно шло из Панамы, вряд ли оно могло доставить на острова Галапагос аборигенную керамику Перу и Эквадора.
Второе посещение архипелага состоялось в 1546 г., когда капитан Диего де Риваденейра украл судно в Арике (Чили) и взял курс на Гватемалу. Он повторно открыл Галапагосы, и на одном из малых островов опять тщетно искали воду, затем корабль тотчас пошел дальше, на заходя на остальные острова.
Нам известно, что во второй половине XVI в. еще несколько испанских каравелл подходили к архипелагу, но известно также, что безлюдные, бесплодные и безводные острова не нашли никакого применения. Возможно, на борту каких-то из этих судов были индейцы, высаживавшиеся на берег с кувшинами, часть которых разбилась, однако вряд ли они разбили 131 кувшин, притом в разных местах. Да и не могли каравеллы везти такой разнообразный набор керамики, представляющей удаленные друг от друга географические области и культурные эпохи Перу и Эквадора, причем на материке некоторые виды изделий сохранились до исторических времен лишь в погребениях.
Мы видели, что для испанцев далекий архипелаг, омываемый коварным Перуанским течением, оставался Заколдованными островами, пока английские буканьеры под конец XVII в. не устроили себе здесь удобное убежище.
Словом, приписывать остатки аборигенной посуды в разных частях Галапагосского архипелага европейцам нет оснований. Произведенное Эвансом и Меггерс определение перуанской посуды показывает, что речь идет о доинкских изделиях периодов Эстеро, Ла-Плата и Томавал на материке; стало быть, кувшины по меньшей мере с двух галапагосских стоянок датируются приморской культурой Тиауанако.
Черепки минимум 131 аборигенного сосуда, собранные на Галапагосах, свидетельствуют о немалой активности людей в этом районе задолго до прихода колонизаторов. Само собой разумеется, наше беглое обследование не могло выявить всех стоянок, обнаружена лишь часть наличного материала. Из-за скудости почвенного слоя на береговых скалах много следов былых посещений, конечно, смыто в море. Далее, не подлежит сомнению, что перед нами примеры кратковременных заходов, а не постоянных поселений, от которых остались бы более мощные пласты и более однородная посуда. И вряд ли здесь на месте могло независимо развиться гончарство, точно повторяющее материковые типы — от Кастильо и Томавал гладкой до полихромной тиауанакоидной, Сан-Николас фигурной и трех характерных образцов черной керамики чиму: Кенето лощеной гладкой, Сан-Хуан фигурной и Ла-Платы фигурной. Собранный материал географически привязывается к областям от Гуаяс (Эквадор) до лежащей в 1500 км южнее долину Касма у рубежей центрального приморья Перу.
Подведем итог. Пальма первенства в использовании бесплодных, засыпанных вулканическим шлаком островов Галапагос, вероятно, как рыболовной базы принадлежит не европейцам. Обычай этот зародился у аборигенов по меньшей мере во времена приморской культуры Тиауанако в археологической периодизации Перу.

Археологические объекты на Галапагосских островах
Глава 11
Кокосовые орехи острова Кокос
Три острова группы Хуан-Фернандес, омываемые северной дугой Антарктического течения, лежат так далеко на юг от бывшей инкской империи и на таком расстоянии от области, где в прошлом ходили бальсовые плоты, что они вряд ли играли заметную роль для аборигенных мореплавателей Южной Америки. Острова Галапагос расположены точно на экваторе, иначе говоря, как раз на широте Манты, откуда, по инкским легендам, вышел в море Кон-Тики-Виракоча вместе со своими белыми бородачами и откуда, как сообщают инкские историки, отправился в дальнее плавание на бальсовых плотах Инка Тупак.
Археология свидетельствует, что острова Галапагос посещались с материка со времен Тиауанако; исторические источники сообщают, что бальсовые плоты все еще ходили на пустынный архипелаг в первой половине прошлого столетия. Нетрудно понять, почему эти острова, хотя и бедные постоянными источниками воды, привлекали аборигенных добытчиков продовольствия и купцов. Галапагосы кишели крупными съедобными игуанами и гигантскими черепахами, которых можно было ловить прямо руками, причем черепахи представляли собой пригодный для дальних перевозок источник жира и пищи. Есть признаки, что на этих сухих островах пытались культивировать хлопчатник; ботаники определили, что считавшийся эндемиком дикий галапагосский хлопчатник Gossipium darwinnii на самом деле разновидность искусственно выведенного доевропейскими цивилизациями Перу южноамериканского 26-хромосомного Gossipium barbadense. Одичавший галапагосский хлопчатник обладает текстильным волокном, хотя и не слишком высокого качества; вот и ответ, почему среди раскопанных нашей экспедицией предметов оказалось меловое пряслице аборигенного типа. Но главная притягательная сила Галапагосов — огромное количество рыбы, ради которой сюда и поныне идут рыболовные суда со всего Тихого океана. Поскольку, как уже сказано, архипелаг расположен прямо на экваторе, его окружают беспорядочные течения и струи, благоприятствующие развитию морской фауны. Направляющиеся на запад холодные струи Перуанского течения омывают южные острова архипелага; у северных островов проходит теплое течение Эль-Ниньо из Панамы и наблюдается много завихрений. Мы уже видели, как сила названных течений увлекала парусные суда на запад с такой скоростью, что мореплаватели, в том числе и в нашем столетии, называли острова Галапагос «заколдованными», считая, что они перемещаются по поверхности океана.
Поскольку Галапагосы, как выяснилось, хотя и не знали постоянных поселений, играли для доевропейских мореплавателей из Эквадора и Перу б
ольшую роль, чем для явившихся позже испанцев, стоит заново рассмотреть загадочную предысторию уединенного острова Кокос. Этот остров в отличие от засыпанных вулканическим шлаком Галапагосов в обилии располагает пресной водой и плодородной почвой. В наши дни он стал удобным портом захода для лайнеров из Панамы, однако постоянных поселенцев Кокос в послеколумбовы времена не привлекал. Есть причины предполагать, что в доевропейские времена дело обстояло иначе.
Эта глава основана на «Заметках о доевропейских кокосовых рощах на острове Кокос», опубликованных во втором томе отчетов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана, который вышел в 1965 г.
Остров Кокос лежит на 5°35′ с. ш., приблизительно в 800 км к западу от Панамы, иначе говоря, в экваториальной штилевой полосе с ее беспорядочными течениями, обрамленной могучими, устремленными на запад Северным и Южным экваториальными течениями. Северное расположение острова исключает возможность какой-либо роли для парусных плаваний из Южной Америки в Полинезию. Однако Кокос находится всего в 480 км к юго-западу от Коста-Рики, как раз на пути между Гватемалой и Эквадором. Поскольку современная археология накапливает все больше данных о прямой доевропейской торговле между Гватемалой и приморскими культурами Эквадора и Северного Перу, Коу (Сое, 1960[73]) и другие указывали, что остров Кокос мог служить идеальным промежуточным портом для аборигенных мореплавателей из упомянутых областей. Здесь они могли пополнить запас провианта любым количеством зеленых кокосовых орехов с выдерживающим долгое хранение освежающим соком.
Другие исследователи обращали внимание на явное сходство каменных статуй Колумбии и Эквадора с изваяниями на ближайших островах Полинезии, то есть на крайних Восточных островах Маркизского архипелага — Хива-Оа и Нукухива. Когда мы после раскопок в кокосовых рощах на упомянутых островах возвращались на экспедиционном судне в июле 1956 г. в Панаму, остров Кокос оказался на нашем пути, и мы решили зайти туда, чтобы ознакомиться с географической обстановкой.
Остров Кокос со всех сторон окаймлен отвесными скалами высотой 100–200 м, которые от внутреннего плато обрываются прямо в бурлящий океан. Площадь острова 45 кв. км; наибольшая высота нагорья — 911 м. Лишь на севере береговые скалы прорезаются двумя непересыхающими потоками, устья которых образуют бухты Чатем и Уэфера. От каждой бухты в глубь острова уходит короткая, зажатая кручами долина; обе они упираются в отвесные стены и до внутреннего нагорья не доходят.
Сильные дожди питают многочисленные водопады; они срываются из висячих долин или с гребней в выбитые в береговой кромке водоемы. Благодаря высокой влажности крутые склоны долин, а также внутреннее плато и гребни поросли густым, непроходимым тропическим лесом; зеленые мхи и кустарники покрывают большую часть береговых скал. Только вдоль двух главных долин можно проникнуть внутрь острова, да и то надо расчищать себе путь в подлеске.
Общий характер растительности сильно изменился с тех пор, как первые побывавшие здесь европейцы описали остров и дали ему имя. Кокосовых пальм теперь осталось так мало, что название «остров Кокос» представляется явным преувеличением, когда вспомнишь другие острова, лежащие ближе к Панамскому перешейку или дальше в океане. Но раньше остров соответствовал своему названию, это видно из рассказов открывших его испанцев английскому капитану Дампиру. Дампир пишет: «Остров Кокос назван так испанцами потому, что там в изобилии растут кокосовые пальмы. И не в одном, не в двух местах, а большие рощи… Так говорят испанцы, и то же самое я слышал от капитана Итона, побывавшего там впоследствии» (Dampier, 1729[89]).
Одним из первых среди европейцев там побывал в 1685 г. капитан Уэфер, чьим именем назван залив:
«Как только люди более или менее отдохнули, мы пошли на юг и достигли острова Кокос на 5°15′ с. ш. Он так назван из-за кокосовых орехов, коими весьма богат. Остров небольшой, но приятный; середина его представляет собой крутую гору, а ее со всех сторон окружает плато, спускающееся к морю. Это плато, особенно же долина, где сходят на берег, сплошь поросло кокосовыми пальмами, и они отлично здесь прижились на тучной и плодородной почве. Очень красиво пальмы произрастают у подножия горы в середине острова и местами на склонах. Но особую приятность сему месту придают многочисленные источники чистой пресной воды, собирающейся в заполнившем вершинный котлован большом глубоком водоеме или пруду; стока в виде ручья или реки для этой воды нет, посему она переливается в нескольких местах через край котлована и сбегает вниз множеством красивых струй. И там, где склоны особенно крутые и нависают над плато, срываются водопады, будто льют воду из ведра, и под самой струей, как под водяным сводом, остается сухое место. Все это вместе с красивым видом, с произрастающими вблизи кокосовыми пальмами и освежающей знойный воздух падающей водой делает это место весьма чудесным и услаждающим одновременно многие чувства.
Наши люди были премного довольны развлечением, каким для них явилось посещение острова, и они наполнили здесь водой все бочки, ибо в речушке, образованной на плато маленькими водопадами, превосходная чистая вода, и корабль стоял в море как раз напротив устья, где отличная якорная стоянка, так что трудно найти лучшее место для пополнения запасов воды.
Мы не экономили кокосовые орехи, ели сколько могли, пили кокосовое молоко и доставили на корабль несколько сот орехов. Каждый день на берегу бывал кто-нибудь из команды, и однажды во время отдыха, желая отменно повеселиться, люди сошли на берег, срубили множество кокосовых пальм, собрали с них орехи и получили около 20 галлонов молока. После чего все сели и стали пить за здоровье короля, королевы и прочих. Выпили изрядное количество, и, хотя никто не захмелел, все-таки жидкость эта до того охладила и притупила их чувства, что они не могли ни ходить, ни стоять на ногах и не могли вернуться на корабль без помощи тех, кто не участвовал в увеселении, и прошло четыре или пять дней, прежде чем они оправились» (Wafer, 1699[314]).
Присутствие столь обширных пальмовых рощ на острове Кокос в доевропейские времена можно объяснить либо тем, что их посадили прибывшие из Америки или Полинезии люди, либо тем, что морские течения прибили к берегу орехи. Все эти варианты рассмотрены исследователями. Как это часто наблюдается в ботанике Тихоокеанской области, важные для этнологических реконструкций выводы специалистов-ботаников в большой мере основывались на господствовавших представлениях о миграции человека. Вопрос о происхождении Cocos nucifera затронут в главе 9.
Европейцы впервые познакомились с кокосовой пальмой в Индии и на Малайском архипелаге только потому, что пришли туда задолго до того, как открыли Америку. Аполлоний Тианийский видел эту пальму в Индостане в начале нашей эры; тогда ее считали индийской диковиной. На Азиатский континент она проникла с Малайского архипелага, вероятно, незадолго до того. Самые ранние китайские описания относятся к IX в.; на Цейлон кокосовая пальма тоже, видимо, попала чуть ли не в исторические времена (Candolle, 1884[60]).
Когда Колумб во время первого плавания в Америку открыл Кубу, в его судовом журнале появилась запись о том, что он обнаружил берег с множеством очень высоких пальм и «крупные орехи того вида, который известен в Индии». А когда испанцы достигли Панамского перешейка, Овьедо в 1526 г. записал, что «как на материке, так и на островах есть дерево, именуемое кокус…» и сопроводил это сообщение подробнейшим описанием кокосового ореха и его применений (Kerchove, 1878; Соок, 1910–1912; Candolle, 1884[185, 80, 60]).
Ботаники XVII в. часто продолжали относить кокосовую пальму к азиатским видам, но в XIX в. Марциус (1823–1850) и Гризербах (1872) по ботаническим признакам заключили, что родина этого растения — Новый Свет. Сперва де Кандоль разделял их взгляд, поскольку 11 родственных видов рода Cocos были американскими и среди них не оказалось ни одного азиатского. Однако, как мы видели в главе 9, этот основатель этноботанической науки со временем стал колебаться под влиянием этнологов. Оставаясь при убеждении, что чисто ботанические признаки говорят в пользу американского происхождения кокосовой пальмы, он все же, учитывая навигационные проблемы и большое разнообразие наименований и применений на Малайском архипелаге, в 1884 г. назвал ее происхождение неясным. Возможно, писал он, лодки с Малайского архипелага с грузом кокосовых орехов были «из-за шторма или неверного маневра прибиты к островам или к западному побережью Америки». И еще: «Обратное в высшей степени невероятно». Де Кандоль предположил даже, что пальмы острова Кокос обязаны своим происхождением скорее полинезийским мореплавателям, чем приморским жителям близлежащей Южной Америки (Candolle, 1884[60]).
Мы уже видели, что некоторые ученые присоединились к гипотезе де Кандоля, опирающейся на этнографическую аргументацию, тогда как другие не менее последовательно, по примеру Марциуса и Гризебаха, указывали на отсутствие родственных видов на Малайском архипелаге и в континентальной Азии. Настойчивее всех, как было показано, тезис об американской родине кокосовой пальмы защищал ботаник Кук, и он же поставил в центр дискуссии остров Кокос. Вот его слова:
«Попади кокосовый орех впервые в руки специалисту, знающему все известные пальмы, он без колебаний отнес бы его к флоре Америки, потому что все близкие роды, включающие около трехсот видов, американские. Столь же уверенно специалист привязал бы кокосовый орех к Южной Америке, поскольку все остальные виды рода Cocos сосредоточены на этом материке, причем он указал бы на северо-западный регион Южной Америки, так как здешние дикие виды Cocos гораздо ближе к кокосовой пальме, чем виды из бассейна Амазонки и из Восточной Бразилии. Таким образом, с чисто биологической точки зрения правомерно предположить, что жизнеспособные и плодоносные кокосовые пальмы, отмеченные Гумбольдтом во внутренних областях Венесуэлы и Колумбии, росли поблизости от древней родины этих видов». И еще: «Наиболее разнообразно применение кокосового ореха на островах Тихого океана, потому что скудный выбор растений делал островитян все более зависимыми от кокоса. Нужда породила многообразное применение, но сама пальма явно доставлена из Южной Америки — единственной части света, где дико произрастают ей подобные.
Большое количество кокосовых пальм на острове Кокос во времена Уэфера (1685) и последующее их исчезновение следует считать свидетельством того, что на острове ранее обитали или во всяком случае его посещали аборигенные мореплаватели с ближайшего материка… Пусть на острове не было постоянного поселения, все равно обитатели материка могли посадить кокосовые пальмы и следить за ними, чтобы пользоваться плодами во время рыболовных экспедиций, как это заведено в некоторых районах Малайской области. Серьезные нарушения уклада в связи с приходом испанцев в Панамский регион, естественно, должны были помешать таким посещениям. Для этнологов эта ранее неизвестная доисторическая колонизация острова Кокос может стать еще одним свидетельством мореходного искусства индейцев тихоокеанского побережья тропической Америки, так что они более положительно станут относиться к возможности доисторических связей между берегами Американского континента и островами Тихого океана» (Cook, 1910–1912[80]).
В наши дни большинство ботаников склоняется к тому, что родиной и первым центром культивации Cocos nucifera была Америка. Расстояние до острова Кокос от доевропейских кокосовых рощ Коста-Рики, Панамы и Колумбии вполне позволяло ореху доплыть до него, не теряя плавучести. Зато самостоятельное распространение кокосового ореха через океанские просторы, отделяющие Кокос от Полинезии, совершенно невероятно, поскольку орех теряет жизнеспособность намного раньше, чем плавучесть.
Мы видели в главе 9, что опыты Эдмондсона на Гавайских островах и наш эксперимент, когда мы везли кокосовые орехи под палубой «Кон-Тики», показали: морская вода постепенно проникает внутрь через мягкие глазки ореха и гнилостные бактерии за два месяца лишают семя всхожести. После долгого дрейфа от острова Кокос до Полинезии кокосовый орех не прорастет даже при идеальных условиях, хотя бы его перенесли на расчищенный участок и посадили в песок с примесью перегноя. Стало быть, если пальмы острова Кокос обязаны своим происхождением Полинезии, семена были доставлены человеком.
Ближайший район Полинезии, откуда кокосовые орехи могли попасть на остров Кокос, — Маркизский архипелаг. Стоит напомнить, что маркизцы хорошо знали о существовании острова далеко на восток от их собственного архипелага, чем немало удивили первых европейских гостей. На замечательно точной путевой карте, которую сделал для капитана Кука его информант Тупиа с острова Улитеа, к востоку от Маркизских островов был показан некий остров Уту (англичане записали «Уутуу»). Позднее на Маркизских островах рассказали также капитану Портеру, что с наветренной стороны (то есть на востоке) лежит остров Утупу (Уутуупуу). Более полутораста лет назад Портер писал:
«Пока что ни один из наших мореплавателей не находил в этом месте острова с таким названием, но если обратиться к карте Тупиа… вблизи того места, где жители Нууахива [то есть Нукухивы] помещают Уутуупуу, есть остров Уутуу… эта карта, хотя и не исполнена с такой точностью, какой мы требуем от наших гидрографов, тем не менее начерчена сэром Джозефом Бэнксом по указаниям Тупиа и очень помогла Куку и другим мореплавателям открыть поименованные на ней острова… Что Уутуу, или Уутуупуу, существует на самом деле, сомнения не вызывает: Тупиа около пятидесяти лет назад получил от других мореплавателей сведения, которые позволили ему указать положение острова на своей карте, и позиция, сообщенная теперь Гаттеневой [с острова Нукухива], мало отличается от сведений Тупиа».
Особый интерес для нас представляет то, что остров Утупу фигурировал в полинезийских преданиях как место, где предки обнаружили столь важную кокосовую пальму. Портер специально отмечает этот примечательный аспект маркизского предания: «Рассказывают, что кокосовая пальма, как я уже говорил, доставлена с Уутуупуу, острова, который здешние люди помещают где-то с наветренной стороны Ла-Магдалены [Фату-Хивы]» (Porter, 1815[252]).
Народные воспоминания о том, что кокосовый орех был интродуцирован с острова, лежащего к востоку от Маркизских островов, где европейцы и в самом деле обнаружили уединенный остров, настолько богатый кокосовыми пальмами, что один он во всем Тихом
океане был назван в их честь, — эти воспоминания служат сильным доводом в пользу того, что остров Кокос и есть остров Утупу полинезийских преданий. С наветренной стороны Маркизских островов нет других островов, кроме Кокоса и покрытых вулканическим шлаком Галапагосов, где кокосовые пальмы не росли.
Таким образом, ботанические свидетельства того, что кокосовая пальма распространилась из своей родины на северо-западе Южной Америки на запад через Тихий океан, подтверждаются этнографическими данными с указанием маршрута от острова Кокос до ближайшего архипелага в Восточной Полинезии. Остается выяснить, как именно кокосовая пальма из аборигенных центров культивации в Колумбии, Панаме или Коста-Рике попала на остров Кокос в океане. Целью нашего кратковременного визита было установить возможности естественного распространения, а для этого ознакомиться воочию с деталями местной топографии и растительности, которых не узнаешь по скудной литературе и весьма приблизительным картам острова.
Обойдя вокруг Кокоса, мы убедились, что крутые скалы и обрывы не оставляют ни одного клочка, где мог бы зацепиться дрейфующий орех, за исключением узкого устья рек в бухтах Чатем и Уэфера на северном берегу. Экспедиционное судно отдало якорь перед бухтой Чатем; мы высаживались на берег и здесь, и в бухте Уэфера.
После визита Уэфера в 1685 г. растительность так разительно изменилась, что, не укажи он точные, исключающие возможность ошибки координаты, можно было бы подумать, что он побывал на другом острове. Если отряд Уэфера без труда поднялся на плато вокруг горы в середине острова, то нам стоило немалых усилий хотя бы проникнуть в покрытую густыми зарослями долину, где он высаживался.
За один день, который был в нашем распоряжении, нам удалось дойти лишь до круто вздымающихся скал в глубине долины Уэфера и до ближайших гряд. Вспомнились слова Чабба, сообщающего в своем геологическом очерке, что он не смог достаточно подробно изучить внутреннюю часть острова и проверить, существует ли на самом деле кратерное озеро, как это можно заключить из описания Уэфера (Chubb, 1933[67]). При желании сквозь заросли, конечно, можно проложить тропу в горы, однако такой необходимости явно не было во время визита Уэфера, когда плато и долина, где высаживались англичане, «густо поросли кокосовыми пальмами».
Было очевидно, что за два с половиной столетия дождевой лес, наступая на кокосовые рощи, занял прежние расчистки. Во время нашей вылазки мы увидели, что в возвышенных лесных районах и на гребнях лесистых гряд, отделенные километрами друг от друга, возвышаются одиночные кокосовые пальмы. Макушки отдельных пальм торчали и над сплошным пологом дождевого леса в глубине обеих долин. Только на небольшой ровной площадке возле берега бухты Уэфера стояла группа кокосовых пальм, которую с натяжкой можно было назвать рощицей. Здесь мы заметили следы недавней расчистки, некоторые пальмы были срублены — возможно, это память о недолгом пребывании в этом месте коста-риканской штрафной колонии.
Не будь у нас записанного черным по белому рассказа Уэфера про обширные рощи внутри острова, можно было бы подумать, что Cocos nucifera на острове Кокос не культурное растение, а дикая пальма, растущая спонтанно как составная часть дождевого леса. Но тогда перед нами оказалось бы единственное место с дикорастущей Cocos nucifera и вопрос о ее происхождении был бы окончательно решен.
Чисто гипотетически можно было объяснить кучку пальм на берегу Уэфера тем, что морское течение принесло кокосовые орехи с Американского материка до визита Уэфера. Отсюда пальма могла естественным путем распространиться по дну ущелья при условии, что не было нынешнего леса, преграждающего путь чрезвычайно солнцелюбивым молодым растениям. С нами вместе плыл А. Кинандер с островов Общества, специалист по кокосовым пальмам; он уверенно заявил, что росток из кокосового ореха зачах бы под густым пологом, не успев пробиться к солнцу. В самом деле, нигде, кроме расчистки на берегу, мы не видели ни проросшего ореха, ни молодой пальмы. Немногие замеченные нами одиночные пальмы были уже взрослыми, их макушки высились над сплошным дождевым лесом. Густые леса на внутреннем плато и на гребнях отделены от двух глубоких теснин крутыми склонами. Эти склоны, обрамляющие долинные тупики, настолько высоки, что ни один упавший на землю орех не мог бы без помощи человека подняться на возвышенное нагорье, где Уэфер застал большие рощи и мы издали различали верхушки отдельных пальм.
Если не пренебрегать сообщением Уэфера и не считать Cocos nucifera диким уроженцем острова Кокос, представляется вполне очевидным, что задолго до прихода европейцев люди расчистили обширные участки земли на дне долин, на плато и на гребнях и разбили в разных концах достаточно большие плантации кокосовой пальмы.
Кроме виденных нами издалека кокосовых пальм, за время короткого визита мы не наблюдали никаких признаков деятельности аборигенов; возможное исключение составляет бухта Чатем. Мы не производили раскопок. Подробное исследование в устьях двух рек и в зарослях нагорья, наверно, вознаградит археологов, которые захотят здесь поработать.
В бухте Чатем два совсем узких пляжа разделены высоким мысом. Его крутые склоны и искусственно сглаженный гребень покрыты чрезвычайно густой, переплетенной вьющимися растениями травой выше человеческого роста. Эта растительность резко отличается от окружающего дождевого леса, и здесь отчетливо выражены следы человеческой деятельности, но они могли появиться уже после открытия острова европейцами. Лишь с помощью мачете удавалось нам пробиться сквозь высокую траву, и по пути нам встречались небольшие выемно-насыпные площадки. Назначение их неясно, разве что они предназначались для небольших построек. Поросшая травой искусственная терраса на гребне около 60 м в ширину и вдвое больше в длину, несомненно, потребовала изрядного труда. Западный рубеж террасы обозначен обращенной внутрь острова вертикальной выемкой четырехметровой глубины в каменно-земляном грунте; материал из этой выемки как раз и пошел на расширение первоначального узкого гребня. С севера в террасу врезается глубокий и широкий овраг, словно вырытый самой природой крепостной ров. Тут и там попадались совсем свежие расчистки; сараи из рифленого железа и другие следы обитания человека говорили о деятельности недавних посетителей острова, возможно кладоискателей.
Зная, что на острове недолго находилась коста-риканская штрафная колония, мы предположили, что она располагалась на расчищенном мысу или же (другие варианты мало вероятны) тут потрудились аборигены. Однако впоследствии выяснилось, что колония находилась с 1878 по 1881 г. вовсе не в бухте Чатем, а в бухте Уэфера. Нет никаких данных о том, чтобы кто-либо занимался земледелием или строительством в районе бухты Чатем, и, поскольку штрафная колония располагалась в бухте Уэфера, вроде бы нет оснований относить работы по разбивке террасы на мысу к историческим временам: если не считать ссыльных и изредка посещавших остров кладоискателей, остров Кокос в исторические времена был необитаем.
На берегах бухт Чатем и Уэфера, а также на расчистках в устье обеих рек мы нашли множество старых и недавних разведочных шурфов, заложенных кладоискателями. Уплатив пошлину правительству Коста-Рики, авантюристы получали разрешение искать сокровища; они были единственными регулярными посетителями острова, который из-за непроходимых зарослей и неприступных берегов не привлекал ни дельцов, ни туристов. На немногочисленных ровных участках в районе причалов вся земля копана-перекопана; кое-где, похоже, даже применялась взрывчатка. Одичавшие свиньи усугубили хаос, роясь в мягкой земле и переворачивая камни, так что о первоначальном виде этих мест судить невозможно.
В короткий срок, которым мы располагали, не представлялось возможным определить возраст искусственных сооружений в бухтах Чатем и Уэфера, поэтому наши догадки о том, что человек жил на острове в доисторические времена, основаны только на многочисленных следах расчисток для кокосовых плантаций.
В заключение скажем, что древние земледельцы, очевидно, посчитали положение острова Кокос достаточно важным, если ценой огромных усилий расчищали в девственном лесу участки для пальм. Трудно себе представить, что́ могло побудить полинезийцев вложить столько труда в это дело на острове, лежащем более чем в 4 тысячах миль от их области, разве что они вели оживленную торговлю с панамским регионом, но на это пока нет никаких указаний. Столь же трудно понять, для чего американским индейцам понадобилось сводить лес на острове далеко от побережья, ведь кокосовый орех играл подчиненную роль в их питании и земли для расчисток хватало в их собственных лесах на материке.
Мне думается, что большие пальмовые рощи на острове Кокос оправдывали себя лишь в том случае, если остров либо был некогда густо населен, либо занимал удобное положение для мореплавателей, которые часто проходили через этот район и нуждались в пополнении провианта. По собственному опыту знаю, что в плавании на открытых судах нет лучшего естественного продукта, чем свежие, чуть недозревшие кокосовые орехи. Они не боятся соленых брызг, нетребовательны к условиям хранения и по многу недель обеспечивают мореплавателя свежим питьем и сытной пищей. Археолог Фердон наблюдал еще в 1943 г., как жители северной части провинции Эсмеральдас в Эквадоре, совершая на долбленках «имбавура» переходы до Тумако и Буэнавентуры в Колумбии, запасали для питья большое количество неочищенных зеленых кокосовых орехов. Зеленые орехи полностью удовлетворяли потребность в питье также и тех эквадорских плотогонов, которые в 1947 г. сплавляли по реке до Гуаякиля бальсовые бревна для «Кон-Тики».
Расчистка девственного леса в прибрежных долинах и на внутреннем плато острова Кокос требовала таких усилий, что у тех, кто насадил остров кокосовыми рощами в доевропейские времена, должны были быть особые причины для подобного труда. Причина может быть лишь одна — та, которая сразу приходит в голову, если увязать географическое положение острова с быстро накапливающимися свидетельствами морских связей Гватемалы с северо-западом Южной Америки в доколумбовы времена. Как указывал Коу, отсутствие соответствующих археологических следов на глубокой излучине Панамского перешейка, отделяющей Гватемалу от Эквадора, при высоком развитии плавания с
гуарами, подтвержденном нашими находками на Галапагосах, и с учетом географического положения острова Кокос делает этот остров идеальным пунктом захода для аборигенных купцов, плававших в открытом море к западу от Панамы.
Как показал ботаник Кук, испанские завоевания на материке и вызванные ими серьезные нарушения жизненного уклада вполне могли положить конец всяким посещениям острова Кокос, после чего тропический лес получил возможность отвоевать земли, старательно расчищенные руками человека.
Глава 12
Статуи острова Пасхи
В мире науки нередко бывает полезно переключиться с одной области на другую, в чем-то родственную первой. Получив навык научного мышления и методики, но свободный от присущей ученикам тенденции соблюдать верность доктринам наставника, исследователь, изменивший свой научный профиль, проявляет подчас новый, нетрадиционный подход к общепринятым догмам. Когда я, занимаясь биологией в университете Осло, прервал занятия, чтобы прожить год жизнью полинезийца на Маркизских островах, целью моих полевых исследований было выяснить, как некоторые представители фауны сумели попасть на эти далекие острова в океане. В университете моими основными предметами были зоология и география, однако три года работы в крупнейшем в мире частном собрании книг о Полинезии, принадлежащем Крэпелиену, помогли мне подготовиться по всем вопросам, касающимся населения Полинезии, лучше, чем если бы я прошел университетский курс этнологии.
Когда я в 1938 г. вернулся с Маркизских островов в Осло с изрядной археологической коллекцией, для меня было естественно шагнуть выше по биологической лестнице. От проблемы появления первой фауны на океанических островах я всецело перешел к проблеме, как на эти острова впервые попал древний человек. Год жизни на уединенном острове Фату-Хива, где единственными средствами передвижения в океане были каноэ с аутриггером и открытая шлюпка и где волны и облака круглый год движутся с востока на запад, побудил меня критически взглянуть на господствовавшие гипотезы, по которым люди каменного века, открывшие полинезийские острова, плыли 10 тысяч миль против устремленных к западу стихий. Мне пришлось не раз бороться с океаном не на жизнь, а на смерть, чтобы возвратиться к берегу, и я на деле убедился, что Фату-Хива расположен посреди морского «конвейера» (Хейердал, 1978[8]).
Решение совершить дрейф от Южной Америки до Полинезии на бальсовом плоту, а позже — искать археологические следы на островах Галапагос воплощало спор свободного от предвзятости ума против научно не доказанных догм. Следующий за Галапагосами клочок земли в океане — остров Пасхи. Расположенный на полпути между Южной Америкой и своими ближайшими соседями в Полинезии, этот остров ко времени его открытия европейцами был самой уединенной обитаемой сушей в мире. Его 600 с лишним исполинских каменных изваяний и могучие мегалитические стены неизвестного происхождения являли одну из самых непостижимых археологических загадок как для рядового человека, так и для ученого. На этот остров тоже распространилась власть никем не оспоренной догмы. Наиболее удаленный от Азии, он, как утверждали, был заселен в последнюю очередь; стало быть, и возраст поселения наиболее молодой.
Этот общепринятый вывод опирался на гипотезу, по которой человек пришел на остров Пасхи, мигрируя против ветра из Азии, а не по ветру из Америки. Современные ученые были настолько уверены в недавнем заселении Пасхи, что никто не предпринимал стратиграфических раскопок в поисках скрытых в земле следов, хотя остров этот прославился больше любого другого из островов Тихого океана обилием следов старины на поверхности земли. После коротких визитов этнологов XIX в. первые тщательные исследования зримых пасхальских статуй и развалин были проведены английским отрядом во главе с Кэтрин Скорсби Раутледж в 1919 г. Полный реестр всех важных памятников на поверхности составил затем проживавший на Пасхе миссионер Себастиан Энглерт. До нашей экспедиции на острове побывал только один профессиональный археолог — Лавашери; вместе с французским этнологом Альфредом Метро он в 1934 г. продолжал исследования предшественников, сосредоточив свое внимание на не описанных ранее петроглифах.
Великое множество авторов, которые писали о здешнем археологическом материале, ни разу не бывав на Пасхе, восприняли взгляды немногих ученых, видевших совершенно безлесный остров. Голый клочок земли находился так далеко от путей человека, совершавшего миграцию из Азии, что медленно накапливающаяся почва — думалось им — просто не могла скрывать каких-либо изделий людских рук; стало быть, в раскопках нет никакого смысла.
Плот «Кон-Тики» прошел путь, вдвое превышающий расстояние от Перу до Пасхи, и галапагосские черепки свидетельствовали о доинкских плаваниях со времен культуры Тиауанако, а потому я не видел никаких причин, которые помешали бы мореплавателям Южной Америки дойти до острова Пасхи задолго до переселенцев из далекой Азии, каким бы путем ни шли азиаты. Для перуанцев Пасха была ближайшей обитаемой землей в океане, и только в Перу было заведено ставить огромные антропоморфные изваяния на платформах под открытым небом.
Чтобы выйти на уединенный остров с любой стороны, требовалось либо изрядное везение, либо навык ходить на многих судах, и регулярно плавать туда и обратно в данном районе. В любом из случаев все преимущества были на стороне мореплавателей Южной Америки. Если аборигенные моряки, как это впоследствии сделали европейцы, проникли в Океанию со стороны Перу, они тоже могли поначалу миновать Пасху и выйти на более крупные и гуще расположенные острова Центральной Полинезии или даже Меланезии. Но независимо от последовательности открытий в этом регионе Пасха — единственный из сотен островов, образующий как бы пристань на полпути между материковой родиной и новорожденным островным миром; уже это оправдывает его полинезийское название
Те-Пито-о-те-Хенуа — Пуп Вселенной. Вряд ли остров Пасхи стал бы чем-то вроде огромного храма с множеством священных алтарей
аху и гигантских статуй, если бы не его уникальное географическое положение относительно Америки. Скудная почва и голый ландшафт, отсутствие водных потоков и защищенной гавани, наконец, скромные размеры — 22 x 11 км — все это никак не позволяло Пасхе соперничать с Таити, Гавайским архипелагом, Новой Зеландией или большими зеленеющими островами, сгруппированными на подступах к Меланезии.
Пока в недавнем прошлом на Пасхе не оборудовали аэродром, одним из препятствий для археологических исследований была его труднодоступность. Чтобы доставить провиант и снаряжение для годичных раскопок в этом крайнем восточном углу Полинезии, я был вынужден зафрахтовать и переоборудовать 50-метровый гренландский траулер, который бросил якорь перед нашим базовым лагерем в бухте Анакена. Командиры и экипаж судна, а также большой отряд островитян участвовали в археологических работах под руководством четырех археологов: Э. Фердона-младшего, который тогда был штатным археологом Музея Нью-Мексико; профессора У. Мэллоя, заведовавшего кафедрой этнологии Вайомингского университета; профессора К. Смита, заведовавшего кафедрой археологии Канзасского университета; А. Шёльсволда, руководившего археологическим отделом Ставангерского музея в Норвегии.
Итоги наших раскопок на острове Пасхи в 1955–1956 гг. опубликованы в двух томах «Отчетов Норвежской Археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана» (т. I — «Археология острова Пасхи», 1961; т. II — «Разное», 1965). Этнографические наблюдения и коллекции представлены в монографии «Искусство острова Пасхи» (1976). Настоящая глава основана на докладе, прочитанном в Шведском обществе этнологии и географии и напечатанном в этнографическом журнале «Ymer» в 1962 г.
Остров Пасхи и географически, и археологически заметно выделяется среди тысяч островов тихоокеанского полушария. Нигде люди не обитали так далеко от континентов вообще и от Азии в частности. И в то же время ни один остров не может похвастать такими внушительными и своеобразными памятниками былой высокоразвитой культуры, как этот крохотный безлесный форпост со стороны Америки. В Тихом океане десятки тысяч островов и атоллов, но только на Пасхе найдены следы аборигенной письменности, внушительные ритуальные платформы из огромных блоков разной величины, обтесанных, отшлифованных и пригнанных друг к другу с величайшей точностью, великое разнообразие изделий искусства и сотни установленных вдоль побережья антропоморфных каменных исполинов с «париками» из красного камня. С тех самых пор, как два с половиной столетия назад три голландских корабля, идя от Южной Америки на запад, впервые наткнулись на этот остров, неполинезийские черты местных памятников озадачивают ученый мир.
Когда миссионер Эжен Эйро в 1864 г. высадился на Пасхе и стал первым европейским поселенцем на острове, он и его коллеги сумели быстро положить конец аборигенной истории. При нем закончился последний, трагический акт одной из самых удивительных драм, какие когда-либо разыгрывались на уединенном океаническом островке, вдали от всех очевидцев.
Только археология и другие науки, изучающие прошлое, помогают восстановить главные черты поры величия острова Пасхи. Ныне мы можем утверждать, что прибывшие на Пасху европейцы застали уже последние фазы умирающей культуры. Первым европейским гостем был голландский адмирал Якоб Роггевен, который подошел к острову в сумерках, вечером пасхального воскресенья 1722 г. (подробности см.: Heyerdahl, 1961[151]). Утром следующего дня, когда над морем выглянуло солнце, голландцы приблизились к берегу и увидели светлокожих и темнокожих людей, собравшихся у костров перед выстроенными в ряд огромными статуями. Сидя на корточках и склонив голову, островитяне молитвенно поднимали и опускали руки. С появлением солнца они пали ниц на землю, головой на восток, и костры продолжали полыхать перед каменными исполинами.
Уже тогда статуи были настолько старыми и источенными эрозией, что Роггевен собственноручно отламывал куски с их осыпающейся поверхности, после чего он сделал вывод, что истуканы вылеплены из глины и земли, замешанных с галькой. Голландцы возобновили плавание, проведя на острове всего один день.
Прошло почти 50 лет, прежде чем испанец Фелипе Гонсалес и его спутники повторно открыли остров, выйдя из Перу в 1770 г. Испанцы не ограничились беглым осмотром эродированной поверхности статуй; один из них так хватил киркой по истукану, что полетели искры и стало ясно, что статуи изваяны из очень твердого и тяжелого камня. Гости записали, что головы десятиметровых монолитных истуканов были увенчаны большими цилиндрами из другого камня. Поверх цилиндров лежали человеческие кости, и испанцы заключили, что статуи служили не только идолами, но и местом погребения покойников.
И голландцы и испанцы отметили, что на острове Пасхи нет ни леса, ни крепких канатов в достаточном количестве, чтобы воздвигать столь огромные памятники. Роггевен, как уже говорилось, видел решение загадки в том, что статуи вылеплены из глины, однако испанцы опровергли это утверждение, и от них удивленный мир впервые услышал о многочисленных каменных великанах, высящихся на голом острове с примитивным смешанным населением за тысячи километров от ближайшей суши. В последующие два столетия загадка острова Пасхи все прочнее завладевала воображением людей по всему свету.
Через четыре года после испанцев к тому же острову подошел капитан Кук, а за ним — французы во главе с Лаперузом. Все ранние путешественники подчеркивали, что пасхальские статуи очень древние и что бедствующие примитивные островитяне, которых они застали, никак не могли быть причастны к ваянию этих памятников. Кук первым обратил внимание на то, что многие статуи повалены и лежат на земле подле напоминающих алтарь каменных постаментов; он отметил также, что пасхальцы ничуть не заботятся о сохранности старинных сооружений.
У Кука был переводчик-полинезиец; он с трудом понимал местную речь, но все же разобрал, что многочисленные статуи изображают умерших королей и вождей. После голландцев никто не видел, чтобы пасхальцы молились перед идолами, но и англичане и французы, как до них испанцы, заметили около статуй скелетные останки и поэтому описали их как надгробные памятники.
Чем бы ни были на самом деле статуи для тогдашних жителей острова, пасхальцы продолжали сбрасывать их с постаментов. Следующим на Пасхе высаживался в 1804 г. русский мореплаватель Лисянский. Он записал, что в бухте Кука по-прежнему стояли на каменных платформах четыре статуи, в Винапу — семь. Двенадцать лет спустя, в 1816 г., остров посетила еще одна русская экспедиция под начальством Коцебу, который установил, что в бухте Кука все изваяния повалены, а из семи статуй в Винапу остались стоять только две.
Последнее сообщение о стоящих статуях видим в записях Дюпети-Туара; он в 1838 г. видел севернее бухты Кука девять истуканов на каменных платформах. Позднее были свергнуты и эти исполины, и, когда в 1864 г. прибыл Эжен Эйро, на многочисленных платформах не было ни одной статуи, все повалили, причем многие при падении раскололись, а огромные каменные цилиндры с их голов подчас скатились вниз по склонам, словно паровые катки. Пасхальцам не удалось повалить только частично врытые в землю, незавершенные изваяния, обнаруженные отрядом Кука на осыпях у подножия давно заброшенной и заросшей каменоломни на склонах кратера Рано-Рараку.
Эйро изгнали с острова через девять месяцев, но в 1866 г. он возвратился в компании с другими миссионерами. Он и его коллеги первыми освоили язык пасхальцев. Они пытались найти ответ на загадки острова Пасхи, расспрашивая островитян. Однако те могли только сообщить, что давным-давно все статуи сами разошлись по отведенным для них
аху по велению бога-творца Маке-маке.
Через семь лет миссионеров снова заставили покинуть Пасху. Вскоре после того на остров явился таитянский овцевод Салмон, а затем еще и чилийский метеоролог Мартинес. Оба жили в тесном контакте с пасхальцами, и благодаря им до нас дошли чрезвычайно интересные, еще не искаженные доевропейские предания (Heyerdahl, 1961[151]).
Согласно первым записанным преданиям, предками нынешнего населения острова были «короткоухие». Они пришли на Пасху со своим вождем Туу-ко-иху с острова далеко на западе, то есть из собственно Полинезии. Прибыв, они обнаружили, что эта земля уже заселена другим народом, «длинноухими», которые прибыли во главе с ее первооткрывателем, королем Хоту-Матуа, с противоположной стороны, с востока. Там, в 60 днях пути, лежит огромная страна, где царит такой зной, что временами палящее солнце сжигает всю растительность. Прибывшие на остров первыми «длинноухие» сразу же принялись воздвигать
моаи — статуи. Присоединившиеся к ним позднее «короткоухие» 200 лет (
карау-карау) помогали строить
аху и высекать длинноухие изваяния, но затем мирное сосуществование кончилось кровавой распрей. «Короткоухие» истребили почти всех «длинноухих», загнав их в оборонительный ров перед полуостровом Поике, где пылал огромный костер. Оставили только одного «длинноухого», чтобы мог продолжать свой род. После этого начались племенные усобицы среди «короткоухих», и все статуи, как сообщают те же предания, были повалены с помощью клиньев и веревок.
Археологические исследования острова Пасхи начались в 1914 г., когда уже упомянутая Кэтрин Скорсби Раутледж приплыла сюда на собственной яхте. Правда, в составе экспедиции не было профессиональных археологов, но посвященная путешествию популярная книга содержит важнейшие научные наблюдения и оставалась до последнего времени главным источником общих сведений об археологи и Пасхи (Routledge, 1919[266]). Ее обширные неопубликованные этнографические записки, несомненно представляющие большую ценность для исследователя, долго считались утраченными, пока совсем недавно не были обнаружены в архивах Королевского географического общества.
Двадцать лет спустя, в 1934 г., на остров прибыла франко-бельгийская экспедиция. К несчастью, француз-археолог скончался в пути, и его бельгийскому коллеге Анри Лавашери пришлось в одиночку изучать древние памятники, пока французский этнолог Метро собирал важные данные в своей области.
Раутледж полагала, что до нынешних полинезийцев на острове жил неизвестный, позднее истребленный народ, возможно, меланезийского происхождения, однако Метро и Лавашери отвергли это предположение, решительно утверждая, что уединенный остров оставался необитаемым, пока около XII–XIII вв. сюда не прибыли полинезийцы. Они выдвинули ставшую затем общепринятой гипотезу, по которой пасхальцы принялись воздвигать огромные статуи из камня, так как на безлесном, голом острове не было материала для резьбы по дереву, характерной для лесистых островов собственно Полинезии. Гипотеза эта выглядела достаточно убедительной, и археологи больше не приезжали на Пасху, так что стратиграфических раскопок никто не производил.
Был ли остров Пасхи, как полагали этнологи, в самом деле таким безлесным, когда на нем впервые высадились аборигенные мореплаватели? Таков был один из главных вопросов, на которые мы надеялись ответить, доставив на остров новейшее оборудование для взятия проб пыльцы. Богатый палеоботанический материал, полученный нами по краям кратерных озер потухших пасхальских вулканов Рано-Рараку и Рано-Као, был анализирован профессором Селлингом, сотрудником Государственного музея естественной истории в Стокгольме.
Отложения пыльцы свидетельствуют, что природная среда, в которую попали первопоселенцы, отличалась от известной нам со времени открытия острова в пасхальное воскресенье 1722 г. Теперь Пасха бедна растительностью, а раньше здесь была богатая флора, росли деревья, представляющие вымершие впоследствии семейства. Между деревьями произрастали кустарники разных видов. В целом растительность до какой-то степени, должно быть, напоминала первичную низинную флору, скажем, на подветренной стороне Гавайских или Маркизских островов. До того как в кратере Рано-Рараку начали трудиться ваятели, его голые ныне склоны были покрыты пальмами вида, которого теперь нет на острове; донные отложения кратерного озера буквально насыщены их пыльцой. Одно из самых неожиданных открытий — пыльца кустарника, родственного хвойным (Ephedra), до той поры совсем не встречавшегося в этой области Тихого океана; зато он сродни одному южноамериканскому виду, если не тождествен ему. Доктор Селлинг обнаружил пыльцу такого же вида на Маркизских островах.
Взятые на Пасхе 8-метровые колонки стратифицированной пыльцы позволили проследить, как постепенно исчезала первичная растительность. Вокруг открытых кратерных озер еще росли деревья, когда здесь неожиданно появился американский пресноводный Polygonum amphibium, вероятно доставленный как лекарственное растение первопоселенцами из южноамериканского приморья. Затем в отложениях появляются зольные частицы и быстро оскудевает первичная растительность. Зольные частицы явно след лесных пожаров, виновниками которых, судя по всему, были первопоселенцы. Население росло и нуждалось в земле для жилищ и огородов; позднее, возможно, лес намеренно поджигали во время войн. Опустошение оказалось настолько основательным, что в верхних слоях следы первичной растительности почти совсем исчезают; выжженным островом постепенно завладели травы и папоротники.
Эта перемена декораций на Пасхе интересна не только с ботанической точки зрения. Выходит, мы неверно представляли себе жизнь на острове в первый период развития местной культуры. Приплывшие сюда каменщики, которые вытесывали для своих сооружений огромные глыбы базальта, попали не на безлесный, травянистый остров, где можно было беспрепятственно перетаскивать по равнине огромные монолиты. Им пришлось сначала валить деревья и расчищать участки, чтобы добраться до будущих каменоломен и проложить пути для себя и своих изваяний. Это открытие опровергает давний аргумент, будто бы пасхальцы врубились в склон горы, потому что на Пасхе нельзя было заняться резьбой по дереву. Среда обитания первых поселенцев в основном была такой же, как и на других островах; тем сильнее бросается в глаза своеобразие культуры, которую, как будет показано ниже, принесли с собой эти люди.
Еще одно, также общепринятое положение, без нужды осложнившее проблему статуй острова Пасхи, было, как выяснилось, основано на неверных толкованиях одного из наблюдений, сделанных экспедицией Раутледж. Руководительница экспедиции велела очистить от песка и гравия нижнюю часть нескольких идолов, частично погруженных в отвалы у подножия каменоломен Рано-Рараку. В своей книге она сообщила, что у одной из этих статуй было заостренное основание, и предположила, что его заострили намеренно, поскольку данное изваяние собирались врыть в землю, а не ставить на
аху в отличие от прочих статуй, рассыпанных по всему острову (Routledge, 1919[266]). Метро и Лавашери поняли ее так, что все 60 изваяний, частично врытых в осыпь ниже каменоломен, заостряются книзу. Даже не проверив свою догадку, Метро в труде об этнологии острова Пасхи заявил, что на острове есть статуи двух в корне различных видов: одни — заостренные книзу, чтобы их можно было врыть в землю, другие — с широким плоским основанием, предназначенные для установки на пасхальские
аху (Metraux, 1940[222]).
Питер Бак, ведущий авторитет по культуре Полинезии, сам не бывавший на Пасхе, усугубил путаницу, заключив, что Метро посчитал остроконечными, вытесанными для установки в земле также те 170 незавершенных изваяний, которые лежали на открытых карнизах каменоломен. Так одна попросту дефектная статуя превратилась в публикациях в 230, и в «Мореплавателях солнечного восхода», наиболее распространенной из книг Бака, автор сделал такой далеко идущий вывод:
«Изваяния с заостренными основаниями не предназначались для установки на ритуальных каменных платформах, их вкапывали в землю в качестве нетленных украшений и знаков, обозначающих дороги и границы округов. Так как у всех изваяний, оставшихся в каменоломне, основание заостренное, можно предположить, что заказы для платформ были полностью выполнены и пасхальцы приступили к украшению дорог…» (Те Ранги Хироа, 1959[6]).
Наша экспедиция без труда убедилась, что ни одна из статуй, оставшихся в каменоломнях, не заострялась книзу, хотя Арне Шёльсволд, руководивший раскопками на Рано-Рараку, нашел еще 50 статуй в дополнение к ранее известным (Skjölsvold, 1961[283]). А, приступив к раскопкам частично врытых в землю великанов у подножия каменоломен, мы обнаружили, что у всех их, не считая одного дефектного экземпляра, полный торс и длинные руки с тонкими пальцами соединяются внизу над широким плоским основанием, явно предусматривавшим установку в рост на открытой платформе.
Наши исследования показали, что все известные статуи острова Пасхи, числом более шестисот, по существу однородны; это относится и к незавершенным экземплярам, оставленным на разной стадии работы. Весь процесс ваяния можно разбить на четыре этапа. На первом этапе спина изваяния еще соединялась с коренной породой, шла обработка передней части и боков, подчас была даже закончена шлифовка, и только глазниц недоставало. На втором этапе фигуру отделяли от породы и временно устанавливали в отвалах у подножия вулкана, чтобы завершить обработку спины, отшлифовать ее и в некоторых случаях высечь символические изображения. На крутых склонах нетрудно было поставить изваяние прямо на площадке, вымощенной необработанным камнем. На третьем этапе все еще безглазую статую снова укладывали на землю и перетаскивали по одной из расходящихся от вулкана мощеных дорог. И только на четвертом этапе, когда идол уже стоял на своей
аху, ему делали глаза, а на голову водружали большой цилиндр из красного камня, называемый пасхальцами
пукао, что означает «пучок волос».
После этого открытия загадка статуй сразу упростилась. Ни о каком украшении ландшафта или дорог речи не было. Ваятели последовательно выполняли одну задачу: высекали однородные монументы с красными цилиндрами для установки в ряд на
аху вдоль всего побережья.
Однако другие загадки острова Пасхи все еще ожидали своего решения. Пока Шёльсволд вел работы на Рано-Рараку, Мэллой и Смит приступили к первым систематическим исследованиям и раскопкам разрушенных
аху, на которых прежде стояли изваяния. Под верхними слоями кладки они обнаружили более древние сооружения, частью перестроенные, частью расширенные и укрепленные. Первоначальные конструкции не были рассчитаны на вес тяжелых истуканов, и вообще они воплощали другой архитектурный стиль, другую каменотесную технику (Mulloy, 1961; Smith, 1961[231, 290]).
По ходу раскопок различных перестроенных сооружений становилось ясно, что предысторию Пасхи можно разделить на три отчетливо выраженных пласта, и археологи отнесли их к раннему, среднему и позднему периодам. В раннем периоде хотя и ваяли статуи, но не того типа, который впоследствии стал на
аху. Культовые сооружения представляли собой алтареподобные возвышения, сложенные из очень больших, весьма тщательно обтесанных и пригнанных друг к другу камней разной формы; фасад смотрел на море, а с другой стороны располагалась врытая в землю площадка. Творцы этих астрономически ориентированных возвышений были искуснейшими каменотесами, которые к тому же хорошо изучили годичное движение солнца и воплотили свои наблюдения в религиозном зодчестве. В раннем периоде скульптуры разного рода устанавливали на земляной площадке за каменной стеной.
Только в среднем культурном периоде островитяне начали ваять и устанавливать на каменных постаментах исполинов известного нам типа. Первичные сооружения были отчасти разрушены или переделаны, их надстраивали так, что получились приобретшие затем известность
аху. Эти сооружения не были астрономически ориентированы; на них спиной к морю и лицом к старой внутренней площадке выстроились рядами исполинские монументы.
Если в среднем периоде зодчие и ваятели все силы и внимание сосредоточивали на установке огромных статуй из туфа каменоломен Рано-Рараку, то пасхальцы раннего периода гораздо искуснее обтесывали и подгоняли огромные шлифованные базальтовые блоки для алтареподобных культовых сооружений.
Третий, и заключительный, период начался внезапным прекращением работ в каменоломнях Рано-Рараку; одновременно прекратилась и транспортировка статуй по дорогам. В этот период изваяния одно за другим свергали с
аху. Появился новый погребальный обряд. Прежде была принята чуждая полинезийцам кремация, причем кремированные кости и изделия помещали в каменных гробницах возле
аху. Теперь же резчики по дереву, не владеющие искусством мегалитической кладки и ваяния, хоронили своих покойников под кое-как наваленными грудами камня на разрушенных
аху или в больших коллективных могилах под брюхом или лицом поваленных исполинов. Поздний период повсеместно характеризовался упадком, войнами и разрушением. Слои этого периода изобилуют копейными наконечниками из базальта, тогда как в двух предыдущих периодах оружия почти, а то и вовсе не встречаем.
Эти открытия не только позволили выявить чередование культур на Пасхе, но и повлекли за собой пересмотр прежних гипотез о местной эволюции. Правда, Раутледж заподозрила, что пасхальские
аху перестраивались, но Метро и Лавашери отвергли ее догадку и заявили, что культура острова Пасхи однородна, никаких признаков чередования этапов нет (Routledge, 1919; Metraux, 1940; Lavachery, 1936[266, 222, 197]).
Все наблюдатели согласно отмечали поразительное сходство самых больших и наиболее сохранных фасадов пасхальских
аху с подобными сооружениями Андской области, однако полагали, что на Пасхе лучшие стены появились позже, олицетворяя итог местной эволюции. Считалось, что полинезийцы прибыли на Пасху, не владея этим специализированным искусством каменной кладки, и лишь со временем сумели на безлесном острове овладеть мастерством и сравняться с виднейшими специалистами Южной Америки в умении обтесывать и подгонять мегалитические блоки. И вот все поменялось местами. Лучшие на Пасхе стены того же типа, какой известен в Перу и прилегающих районах Андской области, были сооружены первопоселенцами после того, как они расчистили от деревьев места для добычи камня и для культовых сооружений.
Люди среднего периода не владели этим искусством, они ограничивались ваянием огромных статуй. И наконец, в последний период не только не было эволюции каменного дела, напротив, для него характерны деградация, массовое разрушение, гибель всего, что было создано ранее. Итак, все оказалось иначе, и теперь уже нельзя было исключать возможность прибытия представителей каменотесных культур Южной Америки, ведь во всей Тихоокеанской области больше не было страны, откуда могли явиться переселенцы, в совершенстве владеющие специализированной техникой обработки камня.
Сложность пасхальской культуры воплотилась не только в культовых сооружениях и погребальных обычаях, но и в жилищах островитян. После осмотра поверхностных памятников старины Фердон заподозрил, что в разных концах острова сохранились следы жилищ совершенно различного типа. До сих пор этнологи и археологи считали, что на Пасхе помимо пещер был только один вид жилищ — продолговатые камышовые хижины, напоминающие перевернутую лодку. Изогнутые жерди, служившие каркасом для камышовой и травяной кровли, втыкались в узкие ямки в каменном фундаменте, тоже напоминавшем очертания лодки. Экспедиционные археологи начали с того, что раскопали несколько таких фундаментов и определили, что все они были сложены либо непосредственно перед появлением европейцев, либо вскоре после этого события, иначе говоря, в поздний период. Затем Фердон и Шёльсволд принялись изучать кольцевые каменные ограды, которых очень много в разных концах острова (Ferdon, 1961; Skjölsvold, 1961[112, 283]). До тех пор этнологи и археологи довольствовались заявлениями нынешних обитателей Пасхи, что на безлесном острове эти стены защищали от ветра огороды, на которых предки сажали
махуте. Шведский ботаник Скоттсберг, посетив Пасху в 1917 г., подтвердил, что кольцевые стены защищали огороды; в качестве таковых они приведены на иллюстрации в его труде о пасхальской флоре, и затем эту иллюстрацию воспроизвел Метро в своей книге об этнологии острова Пасхи (Skottsberg, 1920; Metraux, 1940[285, 222]). Наши раскопки показали, что кольцевые стены начали использовать для защиты огородов не сразу, а лишь в поздний период. Первоначально это были крытые камышом круглые жилища, и в земляных полах мы откопали множество изделий и отбросов — следы долгого проживания людей. Очаг помещался либо посреди пола, либо у стены снаружи. Шёльсволд нашел оставленную впопыхах печь, полную обугленных остатков печеного сахарного тростника и батата. Углеродная датировка показала, что этот совсем не полинезийский тип домов распространился на острове в среднем периоде, когда воздвигались большие статуи; некоторые дома использовали еще и в позднем периоде наряду с отражающими совсем другую традицию лодковидными хижинами из жердей и камыша. Фердон, хорошо знающий археологию Южной Америки, указал, что круглые дома, неизвестные в остальной Полинезии, аналогичны постройкам, характерным для той части Андской области, которая обращена в сторону Пасхи (Ferdon, 1961[112]).
При раскопках на равнине у Винапу мы обнаружили третий, также своеобразный дом — с крышей из каменных плит, присыпанных землей. В нем впоследствии был похоронен обезглавленный человек. Целое селение из таких же каменных домов разместилось на вершине самого высокого вулкана острова Пасхи; еще первые миссионеры установили, что здесь находился важнейший культовый центр — Оронго. Ежегодно во время весеннего равноденствия в Оронго собирались
все жители острова; они были зрителями и судьями традиционных соревнований, участники которых плыли наперегонки на маленьких лодках из камыша
тоторы к птичьим островкам рядом с Пасхой, чтобы добыть первое в году яйцо темной крачки. Победителю присваивали священный титул птицечеловека.
И Раутледж, и Метро уделили немало внимания этому своеобразному ежегодному ритуалу, сохранившемуся до исторических времен, однако каменные дома Оронго все исследователи считали культовой деревней сугубо пасхальского типа, поскольку на остальных островах Тихого океана не было таких жилищ-склепов. Руководя раскопками Оронго, Фердон и тут обнаружил признаки чередования культурных периодов. Необычные сооружения на вершине вулкана, сохранившиеся в качестве ритуальных объектов, на самом деле продолжали традицию построек, служивших в раннем периоде жилищами. Эти дома с ложным сводом, не известные больше нигде в Полинезии, также перекликаются с жилищами древнего Перу и прилегающих районов Андской области.
Голые выступы скал в Оронго сплошь покрыты рельефными изображениями птицечеловеков — типичной для Пасхи скорченной человеческой фигуры с птичьей головой и длинным изогнутым клювом. Один птицечеловек держит в своих объятиях реалистично изображенное солнце. Раскапывая низкие, нередко обвалившиеся культовые сооружения, Фердон открыл много неизвестных ранее росписей на гладких плитах стен и потолка. Преобладающие мотивы — серповидные камышовые лодки, двухлопастные весла и «плачущий глаз» — все это неполинезийские черты, типичные для высокоразвитых культур Америки (там же).
По стратиграфическим материалам Фердона, участок на вершине самого высокого пасхальского вулкана во все три периода местной культуры с небольшими перерывами оставался культовым центром. В нижнем слое он вскрыл солнечную обсерваторию раннего периода, фиксирующую положение солнца на восходе во время декабрьского и июньского солнцестояний. В раннем периоде культового поселка, как такового, здесь еще не было, но в связи с обсерваторией найдены солнечные символы — петроглифы и маленькая статуя совершенно особого, неизвестного прежде вида. Ничего похожего на эту обсерваторию до тех пор не находили в Полинезии. За параллелями снова пришлось обратиться к Андской области.
В среднем периоде превосходная кладка солнечной обсерватории была перекрыта подобным
аху святилищем из грубого камня. Рядом возникли каменные домики поселка, и внезапно в совершенно развитом виде появился культ птицечеловека. Поначалу он сочетался с предшествовавшим ему солнцепоклонничеством, потом совсем его вытеснил. В начале среднего периода из солнечной обсерватории в самое просторное и важное строение культового центра Оронго перенесли сравнительно небольшую, изумительно вытесанную в раннем периоде статую из темного базальта, ныне хранящуюся в Британском музее. На спине идола поверх солнечных символов были грубо высечены птицечеловеки и двухлопастные весла; первой на это обратила внимание Раутледж, не предложив никаких объяснений. От пасхальских изваяний среднего периода, предназначенных для
аху, эту статую отличает выпуклое основание и материал — твердый черный базальт, а не желтовато-серый туф каменоломен Рано-Рараку. Как мы увидим дальше, она, возможно, послужила прототипом всех монументов, воздвигнутых в среднем периоде на
аху.
По ходу раскопок на равнине тоже стали находить статуи не встречавшихся прежде типов. Одни из этих ранних изваяний были намеренно разбиты, и обломки пошли на строительство круглых домов среднего периода. Другие осквернили тем, что уложили лицом внутрь в грубые платформы
аху для больших статуй среднего периода. Некоторые из подвергшихся надруганию статуй были изваяны из темного базальта, подобно скульптуре в Оронго, другие — из красной вулканической породы, третьи — из желтовато-серого туфа Рано-Рараку. Но все отличались от широко известного стандартного типа пасхальских статуй, и, судя по тому, как бесцеремонно с ними обошлись в среднем периоде, они, почти наверное, вышли из рук ваятелей раннего периода.
Открытые экспедицией статуи раннего периода Пасхи можно разделить на четыре существенно различных типа, из которых три были прежде неизвестны в Океании. Тип I представлен прямоугольными, подчас уплощенными каменными головами без туловища и конечностей, с округлыми углами. Обозначенное рельефом плоское лицо отличается огромными глазами и нависающими бровями, переходящими наподобие буквы «игрек» в приплюснутый нос. Такие детали, как уши и рот, либо едва намечены, либо их трудно было опознать, поскольку они лежали лицом вниз возле
аху или на каменистом поле.
Тип II — прямая, колонноподобная, весьма нереалистичная фигура с туловищем и укороченными ногами; сечение прямоугольное, также с закругленными углами. Обозначенные рельефом тонкие руки согнуты под прямым углом, и пальцы почти встречаются на животе. Найдено три экземпляра — один завершенный, но разбитый, два незавершенных; все из красной породы.
Тип III — весьма реалистичное изображение коленопреклоненного великана, опирающегося полными ягодицами на собственные пятки. Колени направлены вперед под прямым углом к туловищу; руки покоятся на бедрах около колен. Лицо обращено чуть вверх, овальные глаза слегка выпуклые, щеки полные, губы маленького рта оттопырены, подбородок венчает козлиная бородка. Найден один экземпляр, погребенный в отвалах древнейшей части каменоломен Рано-Рараку.
Если три перечисленных типа прежде в Океании никем не встречены, то тип IV, также относящийся к раннему периоду, более знаком, поскольку он близок к единственным известным до тех пор пасхальским статуям среднего периода, многие из которых еще стояли на
аху ко времени появления европейцев. По сути дела тип IV раннего периода — несомненный прототип каменных исполинов, принесших такую известность острову Пасхи. Он представляет собой традиционный прямой торс, обрезанный ниже гениталий, с пупком и сосками, с опущенными по бокам длинными руками, кисти которых изогнуты под прямым углом так, что кончики очень длинных, тонких пальцев доходят до гениталий. Нос, уши и губы сильно выступают; лоб нависает над глазницами. Глаза заметно отличаются от рельефных глаз у других статуй раннего периода и заслуживают особого внимания: у типа IV высечены глубокие глазницы, и эта своеобразная черта повторялась затем на всех изваяниях среднего периода.
Широко распространено заблуждение, будто каменные великаны острова Пасхи слепые. Родилось оно потому, что до наших времен в стоячем положении оставались только незаконченные изваяния у подножия каменоломен. Погруженные в щебнистую осыпь, они были слепыми по той простой причине, что глазницы полагалось высекать лишь после установки идола на его
аху. Как уже говорилось, все завершенные изваяния были повалены во время междоусобиц позднего периода, и почти всех их сбросили с постамента лицом вниз. В 1955 г. пасхальцы по нашей просьбе вернули на
аху одного сброшенного великана; после эта процедура была продолжена, так что теперь несколько изваяний стоят на старых местах, и у всех них глубокие глазницы. Эта деталь типа IV побудила кое-кого предположить, что ваятели изображали черепа с пустыми глазницами, но такая гипотеза не проходит уже потому, что уши, губы и глаза высечены вполне реалистично. Продолжая исследования, я теперь склоняюсь к тому, что у пасхальских статуй типа IV в раннем и среднем периодах глаза первоначально были инкрустированы. Точно такие глубокие овальные глазницы видим у некоторых огромных антропоморфных изваяний хеттов, а также у выполненных в рост человека каменных скульптур доевропейской Мексики, но в этих случаях точно известно, что была выпавшая из глазниц инкрустация; об этом свидетельствуют другие образцы в тех же областях, у которых глазницы заполнены белой морской раковиной со зрачком из черного обсидиана. Кстати, на Пасхе у всех деревянных фигурок, собранных до вторжения миссионеров, были именно такие глаза: глубокие овальные глазницы, заполненные белой костью или раковиной с черным обсидиановым зрачком. В 1886 г. Томсон приобрел голову пасхальской статуи с такой же инкрустацией (см. иллюстрацию: Heyerdahl, 1976[154]). Да и огромные куклы из
тапы (паина) пасхального позднего периода имели глаза, вырезанные из человеческой черепной кости, со зрачком из черной морской раковины (Metraux, 1940[222]).
Наиболее приметное различие между изваяниями типа IV среднего периода и их, как правило, не такими большими прототипами раннего периода заключается в том, что в среднем периоде голову истуканов стесывали, чтобы примостить на ней цилиндр
пукао из красного камня, и основание делали совсем плоским, чтобы идол прочно стоял на каменной
аху. У экземпляров раннего периода голова и основание округлые; они были без цилиндра и устанавливались на земле культового дворика.
По преданию, первыми ваятелями были изначальные переселенцы с востока. Если искать источники внешних импульсов, мы не увидим ни один из описанных четырех типов ни в других частях Океании, ни в Юго-Восточной Азии. Только на Маркизах, Раиваваэ и Питкэрне (все они расположены на восточной окраине Полинезии) известны крупные каменные статуи, однако они изображают непомерно тучных людей с большим животом, короткими, слегка согнутыми ногами и с огромной круглой головой, на которой рельефом высечены гротескные черты лица. Эти изваяния перекликаются с большеголовыми и коротконогими истуканами, какие устанавливались на каменных платформах или на земле от Мексики и Сан-Агустина в Колумбии до озера Титикака в Перу и Боливии. У всех этих материковых идолов очень короткие ноги, совсем же безногие торсы находили только в древней области Хуарас (Центральное Перу) и изредка вокруг озера Титикака. Статуи бородатого Кон-Тики-Виракочи в Тиауанако и в расположенном по соседству Мокачи — безногие; один тучный каменный исполин в Тарако, на северном берегу Титикаки, также усечен ниже живота и, как мною показано в другом месте, очень близок к пасхальскому типу IV, каким тот выглядел первоначально, в раннем периоде (Heyerdahl, 1976[154]). Тем не менее безногие торсы следует относить к исключениям в Андской области; несомненно, они заняли преобладающее место лишь в результате местного отбора на Пасхе при переходе от раннего к среднему периоду.
А вот остальные три открытых теперь типа раннего периода, не встреченные больше нигде в Океании, отлично известны в Андах. Они очень близки к трем типам каменных статуй, которые специалист по андской археологии Беннет считает характерными для доинкского ваяния в Тиауанако. Сходство прослеживается во всех своеобразных деталях; это относится и к прямоугольной большеглазой голове с носом в виде буквы «игрек», и к прямоугольной колонноподобной фигуре с руками, сложенными на животе, и к реалистичному коленопреклоненному истукану с его специфическими особенностями, перечисленными выше (Bennett, 1934[28]). Шёльсволд, раскопавший коленопреклоненного великана в отвалах ниже каменоломен, видит в нем все своеобразные черты соответствующих тиауанакских образцов, отнесенных Беннетом к древнейшему, доклассическому периоду Тиауанако. Он говорит: «…сходство этой тиауанакской статуи из Южной Америки и нашего экземпляра так велико, что его вряд ли можно приписать случайности, скорее речь идет о тесном родстве, указывающем на связь между этими двумя образцами древней каменной скульптуры Андов и острова Пасхи» (Skjölsvold, 1961[283]).
Открытые теперь типы изваяний раннего периода позволяют представить себе эволюцию пасхальских монументов для
аху. До сих пор были известны только однородные исполины среднего периода, а у них нет ничего общего со статуями ни островов на западе, ни материка на востоке. В этом одна из причин, почему их обособленное присутствие на острове Пасхи казалось таким загадочным. Теперь выяснилось, что в неведомый прежде ранний период первые пасхальцы экспериментировали с разными горными породами и четырьмя различными типами антропоморфных изваяний, три из которых, как установлено, представляют характерные древние формы в Тиауанако на ближайшем к востоку материке. Больше того, четвертый тип также присутствует среди каменных статуй Тиауанако, но он приобрел более специализированный вид под конец раннего периода на Пасхе. Затем этот тип стал образцом для всех сотен огромных монументов, установленных на перестроенных
аху во втором пасхальском периоде.
Что послужило причиной? Чтобы объяснить эту эволюцию и выявленный археологами странный застой в последующем развитии на Пасхе, приходится обращаться к этнологии. У нас нет оснований сомневаться в устных сведениях, полученных Куком, Лаперузом и другими путешественниками от пасхальцев позднего периода, когда многие статуи еще стояли на своих
аху: изваяния были не идолами в прямом смысле слова, а памятниками в месте погребения королей, вождей и других знатных лиц. Каждая статуя была воздвигнута в честь определенного умершего человека, и многие старики даже после племенных усобиц позднего периода, когда изваяния сбрасывали на землю, еще помнили имена некоторых
арики — вождей, удостоенных памятника. Наши раскопки показали, что склепы и другие виды погребения были привязаны к
аху под конец среднего и весь поздний период; в астрономически ориентированных алтареподобных сооружениях раннего периода, которые не украшались монументами, останки не обнаружены. Но как уже говорилось, перед фасадом искусно сложенных из тесаного камня культовых стен мы нашли следы коллективной кремации. Вот еще одно неожиданное открытие, ведь прежде не было известно, что кремация некогда входила в погребальный ритуал на Пасхе.
Естественно возникает следующий вопрос: почему могущественные вожди среднего пасхальского периода предпочитали, чтобы их могилы были увенчаны стереотипными копиями статуи типа IV раннего периода? Вопрос тем более существенный, что пасхальцы разбили или изуродовали все изваяния раннего периода, в том числе и типа IV, сделав исключение только для замечательной базальтовой статуи из солнечной обсерватории на вершине вулкана Рано-Као, которую они перенесли в полной сохранности в одну из культовых построек Оронго. Эта же статуя оказалась единственной, не поваленной даже в поздний период, ей продолжали поклоняться чуть ли не до тех самых пор, когда европейцы увезли ее и передали в Британский музей.
Может быть, статуя из Оронго играла особую роль? На этот вопрос можно с полной уверенностью ответить утвердительно. Это единственная статуя с выпуклым основанием, установленная на земляном полу внутри строения, единственная статуя, пережившая все три культурных периода, наконец, единственная на Пасхе статуя, о которой известно, что она была предметом поклонения и культа всего населения острова независимо от родовой или племенной принадлежности. Все прочие монументы вместе со своими
аху принадлежали отдельным родам; потому-то их сбрасывали и уродовали в знак мести во время жестоких племенных усобиц позднего периода. Даже на некоторых незавершенных изваяниях у подножия каменоломен Рано-Рараку видим глубокие борозды — следы попыток обезглавить их, поскольку островитянам было не под силу повалить врытые в щебень каменные торсы. А истукан в каменном доме в Оронго оставался неприкосновенным, и с ним все еще были связаны культ плодородия и важные ритуалы, общие для всех враждующих племен, когда на Пасху во второй половине прошлого столетия прибыли миссионеры. При раскопках мы нашли много древесного угля — следы ритуальных костров перед входом в большой центральный каменный дом, где стояла важная базальтовая статуя.
Судя по всему, эта статуя первоначально была связана с ритуалами пасхальских солнцепоклонников раннего периода. Спину ее украшали рельефные символы солнца и радуги; когда же статую в среднем периоде перенесли в только что отстроенный каменный дом, поверх старых мотивов были грубо высечены символы птицечеловека. Тем не менее она сохраняла центральную позицию в пасхальских культах, воплощая, так сказать, бога-творца или бога плодородия, и ей посвящались ритуалы во время весеннего равноденствия. Если другие статуи, устанавливаемые островитянами среднего периода на родовых
аху, представляли покойных членов общины, то изваяние в Оронго продолжало оставаться общим для всех родов божеством. Возможно, этим объясняется единообразие памятников для
аху. Поскольку короли на острове Пасхи, как и во всей Полинезии и в Перу, считали себя потомками верховного божества, понятно, что каждый хотел, чтобы его изображение предельно походило на всемогущего предка, известного всем пасхальцам по изображению в их общем культовом центре Оронго. Единственное допускаемое отклонение — увеличение размеров статуи: каждый стремился, чтобы его монумент был возможно больше и внушительнее, воплощая тем самым роль и могущество покойного.
После того как был обнаружен субстрат, предшествующий каменным исполинам, которые так прославили остров Пасхи, стало очевидно, что гипотетические датировки первого заселения острова не годятся. Сами пасхальцы сообщали первым европейским гостям о двух генеалогиях местных королей; наиболее древняя, насчитывающая 57 поколений, восходила к первому королю-иммиграиту — Хоту Матуа. Но поскольку считали, что иммиграция направлялась из далекой Азии, эту генеалогию произвольно отвергли в пользу более короткой, насчитывающей в разных версиях от 20 до 30 имен. И так как все предыдущие попытки датировать заселение Пасхи опирались на легендарные генеалогии, в наших раскопках было важно найти органические остатки, позволяющие произвести углеродную датировку.
По мнению Раутледж, до Пасхи дошли две волны иммигрантов, причем полинезийцы приплыли около 1400 г. (Routledge, 1919[266]). Кнохе тоже полагал, что остров заселили два народа, и первый прибыл между XI и XIII вв. (Knoche, 1925). Лавашери и Метро считали пасхальскую культуру молодой и однородной; открытие острова они относили к XII–XIII вв. (Lavachery, 1936; Metraux, 1940[197, 222]).
Энглерт разделял взгляд о слиянии двух культур, однако полагал, что ни одна из них не могла появиться на уединенном острове Пасхи ранее 1575 г. (Englert, 1948[106]).
Наши раскопки показали, что уже в 380 г. (плюс-минус 100 лет) на Пасхе было многочисленное население, занятое строительством крупного оборонительного сооружения. Эта дата на 1000 лет опережала все ранее предполагавшиеся, и вообще до тех пор ни на одном из островов Полинезии не получали столь древней даты. Обнаружив стратиграфически расположенный древесный уголь и костные останки, мы смогли получить 17 радиоуглеродных датировок для Пасхи. Две из наиболее интересных относятся к легендарному рву, отделяющему полуостров Поике. Островитяне с самого начала рассказывали европейцам, что речь идет об искусственном рве, где произошла решающая битва между их предками и «длинноухими», когда последние были заживо сожжены в костре на дне двухкилометрового рва.
Однако геологи и этнологи полагали, что ров на Поике — естественная геологическая формация (Chubb, 1933[67]); при этом Метро и Лавашери заключили, что островитяне сочинили легенду, чтобы объяснить природное явление (Metraux, 1940; Lavachery, 1935[222, 196]), а потому предание о «длинноухих» и «короткоухих» также относили к числу вымыслов. Но первый же шурф показал, что ров содержит множество древесного угля, и углеродная датировка показала, что примерно в 1676 г. (плюс-минус 100 лет) здесь пылал огромный жаркий костер (Smith, 1961[290]). Примечательное совпадение с датой 1680 г., которую патер Себастиан Энглерт еще раньше определил, исходя из утверждения островитян, что битва у Поике произошла 12 поколений назад (Englert, 1948[106]).
Раскопки Смита позволили установить, что оборонительный ров был вырыт задолго до усобиц, приведших к побоищу в конце XVII в.; когда состоялось аутодафе, он уже представлял собой древнее сооружение, частично занесенное песком и пылью. На самом дне Смит нашел осколки обсидиана. Двухкилометровая природная ложбина была расширена до 11–12 м и углублена до 4–5 м. Вынутая со дна щебенка пошла на сооружение оборонительного вала на склоне; при этом островитяне засыпали кострище, по остаткам которого удалось определить, что укреплять окаймленный крутыми скалами полуостров начали еще около 380 г. (Smith, 1961[290]). Возможно, уже тогда обитатели острова не ладили между собой, но скорее всего они опасались преследования со стороны врагов на своей родине; недаром рассказы о таких преследованиях занимают важное место во всех древнейших пасхальских преданиях. В самом деле, и легендарный первый король Хоту Матуа, по преданию, бежал из родной страны на восток, спасаясь от плена и казни, после того как потерпел поражение в трех больших битвах.
Расположенные у подножия каменоломен Рано-Рараку травянистые гребешки и бугры до той поры считали природными образованиями. На вершине одного из самых высоких бугров примостился фундамент священного жилища для ежегодно — до прихода миссионеров — избираемого птицечеловека; Раутледж и Метро связывали эту постройку с древнейшими ритуалами островитян. Раскопки Шёльсволда показали, что все гребешки и бугры искусственного происхождения, это были огромные мусорные кучи, сложенные щебнем, сломанными базальтовыми рубилами и золой из каменоломен на склоне вулкана. Анализ угольков из кострищ в этих кучах позволил датировать работы средним периодом, когда на Рано-Рараку еще трудились каменотесы. Заодно выяснилось, что жилище птицечеловека вовсе не связано с древнейшими ритуалами, оно было выстроено в поздний период на отвалах среднего периода, уже после того, как прекратилось ваяние (Skjölsvold, 1961[283]).
По данным радиоуглеродных датировок, экспедиционные археологи определили хронологию трех культурных эпох острова Пасхи. Ранний период начался во всяком случае до 380 г. и закончился примерно в 1100 г.; средний период продолжался приблизительно с 1100 по 1680 г.; поздний период, начавшись около 1680 г., завершился с окончательным введением христианства в 1868 г., (Smith, 1961[290]).
Чтобы получить основу для хронологических и типологических сопоставлений, наша экспедиция после острова Пасхи посетила Питкэрн и Раиваваэ, а также Хива-Оа и Нукухиву в Маркизском архипелаге; кроме Пасхи во всей Полинезии только на этих четырех островах найдены монументальные каменные изваяния.
На Питкэрне и Раиваваэ обнаружено ограниченное число небольших скульптур сравнительно позднего происхождения, и никто не пытался утверждать, что они были источником вдохновения древних пасхальских ваятелей (Heyerdahl and Ferdon, 1965[156]), зато Бак (Те Ранги Хироа, 1959) и другие считали примитивными предшественниками искусно выполненных пасхальских статуй неуклюжие гротескные фигуры примерно в рост человека, установленные в двух святилищах Маркизских островов (Heyerdahl, 1965[152]), которые лежат так же далеко к северо-западу от Пасхи, как Перу на востоке. Шёльсволду удалось найти древесный уголь в двух разных слоях под каменной платформой, служащей опорой для статуй Хива-Оа, а Мэллой и Фердон взяли древесный уголь из-под постаментов изваяний Нукухивы, и оказалось, что маркизские монументы были установлены уже около 1316 и 1516 гг., то есть в разгар среднего периода культуры острова Пасхи (Ferdon, 1965; Heyerdahl, 1965[113, 152]). Стало быть, маркизские скульптуры никак не могли вдохновить первых пасхальских ваятелей, поскольку мы видели, что ваяние занимало важное место на Пасхе и в раннем периоде, за тысячу лет до появления маркизских истуканов. Эти статуи XIV–XVI вв. не могли повлиять даже на тех пасхальцев, которые наладили массовое производство истуканов для
аху в среднем периоде, начавшемся около 1100 г. А вот возможность влияния в противоположном направлении, от Пасхи на Маркизы, хронологически не исключена.
Как известно (Хейердал, 1959), современные потомки Оророины, единственного «длинноухого», уцелевшего после избиения во рву Поике, на деле показали нашей экспедиции, как еще 12 поколений назад грубо заостренными рубилами из твердого андезита на склонах вулкана Рано-Рараку вытесывали огромные статуи, как несколько сот человек могли перетаскивать изваяния по равнине и как 12 островитян, располагая только канатами, камнями и двумя бревнами, могли за 18 дней водрузить на
аху 20-тонного исполина.
Хотя археологам предстоит еще немало потрудиться на острове Пасхи и в Тиауанако в Андах, теперь можно хотя бы попытаться восстановить некоторые важнейшие события доевропейской поры в самой уединенной из людских обителей.
Некогда, во всяком случае до 380 г., то есть более 1,5 тыс. лет назад, на острове Пасхи высадились первопоселенцы. Все местные вулканы давно потухли, и в трех кратерах образовались открытые озера. Пришельцы увидели зеленый край с разными видами деревьев и кустарников, включая пальмы. Им пришлось расчищать лес, освобождая место для своих жилищ, для каменных святилищ, для ваяния статуй. Хотя на острове не было недостатка в лесе, эти люди в отличие от полинезийцев строили свои дома не из жердей и травы, а из добытого в карьерах камня. Жилища были круглые и лодковидные, с ложным сводом; кровля или каменная, или из камыша
тотора. Корневища камыша явно были привезены с орошаемого участка на засушливом побережье Южной Америки и высажены в пресные кратерные озера вместе с другим американским растением — лекарственным Polygonum amphibium. Лес, как уже сказано, на острове был, и все же поселенцы вязали своеобразные суда из того же камыша
тотора, следуя принципам, типичным для водных путей Тиауанако и тихоокеанского побережья древнего Перу. Чтобы добраться до скрытого под почвенным слоем туфа, они валили и сжигали пальмы на зеленых склонах потухшего вулкана Рано-Рараку. Из этого туфа, а также из шлака и базальта в других карьерах поселенцы рубилами неполинезийского, американского типа весьма умело высекали огромные блоки, обтесывали их и, несмотря на самую различную форму, подгоняли так плотно, что в шов между камнями не просунуть лезвия ножа.
Эта чрезвычайно специализированная техника каменной кладки не известна больше нигде в Полинезии, зато характерна для древнего Перу, от долины Куско до Тиауанако. Первопоселенцы явно были солнцепоклонниками: их внушительные культовые сооружения представляли собой алтареподобные мегалитические платформы, ориентированные по солнцу. К тому же на вершине самого высокого вулкана они соорудили солнечную обсерваторию и святилище. В отличие от обычной для полинезийцев резьбы по дереву они работали по камню, высекали статуи из твердейшего базальта, разного вида туфов и вулканических шлаков и устанавливали их на земляных площадках святилищ. Специализированные типы этих статуй не известны на других тихоокеанских островах, зато они характерны для динамичного культурного центра Тиауанако. Полуостров Поике был отделен оборонительным рвом от остальной территории: возможно, переселенцы опасались, что в их уединенное убежище вторгнутся те, которые вынудили их покинуть родину.
Нам неизвестно, что в конце концов произошло с основателями культуры раннего периода. В Винапу и Оронго археологи обнаружили признаки того, что святилища, возможно, были временно покинуты; не исключено, что какое-то время между ранним и средним периодами остров был вовсе безлюдным. Полученные пока скудные углеродные датировки не позволяют делать определенные выводы о переходе от раннего периода к среднему.
Зато очевидно, что новые обитатели острова относились враждебно к своим предшественникам, разрушали их святилища и перекладывали каменные блоки, не заботясь о подгонке искусно обработанных поверхностей и не думая об ориентировке по солнцу. Старые истуканы были разбиты и осквернены, их обломки пошли на строительство новых архитектурных объектов —
аху.
Несмотря на враждебность к предшественникам и явное различие в религиозных представлениях, новая культура была достаточно близка к прежней, и мы вправе искать ее корни в том же географическом регионе. Не исключено, что иммигранты, положившие начало среднему периоду, знали, где лежит остров Пасхи. Прибыв сюда приблизительно в 1100 г., они ввели культ птицечеловека, и он занял главное место в религиозной жизни пасхальцев. С этим культом был тесно связан культ умерших предков. Посвященные им большие статуи приобрели ведущее значение в архитектуре, и на их изготовление была направлена вся созидательная энергия островитян; различные погребения стали культовыми центрами отдельных родов. За неполных 600 лет на обезлесенных склонах вулканов Рано-Рараку, чьи пальмы давно обратились в развеянный ветром пепел, было высечено более 600 огромных памятников. Со временем эти памятники стали играть престижную роль, и чередующиеся поколения, изолированные от внешних войн, старались превзойти друг друга в размерах родовых монументов. В итоге к концу среднего периода безлесный остров был весь опоясан платформами
аху, на которых высились исполинские памятники, обращенные лицом к внутренней площадке, спиной — к морю. И в это же время, судя по всему, на место кремации перед
аху пришел ставший преобладающим в позднем периоде обычай коллективных захоронений в толще или на поверхности этих сооружений.
Когда ваяние статуй перед самым концом среднего периода достигло вершины, местные мастера умели воздвигать монолитные статуи высотой до 14,02 м, что равно четырехэтажному дому. Самая большая статуя, водруженная на постамент
аху в 8 км от каменоломни, весила свыше 80 т, рост ее превышал 10 м, да еще на голове покоился красный каменный цилиндр, весивший 12 т — столько же, сколько весят два взрослых слона. К моменту катастрофы около 1680 г. в каменоломнях была почти завершена статуя высотой 21,33 м, иначе говоря, ростом с семиэтажный дом. Но тут все работы в каменоломнях, на дорогах и на
аху внезапно были прекращены и больше уже не возобновлялись. В этот период кровопролитий и варварства роды прятались вместе со всем своим имуществом в подземных тайниках, которыми изобилуют лавовые поля и береговые скалы. Впервые началось изготовление тысяч обсидиановых наконечников для копий; ими изобилуют все последующие пласты. Статуи низвергались с
аху, каменные дома ломали, камышовые хижины сжигали, так что от огня трескались плиты фундамента.
Победителем оказался полинезиец. Он не владел искусством каменной кладки и ваяния, строил жилища из жердей и травы, собирал на берегу плавник, чтобы, как это принято по всей Полинезии, вырезать деревянные фигурки и лодочки. На острове Пасхи важнейшим традиционным изделием, которое по сей день сотнями изготовляют для продажи, становится своеобразная фигура изможденного человека —
моаи кавакава — с козлиной бородкой, орлиным носом и свисающими до плеч мочками ушей. По словам пасхальцев, так выглядели чужаки, которых их предки застали на острове и уничтожили во рву Поике.
Прибывшие на Пасху полинезийцы не привезли с собой ни пестов для приготовления
пои, ни колотушки для
тапы — двух важнейших предметов домашнего обихода, характеризующих общеполинезийскую культуру. Вообще с материальными свидетельствами, которые позволили бы определить, когда именно они прибыли, дело обстоит плохо. Можно подумать, что речь идет о скромных пришельцах, смиренно воспринявших неполинезийскую веру и обычаи. Пока что нельзя точно сказать, с какого острова приплыли они на Пасху. В их преданиях, записанных в прошлом веке, утверждается, что они явились сюда за 200 лет —
карау-карау — до восстания, закончившегося битвой на Поике. Это хорошо согласуется с предположениями Раутледж и других, основанными на более короткой из двух пасхальских генеалогий, которая включает 24 поколения, тогда как про Хоту Матуа говорится, что он приплыл с востока 57 поколений назад.
Многое говорит о том, что полинезийцы не по собственной воле прибыли на уединенный остров помогать «длинноухим» ваятелям в их фанатическом предприятии; возможно, их захватили в плен и привезли пасхальцы среднего периода, которые вполне могли посетить Маркизы около XVI в.
Так или иначе они оказались основными исторически известными обитателями опустошенного войнами, безлесного острова с развалинами святилищ и поверженными на землю истуканами. Когда Роггевен поднял занавес перед европейскими зрителями, среди пасхальцев еще были светлокожие и рыжеволосые статисты, но основное представление давно кончилось и исполнители главных ролей покинули сцену.
Глава 13
Место встречи — самое уединенное в мире
Трудно назвать обитаемый уголок земного шара, который не был бы местом встречи, а то и тиглем разных народов и культур.
На континентах и континентальных островах народы не менее одного раза сменяли друг друга или принимали иммигрантов извне; в области высокоразвитых культур Средиземноморья это происходило неоднократно. Финикийцы рано отправились исследовать другие земли, но нигде они не были первыми, даже на Канарских островах их опередили гуанчи. Викинги застали на своей будущей северной родине лапландцев; в Исландии они встретили валлийских монахов, в Гренландии — эскимосов.
Была ли Полинезия исключением? Вряд ли. С появлением современных поселенцев и гостей азиатского и европейского происхождения черты полинезийской культуры были настолько стерты и население настолько смешано, что теперь нигде не увидишь сколько-нибудь истинной картины первоначальных условий. Однако первые в этой области европейские мореплаватели единодушно подчеркивали, что в островной области, именуемой нами Полинезией, смешались три отчетливо различимых народа. Преобладающий тип отличался белой до светло-бронзовой кожей, черными волосами, почти европейскими, рельефными чертами лица, способностью отращивать усы — все это в сочетании с некоторыми признаками монголоидности и внушительным ростом до 180 см. Этот основной для Полинезии тип совпадает с характеристиками новозеландских маори а также с физическим типом, присущим островным племенам у северо-западного побережья Америки. Сами представители описанного типа считали себя «настоящими» людьми —
тангата.
У второго типа видим признаки меланезийского родства; об этих людях писали, что они темнокожие, у них плоский и широкий нос толстые губы более курчавые волосы, не такой высокий рост. От Гавайских островов до Новой Зеландии их называли потомками легендарных
менехуне, или
манахуне. Третий тип отличался очень светлой кожей, рыжеватыми или каштановыми волосами и сильно выдающимся носом (Shand, 1894[276]). В наиболее чистой форме их наблюдали среди выходцев с домаорийской Новой Зеландии, заселивших острова Чатем. Этот тип полинезийцы называли
кеу, уру-кеу, эху, хаоле, хао’э, а в Новой Зеландии, кроме того,
пакеха туреху или
namynauapexe (Poirier, 1953[249]). Бак сообщает, что светлую кожу и рыжие волосы маори считали указанием на то, что у данного человека в роду был
namynauapexe. Он добавляет, что некоторые маорийские племена отличались большим числом рыжеволосых, причем признак этот был присущ определенным родам (Buck, 1922[50]).
Ранние наблюдения европейцев и полинезийские предания получили научное подтверждение в уже упоминавшемся основополагающем исследовании скелетных останков, проведенном Салливеном. Он заключил: «Быстро накапливающиеся данные о жителях Полинезии начинают ясно указывать на то, что „полинезийца“ никоим образом нельзя рассматривать как однородный расовый тип. „Полинезийский тип“ — абстрактное понятие, соединяющее характеристики нескольких физических типов». Отмечая, что эти физические типы неравномерно распространены на полинезийских островах, он предположил, что расовое смешение
не предшествовало расселению в Полинезии: «…очевидно, что они проникли в Тихоокеанскую область в разное время и, возможно, разными путями. Несомненно, они представляли разные языки и разные культуры» (Sullivan, 1924, 1924 а[302, 303]).
Разделяя взгляды Салливена, Линтон писал: «Недавние исследования физического типа убедительно показали, что полинезийцы воплощают не чистую расу, а соединение по меньшей мере трех расовых элементов» (Linton, 1923[204]). Вслед за тем Хэнди суммировал мнение полинезианистов:
«Салливен, Диксон и Шапиро единодушно говорят о сложном расовом типе в Полинезии и неравномерном распределении его типичных элементов. Диксон, Линтон и нижеподписавшийся анализировали те или иные культурные фазы и установили наличие нескольких отчетливых пластов или групп культурных элементов. А Черчилл почти 20 лет назад разделил полинезийские лингвистические элементы на две различные группы» (Handy, 1930 в[141]).
Эти заключения впоследствии никем не опровергнуты, и, поскольку остров Пасхи — восточный форпост Полинезийского треугольника, представляется интересная возможность проследить источники смешения, анализируя необычную местную культуру.
В основе этой главы лежит доклад «Насколько культура острова Пасхи является полинезийской?», прочитанный на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, состоявшемся в 1964 г. в Москве; некоторые дополнительные данные взяты из монографии «Искусство острова Пасхи», вышедшей в 1976 г.
Мысль о том, что уединенный остров Пасхи представляет собой тигель, в котором сплавились разные культуры, не является плодом недавних раскопок. Открывшие Пасху в 1722 г. голландцы описали живших совместно представителей разных расовых типов. Одним из первых на борт голландского корабля поднялся некий представитель островной знати, с удлиненными мочками ушей и «совершенно белый». Большинство островитян, по описанию голландцев, смуглые вроде испанцев, но «встречаются и более темнокожие, и совсем белые, а некоторые — розовые, словно они обгорели на солнце» (Behrens, 1722[26]). Повторно открывшие остров в 1770 г. испанцы обратили внимание на «бородатых, высокого роста, тучных, белых и румяных» пасхальцев. Цвет кожи местных жителей они описывают как «белый, темный и красноватый»; про волосы пишут: «…мягкие, каштанового цвета, у других — черные, а у третьих — рыжеватые или светло-коричневые» (Aqüera, 1770; Corney, 1908[10, 85]).
Поздний период с его гражданскими войнами и свержением статуй явно отразился на составе обитателей Пасхи, поскольку Кук в 1774 г. застал сильно поредевшее, голодающее, истощенное усобицами население явно полинезийского происхождения, никак не связанное, по его мнению, с монолитными статуями, которые он считал памятниками давней эпохи, не пользующимися заботой современных ему пасхальцев (Кук, 1964[3]).
Мы уже видели, как первым европейцам, поселившимся на Пасхе и наладившим общение с островитянами, рассказывали, что прежде на острове жили вместе два разных народа с разными языками, один пришел с востока, другой — с запада, и что идея ваяния статуй принадлежала первопоселенцам, «длинноухим», но большую часть нынешнего населения составляли потомки второй волны иммигрантов, «короткоухих», которые после долгого мирного сосуществования восстали и перебили во рву Поике всех «длинноухих» мужского пола. Тщательный опрос стариков, проведенный в 1886 г. Томсоном через переводчика-таитянина Салмона, убедил его в истинности утверждения пасхальцев, что остров принял не одну волну переселенцев (Thomson, 1889[307]).
Кнохе присоединился к этому мнению, обнаружив неоднородность местной культуры. Он заключил, что преобладающему ныне населению предшествовал неполинезийский субстрат, однако отверг высказанное в 1870 г. предположение специалиста по истории инков Маркхэма о влиянии Тиауанако. В качестве контраргумента он привел общепринятую догму, будто южноамериканские бальсовые плоты не были пригодны для океанских плаваний; взамен он предположил, что остров Пасхи принял дополинезийский субстрат из Меланезии (Knoche, 1912; 1925[186, 187]).
Затем Бальфур категорически заявил, что культура Пасхи неоднородна, была по меньшей мере одна волна дополинезийских переселенцев, вероятно из Меланезии (Balfour, 1917[19]). Взгляды Бальфура развил Хэддон; он полагал, что до этого уединенного островка дошли три волны переселенцев: одна из Австралии другая из Меланезии и третья из Полинезии. При этом он основывался на исследованиях черепов Фольцем, Хеми, Джойсом, Пикрофтом и Кейсом, которые нашли у пасхальцев неполинезийские черты (Haddon, 1918[134]).
Далее Раутледж прибыла на Пасху в 1919 г., чтобы провести первое систематическое исследование поверхностных памятников.
Она записала: «Слова Роггевена о людях с разным цветом кожи по-прежнему справедливы. Островитяне сами вполне отдают себе отчет в этих различиях, и, когда мы записывали генеалогии, они охотно указывали цвет кожи даже отдаленных родичей (называя их либо „черными“, либо „белыми“)… Очевидно, что здесь перед нами смешанная раса…» (Routledge, 1919[266]).
Шапиро, также рассмотревший эту физико-антропологическую проблему, установил, что мнения расходятся; сам же он заключил: «…связывать остров Пасхи с меланезийскими или австралийскими племенами… значит идти наперекор известным фактам» (Shapiro, 1940[277]). Метро счел это отрицание меланезийского элемента вполне доказательным и в своей монографии по этнологии острова Пасхи пишет что изучение археологических памятников убедило его в единстве пасхальной культуры (Metraux, 1940[222]). Однако товарищ Метро по экспедиции археолог Лавашери подчеркнул, что их исследования ограничивались наземным материалом, и осмотрительно заключил: «Вероятно, полинезийцы застали остров Пасхи необитаемым и лишенным каких-либо памятников старины, хотя доказать это утверждение мы не можем» (Lavachery, 1935; 1936[196, 197]).
Еще до моего прибытия на Пасху я сомневался в справедливости вывода Метро и в 1941 г. вернулся к аргументам в пользу комплексности пасхальской культуры. Вместо меланезийского субстрата я по примеру Маркхэма предположил субстрат из Андской области. Хотя тогда я не был знаком на практике с бальсовыми плотами, мне не верилось, что южноамериканцы ничего не смыслили в морских делах, и я считал, что остров Пасхи был вполне достижим для доинкских мореплавателей из Перу (Heyerdahl, 1941[147]). Вскоре после этого патер Энглерт, возобновив изучение пасхальских наземных памятников, также оспорил выводы Метро и Лавашери. Он вернулся к предположениям Раутледж и других о том, что полинезийскому этническому и культурному слою предшествовал некий другой субстрат, однако подправил старую гипотезу об иммиграции из Меланезии, указав на некоторые параллели с культурой древнего Перу (Englcrt, 1948[106]).
Из этого краткого обзора видно, что еще до наших стратиграфических
раскопок на Пасхе представители разных наук отдавали предпочтение аргументам в пользу комплексности здешней культуры.
В области лингвистики, пожалуй, было меньше оснований подозревать наличие чужеродного субстрата. Правда, Энглерт, очень тщательно исследовавший современный пасхальский язык, ссылаясь на предания о том, что живший раньше на острове другой народ говорил иначе, указывает, что наличие некоторых синонимов может быть связано с этим различием. Он сообщает также, что старики, делая определенные фигуры из веревочек, произносили при этом традиционные тексты, но слова были настолько неразборчивыми, что ему не удалось их записать (Englert, 1948[106]).
Первый словарь, в который вошло 94 пасхальских слова, был составлен в 1770 г. участником испанской экспедиции Агуэрой. Наряду с типично полинезийскими словами словарь содержит и явно неполинезийские. К последним относятся, в частности, числительные от единицы до десяти. Вот эти числительные; в скобках они же на современном рапануйском диалекте:
| кояна |
(этахи) |
| корена |
(эруа) |
| когохуи |
(этору) |
| кироки |
(эха) |
| махана |
(эрима) |
| феуто |
(эоно) |
| фегеа |
(эхиту) |
| мороки |
(эвару) |
| виховири |
(эива) |
| керомата |
(ангахуру) (Agücra, 1770). |
Росс и Метро, пытаясь объяснить, откуда взялись эти, казалось бы, посторонние для Пасхи слова, несовместимые с гипотезами об однородном составе местного населения, предположили, что Агуэра неверно истолковал их (Ross, 1936; Mclraux, 1940[264,222]). Но даже если так, они все равно остаются чужими, ведь другого толкования, исходя из полинезийского языка, мы все равно не найдем!
Как показывает Энглерт, война Хоту-ити, видимо, опустошила остров Пасхи около 1772–1774 гг., как раз перед прибытием Кука (Englert, 1948; Heyerdahl and Ferdon, 1961[106, 155]). Были уничтожены плантации, и разрозненные группы измученных войной, живущих в крайней нужде полинезийцев не могли даже снабдить разочарованных англичан провиантом. Кук и его спутники вполне сознавали, что несколько сот уцелевших пасхальцев заметно отличаются от многочисленного процветающего населения, описанного предыдущими исследователями. И он и Форстер сразу опознали полинезийский элемент; по их описанию, это были малорослые, щуплые, боязливые и жалкие люди, так что исследователи предположили, что на острове произошла какая-то катастрофа и только грозные монументы остались свидетельствами былого величия (Кук, 1964; Forster, 1777[3, 115]). Позднейшие исследователи обычно упускали из виду эту резкую перемену в картине пасхальской жизни между визитами европейцев в 1770 и 1774 гг. А между тем подтвержденные археологией предания о рве Поике, как мы уже видели, говорят о том, что примерно в 1680 г., то есть еще до визита Роггевена, тоже была уничтожена немалая часть населения острова.
Нам неизвестно, в какой степени ко времени прибытия Кука на Пасху там сохранились неполинезийские языковые элементы, поскольку Кук и Форстер записали для сравнения лишь немногие слова, которые они и их переводчик с Таити смогли отождествить с таитянскими; незнакомые слова вовсе не записывались (Кук, 1964; Forster, 1778[3, 116]). Да и сам Кук признавал, что его словарик из 28 слов, родственных таитянским, не характеризует пасхальский язык той поры; он говорит о первом пасхальце, который поднялся на борт корабля в присутствии таитянского переводчика Ойдиди: «…язык его оказался совершенно непонятным» (Кук, 1964).
В 1864 г., до появления полного словаря рапануйского языка, на острове поселился миссионер Эйро; с ним прибыли несколько мангаревцев и немногочисленная группа пасхальцев, возвращенных домой через Таити и Перу, куда их угнали работорговцы. Через письмо и речь язык сильно поредевшего населения Пасхи подвергся таитянскому влиянию. Несколько позже Руссел составил опубликованный после его смерти рапануйский словарик (Roussell, 1908[265]), однако еще при жизни Руссела англичанин Палмер писал: «Язык их изменился так сильно, что никто не может сказать, каким он был первоначально» (Palmer, 1870[243]).
Приспособление языка к таитянскому еще больше усилилось в 1871 г., когда большинство пасхальцев отправились на Мангареву и Таити, а на острове, чье население к 1877 г. сократилось до 111 человек, обосновались говорящие на полинезийском языке таитянские овцеводы и прошедший обучение на Таити проповедник с Туамоту (Pinart, 1878[246]). Лексика потомков этих 111 пасхальцев, которых обучали в школе на таитянском наречии, и легла в основу большинства последующих рапануйских словарей. Не удивительно, что Черчилл, сравнивая свой часто цитируемый словарь с рапануйским текстом, записанным на Пасхе Томсоном тридцатью годами раньше, заключил: «Об этом тексте достаточно сказать, что это не тот рапануйский язык, который отражен на страницах данного словаря, не отвечает он и известным наречиям каких-либо других полинезийских народов, скорее он представляет собой смесь нескольких языков» (Churchill, 1912[68]).
А вот слова Энглерта: «Ныне нет возможности полностью восстановить грамматику и лексику исконного языка… островитян приобщали к христианству на таитянском языке, принадлежащем к той же языковой группе, что полинезийский… по этой и по другим причинам чистый древний рапануйский язык уже отчасти утрачен» (Englert, 1948[106]).
Независимо от различий в оценке глоттохронологического метода вообще подсчеты на основе нынешней пасхальской лексики, предпринимавшиеся Эмори и другими, не могут дать существенной информации (Bergsland and Vogt, 1962[31]).
Говорящие на таитянском диалекте группы, прививавшие свою речь немногочисленному смиренному населению Пасхи, прошли христианскую школу и не принесли с собой лексику полинезийской мифологии. Поэтому пасхальским богам и богиням не пришлось потесниться, уступая место божествам Таити и других островов Полинезии. Очень важно отметить, что верховные полинезийские божества Ту, Тане, Тангароа, Тики и Мауи не играли никакой роли в религии пасхальцев. Хиро, Ронго, Тангароа и Тики были известны по преданиям, но их не почитали и им не поклонялись. Метро справедливо отмечал: «Наиболее приметной чертой пасхальской религии является то, что важнейшим богам и героям других полинезийских религий придается весьма малое значение». И он предположил: «О значении, придаваемом в полинезийской мифологии богам, имена которых неизвестны в остальной Полинезии, говорит тот факт, что прибывшие на остров переселенцы заменили некоторых главных полинезийских богов богами низшего ранга, снабдив их соответствующими атрибутами и достоинством» (Metraux, 1940[222]).
Однако в Полинезии нет богов низшего ранга с теми именами, которые почитались на Пасхе. Верховным божеством пасхальцев был Макемаке; кроме него молились и приносили жертвы только Хауа (Geiseler, 1883; Ferdon, 1961[120, 112]). В других частях Полинезии не знали даже имен Макемаке и Хауа. Предположение, что это неполинезийские боги и что восприняты они пасхальцами от носителей другой культуры на том же острове, выглядит более правдоподобным, чем гипотеза о полинезийских переселенцах, которые, прибыв на необитаемый остров, отказались от всех главных общеполинезийских богов и стали приносить жертвы чуждым им предкам, новоизобретенным божествам. Слишком уж это непохоже на полинезийцев! Макемаке был не просто обожествленным героем, он являлся верховным богом пасхальцев, творцом земли и океана, солнца, луны, звезд, человека и всего живого. Он вознаграждал добродетель и пожирал души дурных людей после их смерти; о своем гневе он давал знать громовыми раскатами. Фердон показал, что символы Макемаке были тесно связаны с устройствами для наблюдения за солнцем и с другими следами солнцепоклонничества на вершине самого высокого пасхальского вулкана (Ferdon, 1961[112]). Селение Оронго с его каменными строениями было центром культуры Макемаке и религиозной деятельности, общей для всего острова; при этом все постройки и приуроченные к ним ритуалы были такими же неполинезийскими, как сам Макемаке. Специальная обсерватория для наблюдения за солнцем во время солнцестояний и равноденствий не знает параллелей не только в Полинезии, но и в соседних островных регионах. Зато такие сооружения обычны в Перу, на ближайшем к Пасхе материке, где они также были связаны с посвященными солнцу ритуалами и кострами (Roggeveen, 1722; Behrens, 1722; Ferdon, 1961[263, 26, 112]).
Мы установили, что общепасхальское культовое селение Оронго и по архитектуре неполинезийское. Нигде больше в Полинезии не видим соединения вместе нескольких домов в одно целое. Но это свойственно древнеперуанской архитектуре как в горах, так и в приморье. Столь же уникален для Полинезии способ строительства каждого из оронгских домов в отдельности: каменные стены, ложный свод, срубовая кладка плит в углах. Зато такие приемы кладки характерны для строительного искусства Перу и прилегающих областей на западе Южной Америки (Smith, 1940; Debenedetti and Casanova, 1933–1935[289, 92]).
Археология свидетельствует, что связанный с солнцем культ Макемаке позднее был дополнен или ассимилирован культом птицечеловека, в котором ведущую роль играло неполинезийское божество Хауа. Начиная со среднего периода пасхальской истории все скалы вокруг Оронго были покрыты изображениями человеческой фигуры с птичьей головой. Новые ритуалы включали ежегодные заплывы на заостренных, как бивень, поплавках из камыша
тотора до островка у побережья за первым в году яйцом крачки. Победитель получал звание священного птицечеловека и целый год пользовался почти неограниченными социальными привилегиями. Метро пишет:
«Глядя на руины Оронго и многочисленные изображения птицечеловека на скалах, невозможно оспаривать значение птичьего культа. Предания, свидетельства первых миссионеров и путевые записки мореплавателей подтверждают первостепенную роль ритуалов этого культа и социальных отношений, основанных на ежегодном состязании… Весь комплекс культа птицечеловека… не знает параллелей в остальной Полинезии… нигде больше не было открытых состязаний, венчающихся избранием священного человека» (Metraux, 1940[222]).
Фердон не видит причин исключать ближайший к острову континент в поисках параллелей: «…хотя художественные изображения пасхальского птицечеловека сейчас представляются уникальными, свидетельства культа птицечеловека в Тиауанако (Боливия), а также в культуре чиму на северном побережье Перу позволяют предположить американское происхождение пасхальского культа» (Ferdon, 1961[112]).
Применявшиеся в состязаниях заостренные камышовые поплавки еще одна неполинезийская черта. Суда из связок делали в прошлом в Новой Зеландии, но там материалом служил быстро намокающий новозеландский лён Phormium tenax. Остроносые поплавки такого же размера и формы, как на Пасхе, связанные из того же самого камыша, были широко распространены в древнем Перу. На озере Титикака, но особенно у Тихоокеанского побережья камышовые суда достигали огромных размеров, и, как показано в главе 3, примечательно, что в искусстве древнего чиму часто встречаются изображения птицечеловеков с длинным изогнутым клювом, как на Пасхе, плывущих на камышовых ладьях. В главе 9 мы отмечали, что ведущий авторитет по флоре острова Пасхи профессор Скоттсберг определил, что аборигенный пасхальский камыш относится к неполинезийскому виду Scirpus riparius; это пресноводное американское растение с орошаемых участков приморья Перу могло попасть на пасхальские озера только при помощи человека. И Фердон заявляет, что присутствие на Пасхе не только судна южноамериканского типа, но и самого растения, из которого его делали, «служит веским доказательством контакта с Америкой и позволяет предположить, каким образом производные от элементов американской культуры могли достичь острова Пасхи» (там же).
Большие и малые камышовые лодки занимают видное место в росписях на плитах домов Оронго. Мы видим тут также важное в пасхальских ритуалах и символическом искусстве стилизованное изображение двухлопастного весла. Во всей Океании не было двухлопастных весел, даже для ритуальных танцев, как на Пасхе, зато они были широко распространены в Америке. Вплоть до прошлого столетия такими веслами пользовались гребцы на камышовых лодках у берегов Калифорнии; в приморье Перу и Чили они были в обиходе до прихода испанцев, и археологи находят их при раскопках в этой области. Резные и раскрашенные весла, захороненные вместе с доинкскими моделями плотов рыбаками докерамической культуры на берегу Тихого океана ниже Тиауанако тоже двухлопастные, как и ритуальные весла острова Пасхи. Доставив в прошлом веке в Вашингтон превосходные пасхальские экземпляры, Томсон отметил, что в старину на острове ими пользовались «так же, как это делают индейцы Америки» (Thomson, 1889[307]). Однако еще важнее, что широкие двухлопастные весла, называемые на Пасхе
ао, служили эмблемами ранга во время торжественных собраний. Для сугубо стилизованных
ао характерны своеобразные черты, длинное тонкое веретено оканчивалось декорированной верхней и гладкой нижней лопастями; верхней лопасти либо резьбой, либо росписью придавали сходство со стилизованной человеческой маской; маска непременно венчалась высоким перьевым головным убором; по бокам до самого веретена как бы свисали удлиненные мочки ушей, придавая верхней лопасти угловатую форму.
То, что пасхальцы на суше использовали неполинезийское, типично американское весло как эмблему ранга, само по себе примечательно, а недавно я обнаружил, что двухлопастное весло, обладающее всеми особенностями
ао, выполняло такую же роль у представителей древнейших доинкских культур на побережье Южной Америки. Во времена инков и позже
ао в Перу не знали, но в периоды раннего и позднего чиму ими пользовались в приморье. Некий иерарх, держащий в каждой руке по резному ритуальному веслу, увековечен на красной керамике мочика и черной керамике позднего чиму, причем в каждом случае весло в правой руке наделено всеми особенностями, перечисленными выше для пасхальского
ао (Heyerdahl, 1976[154]). Такое совпадение никак нельзя назвать случайным; присутствие самого настоящего
ао в религиозном искусстве материка с наветренной стороны острова Пасхи — пальцевый отпечаток, который можно истолковать лишь как перуанское влияние на важный предмет ритуального искусства Пасхи. Принято относить начало периода позднего чиму примерно к 1200 г., что совпадает с первым веком среднего периода Пасхи, а мочика (раннее чиму) приходится на первую половину I тысячелетия, как и ранний пасхальский период. И если
ао отображено в перуанской керамике в эти два периода, но не было известно во времена инков, стало быть, трансокеанская интродукция на Пасху произошла в раннем или среднем, однако никак не в позднем периоде.
На масках, изображенных в культовых постройках Оронго наряду с камышовыми ладьями, веслами
ао и птицечеловеками, видим еще один существенный южноамериканский элемент — мотив «плачущий глаз» (Geiseler, 1883; Thomson, 1889; Lavachery, 1939; Ferdon, 1961[120, 307, 198, 112]). Этот стилизованный символ, столь важный в древнепасхальском искусстве, не известен больше нигде в Полинезии. Но опять же, как указывает Фердон, он является симптоматической чертой древних культур Перу и прилегающих областей Америки; примером может служить изображение бога Солнца и птицечеловеков на Вратах Солнца в Тиауанако. Минз подчеркивает исключительное значение мотива «плачущий глаз» в тиауанакском искусстве, где он связан с доинкским верховным божеством Виракочей — белым бородатым предводителем «длинноухих», который, покинув Тиауанако, ушел в Тихий океан. Минз согласен с толкованием Джойса, видящего в слезах капли благой для жизни на земле воды из глаз небесного божества (Ferdon, 1961; Means, 1931; Joyce, 1913; Heyerdahl, 1976[112, 213, 181, 154]). А еще Минз указывает, что голова плачущего божества в Тиауанако увенчана головным убором из перьев, олицетворяющим солнечные лучи, — своеобразная деталь, присущая всем пасхальским маскам с мотивом «плачущий глаз».
Верховный бог Макемаке изображался в Оронго также в виде животного из кошачьих. Так, Томсон пишет об одном наскальном рельефе, который считал самым древним: «…чаще всего встречается мифическое существо, полузверь-получеловек, с выгнутой спиной и длинными, переходящими в когти руками и ногами. По словам островитян, это символ бога Меке-Меке…» Он отмечал «удивительное сходство» этого изображения с мотивом, знакомым ему по перуанскому искусству (Thomson, 1889[307]). Кошка с выгнутой спиной, втянутым животом, длинными ногами и круглой головой с разинутой пастью вырезана наряду с птицечеловеком и на пасхальских дощечках. Часто цитируемая гипотеза епископа Жоссана, будто речь идет о крысе, предельно натянута; она порождена лишь тем, что крыса была единственным представителем млекопитающих на Пасхе и вообще ни на одном из тихоокеанских островов не водились кошки (Jaussen, 1894[178]). Зато кошачьи водятся в Америке и занимают виднейшее место в религиозном и символическом искусстве от Мексики до Перу начиная с тиауанакских времен; здесь, как и в Двуречье и Египте, они олицетворяли бога-творца.
Наряду с главным, единым для всех племен культовым центром Оронго у каждого рода была своя платформа со статуями, посвященная памяти предков. Дошедшие до исторических времен
аху в конце открытого культового дворика очень похожи на религиозные сооружения в других частях Юго-Восточной Полинезии, а они в свою очередь сродни каменным платформам и дворикам соседней Южной Америки, включая Тиауанако. В предыдущей главе говорилось, что
аху перекрыли более древнюю конструкцию, с другим рисунком и другой функцией. У этой астрономически ориентированной конструкции нет параллелей в Океании. Ее фасад помешался на месте задней стены
аху, и состояла она из вала, облицованного превосходно обтесанными и пригнанными блоками.
Многочисленные статуи на
аху все без исключения смотрели
внутрь острова, дворик служил центром ритуала. В предшествующем периоде ритуалы сосредоточивались перед обращенной
к морю высокой стеной, точно ориентированной по солнцу. Щели между огромными прямоугольными и многоугольными блоками заделывались тщательно подогнанными камнями; грани со стороны фасада были гладкие, чуть выпуклые. Нигде в Полинезии не найдено ничего подобного этой чрезвычайно совершенной каменной кладке. На некоторых островах можно увидеть стены из тесаного камня, но отделка не идет ни в какое сравнение с пасхальской, и они не ориентированы по солнцу. Зато стены с щебневым заполнением, ориентированные по солнцу, с облицовкой из мастерски обтесанных и пригнанных плит, как в раннем периоде Пасхи, широко представлены в Перу доинкского периода от долины Куско и Руми-Кольке до Оллантай-Тамбо и Тиауанако.
Бак предлагал считать предшественниками пасхальских изваяний немногочисленные, в рост человека каменные статуи Маркизских островов (Те Ранги Хироа, 1959[6]). Как показано в предыдущей главе, новейшие раскопки и углеродные датировки опровергают эту гипотезу. Маркизские платформы и истуканы появились уже после той поры, когда на Пасхе началось ваяние статуй среднего периода. Когда на острове Пасхи рождались изваяния раннего периода, ни на одном из остальных островов Тихого океана не было каменных исполинов, зато огромные каменные фигуры под открытым небом были характерной чертой святилищ на северо-западе Южной Америки. Мы уже видели, что неполинезийские типы статуй пасхальского раннего периода очень близки скульптурам Тиауанако.
Сложные погребальные обряды крохотного острова Пасхи весьма примечательны, и найденные Мэллоем сначала перед ориентированной по солнцу стеной в Винапу, а затем перед другими пасхальскими
аху смежные каменные гробы с многочисленными кремированными останками добавили новые данные (Mulloy, 1961[231]). Кремация известна в Новой Зеландии, в остальной Полинезии не обнаружена; спорадически отмечена в Меланезии и в некоторых западных областях Южной Америки (Ferdon, 1961[112]). Неизвестны в Полинезии и обычные для Пасхи лодковидные могильники из толстых стен с щебневым заполнением и длинной полостью посередине, предназначенные для вторичного погребения (Geiseler, 1883; Ferdon, 1961[120, 112]). Нет в остальной Полинезии и цилиндрических башен с ложным сводом, которые на Пасхе называют
тупами и которые в точности повторяют южноамериканские погребальные башни-
чульпы, изобилующие в области Тиауанако.
Обращаясь к жилым постройкам, снова увидим совсем не полинезийскую картину. Разбирая типы пасхальских домов, Фердон пишет: «Одна из черт, так явственно отличающих комплекс материальной культуры острова Пасхи от культуры других полинезийских островов, — многообразие жилых построек… тот факт, что во всей своей конструкции каждый из этих типов оказывается уникальным в Полинезии, порождает еще одну проблему, которую вряд ли можно объяснить независимым развитием» (Ferdon, 1961[112]). Один из основных ранних типов жилищ, особенно часто встречаемых в восточной части острова, — круглые каменные дома с низкими, толстыми стенами с щебневым заполнением, с встроенными погребами и входом через крышу, которая, по-видимому, была конической и делалась из камыша. Местами такие круглые дома примыкали друг к другу смежными стенами, и получались поселения с единообразной планировкой (Skjölsvold, 1961; Ferdon, 1961[283, 112]). В полинезийской архитектуре ничего подобного нет зато эти дома во всем, вплоть до такой детали, как вход через крышу, схожи с круглыми толстостенными смежными домами на обращенных к океану склонах гор ниже Тиауанако (Ferdon, 1961; Bruayn, 1963[112, 48]). Столь же видное место занимали длинные лодковидные жилища из плит, со срубовой кладкой в острых углах, с кровлей ложным сводом и входом через подобие туннеля сбоку. Культовое селение Оронго — наиболее сохранившийся образец этой важной неполинезийской конструкции, но и в других частях острова наблюдались отдельные постройки и даже руины целого поселения такого рода (Thomson, 1889; Ferdon, 1961[307, 112]). Пасхальские камышовые хижины в отличие от крытых травой полинезийских построек из жердей были не прямоугольными и не овальными, а сохраняли лодковидный контур древних каменных домов, в которых заостренные концы были обусловлены самой конструкцией. Таким образом, своеобразная форма, применение южноамериканского камыша
тотора, настилаемого на жерди, вставленные в ямки тесаных, тщательно подогнанных бордюрных камней, — все это отличает пасхальские жилища даже исторической поры от жилищ остальной Полинезии (Mulloy, 1961; Smith, 1961; Skjölsvold, 1961; Heyerdahl, 1961[231, 290, 283, 151]). Вездесущие базальтовые бордюры
паенга принадлежат к наиболее характерным археологическим памятникам Пасхи; в других частях Полинезии параллелей нет Такие же камни с высверленными на узкой стороне ямками использованы повторно как строительный материал в стенах культовых платформ и на Пасхе, и в Тиауанако (Heyerdahl, 1976[154]).
Обнаруженный археологами своеобразный пасхальский очаг, совсем не похожий на общую для всей Полинезии земляную печь, складывали из установленных торчком плоских прямоугольных камней. Наполовину врытые в землю, они образовали квадрат или пятиугольник и в точности повторяли типичную конструкцию, известную по раскопкам жилищ древнего Перу (Heyerdahl and Ferdon, 1961; Izumi and Sono, 1963[155, 174]).
Стало обычным приписывать неожиданное наличие на Пасхе каменных домов, искусно выложенных мегалитических стен и огромных изваяний особенностям эволюции на острове, где не было дерева для резьбы и строительства. Эта гипотеза, как уже говорилось, больше не годится. Исследования пыльцы показали, что в прошлом остров был сплошь покрыт исчезнувшими затем деревьями и кустарниками, даже пальмами, и первопоселенцы начали с того, что расчищали огнем участки для карьеров и каменных сооружений.
Население Пасхи явно придавало важнейшее значение характерной черте одной линии предков, которые искусственно растягивали мочки ушей. Этот обычай отражен во всех каменных изваяниях среднего периода, и по сей день пасхальцы выделяют составляющую меньшинство населения группу, связывающую свое происхождение с «длинноухими», в отличие от потомков победоносных «короткоухих». Островитяне продолжали удлинять уши вплоть до исторической поры; очевидно, обычай передавался по материнской линии, поскольку племенные предания утверждают, что от избиения во рву Поике уцелел только один «длинноухий», тогда как женщины, а возможно и дети, были ассимилированы победителями.
На маркизском острове Хуа-Пу верховного полинезийского бога Тики называли Тики Большеухий (Tautain, 1897[305]), а жители островов Херви во времена капитана Кука поклонялись богу по имени Большеухий, и все же обычай искусственно растягивать уши вряд ли можно считать полинезийским. Тем не менее он был весьма характерен для острова Пасхи. Беренс, участник плавания Роггевена, открывшего остров для европейцев, обратил внимание на то, что некоторые островитяне «розовые, словно они обгорели на солнце. У них были такие длинные уши, что свисали до плеч» (Behrens, 1722[26]). Впоследствии Бичи отметил пасхальцев с такими длинными ушными мочками, что их, чтобы не мешались, приходилось иногда «скреплять вместе на затылке» (Beechey, 1831[25]).
Обращаясь к Перу, видим, что обычай искусственно растягивать уши относился к очень древней поре и играл важнейшую социальную роль. Маркхэм пишет, что право растягивать ушные мочки было привилегией инков королевской крови; соответственно их называли народом большеухих, что в испанской интерпретации превратилось в
орехонес (Markham, 1911[210]). Педро Писарро, прибывший в Перу во время конкисты вместе с Франсиско, писал: «У некоторых орехонес уши спускались до плеч. У кого самые большие уши, тот почитался среди них самым знатным» (Pizarro, 1571). По преданиям инков, легендарные полубоги, построившие Тиауанако, тоже растягивали ушные мочки и называли себя большеухими (Bandelier, 1910; Oliva, 1931[21, 236]).
Спутник Писарро, Хуан де Бетансос, взявший в жены представительницу племени инков, записал, что предводитель
виракочей, белый бородатый тиауанакский иерарх Тикки, по пути от озера Титикака к морю задержался в Куско, чтобы назначить здесь своего преемника, прежде чем спускаться к Манте. Далее, он «оставил указания, как после его ухода поддерживать линию орехонес», после чего «соединился со своими людьми и навсегда удалился в океан» (Betanzos, 1551[34]).
Очень похоже, что легендарный бог «большеухих» Тикки, отплывший от берегов Перу, и Тикки Большеухий, приведший, согласно маркизскому мифу, людей в Полинезию, — один и тот же легендарный персонаж; однако только на Пасхе растягивание ушных мочек играло такую же социальную роль, как в древнем Перу, и только здесь реалистичные предания утверждают, что «длинноухие» прибыли вместе с отрядом короля Хоту Матуа из большой страны на востоке.
Если не считать статуй среднего периода, ни один памятник некогда высокой пасхальской культуры не пользуется такой известностью, как дощечки с резными письменами, известные под названием
кохау ронго-ронго. Они висели на крышах всех лачуг, когда на Пасху прибыл первый миссионер, но по его приказу большинство дощечек сожгли, другие спрятали в тайных родовых пещерах, где они сгнили, и лишь несколько штук были спасены для потомства. Все первые миссионеры зафиксировали, что даже самые развитые и сведущие пасхальцы не могли объяснить смысл хотя бы одного из выгравированных на дощечках знаков, не могли также изобразить идеограммой самые простые слова. Они знали, что на каждой дощечке запечатлен определенный текст, но, который текст на какой дощечке, здесь мнения расходились. Читали знаки не так, как обычно читают, а нараспев. Благоговейно копировали старые письмена на новых дощечках, почитая их ценнейшими магическими предметами (Eyraud, 1864; Roussell, 1908; Zumbohm, 1880[109, 265]).
Два пасхальца, приехавшие работать на Таити, объявили себя грамотеями, умеющими читать
ронго-ронго. Одного поймал на жульничестве Крофт: пасхалец три воскресенья подряд читал одну и ту же дощечку и каждый раз иначе (Croft, 1874[87]). Другой, по имени Меторо, приглашенный в резиденцию епископа Жоссана, 15 дней импровизировал бессвязные и бессмысленные тексты по немногочисленным идеограммам на пяти маленьких дощечках. Доверчивый епископ заполнил его выдумками 200 с лишним страниц, но ловкий Меторо выкрутился, заявив, что большинство слов не выгравированы на дощечках, а потому невидимы. Тем не менее епископ попытался составить каталог
ронго-ронго, где, например, пять разных знаков обозначают фарфор, о котором пасхалец до прибытия на Таити и не слыхал. В переводе хитроумного Меторо один знак означал «он открывает фарфоровую супницу», другой — «три мудрых короля», третий — «лодка, которая хорошо качается с человеком и перьями» (Jaussen, 1893[177]). Разумеется, при соединении этих знаков получалась полнейшая бессмыслица.
Каким-то образом листы Жоссанова каталога попали на остров Пасхи, пасхальцы очень им обрадовались и с помощью приезжего проповедника переписывали их как священные тексты, чтобы спрятать вместе с языческими реликвиями в родовых тайниках. Существование этих фамильных ценностей было обнаружено только в 1955–1956 гг., когда членам нашей экспедиции впервые позволили ознакомиться с некоторыми из них. В частности, мы впервые приобрели постмиссионерскую рукопись, куда были добавлены страницы с подлинными племенными преданиями. Впоследствии из пещер извлекались и другие рукописи.
Тем временем Бартель выступил с сенсационным заявлением, будто ему удалось расшифровать письмена
ронго-ронго. Изучив в Конгрегации святого сердца в Риме записки Жоссана, включающие текст, придуманный Меторо, он прогремел на весь свет, объявив, что эти материалы позволили ему читать дощечки. По его словам, на них сообщалось, что первые пасхальцы прибыли с острова Раиатеа примерно в XIV в. (Barthel, 1958[24]). До Бартеля доктор Кэрролл тоже заявлял, что может читать дощечки; на самом деле он просто повторил записанное Томсоном древнее предание о том, что первопоселенцы пришли со стороны Южной Америки, поскольку они плыли в сторону заходящего солнца (Carroll, 1892[61]). Когда же работавшие на Пасхе археологи Мэллой, Шёльсволд и Смит («American Anthropologist», 1964) предложили Бартелю опубликовать дословный перевод хотя бы одной дощечки, тот, как и Кэрролл до этого, уклонился от ответа. Так что дощечки
ронго-ронго остаются недешифрованными, хотя и после было предостаточно необоснованных заявлений об их прочтении (например, Хосе Кинтело де Мело в «O Cruzeiró Internacional», Бразилия, 11.IV.1973).
Письменность еще один неполинезийский элемент на Пасхе. Вопрос, почему такой признак развитой цивилизации, отличающий большие нации, развился независимо (и потом исчез) на уединенном острове Пасхи, вызвал на редкость большие расхождения в ученом мире. На других островах Полинезии единственным мнемоническим средством была система узелков на веревочках, которая особенно на Маркизах поразительно напоминает
кипу, типичные для инкского периода в Перу. Известны гипотезы, что пасхальские письмена попали на остров с выходцами из Мохенджо-Даро в долине Инда, на другом конце земного шара, что трансокеанские мореплаватели по пути из Китая в Мексику останавливались на Пасхе и передали островитянам понятие о письменности, что
ронго-ронго вовсе и не письмена, а своего рода ребусы, наконец, что пасхальцы, увидев европейские буквы, решили изобрести свою письменность. Все эти гипотезы были в свое время опровергнуты. Ныне
ронго-ронго определяют как письменность с определенным числом неравномерно повторяющихся знаков, расположенных бустрофедоном, иначе говоря, каждая вторая строчка перевернута вверх ногами и читается с другого конца. Народы Европы, Китая и долины Инда бустрофедоном не писали, и пасхальцы не изобрели
ронго-ронго с прибытием европейцев, а успели его забыть ко времени их появления. Мореплавателям из Китая, чтобы попасть в Мексику, надо было следовать по субарктическому пути каравелл; остров Пасхи лежит в тысячах километрах от этого маршрута. Письмена Индской долины не так уж похожи на
ронго-ронго; они вышли из употребления за тысячи лет до того, как человек достиг острова Пасхи, и географические расстояния в этом случае настолько велики, что совершить такое полукругосветное путешествие было бы гораздо легче через Атлантику и Америку.
Метро, который одно время вообще не соглашался признавать
ронго-ронго письменностью, был в числе самых ярых противников некогда популярной гипотезы о связях с долиной Инда. Он писал «Я мог бы сравнить индские письмена с пиктографией американских индейцев и обнаружить не меньшее сходство… Если ученые настаивают на связи острова Пасхи с долиной Инда, я требую того же для обойденных вниманием индейцев куна нынешней Республики Панама» (Metraux, 1938[221]).
Кстати, индейцы куна, вырезавшие письмена на деревянных дощечках, живут на полторы тысячи километров ближе к острову Пасхи, чем полинезийцы на Тонга. Даже древние американские центры письменности в Мексике и Никарагуа ближе к Пасхе, чем многие острова Полинезии. Первым всерьез задумался о связи между письменностью куна и пасхальцев Хорнбостель; правда, он полагал, что письмена попали с острова Пасхи к панамским куна, а оттуда — к древним цивилизациям Мексики (Hornbostel, 1930[164]).
Хейне-Гельдерн подхватил эту идею:
«Нынешние куна пишут преимущественно на бумаге. Но наряду с этим у них есть деревянные письменные дощечки, и сами куна называют их исконным материалом для письма. Дощечки, виденные Норденшельдом, предназначались для того, чтобы подвешивать их в домах во время празднеств. Идеограммы начертаны красками. Однако, по сведениям Гассо… прежде идеограммы вырезали на деревянных дощечках. Здесь вспоминаешь письменные дощечки острова Пасхи. Способ письма бустрофедоном, с чередованием строк снизу вверх, тоже напоминает пасхальский». И еще: «Учитывая все эти совпадения, вполне правомерно предположить наличие некоей связи между письменностью острова Пасхи и письменностью куна» (Heine-Geldern, 1938[144]).
Однако письмена куна, хотя и выстроены бустрофедоном, не перевернуты вверх ногами в каждой второй строке, да и сами по себе они достаточно отличаются от
ронго-ронго; словом, хотя мы, возможно, стоим на верном пути, не панамские индейцы, проживающие посередине между Мексикой и Перу, были мореплавателями, доставившими дощечки на Пасху. Пасхальцы ясно утверждают, что первый король Хоту Матуа привез с собой со своей засушливой родины далеко на востоке 67 письменных дощечек и что некий Хинелилу, который плыл вместе с ним на другой лодке «длинноухих», «был умным человеком и писал знаки
ронго-ронго на бумаге, которую он привез с собой» (Routledge, 1919[266]).
Советский специалист по
ронго-ронго Кнорозов отмечал, что единственное, кроме Пасхи, место, где каждая вторая строчка перевернута вверх ногами (система перевернутого бустрофедона), — древнее Перу (Кнорозов, 1964[2]). Но ко времени прибытия европейцев только индейцы озера Титикака еще сохранили примитивную форму рисуночного письма; в остальном по всей империи инков была распространена система узелкового письма
кипу Патер Монтесинос — единственный хронист, у которого находим местную информацию, относящуюся к доинкским временам:
«
Амаута, которым события тех времен известны из передававшихся из уст в уста старинных преданий, рассказывают, что, когда у власти находился сей правитель [Синчи Коске Пачакути I], существовали буквы, и сведущие в них люди, именуемые
амаута, учили других читать и писать… насколько я понимаю, они писали на высушенных листьях банана… Эта письменность была утрачена перуанцами в связи с одним событием, которое произошло во времена Пачакути Шестого…»
Из внутренних областей страны пришли огромные армии свирепых воинов, и перуанцы вынуждены были вести «жестокие войны, в ходе которых была утрачена существовавшая до той поры письменность… Кончилось монархическое правление в Перу. Оно было восстановлено только через 400 лет, а знание письмен было утрачено… Когда у них были буквы и знаки или иероглифы, они, как мы уже говорили, писали на листьях банана, и один
часки передавал сложенный лист другому, пока он не попадал в руки короля или правителя. Когда же письменность была утрачена,
часки передавали весть друг другу из уст в уста…» (Montesinos, 1642[226]).
Повторное указание Монтесиноса о том, что перуанцы в прошлом писали на банановых листьях, заслуживает внимания, поскольку и Метро, и Энглерт отметили, что прежде на Пасхе использовали для письма листья банана (Metraux, 1940; Englert, 1948[222, 106]). Старики рассказали Энглерту, что на острове строили школы
ронго-ронго — круглые каменные дома с входом через крытую камышом коническую крышу. Сперва ученики должны были заучивать тексты наизусть. «Научившись декламировать тексты, ученики начинали осваивать письмо. Копировали знаки сначала не на дереве, а на банановых листьях, пользуясь заостренной птичьей косточкой или острой палочкой» (Englert, 1948[106]).
О том, что прежде в Перу тоже писали на деревянных дощечках, свидетельствуют сообщения патера Кристобаля де Молина, который был священником при госпитале для инков в Куско: «Что касается их идолопоклонничества, то мы видим, что эти люди не знали письменности. Но в Доме Солнца, именуемом Покен-Канча, что находится недалеко от Куско, хранили они описание жизни каждого Инки и завоеванных ими земель, запечатленные знаками на определенных досках, и там же приводились родословные…» (Molina, 1570–1584[224]).
Сармьенто де Гамбоа, опросив 42 инкских
амаута, то есть историка, записал:
«От отцов и дедов они слышали, что Пачакути Инка Юпанки, девятый Инка, созвал старых историков из всех подвластных ему областей и еще многих из других королевств и надолго задержал их в городе Куско, расспрашивая про древности, родословные и знаменательные события из жизни предков этих королевств. И, ознакомившись с наиболее примечательными из старых преданий, он повелел записать их все по порядку на широких досках и поместил эти доски в большом зале в Доме Солнца, где названные доски, украшенные золотом, выполняли роль наших библиотек, и он назначил ученых людей, которые понимали их и умели читать. И никто не должен был входить в это помещение, кроме самого Инки или историков, получивших на то особое разрешение Инки» (Sarmiento, 1572[271]).
Хотя мы пока не можем точно указать место, откуда на Пасху впервые прибыли дощечки, очевидно, что все основные элементы этой аборигенной письменности, от применения банановых листьев и деревянных дощечек до самой системы письма перевернутым бустрофедоном, присутствуют также в области древних высокоразвитых культур Америки. К западу от Пасхи во всем полушарии не обнаружено ничего подобного.
Внимательное рассмотрение различных идеограмм пасхальской письменности показывает, что многие из них — чисто абстрактные символы, а к другим просто прибавлены по краям антропоморфные и зооморфные атрибуты. Основных, постоянно повторяющихся мотивов как в виде целой идеограммы, так и в виде придатков к абстрактным знакам совсем немного: человеческие фигуры, всегда анфас, с треугольной или четырехугольной головой, большими ушами и трехпалыми кистями, если они вообще показаны; птицы или птицечеловеки, всегда в профиль, с длинным или коротким, сильно изогнутым клювом; круглоголовое млекопитающее, всегда в профиль, с разинутой пастью, длинными согнутыми ногами и выгнутой спиной; простые рыбы; своеобразные двуглавые варианты четырех названных существ; те же фигуры с одним или двумя жезлами. Все остальные знаки явно второстепенного значения, тогда как перечисленные повторяющиеся мотивы или их фрагменты в сочетании с абстрактными знаками преобладают в письменности
ронго-ронго.
Ни один из этих символов не является полинезийским, зато все они характерны для символического искусства Андской области. На рельефах, украшающих монолитные Врата Солнца — самый почитаемый доинкский монумент Тиауанако, у изображенного в центре анфас бога Солнца четырехугольная голова и трехпалые кисти; в каждой руке он держит жезл, украшенный двумя головами хищных птиц; с его локтей свисают, словно трофеи, две длинноухих человеческих головы, причем сильно удлиненные мочки их ушей заканчиваются головами с крючковатым клювом. Бог Солнца окружен тремя рядами изображенных в профиль птицечеловеков с характерным клювом; они тоже держат в трехпалых кистях жезлы, оканчивающиеся или двуглавой птицей, или двуглавой рыбой. На груди главного божества высечена лунная пектораль в виде изогнутой рыбы, повторяющей один из пасхальских знаков; хвосты и головы рыб венчают также оконечности перьевых венцов и крыльев каждого птицечеловека. Из млекопитающих видим только представителя кошачьих; шесть из торчащих перьев головного убора верховного божества заканчиваются кошачьими головами, и такие же головы изображены попарно на руках и на концах пояса. Бог Солнца стоит на верхней площадке ступенчатой конструкции, подобной
аху; этот постамент обрамлен изображениями двух голов пумы и украшен абстрактными идеограммами, которые, как и на Пасхе, заканчиваются головами хищных птиц и кошек. Перемычка этого необычайного образца доинкского религиозного искусства украшена символическими декоративными идеограммами с головами названных животных — кошки, хищной птицы и рыбы — в разных сочетаниях.
Словом, все художественные образы на этом южноамериканском памятнике совпадают со знаками пасхальских дощечек — все до одного.
Обращаясь к мелкой деревянной и каменной скульптуре Пасхи, видим индивидуальное разнообразие и причудливую игру воображения, которые решительно отличают этот остров от любой другой области Полинезии. Лавашери, занимавшийся кроме археологии еще и историей искусства, первым отметил явно неполинезийское разнообразие в изученных им пасхальских петроглифах (Lavachery, 1939;
1965[198, 199]). Завершив недавно исследование всех известных образцов пасхальского искусства в 64 публичных и частных коллекциях по всему миру, могу подтвердить,
что это разнообразие характеризует не только петроглифы (Heyerdahl, 1976[154]). Великое число деревянных и каменных скульптур, вывезенных с Пасхи до того, как с прибытием миссионеров постепенно началась коммерциализация искусства, показывает, насколько ошибочно считать, как это было до сих пор, пасхальское искусство однообразным, монотонным, рабски следующим немногим заданным нормам. Такое представление могло укорениться только потому, что опубликованные пасхальские скульптуры повторяют сюжеты, которые намеренно были стандартизованы в силу особых причин. Огромные истуканы для
аху вытесывались по одному образцу, чтобы походить на божественного зачинателя всех знатных генеалогий, изображению которого все племена поклонялись в Оронго; если судить о них как о надгробных памятниках, то воображения тут не больше, чем в постоянно повторяющемся в христианском религиозном искусстве распятии. Деревянного
моаи-кавакава полагалось вырезать по строгому канону, потому что, согласно преданию, он изображал последнего уцелевшего представителя «длинноухих». Совершенно плоская
моаи папа, или
па’а-па’а, представляла важное божество Матерь-Землю; такой же плоской делали эту фигуру в разных версиях от древнего Средиземноморья до Мексики и Перу. Изумительные фигурки
моаи тангата (буквально — «фигура человечества») и крылатого
тангата-ману (птицечеловека) с хищным клювом также воплощали определенных древних богов, изменять которых художник был не вправе. И наконец, двухлопастное весло
ао, жезл
уа с двуглавым навершием, серповидная пектораль
реи-миро и яйцевидная
тахонга — все это стандартизованные эмблемы ранга, узнаваемые именно благодаря неизменному оформлению. Все эти хорошо известные пасхальские изделия либо устанавливали снаружи жилищ, либо доставали из хранилищ на время религиозных танцев и других ритуалов.
Был, однако, еще один род скульптур —
моаи маэа, о которых Гейзелер писал, посетив Пасху в 1882 г… «Эти изображения всегда держали в хижинах, они представляют собой своего рода домашних идолов, и у каждой семьи есть не менее одного такого изображения, тогда как деревянные фигурки носят с собой на праздники» (Geiseler, 1883[120]).
После введения христианства множество разнородных
моаи маэа было вывезено посетителями острова и попало в музейные витрины или запасники, но гораздо больше исчезло в тайных родовых пещерах, из которых для нашей экспедиции в 1956 г. извлекли почти тысячу образцов. Некоторые наиболее эродированные скульптуры воспроизводились и раз и два последующими поколениями художников, но в остальном музейные и пещерные экземпляры являют бесконечное разнообразие мотивов и богатейшее индивидуальное воображение, подобие которым, как указал впоследствии Лавашери, можно найти только в Перу. Он писал:
«Остров Пасхи не знает себе подобных в Полинезии по тому как его художники приспособились в стиле и сюжетах к наличному материалу. Воображение настоящего полинезийца бедно перед воображением пасхальцев. Даже на тех островах, которые особенно изобилуют предметами искусства, как Маркизы или Новая Зеландия, эта бедность возмещается лишь многочисленными повторениями одних и тех же мотивов. Так, маркизские мотивы неизменно привязаны к стилизованной маске с большими круглыми глазами и к традиционному затейливому орнаменту, идет ли речь о каменной и деревянной скульптуре, о рельефах на раковине, кости и дереве, о петроглифах или о татуировке. На других островах Восточной Полинезии мотивы искусства еще более ограничены. Выходит, прихотливое и разнообразное искусство острова Пасхи являет нам еще одну тайну? Несомненно, как и для многих других загадок этого острова, нам надлежит обратить свой взор в сторону Южной Америки…» (Lavachery, 1965[199]).
Обращаясь к пасхальской утвари и орудиям, мы опять не видим большой близости к полинезийским нормам. Наиболее распространенное местное изделие, конечно,
матаа — главное оружие пасхальцев, широкий зазубренный копейный наконечник из обсидиана, в котором нет ничего полинезийского. Долго оставалось загадкой, почему за пределами острова Пасхи найдено всего два таких же
матаа, оба в древнем южноамериканском погребении в Льольео, в чилийском приморье. Однако недавно при раскопках в двух других точках чилийского приморья, в Сапалларе и на острове Моча, найдены еще обсидиановые
матаа, неотличимые от пасхальских (Aichel, 1925; Ortiz, 1964; письмо автору от доктора Эрнана Сан Мартима из Консепсьона в Чили от 6. XII. 1966 г.[111, 240]).
Неолитический режущий инструмент на острове Пасхи включает как полинезийские, так и неполинезийские типы. Топоры, или тесла, с симметрично оббитым с двух сторон клинком нельзя назвать типично полинезийскими, тем не менее они найдены в датируемых слоях среднего периода. Заостренные с одного или двух концов ручные рубила составляют основную массу находимых на Пасхе режущих инструментов, но и они никем не описаны как полинезийский инструмент зато, как и тесла, распространены в Южной Америке.
В главе 6 мы видели, что в Юго-Восточной Азии, включая Малайский архипелаг, не знали рыболовных крючков, а распространенные в Океании образцы близки к арктическим и американским. Простой и составной костяные крючки острова Пасхи аналогичны находимым при раскопках от Южной Америки до Новой Зеландии. Но самый замечательный пасхальский тип — цельный крючок из шлифованного камня, который по совершенству исполнения и баланса считают вершиной каменного дела в Океании. Кроме трех таких же крючков с островов Сан-Кристобаль (Чатем) единственные за пределами Пасхи образцы найдены в мусорных кучах на островах и побережье Южной Калифорнии. Сходство с пасхальскими крючками так велико, что можно говорить о тождестве; по этой причине Хейне-Гельдерн и Экхольм, желая подтвердить свою гипотезу о трансокеанских миграциях, экспонировали в Американском музее естественной истории в 1949 г. рядом образцы из обеих областей. В каком бы направлении ни шло распространение, пасхальский крючок остается неполинезийским.
Единственное убранство описанных выше пасхальских жилищ составляли циновки и каменные подушки. Циновки плели из южноамериканского камыша
тотора. Отнюдь не полинезийский обычай пользоваться каменными подушками Метро предположительно отнес за счет предполагавшегося отсутствия дерева на острове (Metraux, 1940[222]), но это неубедительно, если вспомнить, что для вырезания описанных выше фигурок и эмблем всегда находили и плавник и
торомиро.
Исследуя наземные остатки бывших пасхальских поселений, мы нашли довольно много совсем не полинезийских каменных терок, неотличимых от типично американских
метате. Для чего они употреблялись на острове, не выяснено; это же относится к значительному количеству великолепно вырезанных и отшлифованных полусферических базальтовых чаш, найденных в разных концах острова, в том числе совершенно целых. Такие чаши и
метате нигде больше в Полинезии не обнаружены, зато они обычны для древнего Перу: немало экземпляров найдено в приморье ниже Тиауанако.
Разобрав все основные аспекты доевропейских верований, обычаев и изделий на крайнем восточном форпосте Полинезии, уместно спросить: где полинезийские элементы? Если исключить часть лексики и некоторые примитивные режущие инструменты для дерева, на острове Пасхи не видим никаких явных чисто полинезийских культурных черт. Спросим тогда, что же вообще можно называть типично полинезийскими культурными элементами?
Ответ дан в главе 6: кроме топоров и рыболовных крючков, которые с таким же правом можно назвать американскими, и кроме земляной печи, которую на Пасхе наблюдаем рядом с южноамериканским очагом, общеполинезийскими принято считать пест для
пои, колотушку для
тапы и ритуальное потребление
кавы. Как ни странно, ни одна из этих черт не была представлена в культуре острова Пасхи.
Не подлежит сомнению, что изумительно вырезанный и шлифованный каменный пест для
пои — важнейшее изделие всех полинезийских культур, особенно на Маркизах, откуда предположительно прибыл полинезийский компонент пасхальского населения. Тем не менее он явно отсутствует на Пасхе, хотя здесь выращивают
таро; и общеполинезийское блюдо
пои, без которого маркизцы просто жить не могли, на острове Пасхи не знали.
Рифленая деревянная или костяная колотушка для
тапы — важнейшее наряду с пестом для
пои хозяйственное орудие полинезийских женщин — стала известна на Пасхе уже после прихода миссионеров. Пасхальцы выколачивали луб своего
махуте гладкими морскими голышами и соединяли полученные полосы совсем не на полинезийский лад, сшивая их с помощью иголки и нитки. Метро пишет: «Остров Пасхи — единственное место в Полинезии, где полосы соединяли сшиванием. В других частях Восточной Полинезии их сбивали вместе, в Западной Полинезии склеивали» (там же). Бывшие в ходу на Пасхе костяные иглы тождественны древнеперуанским (Heuerdahl, 1961; Izumi and Sono, 1963[151, 174]).
Кава — ритуальный напиток, почитаемый отличительной чертой полинезийской культуры и родственный южноамериканской
чиче, или
кавау, был неизвестен на Пасхе.
Трудно удержаться от уже сделанного в предыдущей главе вывода, что значительная полинезийская этническая группа, прибывшая на остров Пасхи, только и сохранила от своей родной культуры, что инструмент для обработки дерева, земляную печь да часть лексики. В известном смысле можно сказать, что дополинезийская культура на Пасхе дожила до исторических времен, правда, в чрезвычайно урезанном и выродившемся виде, поддерживаемая не той этнической группой, которая была ее носителем. Поскольку полинезийцы, достигнув Пасхи, променяли, как признают их собственные предания, свою культуру на обычаи первопоселенцев, это не позволяет получить четкую археологическую датировку их прибытия. Остается лишь исходить из данных преданий о том, что оба народа мирно сосуществовали 200 лет, прежде чем потомкам западных пришельцев надоело гнуть спину на своих восточных предшественников и они подняли мятеж, ознаменованный битвой у Поике, которую предания и археология согласно относят к 1680 г. Если признать годность этого индикатора, полинезийцы приплыли на Пасху под конец XV в.; это неплохо согласуется с датой (около 1400 г.), вычисленной Раутледж на основе тщательнейшего изучения местных генеалогий. Мы видели выше, что немногочисленные каменные исполины на Маркизских островах были воздвигнуты примерно в 1316 и 1516 гг.; отсюда интересное предположение: не связано ли это с визитами пасхальских ваятелей? Хотя маркизские монументы достаточно велики, стилистически они заметно отличаются от пасхальских: истуканы Маркизских островов, как и остальные местные изделия искусства, точно повторяли стереотипное изображение Тикки.
Если мы следом за Раутледж и в соответствии с местными преданиями и генеалогиями предположим, что полинезийцы прибыли на Пасху между 1400 и 1480 гг., то они уже не могли быть причастны к переходу от солнечного культа раннего периода к культу птицечеловека среднего периода. Да и вообще ни на Маркизах, ни в других частях Полинезии культа птицечеловека не было. Наши стратиграфические датировки свидетельствуют о перестройке изученных экспедицией
аху около 1100 г. Нужны еще раскопки, чтобы установить, были ли все
аху перестроены тогда же или что более, вероятно, этот процесс был длительным, новые пришельцы ломали старые конструкции по мере надобности. Хотя культуры раннего и среднего периодов достаточно близки, чтобы приписать их родственным племенам, вышедшим из одного региона, все же какое-то различие в происхождении было: строители среднего периода исповедовали культ предков и, конечно же, не стали бы уничтожать сооружения и изваяния своих прадедов. По сути мы видим на острове Пасхи то же, что и в области высокоразвитых культур Южной Америки, — археологическую стратификацию различных, но в основе родственных культур. Это одинаково заметно как в Тиауанако, где смена культурных эпох характеризовалась разрушением и перестройкой ступенчатых культовых террас, а также видоизменением статуй, так и на Тихоокеанском побережье, где на севере чередуются культуры раннего и позднего чиму, на юге — ранней и поздней наска. И перекрываются все эти древнеперуанские культуры инкской цивилизацией. Если углеродная датировка верно относит начало среднего периода на Пасхе приблизительно к 1100 г., это согласуется с образованием инкской империи в Перу. Поскольку характерные черты не только раннего, но и среднего периода указывают скорее на Перу, чем на Полинезию, важно отметить, что начало среднего периода на Пасхе совпадает с приходом к власти первого Инки, — событие, с которым связаны ожесточенные войны во всей Андской области. Пасхальские предания изображают первого короля, Хоту Матуа, отнюдь не героем; более того в них говорится о кровопролитных войнах в опаленном солнцем обширном королевстве на востоке, о том, что поражение в битве вынудило Хоту Матуа бежать вместе со своими приближенными и их семьями в океан в сторону заходящего солнца.
Глава 14
Резюме и дискуссия
Эволюцию мореплавания можно сравнить с течением реки: много мелких ручейков соединяются в один поток, который набирает силу и вливается наконец в море. После того как древний человек отважился пересечь тихую воду верхом на бревне, не требовалось особенно большой изобретательности, чтобы понять, что вместе со вторым бревном оно уже не будет переворачиваться. Таким был первый неизбежный шаг к грубому бревенчатому плоту.
Естественно предположить, что древний человек оценил грузоподъемность толстого бревна раньше, чем подумал о плавучести многих тростинок, связанных вместе, стало быть, в первобытном мореплавании бревенчатые плоты предшествовали бунтовым судам. Но решающим для местной эволюции было наличие материала, преобладание бревен или камыша.
Неуклюжие, кое-как связанные плоты несомненно первыми пересекали глубокие реки и подходили к манящему острову. Убедившись, что на судах куда удобнее совершать долгие путешествия по внутренним водам и вдоль морского побережья, перевозить тяжелый груз и ловить на озере рыбу, первобытный человек уменьшил сопротивление плота воде и увеличил скорость, заострив ему нос. Постепенно начали появляться все более сложные бревенчатые плоты и бунтовые суда. Наиболее совершенные образцы обеих основных категорий, употреблявшиеся до недавнего времени, — бальсовые плоты и камышовые ладьи в приморье бывшей инкской империи.
Большим шагом вперед явилась новая идея — выдолбить изнутри толстое бревно, добиваясь плавучести за счет выталкивающей силы вытесненной воды, а не за счет массы дерева. Появление наряду с плотом долбленки свело к минимуму сопротивление воды, поскольку можно было обходиться одним бревном, и в то же время увеличило свободу передвижения по узким протокам.
Несомненно, каноэ — первое судно, чья плавучесть основывалась на принципе полого корпуса. И все же нам, вероятно, никогда не придется узнать, какое судно первым обрело истинную форму лодки — водонепроницаемое каноэ или пропускающее воду бунтовое судно. Мы знаем, однако, что изобретение каноэ как такового оказалось тупиковым путем, шла ли речь о долбленке или о каркасе обшитом кожей или корой. Принцип полого корпуса внедрялся в судостроительство по совершенно разным линиям. Самые большие и сложные каноэ принадлежат индейцам северо-западного приморья Америки и их океаническим соседям от Гавайских островов до Новой Зеландии. Огромные пиро́ги строили в доевропейские времена по берегам Карибского моря и на западном побережье Африки. Для Полинезии — там, где не было достаточно больших бревен, — характерно наращивание досками выдолбленного днища, однако нигде в мире не находили долбленки с добавлением внутреннего каркаса, приближающего ее по размерам и форме к настоящему кораблю со шпангоутами. Широко распространенное представление, будто суда первых цивилизованных народов развились из долбленки, ни на чем не основано.
Первые известные корабли строились из бунтов камыша, а не из бревен и досок. Строились по простому принципу плавучести за счет сквозного прохождения воды, а не по принципу вытеснения воды водонепроницаемым корпусом. Эти древнейшие суда известны нам по доисторическому искусству Северной Африки и Западной Азии. Об их размерах и очертаниях можно судить по додинастическим петроглифам в Египте, наскальной живописи в Сахаре, гравировке на наиболее древних месопотамских печатях. К этому начальному периоду камышовых судов относится и начало применения мачты и паруса. Керамическая модель в Багдадском музее с цилиндрической опорой для мачты показывает, что в этой области ходили под парусом по меньшей мере около 4000 г. до н. э. На большом додинастическом сосуде в Британском музее видим считающееся древнейшим изображение египетского парусника с надстройкой на палубе; оно датируется периодом Негада II, старше 3100 г. до н. э. Однако великое множество изображений камышовых судов, в том числе с мачтой и парусом, которые в последнее время обнаружены в сухих
вади между Нилом и Красным морем, относятся к той же додинастической поре и вполне могут соперничать по древности с запечатленными в керамике Египта и Ирака.
Честь перехода от компактных судов из бунтов камыша к полым дощатым конструкциям с распорками обычно приписывают финикийцам, однако это распространенное мнение противоречит археологическим данным. Финикийцы как народ выделились из конгломерата ханаанеев только во второй половине II тысячелетия до н. э. (Harden, 1962[142]), и хетты, имевшие доступ к тем же кедровым лесам, строили сложные деревянные корабли раньше их, как это видно по двум реалистичным рельефам — в Каратепе (Южная Турция) и из Тель-Халафа (Британский музей). Однако в Египте по велению фараона Хеопса около 2800 г. до н. э. был построен роскошный деревянный корабль, по изяществу морских обводов не уступавший лучшим ладьям викингов, а по размерам намного превосходивший их, и рядом с этим древним образцом кораблестроительного искусства не только они, но и суда финикийцев представляются почти современными. Особенно поражает в этом древнейшем известном деревянном судне с настоящими шпангоутами, что оно было сшито из привозных ливанских досок и, хотя повторяет предшествовавшие ему папирусные ладьи по обводам и оформлению, в силу своей хрупкой конструкции могло ходить только по тихим водам Нила.
Внезапный скачок от бунтовых судов из папируса к деревянному кораблю из привозного леса в Египте так отчетливо выражен, что речь явно идет о влиянии извне. Естественно обратить свой взор на Малую Азию, откуда фараон получал кедровые доски. В Двуречье ясно прослеживается переход от бунтовой ладьи к корпусу на шпангоутах. На древних храмовых рельефах видим реалистичные изображения морских боев или перевозки людей на камышовых судах, но также и транспортировку грузов на бревенчатых плотах и на больших
гуффа. Круглые
гуффа и
джиллаби лодковидной формы ходят по Евфрату по сей день и во всех подробностях совпадают с археологическими экспонатами Багдадского музея — моделями, выполненными на берегах этой самой реки около пяти тысяч лет назад. Плетеный камышовый корпус обмазан внутри и снаружи битумом; согласно местным авторам Ветхого завета, так же строил свой ковчег библейский патриарх Ной. Ной изготовил кедровые шпангоуты и заменил сплошные камышовые бунты наружной обшивкой, обмазанной для водонепроницаемости смолой. Для древних жителей средиземноморского побережья Малой Азии, где было мало камыша и сколько угодно кедра, легко раскалывающегося на тонкие твердые доски, замена камышовой плетенки деревянной обшивкой представляется вполне логичным шагом. Но жители Двуречья тоже имели доступ к восточным рубежам обширных кедровых лесов, и деревянные корабли, судя по всему, очень рано появились в Ираке и Персидском заливе. Этот более прочный тип полого корпуса должен был быстро распространиться до Египта, где уже фараоны древнейших местных династий ввозили кедровые доски для храмов.
Однако у камышовых конструкций были свои преимущества, и они дожили до наших дней на озерах Западной Азии, Африки, Мексики и Южной Америки, откуда они в прошлом распространились до острова Пасхи. Ими пользуются — или пользовались до начала нашего столетия — на средиземноморских островах Корфу и Сардиния, на атлантическом побережье Марокко, в Персидском заливе и вплоть до острова Цейлон на востоке. Примечательно, что они живучи в водах, примыкающих к крупнейшим центрам древней цивилизации: в Южной Америке — на озере Титикака, возле руин Тиауанако; в Африке — там, где река Лукус вливается в Атлантический океан рядом с могучими развалинами мегалитического города Ликс, и на озере Тана, откуда Нил начинает свой путь через Египет; в Азии — на реках Тигр и Евфрат, окаймленных шумерскими памятниками, на острове Бахрейн, где, по некоторым данным, зарождалась шумерская цивилизация, и в болотном краю по реке Гельмунд, соседствующей с истоками Инда, у которого расположены знаменитые развалины Хараппы и Мохенджо-Даро. Камышовые и папирусные суда занимают видное место в древнем искусстве Двуречья и Египта, но также на Кипре и Крите; их изображения высечены на стенах погребальных пещер в приморье Израиля, выгравированы на хеттских печатях из Южной Турции, на мегалитических плитах древних храмов Мальты, которые, согласно новым углеродным датировкам, появились до возникновения египетской цивилизации
[22].
Египет и Двуречье давно соперничают за звание древнейшего источника цивилизации. И ученый мир был изрядно озадачен, когда недавно появились углеродные датировки, говорящие о том, что на неприметном острове Мальта развитая культура утвердилась раньше, чем в широкой и плодородной долине Нила. Еще больше картина осложнилась после того, как датские археологи, работая на песчаном острове Бахрейн в Персидском заливе, нашли обширные памятники местной цивилизации, превосходящей по возрасту месопотамскую (Bibby, 1969[36]).
Давнее убеждение, что культура распространялась из Египта на запад и на север вдоль берегов Средиземного моря, а из Двуречья — на юг и на восток через Персидский залив, опровергается хронологией. В наличии зрелых островных культур Мальты и Бахрейна, предшествующих цивилизациям Египта и Двуречья, некоторые изоляционисты видят аргумент в пользу множественных очагов, а не двух центров распространения культуры, приуроченных к долинам великих рек. Этот аргумент как будто подтверждается тем, что новые датировки относят каменные башни, подобные средиземноморским, и сопутствующие им следы развитой культуры на берегах Британских островов и прилегающих архипелагов также к весьма древней поре.
Конечно, археологам еще предстоит вносить серьезные поправки и, быть может, в корне пересмотреть устоявшиеся взгляды, однако упомянутые открытия вряд ли годятся как доводы в пользу изоляционистских гипотез. Мальта, Бахрейн, Великобритания — все это острова, и уже сам факт, что они были населены, говорит о строительстве судов, об опыте мореплавания — стало быть, налицо элемент диффузии. Почему не предположить, что мастерство творцов сложных мегалитических построек Мальты вместе с многими другими следами организованного общества и подлинной цивилизации как на этом острове, так и на Бахрейне не было плодом местного развития, что за всем этим стоят переселенцы, которые где-то ведь научились строить суда и плавать по морям. Это тем более вероятно, что развалины прошлых цивилизаций на Мальте и Бахрейне, как и древние каменные башни на Британских островах, датируются начальными, а не поздними периодами, так что для местной эволюции просто не остается времени.
Наука всегда — и, думается, не без оснований — утверждала, что возникновение подлинной цивилизации со всеми ее сложными элементами, включая строительство мегалитических храмов, лишенных практических функций и, однако же, требующих массового организованного труда, предполагает наличие подчиненных единому руководству больших этнических групп и развитого хозяйства, основанного на сборе урожая с обширных площадей плодородной почвы. Пока что никому не удалось поколебать это логичное суждение. Что же до рассматриваемых островов, особенно Мальты и Бахрейна, то они ничем этим не располагали; даже до того, как их ограниченная площадь была оголена, не было на них хозяйственной основы, стимулирующей развитие цивилизации, отсутствующей на ближайшем материке. И если мы тем не менее находим внушительные следы былых цивилизаций едва ли не на каждом пригодном для обитания острове в Средиземном море и Персидском заливе, речь, бесспорно, идет о диффузии, а не о независимом параллельном развитии. Как известно из истории, все крупные острова Восточного Средиземноморья платили дань Египту, на что они никогда не пошли бы, если бы речь шла о сухопутной нации, не располагавшей средствами диктовать свою волю. Египетские изделия распространились на запад даже за Гибралтарский пролив, о чем говорят недавние находки в финикийском порту Кадис на атлантическом побережье Испании. Сами финикийцы основывали колонии и распространяли свои знания и изделия во всех уголках Средиземноморья, а также на север и на юг за Гибралтаром. В другой стороне, за рубежами Малой Азии, океан тоже издревле служил транспортной артерией. Главный библиотекарь египетской папирусной библиотеки в Александрии сообщает, что египетские папирусные суда доходили до Цейлона и до реки Ганг. Шумеры и другие древние мореплаватели торговали с Бахрейном, а также с Хараппой и Мохенджо-Даро в долине Инда. Васко да Гама получил сведения о ветровых сезонах и морских путях, удобных для плавания в Индию, от арабов, но их опередили финикийцы, которые исследовали Азию по меньшей мере вплоть до Малайского архипелага.
И еще до всех этих исторических и протоисторических плаваний утвердилась цивилизация на Мальте и Бахрейне. Мотивы, побуждавшие мореплавателей ходить к этим островам и поселяться на них, вероятно, были те же самые, что вели египтян и шумеров в Индию, а финикийцев — за пределы их родного Средиземноморья. Стимулы для путешествий вряд ли сильно изменились при переходе от древности к исторической поре. Нашего предка подстегивали жажда познать неведомое и поиск новых пастбищ; его влекло желание добыть сокровища и обрести богатство на новых торговых путях, он стремился обратить чужеземцев в свою веру; его гнал вперед религиозный фанатизм, но также и страх. С той поры как человек сделал первые шаги на пути к организованному обществу, его преследовало опасение, что вражеское войско нападет на него, его семью и общину, чтобы присвоить себе их землю и имущество. Появление на многих островах древней цивилизации вполне можно объяснить отступлением под натиском врага. На материке всегда грозило неожиданное нападение из леса, с гор, из глухих дебрей. А остров — надежная крепость, во всяком случае на первых порах формирования цивилизации, пока другие обитатели приморья не обзавелись мощным флотом и умелыми мореплавателями, готовыми совершать дальние набеги.
Наличие на островах вроде Мальты и Бахрейна следов более древней цивилизации, чем египетская и месопотамская, круто изменяет географическую последовательность. Возможно, древняя культура продвигалась в Средиземноморье в восточном направлении и в Персидском заливе на север, а не наоборот, как все время предполагали. Археологам не мешает обратить внимание на области, которые еще не изучались, скажем, потому, что они покрыты водой или засыпаны песком; в самом деле, у нас нет причин полагать, что нынешние границы пустынь и моря в афро-азиатском регионе точно совпадают с их рубежами перед возникновением египетской и месопотамской цивилизаций. Ведь хорошо известно, что в Северной Африке пустыня наступала на зеленые леса и пастбища и по-прежнему наступает с годовой скоростью, измеряемой километрами, что под огромными курганами песка скрываются селения и русла былых рек. Петроглифы на склонах сухого каньона Вади-Абу-Сувейра в Верхнем Египте отделены почти 200 км от Красного моря, а от фресок Тассилийской пустыни на юге Алжира почти полторы тысячи километров до средиземноморского побережья, однако и тут и там мы видим папирусные ладьи, птицечеловеков в египетском стиле, крокодилов, бегемотов, водяных козлов, жирафов, оленей, львов и множество других речных и лесных животных, которых теперь нет в этих областях Африки, погребенных песком. Древний человек плавал на папирусных лодках на бесплодных ныне просторах, где до III тысячелетия до н. э. реки, озера, болота были окружены густыми лесами. Все Двуречье и вся Малая Азия до средиземноморского побережья Ливана также были покрыты лесом, когда цивилизованный человек принялся расчищать для себя участки. Высокие песчаные холмы, под которыми от Ура до Ниневии захоронены бесчисленные города, даже могучие пирамиды и храмы, а на Бахрейне — развалины каменных построек и десятки тысяч разграбленных могильников, продолжают скрывать неразгаданные тайны древнейшей истории человека.
Это о песках. А как обстоит дело с границей суши и моря? Некоторые изменения береговой линии известны. Есть острова, заливы, порты, которые сегодня выглядят вовсе не так, как во времена древних мореплавателей. Одни поселения исчезали из-за геологических дислокаций; другие погребены наносами, лавой, пеплом. Ил и прочие наносы главных рек Африки и Двуречья медленно, но верно перекрывали прежние дельты, бухты, причалы. Большинство гаваней афро-азиатского мира изменились со времен шумеров, фараонов, финикийцев. Исследование маленького порта Библ выявляет под водой камни прежней грузовой пристани перед нынешним входом в гавань, сооруженным в средние века. Сильно изменилась картина афро-азиатского побережья уже после 600-х годов до н. э., когда объединенная египетско-финикийская экспедиция по велению фараона Нехо вышла из Красного моря и обогнула Африканский континент. Мы не увидим шесть портов на атлантических берегах Марокко, куда заходил Ганнон около 450 г. до н. э., отплыв из Карфагена в противоположном направлении, чтобы исследовать западные берега Африки, и везя на 60 кораблях 30 тысяч человек, готовых основать новые поселения. Некоторые из портов успели стать полями внутри страны с той поры, как римляне выходили через Гибралтар и захватывали селения берберов и финикийцев.
Важнейшим открытием римлян на атлантическом побережье Африки был островной город Ликс, известный тогда под названием Маком Семес — «Город Солнца». Его могучие, ориентированные по солнцу мегалитические постройки уже тогда были настолько древними, что римляне почитали Ликс «вечным градом», превосходящим по возрасту любые города Средиземноморья; они связывали его с полубогами, предшествовавшими людям на земле, и помещали могилу Геркулеса на возвышавшемся над морем острове Ликс. В наши дни Ликс уже не остров и корабли не могут подойти к его причалам. Наполовину погребенные могучие руины высятся на мысу, на гребешке, со всех сторон окруженном ровными полями, через которые извилистая река Лукус несет свои струи к едва видимому вдалеке океану. Некогда к пристаням подходили корабли, чьи пропорции, наверно, соответствовали исполинским сооружениям на берегу; теперь даже маленькие, четырех- и шестиместные, камышовые лодки здешних рыбаков не смогут пройти к подножию окруженного сушей холма. Большая римская мозаика с изображением Нептуна говорит о былых связях с океаном, а под развалинами арабских мечетей и римских храмов лежат более древние берберские и финикийские постройки, на которые в свою очередь использованы огромные каменные блоки, доставленные издалека неведомыми солнцепоклонниками, раньше всех облюбовавшими это место. Их причалы скрыты на неведомой глубине у подножия холма, а сводчатые крыши более поздних римских торговых рядов торчат из травы там, где в прошлом причаливали галеры.
Итак, мы знаем приморские селения, погребенные наносами, знаем города, занесенные песком внутри страны. Надо еще учесть и геологические дислокации, чтобы представить себе, насколько прошлое все еще сокрыто от наших глаз. Города Помпеи и Геркуланум погибли в 79 г и были вновь открыты только в прошлом веке; город бронзового века Акротири на греческом острове Санторин (он же Тира) погиб, и даже предания о нем не сохранились до 1956 г., когда его раскопал греческий археолог Спиридон Маринатос. Открытие Маринатоса вместе с океанографическими и геологическими исследованиями в какой-то мере пополнили наши зияющие пробелами знания об истории древнего Средиземноморья.
В главе 3 мы говорили со ссылкой на Померанца, что от взрыва санторинского вулкана во все стороны пошли цунами, несшие погибель прибрежным поселениям. Нам известно, что около 1200 г. до н. э. почти все Восточное Средиземноморье испытало на себе страшные последствия катастрофы. Померанц не сомневался, что именно в это время произошел катаклизм, уничтоживший завоевания существовавших цивилизаций и опустошивший благодатные земли. По его мнению, масштаб бедствий был настолько велик, что его нельзя приписать только набегам уцелевших после катастрофы «морских народов», логичнее увязать их с силой извержения и цунами. Принято считать, что санторинский вулкан взорвался около 1400 г. до н. э., то есть примерно за 200 лет до всеобъемлющего крушения цивилизаций Восточного Средиземноморья, датируемого приблизительно 1200 г. до н. э. Если дальнейшие исследования подтвердят правоту Померанца, если хаос в окружающем регионе, включая острова, Египет и Малую Азию, прямо или косвенно был вызван вулканическим извержением и цунами, то перед нами и в самом деле более убедительная причина всеобщего разгрома, чем одни только локализованные набеги «морских народов».
Примечательно, что к этой же хаотической поре относят и так называемый исход иудеев из Египетского плена и возвращение их в Израиль. Поскольку рассказы о той поре были записаны, не исключена возможность коллективного воспоминания о чудовищной приливной волне, послужившей причиной бегства иудеев из Египта в горы Синайские. Как говорят предания, египетское войско со всадниками и колесницами было накрыто стеной воды.
Псалом 76 подчеркивает, что море взволновалось до самого дна, лил дождь, гремела гроза, дули вихри, и озаряемые молнией люди бежали между стенами воды, и земля содрогалась.
Независимо от того, произошла ли санторинская катастрофа около 1400 или 1200 г. до н. э., она, конечно же, должна была нанести урон низменностям Египта, и напрашивается вывод, не принадлежат ли иудейские сведения очевидцам геологического катаклизма. Не исключено, что Библия — единственный источник, описывающий те цунами, которые, как теперь полагают, были одной из причин гибели минойской цивилизации на Крите. Они же, вероятно, способствовали набегам на материки неопознанных «морских народов» и, возможно, побудили финикийцев выйти за Гибралтар; все эти события, судя по всему, происходили в период около 1200 г. до н. э.
Город на Санторине не был затоплен, но его погребло чудовищное количество лавы и пепла. Когда археологи проникли в эту толщу и расчистили крыши домов и сами дома, выявилось великое значение кораблей для той поры. На втором этаже одного из домов на главной площади обнаружена красочная фреска с изображением санторинского порта. Мы видим, как в гавань входит на веслах целая флотилия украшенных цветочными гирляндами кораблей с зарифленными парусами и изящно одетые мужчины и женщины приветственно машут с балконов и крыш домов, выстроенных ступеньками на фоне красных гор. Может быть, это санторинские мореплаватели бронзового века возвращаются с триумфом из похода в Африку, состоявшегося почти три с половиной тысячи лет назад; может быть, сюжет следует толковать иначе, — во всяком случае эта сцена свидетельствует, что море было не преградой, а широкой дорогой для тех, кто обосновался на острове. На других фресках показаны экзотические растения и животные, а также живописный ландшафт с извивающейся рекой, которую археологи принимают за Нил.
Недавнее открытие забытой островной цивилизации Санторина вдохнуло новую жизнь в старую легенду об Атлантиде. Серьезные ученые пытаются отождествить Санторин с Атлантидой. До последних лет почти все исследователи считали рассказ Платона об Атлантиде небылицей; к этому сюжету охотно обращались авторы научно-фантастических произведений и увлекающиеся люди, ищущие суперменов в небесах или на дне океана. Но легенда, которую ученые старались обходить молчанием или презрением, видимо, бередила сознание кое-кого из этого клана, и, считая ее небылицей, пока Атлантиду помещали за Гибралтаром, они были готовы судить иначе, когда речь пошла о Средиземном море.
С полным почтением к многочисленным этнологам и географам, пытающимся теперь отождествить Санторин с Атлантидой, и нисколько не оспаривая того, что взрыв Санторина, видимо, отразился на истории культуры, как ни одна последующая катастрофа, хочется все же выступить оппонентом. Тому, кто ищет зерно истины в рассказе об Атлантиде, приходится полагаться на версию Платона, подробно изложенную в двух его диалогах («Тимей» и «Критий»), поскольку других источников нет. А Платон недвусмысленно помещает Атлантиду в океане — Великом океане, по отношению к которому Средиземное море было всего лишь бухтой внутри Геркулесовых Столпов. По словам Платона, его предшественник Солон услышал про остров Атлантида, затонувший в одноименном океане, от жрецов Саиса в Нижнем Египте, а те располагали древними папирусными текстами с подробными описаниями острова. Суть этих текстов, если поставить вопросы «где?», «что?», «когда?», можно выразить в трех пунктах: Атлантида находилась за Гибралтаром; она затонула в океане и исчезла; произошло это в давние времена, предшествующие истории самого Египта.
Санторин же находился в родных для грека водах, а не за Гибралтаром; Солон знал остров лучше, чем его египетские информаторы; остров не затонул, а остался на месте; катаклизм не предшествовал истории Египта, напротив, он по времени совпадает с концом фараоновых династий.
Пока нет более убедительных причин рассматривать всерьез легенду об Атлантиде, пожалуй, лучше оставить диалоги Платона в ряду преданий и мифологии. Суша тонула в Атлантике, об этом говорят подводные каньоны, бороздящие шельф перед устьем африканских рек; на Срединно-Атлантическом хребте под водой обнаружены круглые булыжники — признаки былой суши; еще один признак — поднятые со дна океана колонки с пресноводным планктоном, говорящие о наличии в прошлом окруженных сушей озер. Однако пока что нет достоверных указаний на то, что эти геологические изменения происходили уже после возникновения рода человеческого. Дно океана, как и континенты, постоянно находится в движении. Люди каменного века некогда охотились там, где теперь простирается Северное море: при тралении подняты со дна копейные наконечники. Можно представить себе, какой силы был катаклизм, который всколыхнул Атлантику и пропахал в Исландии могучий рифт, продолжающийся и дальше по дну океана. Углеродная датировка дерева, упавшего в рифт, показывает, что катастрофа произошла около 3000 г. до н. э. Это совпадает с датами 3100–3000 гг. до н. э., когда культуры Средиземноморья словно бы начали все сначала, когда в постепенное развитие цивилизаций вторгся промежуточный период, все как будто двинулось новыми, другими путями из-за неслыханных пертурбаций и сдвигов. Время около 3100–3000 гг. во многом напоминает беспокойные, тревожные времена около 1200 г. до н. э., последовавшие сразу после губительного взрыва острова Санторин. Острова и материковое приморье сохранили отчетливые следы этого древнейшего крушения культур.
На стратегически расположенном острове Мальта на период около 3000 г. до н. э. приходится конец неолитической культурной фазы, и начало нового важного периода отделяется от нее четко прослеживаемым разрывом (Evans, 1971[108]). Археологи располагают не менее убедительными данными относительно обширных геологических смещений также и на Крите около 3000 г. до н. э. (Hood, 1971[163]). Люди искали убежища в пещерах, а затем обосновались на возвышенностях. И на Кипре в это же время — видимо, в связи с природным катаклизмом — были заброшены неолитические поселения и начался совершенно новый период (Karageorgis, 1969[183]). Поскольку эти углеродные датировки допускают отклонение плюс-минус 100 лет, они хорошо совпадают с периодом около 3100 г. до н. э., когда в Египте и Двуречье с утверждением первых местных династий складывалась подлинная цивилизация.
Учитывая новые данные об огромной давности существования рода человеческого, можно ли считать простым совпадением, что независимо друг от друга династии Двуречья и Египта были основаны в одно время и совсем близко друг от друга, разделенные всего лишь Аравийским полуостровом? Хронологическое совпадение в пределах одного века могло казаться естественным на заре науки, когда полагали, что род человеческий существует всего какие-нибудь тысячи или десятки тысяч лет, но одно столетие около 3000 г. до н. э. представляется всего лишь мгновением, коль скоро возраст человечества начали исчислять миллионами лет. Люди палеолита бродили по тысячекилометровым просторам афро-азиатской территории несметное количество веков, их потомки уже создали великое разнообразие примитивных культур и образа жизни на всех континентах к тому времени, когда поречья Египта и Месопотамии в пределах одного столетия были заселены обладающими абсолютной властью правителями, которые называли себя потомками богов, исповедовали культ предков, числили птицечеловеков в ряду своих пращуров, плавали на камышовых судах, сооружали в честь солнца исполинские пирамиды, делали цилиндрические печати и воздвигали огромные стелы с древнейшими известными археологам иероглифами. Короче, две династии, которые представляли удивительно похожие по уровню цивилизации и потомки которых затем на протяжении многих поколений правили в двух названных поречьях Ближнего Востока, сложились практически в одно время среди более древних, архаичных культур, и разделяющую их территорию можно было преодолеть в какие-нибудь недели или месяцы.
Будь у этих ранних цивилизаций независимые корни, возможно, что письменность была бы изобретена по разные стороны Аравийского полуострова с
разрывом в тысячи лет. Было бы оскорбительно для развивающихся наций наших дней полагать, что после миллионов лет медленного развития человечество созрело для грамотности как раз около 3000 г. до н. э. Почему не признать: не будь контактов с соседями и странствующих учителей и миссионеров, письменность не дошла бы до Европы с Ближнего Востока, как это было на деле, а в ожидании независимого развития многие нации могли бы по сей день оставаться неграмотными?
Учитывая очевидную близость двух великих культур Ближнего Востока во времени и пространстве, мы вправе требовать от сторонников идеи независимого развития, чтобы они доказывали свою правоту. Ни один ученый не станет отрицать, что первоначальные иероглифические письмена древнейшего шумерского периода затем уступили место совершенно отличной от них клинописи, которая была одним из импульсов, прямо или косвенно способствовавших созданию многих различного вида письменностей Малой Азии, от хеттских идеограмм до финикийских и древнееврейских букв. Почему не представить себе сходную связь между разными по виду письменностями древнейших шумеров и их современников в долине Нила? В самом деле, в главе I мы упоминали, что Фалькенштейн и Амье, изучая наиболее древнее шумерское письмо, установили, что иероглифический знак для понятия «судно» в архаичных текстах Урука, предшествовавших клинописи, совпадает с древнеегипетской идеограммой для понятия «морской»: серповидная камышовая лодка с поперечными найтовами и своеобразным, в египетском духе двойным изгибом верхней части высокого носа и кормы — стилистическая деталь без очевидной практической функции и не известная больше ни на каких судах в мире.
Похоже, что писцы первых династий Двуречья и Египта как-то общались между собой или же их письменность восходит к общему источнику, предшествующему формированию раздельных культур по обе стороны Аравийского полуострова. Примечательно, что общий знак связан с судами и мореплаванием.
Широко распространен взгляд, что древние шумеры были морским народом, когда основали города Ур и Урук, ставшие около 3000 г. до н. э. важными портами в Персидском заливе. Это убедительно подтверждается многочисленными текстами первого периода. А вот египтян принято считать сухопутным народом, несведущим в мореходстве. Ближайшее рассмотрение говорит о неосновательности такого мнения. Несправедливо судить так о народе, внушительные памятники которого свидетельствуют о великом мастерстве в других древних ремеслах, проникших со временем в Европу и сыгравших роль станового хребта для европейской культуры средневековья. Все подробности оснастки испанских каравелл XV в. восприняты от древних конструкторов Ближнего Востока, об этом говорят модели и другие иллюстрации Древнего Египта. Личность корабелов неразличима в тени всемогущего фараона, а сами фараоны не были мореплавателями. Они были настолько поглощены своим величием и приготовлениями к загробной жизни, что почти вся их жизнь ограничивалась берегами Нила. Остальной мир явно играл для них второстепенную роль. Тут они резко отличались от общительных скитальцев-финикийцев: финикийские купцы постоянно вели поиск новых земель и торговых путей. Тем не менее мы располагаем достаточными свидетельствами того, что египетские общины и во времена фараонов числили в своих рядах искусных проектировщиков, кораблестроителей и мореплавателей. Созданные для фараонов суда в изобилии представлены на фресках и барельефах, иллюстрирующих повседневную жизнь и важные события Древнего Египта. Конечно, бо́льшая часть судов была местного производства и, как и теперь, предназначалась для плавания по Нилу. Однако высокие нос и корма, особенности парусов и такелажа, своеобразная «тетива» на корме и «предохранители» для рулевых весел ясно говорят, что эти суда предназначались для плавания в открытом море. Иначе как объяснить «тетиву» и другие детали, призванные исключительно противостоять волнам и прибою?
Подтверждение находим и во внеегипетских источниках. Как говорится в преданиях, древнееврейский пророк Исайя говорил о Египте как о стране, посылающей своих послов по морю на папирусных судах. Несомненно, в обязанности плававших по морям египетских посланников входил сбор дани с чужеземных народов. После того как фараоны прочно обосновались на реке, они еще долго взимали дань с далеких островов в Восточном Средиземноморье, которые вряд ли могли попасть в зависимость от Египта, если сами египтяне не выходили на своих судах за пределы нильского устья.
На редкость подвижным среди фараонов был Рамсес II. Он лично путешествовал по Малой Азии, его портрет в полный рост был высечен на скалах в приморье Ливана, а договор о союзе с хеттским правителем запечатлен египетскими иероглифами в Богазкёе, в далекой Турции. Художники царицы Хатшепсут увековечили ее экспедицию из Красного моря в дальние страны рельефными изображениями деревянных кораблей, на которых можно увидеть все приспособления, нашедшие затем применение на парусниках колумбовой поры. Также и другие фараоновы парусные суда весьма совершенной конструкции, как деревянные, так и папирусные, изображены в храме в Эдфу, в Карнаке, в Долине Царей и на стенах саккарских гробниц знатных сановников. Через греческих историков мы знаем, что фараон Нехо снарядил объединенный египетско-финикийский флот, коему было предписано пройти через Красное море, обогнуть всю Африку и вернуться через Гибралтар. Что египтяне знали Атлантику, видно также из их рассказов грекам про «Атлантическое море» за Геркулесовыми Столпами, перед которым Средиземное море выглядело всего лишь бухтой.
Более того, древние египтяне знали также Индийский океан и пересекали его на своих папирусных ладьях. Источник этих сведений не кто иной, как Эратосфен, главный библиотекарь египетского хранилища папирусов в Александрии, впоследствии уничтоженного огнем. Он был не только виднейшим географом своего времени, но и первым создателем проективных карт. Подобно другим греческим ученым до него, он отлично знал, что земля — шар, и верно определил ее окружность, исходя из поверхностной кривизны, за 200 лет до нашей эры, тогда как Колумб через полторы тысячи лет значительно преуменьшил окружность земного шара. Описывая географическую обстановку по ту сторону Индийского океана, Эратосфен приводит расстояния в переводе на путевые дни и сообщает, что папирусным судам с теми же парусами и такелажем, что на Ниле, требовалось 20 дней на путь от устья Ганга до Цейлона. Трудно представить более надежный источник сведений о том, что египетские суда огибали всю Индию и плавали в Бенгальском заливе.
Древние шумеры тоже поддерживали торговые связи с Индией, особенно с цивилизацией Индской долины, которая начиная со II тысячелетия до н. э. не одну сотню лет процветала по берегам реки Инд и от устья Инда на восток до Камбейского залива, где в древнем портовом городе Лотхал найдена печать из Персидского залива (Rao, 1963[256]). А на территории древнего Шумера археологами раскопано столько печатей с индской пиктографией, что Крамер с полным основанием предположил, что индские купцы более или менее постоянно жили в ряде шумерских городов (Kramer, 1963[192]).
О кораблях, заморской торговле и других морских предприятиях сплошь и рядом говорится на многочисленных древнешумерских плитках с письменами. Нередко перечисляется состав груза, и можно прочесть о судах грузоподъемностью до 300
гур, что равно 96 т. Из других текстов видно, что взималась пошлина за привозные грузы; сохранились также контракты между купцами-мореплавателями и предпринимателями. Упоминаются и случаи кораблекрушения, и вполне уместным представляется пункт в одном документе, гласящий: «…возвратить корабль и все его оборудование в полной сохранности владельцу в гавани Ура…» (Oppenheim, 1954[238]). Роль мореплавания отразилась даже в шумерских пословицах. Одна из них гласит, что корабль, вышедший в плавание с достойной целью, может рассчитывать на попутные ветры и бог Солнца приведет его в достойные порты, а корабль, вышедший с дурной целью, будет выброшен богом на берег (Gordon, 1964).
Современный мир вообще не знал о существовании шумеров и их культуры, пока археологи не раскопали в Южном Ираке огромные пирамиды и погребенные под развалинами архивы с десятками тысяч письменных плиток. Дешифровка плиток позволила восстановить картину повседневных занятий и торговой деятельности творцов давно забытой цивилизации, влияние которой в древнейшем периоде распространилось вверх по течению рек Месопотамии до Мари и Брака у рубежей средиземноморского мира (Mallowan, 1965[208]), а на юг — через Персидский залив до стран Индийского океана (Oppenheim, 1954[238]).
Среди множества географических названий на шумерских плитках легко опознаются местные, тогда как наименования чужих стран не совпадают с современными. На плитках, где речь идет о морской торговле, чаще всего встречаем Дильмун, или Тельмун, отождествляемый большинством современных исследователей с Бахрейном — островом в Персидском заливе, изобилующим остатками древних акведуков, могильников и храмов, чей возраст, по мнению датских археологов во главе с П. Глобом и Дж. Бибби, превосходит возраст самой шумерской цивилизации. Дильмун играет видную роль в древнешумерских мифах; его продолжали упоминать в месопотамских официальных документах и торговых отчетах долго после того, как исчезли сами шумеры. Один ассирийский правитель писал в своем титуле: «Царь Дильмуна и Мелуххи». Видный авторитет по истории шумеров профессор Крамер предположительно отождествляет Meлухху с Эфиопией, а в Магане (название еще одной далекой страны, чьи корабли заходили в порты Двуречья) он видит Египет (Kramer, 1963[192]). Другие исследователи отождествляют Мелухху с индской цивилизацией, а Маган (Макан) — с Оманом (Bibby, 1969[36]). Совсем неопознанными остаются такие далекие страны, как расположенные за Дильмуном Хазмани и Куппи, до которых надо было долго добираться по морю и по суше. В одном ниневийском тексте о дальности этих стран говорится, что посланцы из Куппи «находились в пути шесть месяцев, чтобы доставить дары и приветствовать царя» (Oppenheim, 1954[238]). Если шумерские камышовые суда не уступали в скорости египетским папирусным ладьям, которые, по Эратосфену, доходили от Ганга до Цейлона (Шри Ланка) за 20 дней, вполне вероятно, что упомянутые посланцы прибывали с какой-нибудь части Малайского архипелага или даже из Китая.
После нашего второго плавания на папирусной ладье через Атлантику один из моих товарищей по «Ра», Карло Маури, отправился пешим ходом и верхом по следам Марко Поло; на путь от Месопотамии до рубежей Китая у него ушло чуть больше шести месяцев. Посланцы из Куппи плыли по морю. Если предположить, что они шли из какого-нибудь великого королевства на Суматре или Яве, причем не всегда дул попутный ветер, нельзя отрицать возможность того, что в других случаях они вполне могли пройти столько же в другую сторону, а до Китая путь короче.
Судя по источникам и археологическим данным, цивилизации Индонезии и Китая, как и цивилизация Индской долины, сложились позже расцвета шумерской цивилизации в Двуречье. Конечно, в большинстве этих областей уже началось независимое развитие культуры, и все же нет оснований отрицать возможность того, что отдельные странствующие купцы или «посланцы» вроде упоминаемых на плитках могли переносить на большие расстояния полезные идеи там, где не было регулярного контакта. Судя по текстам из Александрии и Ниневии, в ранний период мореплавания на камышовых судах Индия поддерживала связи и с Шумером, и с Египтом, так что осторожность в подходе к этой проблеме предписывает нам не исключать какие-либо части азиатского приморья из цепочки, по которой могли передаваться культурные импульсы во II тысячелетии до н. э., когда многие неприметные до той поры культуры этого региона развились в подлинные цивилизации. Сезонные смены ветров и течения в области муссонов благоприятствовали всем видам морских сообщений в Индийском океане, тогда как постоянные пассаты и сопутствующие им мощные течения тихоокеанского полушария вынуждали древних мореплавателей Ближнего Востока, долины Инда и даже Малайского архипелага ограничивать свои вылазки на восток прибрежными водами Азии.
Значение Дильмуна (Бахрейн) как ярмарки и торгового центра для окружающих цивилизаций во времена шумеров ясно отражено и в текстах, и в археологических находках. Ведущая роль этого острова в шумерской мифологии по меньшей мере заслуживает внимания. Крамер справедливо связывает с шумерами идейные представления и пантеон, оказавшие столь сильное влияние на народы Ближнего Востока. Ассирийцы и вавилоняне целиком восприняли это наследие; хетты переводили его на свой язык; оно было ассимилировано древними греками. Иудаизм, христианство и мусульманство донесли некоторые древнешумерские представления до современного мира (Kramer, 1944[191]). Согласно библейским текстам, Авраам, первый патриарх всех этих трех религий, был уроженцем шумерской столицы Ур. Вместе с отцом и всем своим племенем он в начале II тысячелетия до н. э. покинул этот порт на берегу Персидского залива, пересек все Двуречье и дошел до средиземноморской области ханаанеев. Шумеры как политическая единица постепенно исчезли после разрушения Ура около 2050 г. до н. э. Но какие-то верования Ура сохранялись племенем Авраама, которого считают основателем иудейской, христианской и мусульманской религий, и вошли в письменные источники. К числу уцелевших преданий, происходящих, очевидно, из Ура, относится рассказ о потопе, погубившем большую часть человечества.
По другую сторону Малой Азии рассказ о столь же чудовищной катастрофе услышали от египтян древние греки. По этой версии, древнейший известный центр цивилизации погиб, когда в Атлантике затонул целый остров вместе со всем населением. Позднее до греков дошла также иудейская версия, родившаяся на азиатской стороне Аравийского полуострова и принесенная в Средиземноморье. Однако народы Двуречья говорили не о затонувшем острове, а о всемирном потопе, которым верховный бог покарал их предков.
Лишь в прошлом столетии археологи обнаружили месопотамские тексты более древние, чем Ветхий завет с его версией всемирного потопа. На одной из десятков тысяч клинописных плиток из архива ассирийского царя Ашурбанипала в 1872 г. удалось прочесть подробный рассказ о потопе, настолько похожий на более поздний иудейский, что было очевидно: оба восходят к одному источнику. В ассирийской версии на месте библейского Ноя видим Ут-нипиштима, на месте иудейского бога Яхве — шумеро-ассирийского бога вод Энки. Этот самый Энки сообщил Ут-нипиштиму о решении других богов истребить человечество и научил его построить большой корабль и взять на борт свою семью и скот. Шесть дней и ночей свирепствовал страшный потоп, на седьмой день корабль пристал к горе в Верхнем Курдистане, то есть примерно в той же области, где, по иудейскому преданию, Ной пристал к горе Арарат. Был выпущен голубь, затем ласточка, но обе птицы вернулись, и лишь после того, как не возвратился выпущенный ворон, Ут-нипиштим понял, что воды спадают. Он сошел с корабля на сушу и принес жертвы богам, которые обещали больше никогда не карать все человечество за грехи отдельных лиц. А спасшимся на корабле было предписано «жить при устье рек, в отдаленье» (Bibby, 1969[36]). Для ассирийцев это могло означать только устье их рек-близнецов, где в прошлом обитали шумеры.
Именно возле этого устья археологи Пенсильванского университета на рубеже нашего столетия раскапывали огромный шумерский зиккурат Ниппура — ориентированную по солнцу, увенчанную храмом ступенчатую пирамиду из тех, что были отличительной чертой древних городов Двуречья. У подножия пирамиды они обнаружили 35 тысяч клинописных плиток, и одна из них содержала древнейшую из дошедших до нас шумерскую версию сказания о потопе. От более поздних версий она отличается тем, что в ней уцелевшие не пристают к высокой горе внутри страны, а заселяют Дильмун, он же остров Бахрейн в Персидском заливе. Будто бы до всемирного потопа были в мире города и царства, но, очевидно, люди чем-то прогневили богов, потому что и в этом сказании небожители постановили истребить человечество. В шумерском тексте, как и в ассирийском, спасти людей решил бог вод Энки. Но в этой версии выбор пал на благочестивого, богобоязненного, кроткого царя по имени Зиусудра, которому Энки посоветовал построить большой корабль. К сожалению, часть плитки, где описывается сам ход строительства, не уцелела, но мы читаем, что потоп опустошал землю семь дней и семь ночей и «могучие волны бросали огромный корабль», пока Уту, шумерский бог Солнца, не явил свой лик и не осветил небо и землю. Зиусудра, подобно Ною, отворил окно и простерся ниц перед богом, после чего принес ему в жертву быка и овцу. Шумерский текст называет Зиусудру продолжателем рода человеческого; боги даровали ему остров Дильмун, чтобы он мог вновь заселить землю (Kramer, 1944[191]).
Бог вод Энки, спасший в ассирийской и шумерской версиях несколько человек от потопа, заменен иудеями-монотеистами невидимым всевышним богом. А шумерам Энки представлялся мореплавателем, и таким он часто изображался на борту своей божественной камышовой ладьи с изящно загнутыми вверх носом и кормой; иногда на палубе помещается либо священный алтарь, либо сфинкс, и нос ладьи украшен антропоморфной фигурой, способствующей успешному плаванию. Предполагалось, что Энки (соответствует Посейдону древних греков) то ли жил на острове Дильмун, то ли был туда призван, а затем «поднял парус» и направился к берегу материка в том месте, где находился родной город Авраама — Ур. «В Ур он прибыл, Энки, бог вод, и возгласил: О, город обильный, щедро омываемый водами…» (там же).
Таково древнейшее известное нам описание Ура, чьи погребенные песками развалины ныне лежат вдалеке от всякой воды и где нет никакого намека на зелень, ни одного дерева, под сенью которого можно было бы укрыться от палящего солнца. Следует помнить об этой разительной перемене — как выглядит край теперь и как он выглядел во времена шумеров, около 3000 г. до н. э., — когда пытаешься реконструировать ландшафты и береговые линии, определявшие выбор людьми места для поселения в пору первых плаваний по морям.
Примечательно, что как в Шумере, так и в Египте мифических богов и полубогов описывали и изображали в качестве мореплавателей на бунтовых судах. Колесные экипажи были уже известны, ими пользовались правители и воины, но боги и полубоги путешествуют исключительно на больших и малых бунтовых судах. Это касается не только бога вод, но и бога Солнца, птицечеловеков, божеств с львиными головами и прочих сверхъестественных созданий, с которыми египетские и шумерские династии связывали свое происхождение и которые изображены в виде мореплавателей на фресках, рельефах, папирусах и печатях. Первые исторические легенды повествуют о морском судне, достаточно большом, чтобы спасти людей и скот от ярости потопа. Пять тысяч лет назад шумерские писцы приписывали другим изобретение кораблей. Судостроение и мореплавание в ту пору явно рассматривались как наследие, полученное предками от богов в дошумерские времена, до появления Ура и Нимруда, даже до того, как человек впервые прибыл на остров Дильмун.
Можно гадать, что вызвало к жизни сказание о потопе, можно даже отнести его к разряду мифов. Но мы не можем пренебрегать тем, что сами шумеры, когда они основали свои первые династии в Двуречье и у подножия Ниппурского зиккурата, запечатлели на плитках свои дела и верования, считая своих предков пришельцами с расположенного на другом конце Персидского залива Дильмуна. Причем и Дильмун не считался исконной родиной предков, просто к этому острову пристал после потопа царь Зиусудра.
Поскольку около 3000 г до н. э. в Атлантическом океане произошла катастрофа такой силы, что она пропахала борозду через всю Исландию, пожалуй, есть основания полагать, что связанные с этой катастрофой цунами могли наделать бед, заставив целые этнические группы искать себе новую обитель. Такое событие вполне могло сохраниться в памяти древних египтян и шумеров, а также вызвать внезапное появление новой цивилизации как на всех крупных островах Средиземноморья, так и в двух главных поречьях по обе стороны Аравийского полуострова.
Можно представить себе, что атлантические цунами, несомненно достигшие Гибралтара, вызвали в ту давнюю пору хаос, нисколько не меньший хаоса, последовавшего за взрывом санторинского вулкана тысячелетиями позже. Одно очевидно: где бы ни начинался первоначально путь человека к высокой культуре, к датам около 3100 и 1200 гг. до н. э. привязаны чрезвычайно важные эпохи в истории Средиземноморья и Ближнего Востока. В первом случае видим ломку культур на средиземноморских островах и возникновение первых династий Египта и Двуречья, во втором — опять ломка сложившихся обществ, конец старых династий, поиски крупными этническими группами новых мест обитания. В число тех, кто был вовлечен во второй водоворот переселений, входит великое множество финикийских семей, которые организованными группами выходили за Гибралтар с намерением основать крупные поселения на атлантическом побережье Испании и Марокко, а кое-кто из них, попав в основной поток Канарского течения, учредил опорные пункты и на Канарских островах.
Обе названные исторические вехи — около 3100 и 1200 гг. до н. э. — играют виднейшую роль и в летосчислении американских аборигенов. Точка отсчета поразительно точного календаря майя — 4 Ахау 2 Кумху, что в пересчете на наш календарь дает 12 августа 3113 г. до н. э. Далее, археологи относят примерно к 1200 г. до н. э. начало одной из мексиканских цивилизаций: в эту пору среди дождевых лесов и болот на берегах Мексиканского залива, куда подходит Канарское течение, ольмеки основали свои поселения с пирамидами и огромными стелами.
Никто еще не смог удовлетворительно объяснить, почему майя выбрали точкой отсчета 3113 г. до н. э. Есть предположение, что они отталкивались от какого-то астрономического явления, которое пришлось на это время, но от какого именно — неизвестно. Другое предположение — дата выбрана наобум. Это тоже мало вероятно. Майя достигли в астрономии таких высот и считали время так скрупулезно, что определяли длительность астрономического года в 365,2420 дня; это дает потерю всего одного дня за пятитысячелетний цикл, тогда как наш современный календарь дает за тот же цикл излишек в полтора дня. Другими словами, календарь майя был на 8,64 секунды точнее нашего. Мы упоминали также о надписи на погребальной пирамиде в Паленке, по которой 81 месяц равен 2392 дням; стало быть, один месяц равен 29,53086 дня, что всего на 24 секунды отлично от истинной продолжительности. Неудивительно, что сопутствовавшие испанским завоевателям средневековые священники сожгли попавшие в их руки мексиканские рукописи, полагая все не написанное латинскими буквами творением сатаны и дикарской магией.
Тем не менее сохранились существенные детали мексиканской истории и записанные прозорливыми испанскими хронистами устные предания. Вместе с исторической приветственной речью, которой сам правитель ацтеков Монтесума встретил своего гостя, конкистадора Эрнана Кортеса они служат достаточно последовательными источниками сведений о жизни народов, дороживших своей историей и родивших замечательных астрономов. Устные предания и рукописи согласно утверждают, что испанцы были в Мексике не первыми пришельцами из-за Атлантики. Как ацтеки в горах, так и майя на приморских низменностях называли себя потомками цивилизованных мореплавателей, пришедших, подобно испанцам, с Востока, обосновавшихся на новых землях и смешавшихся с прежними обитателями этих мест, которые до той поры жили маленькими неорганизованными общинами, занимаясь собирательством в лесах, и не знали ни земледелия, ни городов, ни храмов, ни письменности, ни астрономии. Ацтеки и майя, а также цивилизованные народы Центральной Америки и Перу, объединенные общими верованиями, не рассматривали пришельцев из-за океана как чужеземцев. В их описании это были странствующие просветители, которые несли местным жителям вместе с культом Солнца и достижения культуры; жрецы и правящая верхушка считали их своими предками. И в Мексике, и в Перу безбородые от природы жрецы нередко носили накладную бороду, чтобы походить на своих прославленных предшественников.
Яркие письменные и словесные описания белых бородатых носителей культуры, подкрепленные изобразительным искусством, произвели немалое впечатление на прибывших в Новый Свет испанцев, а внешнее сходство с ними помогло конкистадорам завоевать две самые могущественные военные державы той поры — ацтекскую и инкскую. Правда, в преданиях и в древнем искусстве аборигенов от Мексики до Перу предыдущие пришельцы изображались в чалме, длинных свободных халатах и сандалиях, с посохом и еще какими-то предметами в руках, напоминавшими скорее требник, чем оружие. А потому испанцы предположили, что речь шла о семитских миссионерах, ведь даже религиозные ордены были учреждены в честь предполагаемых гостей с Востока — св. Фомы в Мексике и св. Варфоломея в Перу.
Важнейшие предания и иероглифические тексты в непрерывной полосе от Мексики через Центральную Америку до Перу описывают события, происходившие задолго до исторически известных династий ацтеков и инков. Археологически они привязываются к самому началу высокоразвитых культур этого региона. В древнейшем искусстве на территории Перу — как в горном Тиаунако, так и в области культуры раннего чиму на северном побережье — видим скульптурные и керамические изображения бородатых героев в описанных выше характерных одеждах. А предполагаемые основатели мексиканской цивилизации — ольмеки оставили на берегах Мексиканского залива высеченные на доставленных через заболоченные леса из далеких гор колоссальных монолитах автопортреты, чрезвычайно реалистично отображающие два контрастных физических типа: один явно негроидный, у другого семитские черты и длинная борода. Эти ольмекские герои из области дождевых лесов одеты, как и персонажи засушливых регионов, в длинные свободные халаты и сандалии. Исследователи, настаивающие на местной эволюции, пока что не смогли убедительно объяснить, почему основатели мексиканских цивилизаций оставили такие странные рельефы на стелах Ла-Венты, заболоченное побережье которой омывается течением из Марокко. Зато сторонники диффузии не скупились на гипотезы. В наши дни индейцы мексиканских лесов, как и повсюду в тропическом влажном поясе, предпочитают ходить босиком и в набедренной повязке, а то и вовсе нагишом, поскольку чалма и длинный халат цепляли бы за ветки в чаще, а сандалии застряли бы в грязи.
Примитивные племена рыболовов и охотников бродили по Америке десятки тысяч лет, и многие из них оставались верны этому образу жизни к тому времени, когда европейцы достигли Северной и Южной Америки. Открытия семейства Лики и других археологов привели к тому, что возраст человечества в Старом Свете теперь исчисляется не десятками тысяч, а миллионами лет (Johanson, 1976[179]). С какой стати майя начинали свое летосчисление с 3113 г. до н. э., совпадающего с началом культур Египта и Двуречья, если этот год не играл особой роли в религиозной истории их предков вроде той, какую играл нулевой год в календарях иудеев, христиан, мусульман и буддистов? Если будет доказано, что 3113 г. до н. э. — слишком ранняя дата для календаря собственно американских культур, почему не допустить, что эта точка отсчета принадлежит ученым странникам, прибывшим в Новый Свет гораздо позже? Сейчас принято считать, что в Мексике не было никакого календаря, пока ольмеки не развили первую здешнюю цивилизацию; что астрономические знания и письменность майя основаны на наследии ольмеков, чья культура начала распространяться из приморья внутрь страны около 1200 г. до н. э. При возрасте человечества в миллионы лет разве это не примечательное совпадение, что майя восприняли за точку отсчета 3113 г. до н. э. от народа, поразительное развитие культуры которого начиналось на финише Канарского течения около 1200 г. до н. э. — в то самое время, когда целые флотилии финикийских колонистов выходили в Атлантический океан в поисках земель в области того же течения?
Свидетельством очень древних плаваний в Канарском течении служит присутствие на Канарских островах гуанчей задолго до того, как эти острова стали известны португальцам и испанцам. Гуанчи представляли собой смешанный народ, соединяющий кавказоидные и негроидные элементы при разной степени преобладания того или другого на разных островах. Темнокожее, явно негроидное племя жило бок о бок с белыми бородачами, у которых были желтые или рыжеватые волосы. В археологическом музее на острове Гран-Канария можно увидеть подлинную акварель из рукописи Торриани (1590 г.), изображающую бородатых и желтоволосых гуанчей, а рядом выставлены образцы желтых и рыжевато-каштановых волос с гуанчских мумий. В этом же музее экспонируется мумия с остатками рыжей бороды, датируемая примерно 300 г.
Характерное для гуанчей сочетание живущих совместно кавказоидных и негроидных расовых типов типично и для берберов в близлежащем африканском приморье, а также, судя по ольмекскому искусству, для народа, заложившего основы цивилизации на другом конце Канарского течения.
Вряд ли можно сомневаться, что гуанчи связаны происхождением с берберскими мореплавателями, приплывшими на острова с атлантического побережья Марокко; однако нельзя исключать возможность того, что финикийские поселенцы тоже привнесли что-то в смешанную этническую группу, которую застали здесь европейцы. Финикийцы не были ни пиратами, ни завоевателями, это были миролюбивые преуспевающие купцы, распространявшие культуру в странах Ближнего Востока. Они одинаково хорошо знали как ступенчатые пирамиды своих соседей и торговых партнеров в Двуречье, так и храмы и ритуалы своих компаньонов в Египте. Отправляясь в дальние плавания, они набирали смешанную команду, включающую переводчиков и проводников; известно, что финикийцы обошли вокруг Африки, выполняя поручение египетского фараона. Когда Ганнон основывал поселения вдоль западного побережья Африки, лоцманами ему служили берберы. Учредив торговые посты и селения в северном и северо-западном приморье Африки, на побережье Испании и на всех крупнейших островах Средиземного моря, финикийцы сами, несомненно, являли собой довольно пеструю этническую картину. Предполагается, что они ведут свое происхождение из Малой Азии как ветвь ханаанеев, что они были светловолосыми и бородатыми, однако точных данных о физическом облике этих мореплавателей у нас нет (Harden, 1962[142]). Древнегреческие историки нарекли их общим именем «финикийцы» за неимением другого, как мы в наше время называем ольмеками неизвестных носителей культуры, появившихся у американского конца Канарского течения в ту самую пору, когда финикийцы вышли к африканским истокам того же течения.
О связи канарских гуанчей с древними афро-азиатскими народами говорит наличие на островах таких специфических культурных черт, как мумификация, трепанация, глиняные фигурки, керамические печати и треногие сосуды. И хотя ни один ученый вроде бы не подвергал сомнению роль этих элементов как доказательства того, что далекие острова в Атлантике восприняли импульсы от некоей доевропейской средиземноморской культуры, можно подумать, что мир кончается на Канарских островах, на Америку смотрят так, будто она находится на другой планете. Между тем все немногочисленные совпадения культур древнего Средиземноморья и Канарских островов налицо у американского конца Канарского течения, причем здесь они составляют лишь малую часть культурных параллелей и сходных черт, перечисленных в главе 3 настоящей книги. И путевое время от Канарских островов до Мексиканского залива измеряется не веками, не десятилетиями, даже не годами, а какими-нибудь неделями для судов, способных дойти до названных островов от материка.
Интересно, что гуанчи, когда их застали европейцы, совсем не умели строить лодок, хотя их предки должны были располагать какими-то плавучими средствами, чтобы добраться до островов. Лес на островах был, это видно по археологическим остаткам широких сосновых досок в гуанчских саркофагах. Напрашивается вывод, что предки гуанчей не знали дощатых судов. Мы уже видели, что в ближайшем на африканском материке берберо-финикийском порту Ликсе пользовались камышовыми судами и, хотя финикийцы прославились своими деревянными кораблями, они знали и камышовую ладью. На единственном известном изображении финикийских судов, найденном к западу от Гибралтара, видим именно камышовые ладьи. Это большой трехгранный финикийский сосуд, поднятый со дна моря у Ла-Калеты, бывшего финикийского порта на атлантическом побережье Испании, где теперь находится Кадисский маяк. На каждой грани рельефом показаны серповидные камышовые суда с загнутыми внутрь носом и кормой и с опоясывающей корпус поперечной вязкой. В Кадисском музее выставлена найденная в том же порту египетская бронзовая статуэтка — свидетельство многосторонней торговли, которую вели мореплаватели, осваивавшие берега Атлантики. Остается только гадать, почему финикийцы изобразили камышовые суда в ту пору, когда уже давно ходили на дощатых кораблях; может быть, они столкнулись с изобилующими в Атлантике червями-древоточцами, которые способны потопить деревянное судно, но не страшны камышовой ладье?
В километрах путь от Малой Азии до Канарских островов равен пути от этих островов до Центральной Америки, однако трансатлантический этап неизмеримо проще и проходится быстрее. Чтобы пройти через все Средиземное море и достичь Канарских островов за Гибралтаром, нужно мореходное искусство и маневренное судно. А чтобы покрыть с Канарским течением оставшийся отрезок до Центральной Америки, достаточно любой плавучей опоры. Для тех, кто обсуждает доводы в пользу диффузии и в пользу независимого развития, повторим снова и снова: широкая тропическая полоса воды и воздуха непрестанно движется от Африки на запад к Америке, а затем и дальше, от Америки до Азии. История свидетельствует, что европейские суда с прямыми парусами подчинялись этому властному круговороту, а в обратную сторону могли пройти только в более высоких широтах.
Изоляционисты вправе утверждать, что история повторяется в близких или тождественных географических условиях. Но ошибается тот, кто забывает при этом опыт испанцев и других европейцев. Часто заявляют: если основатели доколумбовых культур пришли через Атлантику, почему они не основали династии и не построили пирамиды на островах Карибского моря, а продолжали продвигаться до Мексики, даже пересекли Панамский перешеек и положили начало цивилизациям Эквадора и Перу? Но ведь именно так продвигались испанцы, дойдя по Канарскому течению до цепочки островов Карибского моря. Ободренные своим открытием, они продолжили путь, чтобы исследовать лесистое приморье материка; в ближайшие затем десятилетия испанцы, как и основатели здешних древнейших культур, основали свои главные колонии в Мексике и Перу.
За 20–30 лет испанцы прошли Мексику, Центральную Америку, пересекли в широтном направлении Южную Америку, без большого труда одолев просторы, которые тысячелетиями были обителью различных высокоразвитых культур Америки. Дождевые леса, болота, горные гряды — все было так же, как в доевропейские времена; испанцам, как и другим путешественникам, которые наталкивались на непроходимые мангровые заросли к югу от Панамского полуострова, пришлось снова выходить в море, а для этого — строить новые корабли на тихоокеанской стороне. Правда, до 1200 г. до н. э. можно было не опасаться отпора от могучих армий цивилизованных народов, с какими встретились испанцы.
И получается, нет никаких географических причин полагать, что трансатлантические мореплаватели должны были заселить Мексику за много веков до того, как они дошли до Перу. Испанцам не потребовалось столько времени. Писарро проплыл на хрупкой каравелле от Средиземноморья до Панамы, пешком пересек перешеек, построил новое судно, затем открыл и покорил Перу. Древние парусные суда, достигавшие Карибского моря, с одинаковой вероятностью могли пристать к берегу севернее или южнее Юкатана. Если высадка произошла не в Мексиканском заливе, а на перешейке, такие опытные освоители новых земель, как финикийцы, должны были действовать так же, как Писарро, — двигаться дальше в поисках более приветливых краев, чем занятое мангровыми болотами побережье, двигаться до бухт и пляжей Южного Эквадора и открытых речных долин Перу с пригодной для обработки землей.
Будь только география решающим фактором, есть веские причины полагать, что искатели новых земель из афро-азиатского мира скорее всего остановили бы свой выбор на переходной зоне между Южным Эквадором и Северным Перу. Здесь пышный лесной ландшафт с глубокими гаванями постепенно сменяется просторными, засушливыми, но поддающимися орошению речными долинами; благодатное побережье, где встречаются холодное Перуанское течение и теплое течение Эль-Ниньо, омывается струями, которые создают богатейшие в мире районы рыболовного промысла. Огромные кучи раковин свидетельствуют о древности местных поселений и о ведущей роли моря в их хозяйстве. Археология и история показывают, что с древнейших предысторических времен вплоть до исторической поры эта область была видным центром мореплавания. Большие бальсовые плоты с парусной оснасткой, подобной оснастке каравелл, но с рулевым устройством в виде
гуар, осуществляли торговые связи на юге вдоль открытых инкских берегов на расстояние до 3000 км, а на севере — до Центральной Америки. Это отсюда вышел в Панаму встреченный Писарро бальсовый плот с 30 т груза.
И казалось бы, нет причин особенно удивляться, когда при раскопках, начатых в этих местах эквадорским археологом любителем Эстрадой и его наставниками, Эвансом и Меггерс из Государственного музея США, обнаруженные с помощью углеродного метода археологические находки оказались весьма древнего возраста. Тем не менее их открытия и выводы вызвали в кругах изоляционистов переполох, сравнимый только с тем, который возник, когда было доказано, что плот местного вида способен дойти до Полинезии. Начали рушиться давно устоявшиеся взгляды и догмы. Целое поколение археологов XX в., привыкших к современным видам транспорта, жило в убеждении, что американские аборигены могли ходить пешком или на веслах только в пределах своей племенной обители, а тут современные исследователи обнаружили, что древний человек совершал дальние странствия. Установлено, что ольмеки простерли свою активность от атлантического побережья Мексики до тихоокеанского приморья Гватемалы, основывая разделенные тысячей километров лесные и горные поселения. И в последнее время даже самые ярые изоляционисты отступают под натиском все новых данных, говорящих о том, что диффузия, а не самостоятельная эволюция лежит в основе почти одновременного возникновения высокоразвитых родственных культур по обе стороны центральноамериканского перешейка. Выразителем нового направления мыслей среди американистов выступил в 1976 г. Кольер: «Культурные достижения в Перу и Мексике — и в других областях Месоамерики — были основаны на диффузии из общего источника, Эквадор… Общепринятый взгляд на историю культуры в Срединной Америке, простирающейся от Мексики до Перу, несомненно, нуждается в решительном пересмотре» (Collier, 1976[74]).
Археологи-первопроходцы Бетти Меггерс и ее супруг Клиффорд Эванс, невзирая на ожесточенные подчас нападки коллег, называющих их гипотезы фантастическими, продолжали отстаивать наиболее логичное по всем признакам объяснение внезапного появления в древности очень совершенных керамических фигурных сосудов в Вальдивии, в лесистом приморье Эквадора. Они полагали, что эта древнейшая известная нам предтеча американской цивилизации родилась не на жарком и влажном тропическом побережье, где ее обнаружили, а прибыла в готовом виде с мореплавателями из-за океана. Подобно Хейне-Гельдерну, Экхольму и другим коллегам которые искали элементы сложной культуры аборигенной Америки за пределами арктических областей Сибири, они обратили свое внимание на цивилизованные народы по ту сторону тихоокеанского полушария, в Южной Японии и в Китае.
Нет никаких оснований отбрасывать и тем более высмеивать такие гипотезы трансокеанского контакта. Бальсовые плоты доходили в последние десятилетия до Австралии как из Эквадора, так и из Перу; на таких же судах можно было из любой области Мексики, Эквадора или Перу дойти до Юго-Восточной Азии. Обратное плавание требовало гораздо более сложного маневра, однако было вполне осуществимо, если мореплаватели следовали маршрутом к северу от Гавайских островов, открытым впоследствии капитанами европейских каравелл с прямыми парусами.
Следом за эквадорской гипотезой в 1975 г. Меггерс высказала в «American Anthropologist» предположение о внеамериканском источнике также и высокоразвитой мексиканской культуры. Большинство авторитетов, указывает она, сходятся в том, что цивилизация родилась в Месоамерике около 1200 г. до н. э. с возникновением ольмекской культуры и что эта культура явно повлияла на сменившие ее месоамериканские. Она приводит слова целого ряда ведущих специалистов по Мексике вроде: «Внезапное появление ольмекской культуры в полном расцвете», «Все основные известные нам стили в искусстве низменной Месоамерики восходят к ольмекскому стилю», «Мир ольмеков и ольмекоидов определил облик Месоамерики и тип цивилизации, отличающий эту область от всех других областей Америки». Меггерс предположила, что около 1200 г. до н. э. в Месоамерику прибыли представители культуры шан, сменившей одну из неолитических культур Китая около 1750 г. до н. э. Приводя в подтверждение этой гипотезы шесть фундаментальных культурных параллелей, она призывает своих коллег отказаться от предвзятости в оценке возможностей древнего мореплавания (Meggers, 1975).
Стремясь опровергнуть эту диффузнонистскую гипотезу, Гроув выдвинул контрпредложение. Не отрицая возможности трансокеанских контактов в предысторические времена, он высказал свою точку зрения:
«Лэйтрэп… и я тоже… предположили, что некоторые основы ольмекских верований в своем происхождении могли быть связаны с
древними верованиями обитателей южноамериканских тропических лесов, проникших на север до южной Месоамерики… возможность контактов с Южной Америкой представляется гораздо более плодотворной и продуктивной основой для исследования, чем трансокеанские контакты».
Справедливость требует, продолжает Гроув, отметить, что Меггерс — специалист по археологии Эквадора, а не Мексики и ей простительно полагаться на опубликованные данные без учета рукописей, известных только ему самому и другим исследователям, занимавшимся раскопками в Мексике. Материалы, вышедшие в свет до начала 1970-х гг., пишет он, не обязательно отражают новейшие «суждения» об ольмеках. Гроув дивится, как это Меггерс, знаток археологии Эквадора, проходит мимо разительного сходства керамики древнего Эквадора и формативного периода Мексики. «А ведь эти случаи куда более убедительно говорят в пользу действительной и существенной диффузии» (Grove, 1976[131]).
Неспециалисту позволительно спросить: как глубоко должен специалист зарыться в свою нору, прежде чем он спохватится, что потерял из виду окружающий простор? Как это Гроув, объявляя Меггерс некомпетентной в вопросах его мексиканской норы, позволяет себе заглядывать в эквадорскую нору и говорить ей, что это и есть эволюционный центр, откуда произошла его мексиканская цивилизация? Когда специализация становится настолько узкой, что археолога, работающего в тропиках Эквадора, объявляют некомпетентным в археологии тропиков Мексики, надо думать, что и обратное заключение справедливо. И получается, что специалист не лучшая кандидатура, когда нужно делать широкие обобщения. К сожалению, сейчас слишком мало таких университетов, которые способны готовить специалистов по «горизонтальному» исследованию, другими словами, научных работников, умеющих собирать воедино фрагменты, добытые «вертикальными» исследователями из их глубоких рвов.
Если неопубликованные тексты могут отменить то, что думали и утверждали специалисты по Мексике до начала 1970-х годов (а у нас нет причин отрицать такую возможность), то диффузионисты выиграли важную битву: мореходный центр вокруг Гуаякильского залива в Эквадоре занимает срединное место в распространении американских импульсов. И тем большее значение приобретает убеждение специалистов по археологии Эквадора, что цивилизация развилась не здесь, а принесена откуда-то извне.
Уже цитированный выше выразитель нового направления мыслей, по которому центром диффузии американских аборигенных цивилизаций является Эквадор, Кольер говорит, что к 3000 г. до н. э. в эквадорском приморье и в поречьях прочно обосновались древние земледельцы, плававшие на долбленках и камышовых лодках (Collier, 1976). Он упускает из виду, что здесь же располагался центр плаваний на бальсовых плотах, но главное, о чем, похоже, забывают все: от предполагаемых районов эволюции высокоразвитых американских культур в Вальдивии, Мачалилье и Чорреры до Месоамерики можно добраться только на судах. Даже очень ревностный диффузионист не отыщет пешеходной тропы на север через мангровые заросли или через самые густые в мире дождевые леса, превращающие 3000-километровое пространство между Эквадором и Мексикой в рай изоляциониста. Другими словами, диффузия из Эквадора в Мексику могла происходить только морским путем — либо по прямой, оставляя справа Панамский залив, либо каботажем, против направленного к югу течения Эль-Ниньо. В любом случае расстояние между культурами, которые теперь, как указывает Кольер, привязывают к общему источнику, составляет приблизительно 3000 км и равно расстоянию от Западной Африки до Южной Америки!
Спокойный ответ Меггерс оппонентам озаглавлен так: «Да — если по суше, нет — если по морю: двойной подход к толкованию культурных параллелей» (Meggers, 1976[215]).
Характерно, что зафиксированный в испанских источниках главный центр американского мореплавания — Эквадор и Северное Перу — ныне стали также считать областью, откуда распространилась древняя культура. Правда, кое-кто полагает, что этот южноамериканский регион был досягаем только для Писарро и его людей, которые знали, как строить каравеллы после перехода через Панамский перешеек. Стоит напомнить: именно в этих водах находился важный мировой центр камышового судостроения, и практические испытания показали, что такие несложные в постройке суда могли одолевать большие расстояния. Одновременно с моими экспериментами на папирусных «Ра I» и «Ра II», проплывшими через Атлантику от Северной Африки до Центральной Америки, минуя Канарские острова, камышовое судно Г. Савоя прошло от Центрального Перу мимо Эквадора до Панамы.
Взгляд современной науки на аборигенную американскую цивилизацию как на связное целое знаменует изрядный переворот в закоснелых представлениях. Коль скоро признано наличие общего ствола, не проще ли искать дальше общие корни, чем доискиваться происхождения отдельных ветвей? Вальдивия, Мочика, Тиауанако, Наска, Чавин, Сан-Агустин, Кокле, ольмекская, тольтекская, микстекская, ацтекская, чибчей, майяская, инкская и многие другие вымершие и исторически известные культуры предстанут тогда нашему взгляду как комплекс сучьев и ветвей одного дерева, а не как разбросанные в американских тропических дебрях грибы.
Археология Нового Света пришла в движение. Застарелые догмы и общепринятые хронологии ставятся под сомнение растущим числом полевых исследователей, которые раскапывают в тропической Америке древние поселения в поисках более предметных свидетельств, нежели догадки, основанные на теоретических школах. Совсем недавно объединенная экспедиция Британского музея и Кембриджского университета заставила по-новому взглянуть на прежние выводы о начале культуры майя и ее древности. Докладывая об уже полученных результатах, Хэммонд пишет, что работы в Белизе «отодвинули начало формативного, или доклассического, периода майя назад на 1500 с лишним лет, приблизительно от 900 г. до н. э. до 2600 г. до н. э.». И это не догадка. Вывод Хэммонда основан на документированных раскопках и совпадающих углеродных датировках из поселений на карибской стороне полуострова Юкатан. Древнейшие даты здесь приходятся на период 2450–2750 гг. до н. э. Так мы одним махом заметно приблизились к 3113 г. до н. э. — точке отсчета майяского календаря. Хэммонд указывает, что раскопки в Белизе еще не привели к истокам; обнаруженный керамический комплекс по росписи и краскам олицетворяет весьма развитую стадию: «Сосуды, несомненно, являются продуктом зрелой, а не зарождающейся технологии. Между тем перед нами древнейшая керамика с майяских низменностей и одна из древнейших во всей Месоамерике. Где развилась эта технология?»
Говоря, что будущие раскопки должны показать, откуда и когда пришли творцы этих сосудов, Хэммонд вместе с тем приводит слова своего коллеги Лэйтрэпа о «явном сходстве» 4500-летней керамики Белиза с 4500-летней керамикой, которую Лэйтрэп недавно раскопал в Реаль-Альто на юге Эквадора (Hammond, 1977[138]). Правда, американская хронология еще не устоялась; возможно, у цивилизаций ольмеков и майя совершенно разные истоки. Если останется незыблемой дата начала ольмекской цивилизации на берегах Мексиканского залива — около 1200 г. до н. э., а истоки майя отодвинутся еще дальше в прошлое и совпадут с началом эквадорской цивилизации, датируемым приблизительно 3000 г. до н. э., получится, что две критические даты в развитии культур Старого Света находят свое отражение и по другую сторону Атлантики.
Новые и новые открытия в археологии Нового Света оцениваются специалистами по той или иной географической области, и хотя они расходятся в оценках и выводах, однако дружно ищут неопознанные истоки. Тут важно помнить, что «вертикальная» специализация приучает скорее видеть местные вариации и различия соседних культур, чем основные общие черты. Производные варианты и особенности художественного вкуса носят настолько явственный местный отпечаток, что эксперт обычно без труда опознает этнографические или археологические предметы. Требуется совсем иное умение и «горизонтальный» подход, чтобы за внешней оболочкой рассмотреть и выделить основу, которая восходит к некогда общему, но теперь утраченному корню, или скажем так: чтобы находить, собирать и сопоставлять наименьшие общие знаменатели, как это теперь все чаще делают современные американисты. До сих пор им удалось главным образом выделить ряд стержневых представлений, предположительно воспринятых Месоамерикой от пришельцев, чье влияние прямо или косвенно охватило 3000-километровую полосу суши от Мексики до Перу. Существенных совпадений много, и они достаточно сложны: от общественной структуры и архитектурных сооружений до цилиндрических печатей, треногих сосудов, плоских керамических фигурок и специализированных фигурных кувшинов, от обычаев и навыков до основных религиозных представлений. Во всем этом регионе змея, кошка и пернатый змей были символами иерархии, приписывающей себе происхождение от солнца, и хронология вполне совпадает. И если эти специфические черты, объединяющие высокоразвитые американские культуры, не распространялись на культуры древних индейцев остальной доколумбовой Америки, то каждую из них мы видим у афро-азиатских цивилизаций, чьи ответвления доходили до Канарских островов. В самом деле, все выявленные до сих пор общие мексиканско-перуанские элементы входят также в перечень трансатлантических параллелей, приведенный в конце главы 3. В ряде случаев специфические параллели ограничиваются какой-то одной из областей американских культур и конкретным регионом Средиземноморья то ли потому, что они были утрачены в соседних областях, то ли потому, что не получили широкого распространения.
Особенно большая доля совпадений с цивилизациями Нового Света приходится на континенте Старого Света на бывшую область обитания хеттов в Малой Азии, где группируется ряд весьма специфических параллелей. В их числе важная хеттская стела с рельефным изображением бородатого культурного героя, замахнувшегося рукой, чтобы убедить поднявшуюся перед ним на кончике хвоста чудовищную рогатую змею. Точно такой мотив видим на стеле, оставленной древнейшими ольмеками в Лa-Венте на берегу Мексиканского залива. Не менее важны совпадения в мотивах и технике изготовления крайне специфических фигурных сосудов той же области; в каменных статуях с глазами, инкрустированными раковинами и обсидианом; в огромных курганах из сырцового кирпича; в символическом изображении солнечного иерарха с перьевым венцом на голове, посаженной на туловище, соединяющей черты птицы и змеи (пернатый змей); наконец, что особенно примечательно, в своеобразном начертании иероглифов, высеченных рельефом на хеттском стеле. Совершенно отличные от шумерской клинописи, египетских идеограмм и финикийских букв, они более всего похожи на непрочтенные письмена ольмекских, микстекских и других древнемексиканских стел. Полагают, что при всем внешнем различии названных афро-азиатских письменностей в основе их лежат родственные идеи; тем интереснее, что между ними нет такого сходства в форме, стиле, исполнении и применении, какое видим между хеттскими и древнейшими мексиканскими иероглифами. Интересно, что у хеттов, само существование которых до недавних пор не было известно археологам, были большие деревянные и камышовые корабли, о чем свидетельствует их изобразительное искусство. Более того, очаг хеттских параллелей с Месоамерикой — цветущие некогда равнины вокруг Халеба в Сирии, где с древнейших доисторических времен проходили караванные пути, — был в то же время географическим мостом и кратчайшим путем, соединявшим плодородные долины Двуречья и берега Средиземного моря. Всего лишь 300 км отделяют здесь Евфрат от Средиземного моря. Эта область всегда была очагом торговли и диффузии между встречающимися тут тремя частями Старого Света. Курсировавшие впоследствии вдоль здешних берегов финикийцы осуществляли наземные торговые связи с Египтом и Двуречьем через бывшие хеттские владения; здесь же прошли иудеи на пути из Ура в Ханаан. Богата специфическими и подчас уникальными параллелями с месоамериканскими культурами также и цепочка средиземноморских островов от Кипра, Крита и Мальты до финикийской колонии на Ивисе. В Новом Свете очагами, где группируются параллели, представляются леса районов Веракрус и Табаско на берегах Мексиканского залива, а также упомянутая выше переходная зона от тропических лесов к пустынному приморью в Эквадоре и Северном Перу.
В более широком смысле общие для доевропейских цивилизаций афро-азиатского стыка и названных островов характерные элементы являются также общими и не менее характерными для ограниченного региона Америки, простирающегося от Мексики до Перу. Другими словами, основной комплекс элементов, характеризующий конкретную афро-азиатскую область и служащий веским свидетельством фундаментального единства культур этой области, повторяется лишь в одной, не менее четко обозначенной географической области на Американском материке, отделенной или, вернее, связанной с первой водами Канарского течения.
Только будущие раскопки смогут убедительно показать, где проросли семена единой месоамериканской культуры — в Эквадоре, или на берегах Мексиканского залива, или в обоих местах. Поскольку майя выбрали 3113 г. до н. э. точкой отсчета своего календаря, возможно, верны новые предположения археологов, что древнейший росток месоамериканской культуры родился в Эквадоре около 3000 г. до н. э. За те тысячелетия, о которых идет речь, Канарское течение и сопутствующие ему пассаты ни разу не прекращали своего движения, и возможно, что не одна группа переселенцев воздействовала на жизнь исконных жителей Америки. Сами майя, как об этом сказано в главе 4, связывали свое происхождение с двумя волнами иммигрантов. Большим пришествием во главе с их первым легендарным цивилизатором — Ицамной и последующим Малым пришествием во главе со знаменитым солнечным иерархом Кукульканом (он же Пернатый Змей).
Если бальсовые леса эквадорского приморья играли видную роль в месоамериканской культурной диффузии, становится понятнее, почему эти берега занимали столь важное место в преданиях и верованиях дороживших своей историей горных инков. Сразу после прибытия Писарро сюда, на северную окраину инкской империи, сменявшие друг друга гонцы понесли из порта Тумбес в андскую цитадель инков весть, от которой могущественная империя покорилась без боя: белые бородатые люди, некогда принесшие цивилизацию в эту страну, теперь возвратились в Перу. Жители обширных областей Перу и нынешней Боливии твердо верили, что белые бородатые мужи из Тиауанако, чья кровь текла в жилах правящего Инки, ушли из эквадорского порта Манта в Тихий океан во главе со своим солнечным иерархом Кон-Тики-Виракочей. Позднее, всего за три поколения до прибытия Писарро, инкский военачальник Тупак отплыл на запад из того же района, потому что в то самое время, когда он пришел туда со своим войском, возвратившиеся на парусных плотах купцы поведали ему про обитаемые острова в океане.
Плавания легендарного цивилизатора инков Кон-Тики-Виракочи, известного в Тиауанако под именем Тики, или Тикки, а также протоисторического Инки Тупака, известного в Перу также под именем Тупы, оставили след и в других местах: оба этих персонажа занимают видное место в преданиях полинезийцев. Тики, он же Тиси и Ти’и, — общеполинезийский герой и бог, широко известный на востоке Тихоокеанской области. На ближайших к Эквадору Маркизских островах в Тики видели полубога, который привел на эти острова первопоселенцев; в других местах о его мифическом родиче Маури-Тики-Тики рассказывали, что он выловил из океана острова в тщетной попытке вытащить их на берег в Хило, расположенном на мифической родине островитян. Заметим, что Ило — инкское название одной из лучших аборигенных гаваней на Тихоокеанском побережье ниже озера Титикака и Тиауанако (Fornander, 1878[114]).
Тупа в отличие от Тики фигурирует лишь как ведущий персонаж мангаревского предания; на Мангареве его помнили как могущественного короля, посетившего остров с целым флотом парусных плотов, которые шли с востока. Он рассказал мангаревцам о своем великом королевстве на востоке, куда и возвратился после визита. Тики обосновался в Полинезии, но Тупа уплыл обратно — это в точности совпадает с инкскими преданиями.
Данные для плавания к островам, расположенным в двух месяцах хода на запад на плотах от Ики и Арики в Южном Перу, были также сообщены конкистадорам; вместе с общеперуанскими преданиями о плаваниях Тики и Тупака они подстегнули европейцев продолжать исследования в западном направлении. Сообщения инков произвели на современников Писарро, наблюдавших мореходные качества местных плотов и высокие морские навыки жителей приморья, такое сильное впечатление, что они, вооружившись полученными данными, вышли в Тихий океан, чтобы отыскать указанные острова. Так состоялось открытие европейцами Меланезии и Полинезии. Утвердившись на западном побережье Америки, европейцы тотчас вышли в океан на каравеллах с прямыми парусами и постепенно открыли все острова тихоокеанского полушария, которые три столетия были недоступными для других европейцев, обосновавшихся в азиатском приморье, и оставались такими же недоступными еще 200 лет, пока новые парусники не пришли на смену средневековым судам с прямым парусным вооружением. Уже в историческую эпоху человек на протяжении 500 лет мог попасть из Азии в Океанию только кружным путем, идя сначала на север, потом на восток с западными ветрами между Гавайскими и Алеутскими островами и направляясь затем со стороны Америки к Полинезии и прочим островам. Те же транстихоокеанские круговороты определяли движение копий доисторических плотов и джонок, испытанных в наше время. Наиболее совершенные суда приморья Южной Америки и Юго-Восточной Азии в доевропейские времена могли проникнуть в сердце Тихого океана только теми путями, какие затем были освоены испанцами.
Когда европейцы совершили кругосветные плавания, они убедились, что расстояние до Азии в 5 раз превосходит цифру, вычисленную Колумбом, который учел только ширину Атлантики (зато учел предельно точно); одновременно выяснилось, что древнегреческие астрономы поразительно верно определили окружность земного шара, исходя из проведенных в Египте наблюдений. И куда бы ни приходили европейцы, оказывалось, что всюду — на Канарских островах, на островах Карибского моря, в Америке, на каждом пригодном для обитания острове Тихого океана — их опередили другие. Нигде в незнакомых прежде областях они не видели дощатых судов, тем не менее повсеместно оказывались люди, встречавшие новых гостей, которые захватывали и грабили их и которых приветствовали в Европе как подлинных открывателей.
Новые заморские источники богатства возымели такое действие на историю земного шара и произвели столь сильное впечатление на тогдашние и последующие поколения европейцев, что мы так и не выбрали время, чтобы спокойно поразмыслить и взглянуть на покоренные нами народы как на равных себе; в нашем представлении эти люди и их имущество, от памятников до золотых сокровищ, оставались нашим достоянием, и о каких-либо соперниках не могло даже быть речи. Вплоть до последнего времени мы смотрели на Новый Свет как собственники, находясь во власти чуть ли не религиозной догмы, по которой до Колумба никто не имел прав на эти земли, и не допускали мысли о том, что кто-то раньше него доходил до Америки, разве что норманны, так ведь и они тоже европейцы! И никто не мог отплыть от западных берегов Америки, пока мы не пришли и не указали путь в Тихий океан.
Большинство ученых и поныне находится во власти этого подхода. Изоляционисты готовы признать крайний диффузионизм, покуда это не касается Америки. Те самые исследователи, которые отказываются верить, что американские аборигены могли пройти по ветру 600 миль от Эквадора до Галапагосских островов, допускают 8000-мильное плавание малайских аборигенов против течений и ветров до крохотного острова Пасхи, только бы они остановились тут и не дошли до Америки. Стремление изолировать Америку зашло настолько далеко, что Полинезию относят к Старому Свету, хотя европейцы открыли ее после Америки и все этнологи считают ее последней обширной областью земного шара, заселенной человеком. Если исходить из категорий Нового Света, Полинезию следовало бы называть Новейшим Светом.
Люди, почитающие Галапагосы недоступными для американских плотов, а остров Пасхи досягаемым для азиатских каноэ, пренебрегают уроками истории. Через каких-нибудь два года после завоевания испанцами Перу епископ Берланга, прибыв из Европы, натолкнулся на острова Галапагос, потому что незримые течения подхватили его и увлекли в океан, когда он шел каботажем вдоль эквадорского побережья. На таком же удалении от Азиатского материка, Японии и Малайского архипелага лежат Марианские острова с островом Гуам. Однако эта группа оставалась неизвестной как ближайшим восточным цивилизациям, так и европейским колониям на Филиппинах, покуда Магеллан, идя со стороны Южной Америки, не привел к Гуаму свои три корабля еще до того, как Писарро дошел до Перу. Перед тем Магеллан сам провел пять лет на Малайском архипелаге, но ему пришлось отправиться в Южную Америку, чтобы открыть Гуам.
Кто не смотрел самолично на тихоокеанское полушарие с борта малого судна, не испытал на себе, как весь мир сводится к нескончаемым горизонтам океана без троп и дорожек, где острова с атоллами вроде бы и вовсе не существуют, покуда случай не подставит какой-нибудь из них прямо по курсу, тому ничего не стоит впасть в заблуждение, шутя перескакивая с острова на остров по цепочке названий, которые жмутся друг к другу на маленькой безжизненной карте, такой далекой от действительного, огромного, вращающегося тихоокеанского полушария, равного всем остальным океанам и материкам, вместе взятым. На бумажном океане большинство тихоокеанских островов группируются возле Азии, тогда как на американской стороне, когда скачки с острова на остров поневоле прекращаются при достижении острова Пасхи, — пустота. На самом же деле живой океан пересечен широким морским «конвейером», который охватывает все эти острова, как бы отодвигая их от Азии и — о чем отчетливо свидетельствует история — приближая чуть ли не вплотную к Мексике и Южной Америке.
На карте от Эквадора до Галапагосов куда как далеко, в действительности же так близко, что на них тотчас наталкивались каравеллы, отнюдь не занятые поисками новых земель, а намеревающиеся идти вдоль эквадорского побережья. Бесплодные, безводные Галапагосы не были заселены испанцами, которые, подобно аборигенам южноамериканского приморья, предпочитали более плодородные прибрежные и внутренние области Эквадора и Перу. Однако первая же археологическая разведка поросших кактусами островов показала, что они отнюдь не оставались без применения в доиспанские времена. Судя по всему, моряки из Эквадора и Перу приходили сюда ловить рыбу, охотиться на черепах и игуан, возможно, и выращивать хлопчатник. О достаточно частых независимых визитах можно судить по многочисленным черепкам поддающейся определению керамики, происходящей из обширной области, которая простирается по меньшей мере от района Гуаякиля в Эквадоре до Касмы в перуанском приморье, расположенной в 800 км южнее. О хронологии визитов говорит тот факт, что разные типы керамики привязываются к разным периодам на континенте; наиболее древние — к культуре приморская Тиауанако. Найденное при раскопках меловое пряслице может служить ответом на вопрос, почему обнаруженный ботаниками на Галапагосах хлопчатник принадлежал к 26-хромосомной разновидности, искусственно выведенной представителями древних американских цивилизаций.
Остров Кокос представляется не менее доступным и удобным для древних мореплавателей, ходивших между Эквадором и Месоамерикой до появления Писарро. При этом мы, европейцы, были настолько уверены, что нас никто не мог тут опередить, что этнологи и ботаники дружно предположили, будто кокосовый орех на остров принесло волнами либо из тропической зоны Америки, либо из Полинезии, смотря по тому, какую из этих областей они признавали исконной родиной полезной пальмы, неизвестной в диком виде. Вплоть до нашего визита в 1956 г. никому не приходило в голову самим удостовериться, как обстоит дело теперь; между тем в наши дни на острове почти не осталось кокосовых пальм. Тропический лес вновь занял всю площадь, и немногие пальмы, уцелевшие на внутреннем плато, могли быть посажены только человеком, который поднялся по крутым скалам и расчистил в дебрях участки для возделывания. Огромный труд по превращению гористого, покрытого влажными лесами острова в кокосовую плантацию явно превосходил собственные потребности тех, кто этим занимался; несомненно, орехи предназначались для снабжения свежим питьем и провиантом аборигенных судов, ходивших в Панаму.
Второй по близости к Южной Америке океанический остров — Пасха, знаменитый со времен его открытия своими исполинскими антропоморфными изваяниями. Когда сюда впервые пришли европейцы, изваяния стояли на постаментах из больших тесаных блоков, обработанных и пригнанных с поразительным совершенством, подобное которому видим только в доинкской Южной Америке в связи с такими же огромными каменными статуями. До прибытия нашей экспедиции в 1955 г. никто не проводил на Пасхе стратиграфических раскопок. Хотя наземные памятники Пасхи не имеют параллелей нигде в Тихом океане, полагали, что этот ближайший к Перу остров был последним освоен выходцами из Азии, а потому его почва не может хранить каких-либо древних изделий человеческих рук. На самом же деле раскопки отодвинули дату древнейшего известного заселения на тысячу лет назад от предполагавшейся до тех пор. Вместе с полученными позднее другими исследователями датировками для Маркизских островов данные о заселении этих двух ближайших к Южной Америке полинезийских районов намного превосходят древностью все, что найдено пока на островах Общества и в других прилегающих областях Центральной Полинезии.
Если остров Пасхи географически расположен ближе к Южной Америке, это еще не значит, что он непременно был первым тихоокеанским островом, на который вышли мореплаватели из Нового Света. Испанцы, выходя на поиски островов из Перу, открыли в 1568 г. Меланезию, затем Маркизы в 1595 г., и только в 1722 г. голландская экспедиция, также идя со стороны Южной Америки, натолкнулась на Пасху. Европейские открыватели плавали на одном, двух, трех кораблях, тогда как перуанцы шли на множестве плотов веерным строем, так что у них было больше шансов заметить малые острова. Тем не менее аборигенные мореплаватели из Перу, подобно европейцам после них и некоторым испытателям бальсовых плотов в XX в., скорее всего миновали крохотные, разбросанные далеко друг от друга острова Полинезии и сначала вышли на большие полуконтинентальные архипелаги Меланезии, уже освоенные негроидными племенами из Азии. И все же выбор маленького, ничем не примечательного острова Пасхи на роль культурного очага былой цивилизации, о чем свидетельствует наличие здесь письменности, мог быть продиктован географическими соображениями. От сотен более крупных и плодородных островов его отличала наибольшая близость к Перу, и уже это предопределило выбор, если вообще верно искать в Перу корни древнейшего населения и культуры Пасхи. Так что вполне логично было назвать географическое звено, соединяющее с мириадами островов, полинезийским именем Те-Пито-о-те-Хенуа — Пуп Вселенной.
По всей Полинезии наблюдается сложный этнический состав населения и смесь аборигенных культур. Физический облик и характер культуры исторически известных обитателей островов на востоке Тихого океана сближают их с аборигенной Америкой, язык — с Малайским архипелагом. Признавая, что в основе этнического состава полинезийцев лежит некий протоиндонезийский или древнеазиатский (из Юго-Восточной Азии) элемент, мы все же не вправе, пренебрегая всеми другими фактами и преградами, проводить их по бумажному океану на восток протянувшимся на много тысяч километров якобы кратчайшим путем. Как показывают история и недавние эксперименты с джонками, предысторические мореплаватели из Юго-Восточной Азии должны были идти на север и через океан до Северо-Западной Америки, а уже оттуда дрейфовать или плыть под парусом в сторону Гавайских островов и остальной Полинезии вплоть до Новой Зеландии. По всей Полинезии, кроме Гавайских островов, исторические предания недвусмысленно указывают, что центром распространения, откуда предки разошлись по многочисленным разбросанным островам, был архипелаг, называемый Гаваи’и или Гаваики. Новозеландские маори перечисляли ряд легендарных королей и их жен, которые, по преданию, правили в Гаваики, прежде чем состоялось переселение на Новую Зеландию. Имена в этом перечне совпадают с именами местных королей и королев в гавайских генеалогиях.
За исключением корневого родства, составляющего примерно один процент всего словарного состава, не найдено следов связи полинезийцев с какой-либо областью на западе Тихого океана
[23].
Контраст физического типа полинезийцев и индонезийцев стал еще более очевиден с развитием кровногенетического сравнительного метода, который ставит полинезийцев в один ряд с аборигенными народами Америки. За 100 с лишним лет усиленных поисков на западе Тихого океана не удалось найти ни одного очага, где могла бы концентрироваться полинезийская культура до ее распространения на соседствующую с Америкой обширную островную область. Давно высказано предположение, что в Полинезию приходила не одна волна иммигрантов, — и не только потому, что об этом говорится в преданиях всех здешних племен, но и потому, что в разных концах Полинезии в разной степени наблюдается смешение физических и культурных компонентов.
Разобраться в многообразных и вместе с тем явно родственных культурах Полинезийского треугольника было бы вовсе невозможно, если бы не тот факт, что во всей этой области исповедующие культ предков и дорожащие своей историей люди не держались с религиозным фанатизмом за старые культурные традиции, не особенно стремясь менять унаследованные обычаи и навыки. Всего сложнее выглядит смешение культур на западе и в центре Полинезии, где острова группируются особенно плотно и где межостровная торговля и контакт с сопредельной Меланезией продолжались до исторической поры. Остров Пасхи и Новая Зеландия вместе с островами Чатем не участвовали в этих постоянных связях, поскольку контакт с остальной Полинезией прервался вскоре после того, как переселенцы в начале нашего тысячелетия прибыли на названные острова. По этой причине на Пасхе, в Новой Зеландии и на островах Чатем относительно легче разобраться в расовом и культурном комплексе.
Согласно преданиям и генеалогиям острова Пасхи, предки преобладающего ныне этнического компонента пришли с запада во времена Туу-ко-ихо. Получается, что они вышли откуда-то из Полинезии примерно 22 поколения назад, то есть в самый разгар общеполинезийских миграций. Те же предания подчеркивают, что на острове тогда жил уже другой народ — люди, которые растягивали себе мочки ушей и воздвигали каменные изваяния. Эти первопоселенцы пришли с востока во главе с королем Хоту Матуа. Очевидно, первая волна явилась со стороны Южной Америки. Современный анализ пасхальской культуры показывает, что в ней нет ни одного типично полинезийского элемента, исключая орудия для обработки дерева. Все прочие черты материальной культуры, верований и обычаев, чуждые в основном остальной Океании, прослеживаются в Южной Америке доинкского периода.
Обращаясь к Новой Зеландии, видим, что, по преданиям, и здесь предки маори, приплыв из Гаваики, застали другой, чужой народ. Часть этих людей бежали на острова Чатем, видимо, на бунтовых лодках типа
мокихи, которые прежде использовались в Новой Зеландии и были единственным видом судов у племени мориори, когда острова Чатем были открыты европейцами. Внешний облик мориори особенно удивил европейцев: орлиными носами и рыжеватыми волосами островитяне напоминали средиземноморский тип.
Маори тоже отличались от полинезийской нормы. Они не знали аутриггера, у них не было кур и свиней, хотя все это уже присутствовало в культуре большинства других островов благодаря контактам с Фиджи. Среди полинезийских племен по физическому типу и культурным характеристикам маори были ближе всех к островным племенам Северо-Западной Америки. Со времен первых европейских мореплавателей до новейших исследований новозеландской культуры весь комплекс подчас весьма специфических маорийских элементов обнаружен также на островах американского приморья за Гавайским архипелагом. О самих гавайцах известно, что свои большие каноэ они строили из сосновых бревен, приносимых течением от побережья Северо-Западной Америки.
С учетом всех известных фактов и доступных ныне свидетельств наиболее логичным выглядит такое решение полинезийской проблемы: корни исторически известного населения Полинезии находятся где-то в Юго-Восточной Азии, однако эти люди прибыли по морю не прямым путем. Они не проходили через чужую 6500-километровую микронезийско-меланезийскую буферную область, отделяющую юго-восток Азии от восточной части Тихого океана, а следовали естественным северным путем и достигли Полинезии, как часть выходцев из Восточной Азии, которые со времен неолита населяют островной район у побережья Северо-Западной Америки. Когда маори-полинезийские предки, выйдя из Азии более двух тысяч лет назад, в начале нашего тысячелетия прибыли на острова восточной части Тихого океана, все еще оставаясь неолитическим народом, не знакомым ни с ткацким станком, ни с керамикой, они застали здесь опередивших их первопоселенцев. Все доступные нам данные говорят о том, что первооткрыватели Полинезии и прилегающей к ней части Меланезии представляли собой выходцев из Южной Америки доинкского периода. В ходе интенсивного межостровного общения в первых веках нынешнего тысячелетия новоприбывшие частично изгнали, частично ассимилировали первопоселенцев. О передовом по культуре субстрате мы узнаем не только из устных преданий нынешнего населения, но и по материальным памятникам: развалинам неполинезийских каменных домов и башен
тупа; остаткам мегалитической кладки перуанского типа и заброшенным каменным статуям на ближайших к Южной Америке островах; наличию на удаленных друг от друга полинезийских островах искусственно выведенного американскими аборигенами хлопчатника; по изредка находимым черепкам неполинезийской керамики; по присутствию собаки, представляющей породу, которой не было на островах западной части Тихого океана, но которая известна в аборигенной Америке; по сохранившемуся до прибытия европейцев обычаю возделывать батат (он же
кумара), а также по другим полезным растениям американского происхождения (бутылочная тыква, ананас, перувианская вишня, кокосовая пальма, Argemone, Polygonum, Pepsicum,
тотора, папайя и др.), которые могли попасть в Полинезию только с помощью человека. Унаследованные от этого культурного субстрата черты в разной степени представлены по всему Полинезийскому треугольнику и обнаруживаются не только археологами и ботаниками. На большинстве островов Полинезии было заведено приготовлять ритуальный напиток
кава из разжеванных корней на южноамериканский лад. Во всех углах треугольника делали или помнили камышовые лодки. Почти на всех островах королевские генеалогии восходили к легендарным культурным героям или божествам, почитались династии полубогов. Кое-где в Полинезии у правящих родов были приняты браки братьев и сестер, правители носили плащи и головные уборы из перьев, практиковались мумификация, обрезание, трепанация черепа, существовал развитой календарь, по которому новый год начинался с первого появления Плеяд, наблюдались такие специфические черты, как вырезывание бустрофедоном идеограмм на дощечках для ритуальной декламации или сложное мнемоническое узелковое письмо. Из других элементов назовем ручные рубила для каменотесных работ, некоторые из богатого набора полинезийских тесел и рыболовных крючков, обложенную каменными плитами многоугольную пасхальскую печь, шлифованные каменные чаши и швейные иглы с ушком, пончо островов Общества, гавайские плетеные облачения для мумий и каменные зеркала, маркизские ходули и головные уборы
павахина, питкэрнские копейные наконечники. Все это лишь некоторые, наиболее очевидные примеры, указывающие на древнее Перу.
Великие панперуанские цивилизации Южной Америки развивались в безлесном мире камня и песка, примыкающем к открытому прямому побережью, которое располагало к мореплаванию на пропускающих воду насквозь прочных плотах с малой осадкой. В отличие от них рыболовецкие культуры изобилующего заливами и островами приморья Северо-Западной Америки сложились в самой богатой лесами области тихоокеанского региона, причем огромные бревна легко раскалывались на доски.
Вот почему только естественно, что изучающие полинезийские суда всюду находили следы употребления плотов и заключили, что во всяком случае часть древних миграций в Тихом океане осуществлялась на судах этого типа. Однако поздняя волна, прибывшая на Гавайские острова из лесных областей на северо-востоке Тихого океана, пришла не на плотах, а на связанных по два для большей прочности вместительных долбленых каноэ, украшенных резьбой и инкрустацией из раковин «морского ушка». Эти люди не владели каменотесным искусством, зато были превосходными резчиками по дереву, строили (где была такая необходимость) из досок дома с остроконечной крышей, устанавливали тотемные столбы, вырезали деревянные чаши и изображения, керамикой не пользовались, а пекли свою пищу в круглых земляных печах, одежду делали не из волокна хлопчатника, а из луба, отбиваемого рифлеными колотушками. Традиционным оружием этих людей были не типичные для Перу праща и длинные деревянные дубинки, доставленные на острова их предшественниками, а характерные для северо-запада Америки стилизованные одноручные палицы
пату и
мере из китовой кости и камня. Они привезли с собой также столь важные в домашнем хозяйстве племен американского Северо-Запада, изумительно вытесанные и отшлифованные, колоколовидные и Т-образные каменные песты, которые, как показывают раскопки на Гавайских островах, в слегка измененном виде разошлись почти по всем островам Полинезии, заняв и здесь ведущее место в кухонной утвари.
Комплекс полинезийских изделий, если исключить недолговечные материалы, весьма скуден; кроме некоторых видов тесел с наточенным краем, палиц и пестов, пришельцы из северо-западного приморья Америки мало чем могли пополнить набор долговечных орудий и принадлежностей, уже применявшихся первопоселенцами из Южной Америки. Некоторые виды рыболовных крючков, основные типы тесел, скребки, напильники, каменные пилы, песты и другие долговечные изделия новоприбывших наслоились или смешались с такими же изделиями предшественников из южных регионов того же континента, так что сверх названного выше археологу трудно проследить какой-либо резкий переход. Скажем, если рыболовные крючки вообще не были известны в Малайском архипелаге и Юго-Восточной Азии, то находимые при раскопках чрезвычайно специализированные типы костяного крючка на каменном черенке американского Северо-Запада почти тождественны крючкам Чили и Южного Перу.
Смешение наслоившихся культур в Полинезии зашло так далеко, что общеполинезийские верховные боги-герои Тики и Кане на разных островах оспаривают друг у друга первенство в генеалогиях. Скажем, для гавайцев солнечное божество и верховный полубог Кане то же, что для маркизцев Тики. Чтобы провести между ними четкую линию раздела, надо возвратиться в континентальные области Нового Света. В Южной Америке поклонялись Тики как общеперуанскому богу-герою и просветителю, который называл себя потомком Солнца, воздвигал огромные статуи в Тиауанако и научил инков растягивать мочки ушей, прежде чем спустился в Манту, на побережье Эквадора, и отплыл в Тихий океан вместе со своими белыми бородатыми сподвижниками. Предания Северо-Западной Америки говорят о Кан-э как о солнечном боге-герое, который пришел по суше к местным жителям, творил разные чудеса и прожил некоторое время в этой области, пока не женился на женщине с моря и не отплыл в Тихий океан, оставив на континенте своего брата.
Эти два бога-героя были для всех полинезийцев такими же реальными персонажами, как и для народов инкской империи и для племен острова Ванкувер у северо-западного побережья. Если их имена, качества и маршруты отнести к разряду мифов, сочиненных на Американском материке, все же кто-то принес эта мифы на разбросанные острова восточной части Тихого океана, происходил какой-то перенос. Но в таком случае стоит ли пренебрегать сутью преданий, утверждающих, что два знаменитых американских иерарха лично отправились в Тихий океан! Во всей Америке только у исповедовавших культ предков жителей Перу и у квакиютлей, концентрирующихся вокруг острова Ванкувер на северо-западе Америки, известны предания об отбытии в Тихий океан, и как раз эти две области мы с полным основанием можем с географической, физико-антропологической и культурной точек зрения считать источниками смешанного населения восточной части Тихого океана.
Мы осуждаем священников, которые сжигали ацтекские рукописи, потому что тогдашняя Европа смотрела свысока на американских нехристей и жаждала искоренить их языческие верования. Однако сами мы так низко ценим эти верования, даже самые важные, записанные испанскими пришельцами, что отмахиваемся от них как от вымысла примитивных народов. Отказываем им в какой-либо исторической достоверности лишь потому, что не можем поверить, как это некие иерархи могли прибыть в определенные точки Нового Света или покинуть их до того, как явились европейцы и пустили в ход машину по ту сторону Атлантики.
Океаны по обе стороны Америки кишели плотами, каноэ и большими камышовыми ладьями задолго до того, как европейцы были цивилизованы пришельцами с Ближнего Востока, которые научили европейцев, как писать, кому молиться, и внедрили многочисленные
достижения цивилизации на суше и на море. В эпоху открытий европейцы привезли в Америку только то, что они сами восприняли путем диффузии от Ближнего Востока во времена, когда величайшие афро-азиатские цивилизации давным-давно отцвели, пришли в упадок и исчезли. Если считать путевое время, Северная Европа находилась дальше от творцов афроазиатской цивилизации, чем народы на финише Канарского течения. Ольмеки знали письменность до того, как письмо из Малой Азии дошло до Испании, однако же испанцы с презрением предавали огню мексиканские иероглифы, чтобы внедрить семитские священные книги, написанные финикийскими буквами.
Возможно, культура эквадорского приморья старше культуры побережий Мексиканского залива. Возможно, одна из них стимулировала другую; возможно, у них разное происхождение. Может быть, флот будущих поселенцев пришел в Месоамерику по Канарскому течению. Может быть, они даже совершили более длинное плавание, выйдя из Азии и обогнув Африку, подгоняемые сперва зимним муссоном, затем юго-восточным пассатом Южной Атлантики. Возможно, древние мореплаватели проделали оба атлантических маршрута до тропической зоны Америки. В любом случае требовались не столетия, а всего лишь месяцы, чтобы целые семьи на пропускающих воду насквозь камышовых судах дошли со своими рыболовными снастями из родных краев до тропических областей Нового Света. Если они и впрямь совершили такое плавание, то застали здесь лесные племена, потомков тех, кто за тысячи лет до того проделали долгий путь в арктических областях от Сибири до Аляски. Только будущие раскопки могут дать полный ответ на остающиеся нерешенными важные вопросы относительно сложного и несомненно множественного происхождения аборигенных племен и культур в мире, открытом для нас Колумбом.
До тех пор самый верный способ ошибиться в наших догадках — игнорировать морской круговорот, превосходящий надежностью механизма любые реки на суше. Уж как далек от осторожности крайний диффузионист, предполагающий движение против океанского круговорота, но еще дальше тот, кто догматически утверждает, что человек отправился в путь лишь после того, как мы из Европы выступили в роли лидера.
Комментарии
• Болотные арабы — территориально обособленная этнографическая группа арабов Ирака. Болотные арабы, или «мааданы», обитают в поселениях, раскинувшихся к югу от Амары в камышовых плавнях на пространстве более чем 15 тысяч кв. км среди болот, лагун и озер в нижнем течении Тигра и Евфрата. Земледельцы, животноводы, рыболовы, искусные плетельщики изделий из камыша.
• Следует иметь в виду, что Тур Хейердал понимает под антропологическими науками, как это и принято на Западе, обширный комплекс наук, куда входят: культурная, или социальная, антропология (по своему предмету лишь отчасти совпадающая с нашей этнографией), археология, лингвистика и так называемая физическая антропология, тогда как в Советском Союзе к числу антропологических наук относят только научные дисциплины, изучающие «вариации физического типа человека во времени и пространстве» (Я. Я. Рогинекий, М. Г. Левин. Основы антропологии. М., 1955, с. 6). Подробнее о соотношении содержания культурной и социальной антропологии, с одной стороны, и этнографии — с другой, в трактовке англо-американских и советских ученых см.: Ю. В. Бромлей. О предмете культурно-социальной антропологии и этнографии в трактовке англо-американских и советских ученых (опыт сравнительного анализа). — Сб. «Этнография за рубежом». М., 1979, с. 7–22.
•
Здесь и далее. В советской научной литературе под диффузионизмом обычно понимают научное направление, сторонники которого — диффузионисты — признают диффузию, т. е. пространственное перемещение культурных явлений через контакты между народами (торговлю, завоевания, миграции и пр.), главным содержанием культурно-исторического процесса. Диффузионисты считают, что каждое явление культуры, будь то топор определенной формы или миф о сотворении луны и звезд, возникает только однажды у какого-нибудь одного народа и отсюда распространяется по всему миру. В культуре каждого народа диффузионисты видят сложное сочетание самых разнородных элементов и прежде всего стремятся выяснить место происхождения («исхода») каждого элемента и время его внедрения в изучаемую культуру. Приверженцы диффузионизма — и в этом их, пожалуй, главная заслуга перед мировой наукой — сумели на тысячах примеров показать, как велика роль заимствований народами друг у друга всевозможных культурных достижений и что нет ни одной культуры, абсолютно изолированной от всех других. Беда диффузионистов в другом — в том, что они рассматривали и рассматривают культуры как некие независимые от их творцов и носителей имманентные образования. В трудах диффузионистов элементы культуры как бы сами порой «бродят по свету», перемещаясь от одной культуры к другой и сочетаясь друг с другом в самых различных комбинациях, будто в калейдоскопе. Не надо забывать и того, что диффузионизм возник как реакция на эволюционную теорию в этнографии в конце XIX в., как несостоятельная попытка заменить понятия эволюции культуры, культурно-исторического прогресса понятием культурной диффузии.
Тур Хейердал употребляет понятие «диффузионисты» в несколько ином смысле, понимая под таковыми всех исследователей, которые придают первостепенное, нередко, с его точки зрения, неоправданно преувеличенное значение диффузии культурных явлений при объяснении особенностей культурной истории коренных народов Нового Света, а также и Океании. В соответствии с этим Хейердал относит к числу «изоляционистов» тех ученых, которые в противоположность диффузионистам склонны преуменьшать или даже вообще отрицать роль контактов и заимствований в процессе формирования и развития древнеамериканских культур и культур Океании, объясняя совпадения и параллели в культурах народов Старого и Нового Света их независимым каждый раз возникновением. Иначе говоря, изоляционизм — это такая система представлений, согласно которой каждый народ самостоятельно создаст уникальную и неповторимую культуру, являющую собой замкнутый и недоступный для других мир. Всякое указание на возможное заимствование одним народом у другого рассматривается изоляционистами как посягательство на национальное (или даже расовое) достоинство первого. Среди американских историков древней Америки изоляционизм особенно популярен.
Подробнее о диффузионизме как направлении буржуазной этнографической науки см.: С. А. Токарев. История зарубежной этнографии. М., 1978, с. 134–169, и др.
• Головной указатель — антропологический термин, введенный шведским анатомом А. Тетциусом в 40-х годах XIX в. и выражающий отношение в процентах наибольшей ширины черепа (или головы) —
в к его (ее) наибольшей длине —
а. Вычисляется по формуле: 100
в : а. Нормальный головной указатель варьируется в пределах от 70,0 до 90,0. При этом малый головной указатель свидетельствует об удлиненной форме мозговой коробки, или доликокефалии (длинноголовости), средний — о мезокефалии (среднеголовости), большой — об округлой форме головы, или брахикефалии (короткоголовости). Значительны половые и возрастные колебания головного указателя, а также его изменения по эпохам у различных территориальных групп человечества.
• Тур Хейердал совершенно прав: ни Мальта, ни Бахрейн, ни, добавим, Пасха не могли стать центрами возникновения древнейших цивилизаций прежде всего потому, что там не было условий для «развитого хозяйства, основанного на сборе урожая с обширных площадей плодородной почвы». Без всякого преувеличения можно сказать, что величественное здание современной цивилизации целиком зиждется на сельскохозяйственном, в первую очередь земледельческом, производстве. Выдвинутые более ста лет назад классиками марксизма соображения о качественном различии доземледельческого (присваивающего) и земледельческого (производящего) типов хозяйства (см. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 12, с. 733; т. 21, с. 33) разделяются всеми советскими археологами, этнографами и историками доклассового и раннеклассового общества. Аналогичных взглядов придерживаются в настоящее время и многие прогрессивные зарубежные исследователи, в том числе Тур Хейердал. Это вполне объяснимо: в ходе археологических раскопок последних десятилетий в распоряжении историков первобытности оказывается все больше и больше данных, убедительно свидетельствующих об огромных различиях в области экономики, социального строя и духовного мира между первобытными земледельцами и их предшественниками и современниками, еще не освоившими земледельческого хозяйства. Естественно, что археологи и историки первобытности и древнего мира должны учитывать как при анализе конкретно-исторического материала, так и в своих общетеоретических построениях этот, несомненно, революционный характер воздействия земледелия на человеческое общество, культуру и даже на самого человека.
(Подробнее об этом см.: Ранние земледельцы. М., 1979.)
• Факторы крови. В последние годы в антропологии большое значение приобрели исследования наследственных признаков крови — факторов крови, как их принято называть. Дело в том, что у большинства народов мира обнаружено наследственное разнообразие (генетический полиморфизм) факторов крови и установлены этнографические вариации частоты определяющих эти факторы генов. Каждый из выявленных факторов обозначается буквами латинского или греческого алфавита либо их сочетанием. Наиболее изучены к настоящему времени наследственные вариации эритоцитарных групп крови различных систем, аномальные гемоглобины, белки сыворотки, некоторые ферменты крови. Комплексный анализ перечисленных факторов крови позволяет выделить в составе человечества несколько крупных групп популяций и дает дополнительный материал для определения степени генетического, а значит, и исторического родства между населением различных частей эйкумены.
31
1
Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. М., 1974.
2
Кнорозов Ю. В. «Известия», 12. VIII. 1964.
3
Кук Джемс. Плавание к Южному полюсу и вокруг света в 1772–1775 гг. М., 1964.
4 — Плавание в Тихом океане в 1776–1780 гг. М., 1971.
5
Гржимек Бернгард. Серенгети не должен умереть;
Лот Анри. В поисках фресок Тассили. М., 1976.
6
Те Ранги Хироа (Питер Бак). Мореплаватели солнечного восхода. М., 1959.
7
Хейердал Тур. Аку-аку. М., 1971.
8 — Фату-Хива. М., 1978.
9 Acosta, J. de (1590);
Historia natural y moral de las Indias. — Seville.
10 Agüera y Infanzon, F. A. de (1770): Journal of the principal occurrences during the Voyage of the Frigate ‘Santa Rosalia’ in the year 1770.—
Hakluyt Soc., 2nd scr. no. 13. Cambridge, 1908.
11 Aichel, O. (1925): Osterinselpalaeolithen in prähistorischen Gräbern Chiles. —
Gongr. Int. Americanistes, Vol. XXI, No. 2. Gothenburg.
12 Amherst, Lord. and Thomson, B. (1901):
The Discovery of the Solomon Islands by Alvaro de Mendaña in 1568.— 2 vols. London.
13 Amiet, P. (1961):
La Glyptique Mesopotamienne Archaique. — Paris.
14 Andagoya, P. de (1541—46):
Narrative of the Proceedings of Pedrarias Davila… 1541 —46. — Hakluyt Soc., Vol. XXXIV. London, 1865.
15 Bachmann, K. W. (1931):
Die Besiedlung des alten Neuseeland. — Leipzig.
16 Baker, J. G. (1893): A Synopsis of the genera and species of Museae. —
Ann. of Bot., Vol. VII. London.
17 Balboa, M. C. de (1576 — 86):
Miscelanea antarica. — Manuscript in New York Public Library.
18 — (1586):
Histoire du Pérou. — In: Ternaux-Compans: Voyages, Relations et Mémoires originaux pour servir à l’histoire de la découverte de l’Amerique. Paris, 1840.
19 Balfour. H. (1917): Some Ethnological Suggestions in Regard to Island, or Rapanui. —
Folklore, Vol. XXVIII, pp. 356 — 81. London.
20 Bancroft, H. H. (1875):
The Native Races of the Pacific States of North America. — 5 vols. London.
21 Bandelier, A. F. (1910):
The Islands of Titicaca and Koati. — New York.
22 Barbeau, M. (1929): Totem Poles of the Gitksan, Upper Skeena River, Br. Columbia. —
Nat. Mus. Canada Bull. No. 61, Anthrop. Ser., No. 12. Ottawa.
23 Barrau, J., ed. (1963):
Plants and the Migrations of Pacific Peoples. — Bishop Museum Press. Honolulu.
24 Barthel, T. S. (1958): The ‘Talking Boards’ of Easter Island. —
Scientific American, Vol. 198, No. 6, June 1958, pp. 61–68. New York.
25 Beechey, F. W. (1831):
Narrative of a Voyage to the Pacific and Bering’s Strait. — Philadelphia.
26 Behrens, C. F. (1722): Der Wohlversüchte Süd-Länder, das ist: ausführliche Reise-Beschreibung um die Welt. — English translation:
Hakluyt Soc., 2nd ser., no. 13. Cambridge, 1908.
27 — (1737): Reise durch die Süd-Länder und um die Welt.
— Hakluyt Soc., 2nd ser., no. 13, Appendix I. Cambridge, 1908.
28 Bennett, W. C. (1934):
Excavations at Tiahuanaco. — Anthrop. Papers Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. 34, Pt. 3. New York.
29 — (1954):
Ancient Arts of the Andes. — New York.
30 Benzoni, G. (1565):
Historie of the New World. — Transl. by W. H. Smyth. Hakluyt Society, No. 21. London, 1857. (Orig. ed.
La Historia del Mundo Nuevo. Venice, 1565).
31 Bergsland, К. and Vogt, H. (1962): On the validity of glottochronology. —
Current Anthropology, Vol. 5, No. 12. New Haven, Conn.
32 Bertoni, M. S. (1919): Essai d’une monographie du genre Ananas
. — Anal. Ci. Paraguayos, Vol. II, No. 4. Asuncion.
33 Best. E. (1925): The Maori Canoe, An Account of Various Types of Vessels used by the Maori of New Zealand in Former Times… —
Dominion Mus. Bull. No. 7. Wellington, N. Z.
34 Betanzos, E. de (1551):
Suma y narraciόn de los Incas. — Madrid, 1880.
35 Beyer, H. O. (1948): Philippine and East Asian Archaeology, and its Relation to the Origin of the Pacific Islands Population. —
National Research Council of the Philippines, Bull. 29. Quezon City.
36 Bibby, G. (1969):
Looking for Dilmun. — New York.
37 Bird, J. B. (1943): Excavations in Northern Chile. —
Anthrop. Papers Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. 38, Pt. 4. New York.
38 — (1948): America’s Oldest Farmers. —
Nat. Hist., Vol. LVII, No. 7. New York.
39 Bisschop, E. de (1939):
Kaimiloa. D’Honolulu á Cannes par l’Australie et le Cap á Bord d’Une Double Pirogue Polynésienne. — Paris.
40 Blaxland, G. (1840):
Treatise on the Aboriginal Inhabitants of Polynesia with Evidences of their Origin and Antiquity. — MS No. B760, Mitchell Library. Sydney.
41 Boas, F. (1895): Mitteilung zur Anthropologie der Nord amerikanischen Indianer. —
Zeitschrift Ethn., Vol. XXVII. Berlin.
42 — (1935):
Kwakiutl Tales. - New Series, Pt. 1–2. New York.
43 Brinton, D. G. (1882):
American Неrо-Myths. A Study in the Native Religions of the Western Continent. — Philadelphia.
44 Brown, F. B. H. (1931):
Flora of Southeastern Polynesia. Vol. I,
Monocotyledons. B. P. Bishop Mus. Bull. 84. Honolulu.
45 — (1935):
Flora of Southeastern Polynesia. Vol. III,
Dicotyledons. — B. P. Bishop Mus. Bull. 130. Honolulu.
46 Brown, J. M. (1924):
The Riddle of the Pacific. — London.
47 — (1927):
Peoples and Problems of the Pacific. - Vols. I–II. London.
48 Bruayn, E. de (1963): Informe sobre el descubrimiento de un area arqueologica. —
Museo Nacional de Historia Natural Publicaciόn Ocasional, No. 2, pp. 1-16. Santiago de Chile.
49 Bryan, E. H., Jr. (1935):
Hawaiian Nature Notes. - Honolulu.
50 Buck, P. H. (1922): Maori Somatology: Racial Averages. -
Journ. Polynesian Soc., Vol. XXXI, Nos. 1, 3, 4. New Plymouth, N. Z.
51 — (1933): Polynesian voyages. —
Man, Vol. XXXIII, No. 136. London.
52 — (1938a):
Vikings of the Sunrise. — New York.
53 — (1938b):
Ethnology of Mangareva. — B. P. Bishop Mus. Bull. 157. Honolulu.
54 — (1945):
An Introduction to Polynesian Anthropology. — B. P. Bishop Mus. Bull. 187. Honolulu.
55 — (1949):
The Coming of the Maori. — Wellington, N. Z.
56 Byam, G. (1850):
Wandering in some of the Western Republics of America…. — London. (German edition:
Wanderungen durch Südamerikanische Republiken. Dresden, 1851.)
57 Byron, L. G. A. (1764 — 66):
Byron's Journal of his Circumnavigation, 1764–1766.— Ed. R. E. Gallagher. Hakluyt Society, 2nd ser. № 122. Cambridge, 1964.
58 Caddeo, E., ed. (n. d.):
Giornale di Bordo di Cristoforo Columbo 1492–1493.— (Danish ed. transl. by C. V. Östergaard) Copenhagen, 1942.
59 Campbell, J. (1897 — 98): The Origin of the Haidahs of the Queen Charlotte Islands. —
Trans. Royal Soc. of Canada, 2nd, ser. Vol. III, Sec. 2.
60 Candolle, A. de (1884):
Origin of Cultivated Plants. — London. (Eng. transl. of:
Origine des plantes cultivées, 1883.)
61 Carroll, A. (1892): The Easter Island Inscriptions, and the Translation and Interpretation of them. —
Jour. Polynesian Soc., Vol. I, No. 4, pp. 103–106, 233–253. London.
62 Carter, G. F. (1950): Plant Evidence for Early Contacts with America. —
Southwestern Journ. Anthrop., Vol. VI, No. 2. Albuquerque, N. M.
63 Charnock, J. (801):
A History of Marine Architecture. — London.
64 Chervin, A. (1908):
Craniologie, Vol. III of Anthropologie Bolivienne. — Paris.
65 Christian, F. W. (1910):
Eastern Pacific Lands: Tahiti and the Marquesas Islands. — London.
66 Christian, F. W. (1924): Early Maori Migrations as Evidenced by Physical Geography and Language. —
Report Sixteenth Meeting Australas. Ass. Adv. Sci., Wellington, N. Z.
67 Chubb, L. J. (1933):
Geology of Galapagos, Cocos. and Easter Island. — B. P. Bishop Mus. Bull. 110. Honolulu.
68 Churchill, W. (1912):
Easter Island. The Rapanui Speech and the Peopling of Southeast Polynesia. — Carnegie Inst. Wash. Publ. no. 174. Washington, D. C.
69 Cieza de Leόn, P. de (1553):
The Travels of Pedro de Cieza de Leόn, A. D. 1532 — 50, Contained in his First Part of his Chronicle of Peru. — Hakluyt Soc. London, 1864.
70 — (1560):
The Second Part of the Chronicle of Peru. — Hakluyt Soc. London, 1883.
71 Clausen, R. T. (1944):
A Botanical Study of the Yam Beans (Pachyrrhizus). — Cornell Univ. Mem. 264. Ithaca, N. Y.
72 Cobo, B. (1653):
Historia del Nuevo Mundo… — Ed. Marcos Jiménex de la Espada. Seville, 1890-95.
73 Сое, М. D. (1960): Archaeological Linkages with North and South America at la Victoria, Guatemala. —
American Anthropologist, Vol. LXII, No. 3.
74 Collier, D. (1976): Ecuadorian Roots. —
The Univ. of Chicago Magazine, Vol. LXIX, No. I, Autumn, pp. 16–18.
75 Collins, J. L. (1949): History, Taxonomy and Culture of the Pineapple. —
Econ. Bot., Vol. III, No. 4. Lancaster, Pa.
76 Cook, J. (1777):
Second Voyage Towards the South Pole and Round the World, Performed in the ‘
Resolution’
and ‘
Adventure’
, 1772— 75,— 2 vols. London.
77 — (1784):
A voyage to the Pacific Ocean… In the years 1776 — 80. — 3 vols. Dublin.
78 Cook, O. F. (1901): The Origin and Distribution of the Cocoa Palm. —
Contr. U. S. Nat. Herb., Vol. VII, No. 2. Washington, D. C.
79 — (1903): Food Plants of Ancient America. —
Ann Rept. Smithsonian Inst. Washington, D. C.
80 — (1910—12): History of the Coconut Palm im America. —
Contr. U. S. Nat. Herb., Vol. 14. Washington, D. C.
81 — (1916a): Quichua Names of Sweet Potatoes. —
Jour. Wash. Acad. Sci., Vol. VI, No. 4.
82 — (1916b): Agriculture and Native Vegetation in Peru. —
Jour. Wash. Acad. Sci., Vol. VI, No. 10.
83 — (1925): Peru as a center of domestication. —
Jour. Heredity, Vol. XVI, Nos. 2 & 3. Washington, D. C.
84 Cook, O. F. and Cook, R. C. (1918): The Maho, or Mahagua, as a Trans-Pacific Plant. —
Journ. Wash. Acad. Science, Vol. VIII.
85 Corney, B. G. (1908): Introduction to
The Voyage of Captain Don Felipe Gonzalez to Easter Island in 1770.— Hakluyt Soc., 2nd Series, No. 13. London.
86 Cowley, W. A. (1684): Manuscript in the British Museum,
В. M. Sloane MS 54. London.
87 Croft, T. (1874): Letter of April 30, 1874 from Thomas Croft, Papeete, Tahiti, to the President of California Academy of Sciences. —
California Acad. Sciences. Proc., Vol. 5, pp. 317–323. San Francisco, 1875.
88 Dales, G. F. (1962): Harappen Outposts on the Makran Coast. —
Antiquity, Vol. XXXVI, No. 142, pp. 86–92.
89 Dampier, W. (1729):
Captain William Dampier's Voyage round the Terrestrial Clobe. — A Collection of Voyages, 4 vols. London.
90 Dawson, G. M. (1888): Notes and Observations on the Kwakiool People of the Northern Part of Vancouver Island and Adjacent Coasts… with a Vocabulary of About Seven Hundred Words. —
Proc. Trans. Royal Soc. Canada, Vol. V, Sec. II. Montreal.
91 Dawson, W. R. (1928): Mummification in Australia and in America. —
Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. LVIII. London.
92 Debenedetti, S. and Casanova, E. (1933-35): Titiconte. —
Museo Antropologico y Ethnografico. Publicaciones, Ser. A., Vol. 3, pp. 7 — 36. Buenos Aires.
93 Degener, O. (1930):
Ferns and Flowering Plants of Hawaii National Park. — (2nd photolithoprint ed.: Ann Abor, Mich., 1945.) Honolulu.
94 Dixon, G. (1789):
A Voyage Round the World, but more particularly to the North West Coast of America Performed in 1785 — 88. — London.
95 Dixon, R. B. (1921): A New Theory of Polynesian Origins. A Review. —
Jour. Polynes. Soc., Vol. XXX, No. 2, New Plymouth, N. Z.
96 — (1932): The Problem of the Sweet Potato in Polynesia. —
American Anthropology, Vol. XXXIV.
97 — (1933): Contacts with America Across the Southern Pacific. — In:
The American Aborigines Their Origin and Antiquity. A Collection of Papers, by Ten Authors, Assembled by D. Jenness. Toronto.
98 — (1934): The long voyages of the Polynesians. —
Proc. Amer. Philos. Soc., Vol. LXXIV, No. 3.
99 Dreyer, W. (1898):
Naturfolkenes Liv. — Copenhagen.
100 Drucker, P. (1943): Archaeological Survey on the Northern Northwest Coast. —
Bur. Amer. Ethn. Bull. No. 133, Anthrop. Papers, No. 20. Washington, D. C.
101 Eames, A. J. and St. John, H. (1943): The Botanical Identity of the Hawaiian Ipu Nui or Large Gourd. —
Amer. Journ. Bot., Vol. XXX, No. 3.
102 Edmondson, С. H. (1941): Viability of Coconut Seeds After Floating in Sea. — B. P. Bishop Mus. Occ. Papers, Vol. XVI, No. 12. Honolulu.
103 Eisleb, D. (1963): Beitrag zur Systematik der Altperuanischen ‘Ruder’ aus der Gegend von Ica
. — Baessler-Archiv, N. F., Band 10, pp. 105–128. Berlin.
104 Emory, K. P. (1933):
Stone Remains in the Society Islands. — B. P. Bishop Mus. Bull. 116. Honolulu.
105 — (1942): Oceanian Influence on American Indian Culture. Nordenskiöld’s View. —
Journ. Polynesian Soc., Vol. LI.
106 Englert, P. S. (1948):
La Tierra de Hotu Matu’a. Historia, Etnologia у Lengua de Isla de Pascua. — Imprenta у edit. ‘San Francisco’ Padre las Casas, Chile.
107 Enterline, J. R. (1972):
Viking America. — New York.
108 Evans, J. D. (1971):
The Prehistoric Antiquities of the Maltese Islands: A. Survey. — London.
109 Eyraud, E. (1864): Lettre au T. R. P. Supérieur général de la Congrégation des Sacrés-Coeurs de Jesus et de Marie. — Valparaiso décembre 1864.—
Ann. Assoc. Propagation de la Foi, Vol. 38, pp. 52–71, pp. 124–138. Lyon, 1866.
110 Falkenstein, A. (1936):
Archaische Texte aus Uruk. — Berlin.
111 Fedde, F. (1909): Papaveraceae-Hypecoideae et Papaveraceae-Papaveroideae. — A. Engler,
Das Pflanzenreich, Hft. 49. Leipzig.
112 Ferdon Jr., E. N. (1961): The Ceremonial Site of Orongo. — Sites E-4 and E-5.— Stone Houses in the Terraces of Site E-21.— Easter Island House Types. — Site E-6, an Easter Island
Hare Moa. — A summary of the Excavated Record of Easter Island Prehistory. — 6 papers in: Heyerdahl and Ferdon (1961), pp. 221 —55, 305-11, 313-21, 329-38, 381 -83, 527-35.
113 — (1965): Surface Architecture of the Site of Paeke, Taipi Valley, Nukuhiva. — Report 9 in: Heyerdahl and Ferdon (1965).
114 Fornander, A. (1878):
An Account of The Polynesian Race, Its Origin and Migrations, 4 vols. London.
115 Forster, G. (1777):
A Voyage Round the World, in His Britannic Majesty’s Sloop, Resolution, Commanded by Capt. James Cook, During the Years 1772, 3, 4, and 5.- 2 vols. London.
116 Forster, J. R. (1778):
Observations made during a Voyage Round the World… — London.
117 Fraser, D. (1965): Theoretical Issues in the Trans-Pacific Diffusion Controversy. —
Social Research, Vol. 32, No. 4.
118 Fricderici, G. (1929): Die vorkolumbischen Verbindungen der Südsee-Völker mit Amerika. —
Anthropos, Vol. XXIV. Vienna.
119 Garcilasso de la Vega, Inca (1609):
First Part of the Royal Commentaries of the Yncas. — Hakluyt Soc., Vols. XLI–XLV. London, 1869-71.
120 Geiseier, Kapitänlieutenant (1883):
Die Oster-Insel. Eine Stätte prähistorischer Kultur in der Südsee. — Berlin.
121 Glas, G. (1764):
The History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands: Translated from a Spanish Manuscript Lately Found in the Island of Palma. — London.
122 Goddard, P. E. (1924):
Indians of the N. W. Coast. — Amer. Mus. Nat. Hist. Handbook Ser., No. 10. New York.
123 Gómara, F. L. de (1553):
Primera y Segunda Parte de la Historia general de la Indias hasta el año de 1551. — Madrid, 1858.
124 Gonzalez, F. (1770 — 71):
The Voyage of Captain Don Felipe Gonzalez in the Ship of the San Lorenzo, with the Frigate Santa Rosalia in Company, to Easter Island in 1770–1771,— Hakluyt Soc., 2nd ser. no. 13. Cambridge, 1908.
125 Gordon, E. J. (1954): The Sumerian Proverb Collections: A Preliminary Report. —
Journ. Amer. Oriental Soc., Vol. 74, No. 2, pp. 82–85.
126 Gray, E. F. (1930):
Leif Eriksson Discoverer of America A. D. 1003. — London.
127 Graydon, J. J. (1952): Blood Groups and the Polynesians. —
Mankind, Vol. IV, No. 8, pp. 329 — 39. Sydney.
128 Greenman, E. F. (1962): The Upper Palaeolithic and the New World. —
Current Anthropology, Vol. III. Chicago.
129 Gregory, H. E. (1927): The Geography of the Pacific. —
Problems of the Pacific, Proc. 2nd Conf. Ist. Рас. Rel. Honolulu, Chicago.
130 Gretzer, W. (1914):
Die Schiffahrt im alten Peru vor der Entdeckung… — Mitteil. Roemer-Museum, Hildesheim, No. 24. Hannover.
131 Grove, D. C. (1976): Answer to В. J. Meggers in
American Anthropologist, Vol. 78, pp. 634-37.
132 Gudger, E. W. (1927): Wooden hooks used for catching sharks and
Ruvett us in the South Seas; a study of their variation and distribution. —
Anthrop. Papers American Mus. Nat. Hist., Vol. XXVIII, Pt. 3.
133 Guppy, H. B. (1906):
Observations of a Naturalist in the Pacific Between 1896 and 1899, Vol. II of
Plant-Dispersal. — London.
134 Haddon, A. C. (1918): Melanesian Influence in Easter Island. —
Folk-lore, Vol. LXXX, No. I, pp. 161-62. London.
135 Haddon, A. C. and Hornell, J. (1963):
Canoes of Oceania. — Vol. I of
The Canoes of Polynesia. Fiji, and Micronesia by J. Hornell. B. P. Bishop Mus. Spec. Publ. No. 29. Honolulu.
136 Hagen, V. W. von (1939):
The Tsàtchela Indians of Western Ecuador. — New York Mus. Amer. Ind., Heye Foundation, Indian Notes and Monographs, No. 51. New York.
137 — (1949):
Ecuador and the Galápagos Islands. — Oklahoma.
138 Hammond, N. (1977): The Earliest Maya. —
Scientific American, March, pp. 116–133.
139 Handy, E. S. C. (1927): Polynesian Religion. —
B. P. Bishop Mus. Bull., 34. Honolulu.
140 — (1930a): Sources of Polynesian Culture. —
Hawaiian Annual for 1931. Honolulu.
141 — (1930b): The problem of Polynesian origins. —
Occ. Papers B. P. Bishop Mus., Vol. IX, No. 8. Honolulu.
142 Harden, D. (1962):
The Phoenicians. — Vol. 26 in
Ancient People and Places, ed. by Dr G. Daniel. London.
143 Harms, H. (1922): Übersicht der bisher in alt-peruanischen Gräbern gefundenen Pflanzen reste. —
Festschrift Eduard Seler… herausgegeben von W. Lehmann. Stuttgart.
144 Heine-Geldern, R. von (1932): Urheimat und früheste Wanderungen der Austronesicr. —
Anthropos, Vol. XXVII.
145 — (1938): Die Osterinselschrift. —
Anthropos, Vol. XXXIII.
146 Hervé, J. (1770): Narrative of the Expedition undertaken by order of His Excellency Don Manuel de Amat, Viceroy of Peru… to the Island of David in 1770.—
Hakluyt Soc., 2nd ser., no. 13. Cambridge, 1908.
147 Heyerdahl, T. (1941): Did Polynesian Culture Originate in America? —
International Science, Vol. I. New York.
148 — (1952):
American Indians in the Pacific: The theory behind the Kon-Tiki expedition. — London.
149 — (1954): En Gjenoppdaget Inka-kunst. Guara-metoden som lar flåter krysse og jibbe uten ror eller styreåre. —
Teknisk Ukeblad, Vol. 48. Oslo.
150 — (1958):
Aku-Aku. The Secret of Easter Island. — (Orig. ed.: Oslo, 1957) Chicago.
151 — (1961): An Introduction to Easter Island. — Surface Artifacts. — General Discussion. — 3 papers in: Heyerdahl and Ferdon (1961), pp. 21–90, 397–489, 493–526.
152 — (1965): The Statues of the Oipona
Me’ae, with a Comparative Analysis of Possibly Related Stone Monuments. In: Heyerdahl and Ferdon (1965), pp. 123 — 51.
153 — (1974):
Fatu-Hiva: Back to Nature. — London.
154 — (1976):
The Art of Easter Island. — London.
155 Heyerdahl, T. and Ferdon Jr., E. N. (1961):
Archaeology of Easter Island. Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific., Vol. I. — Monogr. School American Research and Mus. New Mexico, no. 24, pt. 1, 1961. Santa Fe, N. M.
156 — (1965):
Miscellaneous Papers. Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific, Vol. II. — Monogr. School American Research and the Kon-Tiki Mus., no. 24, pt. 2, 1965. Santa Fe, N. M.
157 Heyerdahl, T. and Skjölsvold, A. (1956): Archaeological Evidence of Pre-Spanish Visits to the Galapagos Islands. —
Mem. Soc. Amer. Arch., no. 12. Salt Lake City.
158 — (1965): Notes on the Archaeology of Pitcairn. — In: Heyerdahl and Ferdon (1965), pp. 3–7.
159 Hill-Tout, C. (1898): Oceanic Origin of the Kwakiutl-Nootka and Salish Stocks of British Columbia and Fundamental Unity of Same, with Additional Notes on the Déné. —
Proc. Transact. Royal Soc. Canada, 2nd ser., Vol. IV.
160 Hillcrbrand, W. (1888):
Flora of the Hawaiian Islands. — Heidelberg.
161 Holmes, W. H. (1919):
Handbook of Aboriginal American Antiquities, pt. I. — Smithsonian Inst. Bur. American Ethn. Bull. 60. Washington, D. C.
162 Holtsmark, A. and Scip, D. A., translators (1942):
Snorres Kongesagaer. — Oslo.
163 Hood, S. (1971):
The Мinoans: Crete in the Bronze Age. — London.
164 Hornbostel, E. von (1930): Chinesische Ideogramme in America. —
Anthropos, Vol. XXV.
165 Hornell, J. (1931): South American Balsas: The Problem of their Origin. —
Mariner’s Mirror, Vol. XVII. Cambridge.
166 — (1945): Was there a pre-Columbian contact between the peoples of Oceania and S. America? —
Journ. Polynesian Soc., Vol. LIV.
167 — (1946): How Did the Sweet Potato Reach Oceania? —
Journ. Linnean Soc. of London, Botany, Vol. LIII, no. 348. London.
168 Hrdlička, A. (1944):
Catalog of Human Crania in the U. S. National Museum Collections: Non-Eskimo People of the Nortwest Coast, Alaska, and Siberia. — Proc. U. S. National Mus. Vol. XCIV. Washington, D. C.
169 Humboldt, A. de (1810):
Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique. — Paris.
170 Hutchinson, J. B., Silow, R. A., and Stephens, S. G. (1947):
The Evolution of Gossypium and Differentiation of the Cultivated Cottons. — London, New York, Toronto.
171 Hutchinson, T. J. (1875): Anthropology of Prehistoric Peru. —
Jour. Roy. Anthrop. Inst., Vol. IV, London.
172 Imbelloni, J. (1928): Einige konkrete Beweise für die ausserkontinentalen Beziehungen der Indianer Amerikas. —
Mitteil. Anthrop. Ges. Wien, Vol. LVIII. Vienna.
173 — (1930): On the Diffusion in America of Patu Onewa, Okewa, Patu Paraoa, Miti, and Other Relatives of the Mere Family. —
Jour. Polynesian Soc., Vol. XXXIX, no. 4. New Plymouth, N. Z.
174 Izumi, S. and Sono, T. (1963):
Excavations at Kotosh, Peru 1960.— Andes Report 2, The Univ. of Tokyo Scientific Expedition to the Andes, 1960. Tokyo.
175 Jacobsen, A. (1891): Nordwestamerikanischpolynesische Analogien. —
Globus, Vol. LIX, No. II. Braunchweig.
176 Jakeman, M. W. (1950). The XXIX International Congress of Americanists. —
Bull. Brigham Young Univ., March, Salt Lake City.
177 Jaussen, T. (1893):
L’Île de Pâques, Historique — Ecriture et Répertoire des signes des tablettes ou bois d'Hibiscus Intellegents. — Paris.
178 — (1894): L’Île de Pâques. Historique et écriture. — Mémoire posthume rédigé par Ildefonse Alazard d’après les notes laissées par le prélat. —
Bull. Géogr. Hist. et Descriptive, no. 2, pp. 240–270. Paris.
179 Johanson, D. C. (1976): Ethiopia Yields First ‘Family’ of Early Man. —
The National Geographical Magazine, Vol. 150, No. 6, Dec.
180 Joyce, T. A. (1912):
South American Archaeology. — New York.
181 — (1913): The Weeping God. — In:
Essays and Studies presented to William Riedgway…, pp. 365 — 75. Cambridge.
182 Juan, G. and Ulloa, A. de (1748):
Relación histórica del viaje a la América Meridional. — 4 vols. Madrid.
183 Karageorgis, V. (1969):
The Ancient Civilization of Cyprus. — New York.
184 Karsten, R. (1938):
Inkariket och dess kultur i det forna Peru. — Helsinki
185 Kerchove de Denerghem, O. de (1878):
Les Palmiers: histoire iconographique, géographie, paléontologie, botanique, description, culture, emploi, etc. — Paris.
186 Knoche, W. (1912): Vorläufige Bemerkung über die Entstehung der Standbilder auf der Osterinsel. —
Zeitschrift f. Ethnologie, Vol. 44, pp. 873 — 77. Berlin.
187 — (1925):
Die Osterinsel. Eine Zusammenfassung der chilenischen Osterinselexpedition des Jahres 1911,— Conception.
188 Knorozov, J. V. (1964b): Recorded statements at Izvestija’s Round Table Conference, August 10, 1964, in Kon-Tiki plyl ne zrja’.—
Izvestija, Aug. 12, 1964, p. 4. Moscow.
189 Knudsen, К. (1963): Traces of Reed Boats in the Pacific. —
The American Neptune, Vol. XXIII, No. 1. Salem, Mass.
190 Kolsrud, O., ed. (1913):
Diplomatarium Norvegicum, Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre forhold… i Middelalderen. — Christiania [Oslo].
191 Kramer, S. N. (1944):
Sumerian Mythology; A Study of Spiritual and Literary Achievements in the Third Millennium В. C. — Philadelphia.
192 — (1963): Dilmun; Quest for Paradise. —
Antiquity, Vol. 37, No. 146, pp. 111–115.
193 Kroeber, A. L. (1944): Peruvian Archaeology in 1942.—
Viking Fund. Publ. Anthrop., 4. New York.
194 La Pérouse, J. G. de (1797):
A Voyage Round the World Performed In the Years 1785, 1786, 1787, and 1788… — 2 vols, and atlas. (Orig. ed.: Paris, 1797.) London, 1798.
195 Las Casas, B. de (1559):
Historia de las Indias. — Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España. Madrid, 1876.
196 Lavachery, H. (1935): La Mission Franco-Belge dans l’Ile de Pâques. —
Bull. Soc. Royale de Géogr. d'Anvers, Vol. LV, pp. 313 — 61. Antwerp.
197 — (1936): Easter Island, Polynesia. —
Ann. Rpt. Bd. of Regents Smithsonian Inst., pp. 391–396. Washington, D. C.
198 — (1939):
Les Petroglyphes de l'Ile de Pâques. — 2 vols. Antwerp.
199 — (1965): Thor Heyerdahl et le Pacifique. —
Journ Soc. Océanistes, Vol. XXI, No. 21, pp. 151—59. Paris.
200 Leicht, H. (1944):
Indianische Kunst und Kultur. Ein Jahrtausend im Reiche der Chimu. — Zurich.
201 Lescallier, M. (1791):
Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres bâtiments de mer. — Vol. I. Paris.
202 Levison, M., Ward, R. G., and Webb, J. W. (1973):
The Settlement of Polynesia: A Computer Simulation. — Canberra.
203 Lhote, H. (1958):
Die Felsbilder der Sahara. — (Orig. title: A la découverte des freques du Tassili.) Würzburg, Wien.
204 Linton, R. (1923):
The Material Culture of the Marquesas Islands. — B. P. Bishop Mus. Memoirs, Vol. VIII, No. 5, Honolulu.
205 Lizarraga, R. de (1560–1602):
Descriptión de las Indias: Crónica sobre el Antiguo Perú…— Los Pequeños Grandes Libros de Historia Americana, Ser. 1, Vol. 12. Lima, 1946.
206 Lothrop, S. K. (1932): Aboriginal navigation off the west coast of South America. —
Journ. Royal Anihrop. Inst., Vol. LXII, July — Dec., pp. 229 — 56. London.
207 Lutz, H. F. (1927): Neo-Babylonian Administrative Documents from Erech. —
Univ. California Publ. Semitic Philol., Vol. 9, No. 1, pp. 1 — 115.
208 Mallowan, M. E. L. (1965):
Early Mesopotamia and Iran. — London.
209 Malo, D. (1898):
Hawaiian Antiquities. — В. P. Bishop Mus. Spec. Publ. No. 2. Honolulu, 1951. (Transl. from Hawaiian by Dr N. B. Emerson 1808, i st ed. Wellington 1903.)
210 Markham, C. R. (1911):
The Incas of Peru. — London.
211 Martius, C. F. P. de (1823 — 50):
Historia Naturalis Palmarum. 3 Vols. Munich.
212 Matson, G. A., Levine, P., and Schrader, H. F. (1946):
Anthropological Application of the Blood Groups. — Dept. Bacteriology, Univ. Utah Medical School. Salt Lake City.
213 Means, P. A. (1931):
Ancient Civilizations of the Andes. — New York, London. — (1942): Pre-Spanish Navigation Off the Andean Coast. —
American Neptune, Vol. II, No. 2.
214 Meggers, B. J. (1975): The Transpacific Origin of Mesoamerican Civilization: A Preliminary Review of the Evidence and Its Theoretical Implications. —
American Anthropologist, Vol. 77, No. 1, March.
215 — (1976): Yes if by Land, No if by Sea: The Double Standard in Interpreting Cultural Similarities. — Answer to D. C. Grove in
American Anthropologist, Vol. 78, pp. 637-39.
216 Merrill, E. D. (1920): Comments on Cook’s Theory as to the American Origin and prehistoric Polynesian Distribution of certain economic Plants, especially Hibiscus tiliaceus Linnaeus. —
Philippine Journ. Science, Vol. XVII. Manila. (Reprinted in: Merrill 1946.)
217 — (1937): Domesticated Plants in relation to the diffusion of culture. — In:
Early Man. — Philadelphia.
218 — (1946): Merrileana: A selection from the general writings of Elmer Drew Merrill. —
Chronica Botanica, Vol. X, Nos. 3–4.
219 — (1950): Observations on Cultivated Plants with Reference to Certain American Problems. —
Ceiba, Vol. I, No. 1. Tegucigalpa, Honduras.
220 — (1954):
The Botany of Cook’s Voyages and Its Unexpected Significance in Relation to Anthropology, Biography and History. — Waltham.
221 Métraux, A. (1938): The proto-Indian script and the Easter Island tablets. —
Anthropos, Vol. XXXIII.
222 Métraux, A. (1940):
Ethnology of Easter Island. — B. P. Bishop Mus. Bull. 160. Honolulu.
223 Moerenhout, J. A. (1837);
Voyagers aux îles du Grand Océan. 2. vols. Paris.
224 Molina, Christóval de (ca. 1570 — 84):
The Fables and Rites of the Yncas. — Hakluyt Soc., Vol. XLVIII. London, 1873.
225 Montell, G. (1929):
Dress and Ornaments in Ancient Peru. Archaeological and Historical Studies. Diss, Gothenburg.
226 Montesinos, Fernando (1642):
Memorias antiquas historiales del Perú.— Ed.: P. A. Means. London, 1920.
227 Morell, В., Jr. (1832):
A Narrative of Four Voyages to the South Sea,…— New York.
228 Morgan, A. E. (1946):
Nowhere was Somewhere. — New York.
229 Morris, Е. H., Charlot, J. and Morris, A. A. (1931):
The Temple of the Warriors at Chitzen Itza, Yucatan. — Carnegie Inst. Wash. Publ. No. 406, 2 vols. Washington, D. C.
230 Mourant, A. E. (1954):
The Distribution of Human Blood Groups. — Blackwell Scientific Publ. Oxford.
231 Mulloy, W. (1961): The Ceremonial Center of Vinapu. — The
Tupa of Hiramoko. — 2 papers in: Heyerdahl and Ferdon (1961), pp. 93—180, 323 — 28.
232 Murdock, G. P. (1949): Report on the Seventh Pacific Science Congress [1st Special Issue]. —
New Zealand Science Rev., Vol. VII, Nos. 1–2.
233 Murphy, R. C. (1941): The earliest Spanish advances southward from Panama along the West Coast of South America. —
Hispanic Amer. Hist. Rev., Vol. XXI. Durham, N. C.
234 Niblack, A. P. (1888): The Coast Indians of Southern Alaska and Northern British Columbia. —
Report of the National Museum of British Columbia 1888.
235 Nordenskiöld, E. (1931): Origin of the Indian Civilizations in South America. —
Comp. Ethnogr. Stud. Vol. IX. Gorhenburg.
236 Oliva, P. Anello (1631):
Histoire de Pérou. — Paris, 1857.
237 Olson, R. L. (1927 — 29):
Adze, Canoe, and House Types of the Northwest Coast. — Univ. Washington Publ. Anthrop. 2. Seattle.
238 Oppenheim, A. L. (1954): The Seafaring Merchants of Ur. —
Journ. Amer. Oriental Soc. Vol. 74, No. 1, pp. 6—17.
239 Orcutt, P. D. (1953). A Stone Carving on the Galapagos. —
American Antiquity, Vol. XVIII, No. 3, January, p. 270, Salt Lake City.
240 Ortiz, O. (1964): El Matá: Un Instrumento Litico Pascuense y Sus Problemas. —
Apartado del Boletin de la Universidad de Chile, Nos. 53–54, Nov. — Dec., pp. 101–107.
241 Oviedo, G. F. de (1535 — 48):
Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano. — 4 vols. Madrid, 1855.
242 Pachacuti Yamqui Salcamayhua, J. (1620):
An Account of the Antiquities of Piru. — Hakluyt Soc., Vol. XLVIII. London, 1873.
243 Palmer, J. L. (1870): A Visit to Easter Island, or Rapa Nui, in 1868.—
Royal Geogr, Soc. Journ., Vol. XIV, pp. 108–119. London.
244 Paris, F. E. (1841—43):
Essai sur la construction navale des peuples Extra-Européens. — Paris.
245 Petri, H. (1936): Die Geldformen der Südsee, 1–2.—
Anthropos, Vol. XXXI. Vienna.
246 Pinart, A. (1878): Voyage à l’Ile de Pâques. -
Le Tour du Monde, Vol. XXXVI, pp. 225–240. Paris.
247 Pizarro, P. (1571):
Relaciôn del Descubrimiento y Conquista de los Reihos del Peru. — Colección de Documentos ineditos para la Historia de España, Vol. V. Madrid, 1844. Translated into English and annotated by P. A. Means:
Relation of the Discovery and Conquest of the Kingdoms of Peru, 2 vols. New York, 1921.
248 Plinius Gaius Secundus (77):
Historia naturalis. — 37 books. (Various transl. from Latin incl.
Natural History, ed. and transl. by H. Rackham
et al., Loeb Classical Library, London & Cambridge, Mass. 1969).
249 Poirier, J. (1953): L’élément blond en Polynésie et les migrations nordiques en Océanie et en Amérique. —
Sociéte des Océanistes. Paris.
250 Polack, J. S. (1838):
New Zealand. Being a narrative of Travels and Adventures during a residence… 1831 and 1837.— 2 vols. London.
251 Pomerance, L. (1970):
The Final Collapse of Santorini (Thera). — Studies in Mediterranean Archaeology, Vol. XXVI. Gothenburg.
252 Porter, D. (1815):
Journal of a Cruise made to the Pacific Ocean. — Philadelphia.
253 Prain, D. (1895): An Account of the genus Argemone. —
Jour. Bot., Vol. XXXIII.
254 Prescott, W. H. (1847):
History of the Conquest of Peru. — 2 vols. London.
255 Quiros, P. F. de (1609):
Narrative of the Second Voyage of the Adelantado Alvaro de Mendaña. — Hakluyt Soc., 2nd ser., No. 14, Vol. I. London, 1904.
256 Rao, S. R. (1963): A ‘Persian Gulf’ Seal from Lothal. —
Antiquity, Vol. 37, No. 146, pp. 96–99.
257 Reischek, A. (1924):
Sterbende Welt. — Leipzig.
258 Relación Anónyma (1615):
Relación Anónyma, de los Costumbres Antiguos de los Naturales del Piru. — Madrid, 1879.
259 Resch, W. F. E. (1967):
Die Felsbilder Nubiens. — Graz.
260 Rivet, P. (1928): Relations commerciales précolombiennes entre l’Océanie et Amérique. —
Festschrift P. W. Schmidt. Vienna.
261 — (1943):
Les origines de l'homme américain. — Montreal.
262 Rochebrune, A. T. de (1879). Recherches d’ethnographie botanique sur la flore des sépultures péruviennes d’Ancon. —
Actes Soc. Linn. Bordeaux, 4th ser. Vol. III. Bordeaux.
263 Roggeveen, M. J. (1722):
Extract from the Official Log of the Voyage of Mynheer Jacob Roggeveen, in the Ships Den Arend, Thienhove, and De Afrikannische Galey in 1721—22, in so far as it relates to the Discovery of Easter Island. — Hakluyt Soc., 2nd ser. no. 13. Cambridge, 1908.
264 Ross, A. S. C. (1936): Preliminary notice of some late eighteenth-century numerals from Easter Island. —
Man, Vol. XXXVI, No. 120.
265 Roussel, H. (1908):
Vocabulaire de la Langue de I'Ile-de-Paques ou Rapanui. — Extract from Muséon, Nos. 2–3, pp. 159–254. Louvain.
266 Routledge, K. S. (1919):
The Mystery of Easter Island. — London.
267 Rowe, J. H. (1966): Diffusionism and Archaeology. —
American Antiquity, Vol. XXXI, no. 3, pt. 1, January, pp. 334-37.
268 Sáamanos, J. de (1526):
Relación de los primeros descubrimientos de Francisco Pizarro y Diego Almagro… — Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Vol. V. Madrid, 1844.
269 Salonen, A. (1939): Die Wasserfahrzeuge in Babylonien nach sumerischakkadishen Quellen. —
Studia Orientalia Edidit Societas Orientalis Fennica, Vol. VIII, pp. 1 — 199. Helsinki.
270 — (1942): Nautica Babyloniaca. —
Studia Orientalia Edidit Societas Orientalis Fennica, Vol. XI, pp. 1-118. Helsinki.
271 Sarmiento de Gamboa, P. (1572):
History of the Incas. — Hakluyt Soc., 2nd ser., Vol. XXII. Cambridge, 1907.
272 Sauer, C. O. (1950): Cultivated Plants of South and Central America. — In:
Handbook of South American Indians. Vol. VI. Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethn., Bull. 143. Washington, D. C.
273 Sayce, R. U. (1933):
Primitive Arts and Crafts. An Introduction to the Study of Material Culture. — Cambridge.
274 Scheurmann, E. (1927):
Samoa. — Konstanz.
275 Seemann, В. (1865 — 73):
Flora Vitiensis. — London.
276 Shand, A. (1894): The Moriori people of Chatham Islands. —
Journ. Polynesian Soc., Vol. III. New Plymouth, N. Z.
277 Shapiro, H. L. (1940): The Physical Relationships of the Easter Islanders. In: Métraux (1940).
278 Sharp, B. (1704):
The dangerous Voyage, and bold Attempts of Capt. Bartolomew Sharp…, The History of the Buccaneers of America, Vol. 2, T. 4. London.
279 Sharp, B. (1898): Rock Inscriptions in Kauai, Hawaiian Islands. —
Proc. Acad. Natural Science, 1898. Philadelphia.
280 Shortland, E. (1856):
Traditions and Superstitions of the New Zealanders. — London.
281 Simmons, R. T., Graydon, J. J., Semple, N. М., and Fry, E. I. (1955): A blood group genetical survey in Cook Islanders, Polynesia, and comparisons with American Indians. —
American Journ. Anthrop. New Series, Vol. XIII, No. 4, December. Philadelphia.
282 Skinner, H. D. (1931): On the Patu Family and its occurence beyond New Zealand. —
Journ. Polynesian Soc., Vol. XL, No. 4. New Plymouth, N. Z.
283 Skjölsvold, A. (1961): Dwellings of Hotu Matua. — House Foundations (
Hare Paenga) in Rano Raraku. — Site E-2, a Circular Stone Dwelling, Anakena. — The Stone Statues and Quarries of Rano Raraku. — 4 papers in: Heyerdahl and Ferdon (1961), pp. 273-86, 291 -93, 295–303, 339-79.
284 Skogman, C. (1854):
Fregatten Eugenics Resa Omkring Jorden Åren 1851 —53. — 2 vols. Stockholm.
285 Skottsberg, C. (1920): Notes on a Visit to Easter Island. —
The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island, Vol. I. Uppsala.
286 — (1934): Le peuplement des îles pacifiques du Chili. —
Soc. de Biogéogr., Vol. IV. Paris.
287 — (1956): Derivation of the Flora and Fauna of Juan Fernandez and Easter Island. —
The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island, Vol. I, pp. 193–438. Uppsala, 1920-56.
288 — (1957): Påskön. —
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 7 Oct. Gothenburg.
289 Smith, A. L. (1940): The Corbeled Arch in the New World. —
The Maya and Their Neighbors, pp. 202 — 21. New York.
290 Smith, C. S. (1961): A Temporal Sequence Derived from Certain Ahu. — Two Habitation Caves. — The Maunga Ahuhera House Site. — Tuu-ko-ihu Village. — The Poike Ditch. — Radio Carbon Dates from Easter Island. — 6 papers in: Heyerdahl and Ferdon (1961), pp. 181–219, 257-71, 277-86, 287-89, 385-91, 393-96.
291 Smith, S. P. (1910):
Hawaiki: The Original Home of the Maori. — Wellington, N. Z.
292 Spilbergen, J. van (1619):
Speculum Orientalis Occidentalis que Indiae navigation 1614—18.— Leiden.
293 Johnston, T. R. (1921):
The Islanders of the Pacific Or The Children of the Sun. — New York.
294 Stevenson, W. В. (1825):
A Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years’ Residence in South America. — 3 vols. London.
295 Steward, J. H., cd. (1949): The Comparative Ethnology of South American Indians. —
Handbook of South American Indians, Vol. V. Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethn., Bull. 143. Washington, D. C.
296 Stewart, T. D. (1943): Skeletal Remains from Paracas, Peru. —
American Journ. Phys. Anthrop., Vol. I.
297 Stokes, J. F. G. (1932): Spaniards and the sweet potato in Hawaii and Hawaiian-American Contacts. —
American Anthrop., Vol. XXXIV, No. 4.
298 — (1934): Japanese cultural Influences in Hawaii. —
Proc. Fifth Pacific Science Congr. Canada 1933, Vol. IV. Toronto.
299 Stonor, C. R. and Anderson, E. (1949): Maize among the Hill Peoples of Assam. —
Ann. Missouri Bot. Gard., Vol. XXXVI, No. 3.
300 Stout. D. B. (1948):
Handbook of South American Indians, Vol. IV. — Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethn., Bull, 143, ed. J. H. Steward. Washington, D. C.
301 Sullivan, L. R. (1922): A Contribution to Tongan Somatology. —
B. P. Bishop Mus. Mem., Vol. IX, No. 2. Honolulu.
302 — (1924a): Race Types in Polynesia. —
American Anthrop., Vol. XXVI, No. 1.
303 — (1924b): The Racial Diversity of the Polynesian Peoples. —
Rept. Australas. Ass. Adv. Science, Wellington Meeting 1923. Wellington, N. Z.
304 Swanton, J. R. (1905):
Haida Texts and Myths. — Washington, D. C.
305 Tautain, Dr (1897): Notes sur les constructions et monuments des Marquises. —
L’Anthropologie, Vol. VIII. Paris.
306 Tessmann. G, (1930):
Die Indianer Nordost-Perus. — Hamburg.
307 Thomson, W. J. (1889):
Te Pito te Henua, or Easter Island. — Rept. U. S. National Mus. for year ending 30 June 1889. — Washington, D. C.
308 Thorsby, E., Colombani, J., Dausset, J., Figueroa, J., and Thorsby, A. (1973): HL-A, Blood Group and Serum Type Polymorphism of Natives on Easter Island. —
Histocompatibility Testing 1972. Copenhagen.
309 Trotter, M. (1943): Hair from Paracas Indian Mummies. —
American Journ. Phys. Anthrop., Vol. I.
310 Uhle, M. (1922):
Fundamentes étnicos y arqueologia de Arica у Таспа, — Quito.
311 Valverde, V. (1879):
Relación del sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Perú… 1535 a 1539. — Colección de Libros Españoles Raros о Curiosos, Vol. XIII. Madrid.
312 Vancouver, G. (1798):
A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and Round the World… in the Years 17900 — 95.- 3 vols. London.
313 Voss, J. C. (1926):
The Venturesome Voyages of Capt. Voss. — London.
314 Wafer, L. (1699): A New Voyage and Description of the Isthmus of America. — In: Dampier 1729, Vol. III.
315 Weckler, J. E. (1943):
Polynesian Explorers of the Pacific. — Smithsonian Inst. War. Background Stud., no. 6. Washington, D. C.
316 Whitaker, T. W. and Bird, J. B. (1949): Identification and Significance of the Cucurbit Materials from Huaca Prieta, Peru. —
Amer. Mus. Novitates, No. 1426. New York.
317 Whité, J. (1889):
The Ancient History of the Maori, His Mythology and Traditions. — 4 vols. London.
318 Wilson, D. (1862):
Prehistoric Man. Researches into the Origin of Civilization in the Old and New Worlds, 2 vols. London.
319 — (1970):
The Vikings and Their Origins. — London.
320 Wilson, J. (1799): A Missiopary Voyage to the Southern Pacific Ocean, 1796–1798. — London.
321 Xeres, F. de (1534): A True Account of the Province of Cuzco. — Part I of
Reports on the Discovery of Peru. Hakluyt Soc. London, 1872.
322 Yacovleff, E. and Herrera, F. L. (1934): El mundo vegetal de los antiguos peruanos. —
Rev. Mus. Nacional, Vol. III, No. 3. Lima.
323 — (1935): El mundo vegetal de los antiguos peruanos (Continuatión). —
Rev. Mus. Nacional, Vol. IV, No. 1, Lima.
324 Zárate, A. de (1555):
A History of the Discovery and Conquest of Peru: Books I–IV Translated out of the Spanish by Thomas Nicholas Anno 1581. — London, 1933.
Тур Хейердал
Экспедиция «Кон-Тики»
Моему отцу



Приглашение к путешествию
Вместе с кругозором человека растет его любознательность. Любознательность — движущая сила, которая дана нам от рождения; ее не измеришь ни киловаттами, ни лошадиными силами, но она непрестанно влечет человека вперед, внушает ему стремление преодолеть неизвестность. Особенно сильна любознательность на грани изведанного и еще непознанного, здесь она разгорается, упорно долбит преграду, пока не проникнет за нее, а неведомое непрерывно отходит назад, ведь всезнание недостижимо, как вечно отступающий горизонт.
Ребенок ползет на четвереньках к печке, к ведру, к стулу, ему надо узнать, какие они — холодные или горячие, твердые или мягкие, он сует в рот пирожное, гвозди и камни, чтобы изведать вкус. А когда своя кроватка и своя комната изучены, он стремится за дверь, в соседнюю комнату, вверх или вниз по лестнице, ему необходимо выяснить, что там. Дальше, дальше идут молодые, идут любопытные, подстегиваемые непреходящим стремлением еще и еще потеснить пределы неведомого. И неведомое пятится, отступает, а передовые отряды настойчиво расширяют кругозор человечества, идут через горы и равнины, через пустыни и океаны, поднимаются вверх на аэростате, опускаются вниз в водолазном колоколе. Проникают в ледяное безмолвие Арктики, в тропические джунгли, не оставляя неизведанным ни одного клочка Земли, погружаются на дно глубочайших морей, взбираются на пики высочайших гор — с одной, потом с другой стороны. Дальше, дальше — в верхние слои стратосферы, в безвоздушное пространство, на Луну, к другим планетам, в далекий космос, насколько позволяет время. Потому что человек ограничен временем. Время останавливает человека. Когда-нибудь техника позволит продолжить полет к другим солнечным системам, но путешествие продлится так долго, что одного поколения не хватит, чтобы добраться до цели.
Да, жизни одного человека не хватит, чтобы достичь другой солнечной системы. Ее мало даже для того, чтобы изучить все уголки нашего собственного земного шара. Ничто не остановит бега времени: время — союзник неведомого, оно ставит предел завоеваниям любознательности. И все же человек сделал изобретение, способное устоять против всех атак времени: письмо. Писаное слово — лучший союзник любознательности в ее поединке с временем. Оно выдержит любое путешествие; более того, один человек может за несколько минут прочесть о том, что испытано другим за всю жизнь. Письмо — самое революционизирующее изобретение человечества, оно важнее паровой машины, электрической лампочки и телевидения, вместе взятых, ведь оно позволяет сохранять и концентрировать совокупное знание человечества. Безвестные изобретатели письма вооружили нас динамитом, чтобы мы могли взрывать барьеры неведения, проникая в такие дали, которых мы иначе никогда бы не достигли.
Когда я пишу книги о своих путешествиях, я стремлюсь передать на бумаге впечатления и события в таких словах, чтобы другие могли за несколько часов пережить то, что было пережито нами за месяцы, может быть, годы. Все не могут отправиться в путешествие или экспедицию, каждый делает свое дело, вносит свой вклад в жизнь общества; да и те из нас, кто путешествует, читают о путешествиях других и о том, что делают все те, кто не путешествует, кто остается дома и приводит в движение шестеренки цивилизации, — от крестьянина и рыбака, которые всех нас кормят, до рабочего, служащего, ученого, экономиста, администратора и политика, образующих ячейки сложной системы современного государства.
Желающих путешествовать гораздо больше, чем тех, у кого есть время и возможность участвовать в экспедициях. хотя бы потому, что у каждого своя профессия. Выпуская двадцатитомную серию о путешествиях и экспедициях XX века, издательство «Мысль» снабжает всех, кого манят странствия, билетами во все уголки земного шара.
Вы можете отправиться во льды Арктики под руководством Папанина и Пири, можете вместе с Амундсеном, Гусевым и Трешниковым, Фуксом и Хиллари исследовать белые пустыни Антарктики. Вы можете погреться среди вулканов под надежным присмотром Тазиева и Мархинина или уйти в необозримые дебри Азии вместе с Арсеньевым, Рерихом, Обручевым и Мурзаевым. Можете погрузиться на дно Мирового океана в обществе Кусто и Пикара и взойти на высочайшие вершины Гималаев вместе с Эрцогом и Нойсом. Можете навестить диких животных Африки вместе с Гржимеком, затеряться в тропических лесах Южной Америки вместе с Фосеттом или вместе с Ушаковым исследовать безвестные острова в Северном Ледовитом океане. Проникнуть вместе с Кастере в нескончаемые пещеры, чтобы изучать таинственный подземный мир, или же выйти в море с отважным одиночкой Бомбаром. А я могу пригласить вас в путешествие в далекое прошлое, когда неведомые мореплаватели делали плоты и лодки из бальсы и папируса, и мы пройдем вместе с ними через океан из Америки и в Америку, чтобы посмотреть, не было ли связи между древнейшими культурами мира.
Добро пожаловать в путешествие, куда бы вас ни влекло! Может быть, начав читать, вы войдете во вкус и побываете вместе с нами во всех концах маленькой, но удивительно разнообразной планеты, на которой мы странствуем сообща в неизведанном, безбрежном мировом пространстве.
Глава 1
Теория
C чего все началось. — Старик с острова Фату-Хива. — Ветер и течение. — Поиски Тики. — Кто заселил Полинезию? — Загадка Южных морей. — Теории и факты. — Легенда о Кон-Тики и белой расе. — Война
Иногда человек ловит себя на том, что оказался в совершенно необычной ситуации. Пусть ты шел к этому постепенно и естественно; когда уже возврата нет, ты вдруг удивляешься: как это я ухитрился попасть в такое положение?
Если ты, например, с пятью товарищами и одним попугаем вышел в море на плоту, рано или поздно наступит такое утро, когда ты, проснувшись
среди океана, со свежей головой начнешь размышлять.
Вот в такое утро я сидел над отсыревшим от росы судовым журналом и записывал:
«17 мая. Сильное волнение. Ветер свежий. Сегодня мне кашеварить, я подобрал семь летучих рыб на палубе, одного спрута на крыше каюты и неизвестную рыбу в спальном мешке Торстейна…»
Тут карандаш остановился, и снова в глубине сознания зашевелилась мысль: а все-таки необычное 17 мая, и вообще в высшей степени необычная обстановка… море и небо… с чего же все это началось?
Повернешься налево — и открывается вид на могучий синий океан, на шипящие волны, которые одна за другой, одна за другой проносятся мимо в своем нескончаемом беге к вечно отступающему горизонту. Повернешься направо — в хижине, в тени бородатый человек лежит на спине и читает Гёте, удобно воткнув пальцы босых ног между планками низкой бамбуковой крыши. Эта хрупкая маленькая хижина — наш дом.
— Бенгт, — сказал я, отталкивая зеленого попугайчика, который вздумал взобраться на судовой журнал, — может быть, ты мне ответишь: как мы до этого додумались?
Томик Гёте опустился, открыв золотистую бороду:
— Кому же это знать, как не тебе, ведь ты все придумал, и, по-моему, придумал очень здорово.
Он передвинул пальцы ног на три планки выше и как ни в чем не бывало продолжал читать Гёте. На бамбуковой палубе рядом с хижиной под жаркими лучами солнца трудились еще трое. Полуголые, загорелые, бородатые, с белыми полосками соли на спине, а выражение лица такое, будто они всю жизнь только тем и занимались, что сплавляли лес на запад через Тихий океан. А вот и Эрик, пригнувшись, забирается в хижину со своим секстантом и кипой бумаг:
— Восемьдесят девять градусов сорок шесть минут западной долготы и восемь градусов две минуты южной широты — неплохо продвинулись за последние сутки, а?
Он взял у меня из рук карандаш и нарисовал маленький кружочек на карте, висевшей на бамбуковой стене, — маленький кружочек на конце дуги из девятнадцати других кружочков, которая начиналась у портового города Кальяо на побережье Перу.
Тут и Герман, Кнют и Торстейн забрались внутрь, чтобы полюбоваться на новый значок, который был на добрых 40 морских миль ближе к островам Полинезии, чем предыдущий.
— Вот так-то, ребята, — гордо произнес Герман, — мы уже в тысяче пятистах семидесяти километрах от побережья Перу.
— И до ближайших островов по курсу осталось всего лишь шесть тысяч четыреста тридцать километров, — добавил Кнют осторожно.
— Для полной точности добавим, что мы в пяти тысячах метрах над дном морским, ну и до луны над нами не одна сажень, — сказал Торстейн.
Теперь мы все точно знали, где находимся, и я мог продолжать свои размышления на тему «почему?». Попугаю было решительно все равно, он упрямо лез на вахтенный журнал. А кругом — все тот же обрамленный небом океан: внизу сине, вверху сине.
Может быть, все началось прошлой зимой в кабинете музея в Нью-Йорке? А может быть, еще десятью годами раньше на одном из островков Маркизского архипелага в центре Тихого океана? И кто знает, возможно, мы причалим именно к этому острову, если норд-ост не отнесет нас южнее, в сторону Таити и Туамоту.
Схема плавания «Кон-Тики»

Я отчетливо представлял себе маленький островок с ржаво-красными обветренными скалами, зеленые заросли, сбегающие по косогорам к морю, стройные пальмы, что качаются на берегу в вечном ожидании. Островок называется Фату-Хива; сейчас нас отделяют от него тысячи морских миль, и на всем этом пути ни одного клочка суши. Я видел узкую долину Уиа и отлично помнил, как мы вечерами сидели в ее устье на пустынном берегу, глядя на этот самый необозримый океан. Тогда я совершал свадебное путешествие, и меня не окружали, как сейчас, бородатые пираты. Мы собирали фауну для коллекции, а также идолов и другие остатки давно вымершей культуры. Мне отчетливо запомнился один вечер. Цивилизованный мир казался невообразимо далеким и нереальным. Почти год мы прожили на острове, где не было других европейцев, намеренно расставшись со всеми благами, а заодно и всеми пороками цивилизации. Нашим домом была хижина на сваях, которую мы выстроили под пальмами на берегу, и ели мы то, чем нас потчевал тропический лес и Тихий океан.
Суровая школа практической жизни позволила нам лучше узнать многие своеобразные проблемы Тихого океана; мне думается, мы во многом как физически, так и психологически шли по стопам древнего народа, который прибыл на эти острова неведомо откуда и полинезийские потомки которого безраздельно владели островным царством, пока не явились представители нашей расы — с Библией в одной руке, ружьем и водкой — в другой.
В тот памятный вечер мы, как обычно, сидели в лунном свете на берегу, лицом к океану. Мы были в плену окружающей нас сказки и чутко все воспринимали, боясь хоть что-то пропустить. Жадно вдыхали запах буйного леса и соленого моря, слушали шорох ветра в листве и пальмовых кронах. Время от времени все заглушали могучие океанские валы, они несли свои пенящиеся гребни через отмель, чтобы разбить их вдребезги о гальку. Воздух наполнялся стуком, рокотом и шуршанием миллионов блестящих камешков, затем все стихало: океан отступал, набираясь сил для нового натиска на упорный берег.
— Странно, — заметила Лив, — на той стороне острова никогда не бывает такого прибоя.
— Верно, — ответил я. — Здесь — наветренная сторона, поэтому океан никогда не бывает спокоен.
И мы продолжали любоваться океаном, который готов был без конца подчеркивать: вот я иду к вам с востока, с востока, с востока. Восточный ветер, вечный пассат, — вот кто теребил океанскую гладь, вспахивал ее и гнал борозды вперед к этим островам, где непрерывный натиск океана наконец разбивался о рифы и скалы. А пассат взмывал над берегом, лесом, горами и беспрепятственно летел дальше на запад, от острова к острову, туда, где заходит солнце. С незапамятных времен волны и легкие тучки точно так же переваливали через далекую линию горизонта на востоке. Это отлично знали первые люди, достигшие островов. Это знали птицы и насекомые; вся растительность определялась этим обстоятельством. А мы, кроме того, знали, что там, за горизонтом, на востоке, откуда выплывают облака, далеко-далеко простирается берег Южной Америки. 8 тысяч километров отсюда, и все время вода, вода…
Мы смотрели на летящие облака и залитый лунным светом колышащийся океан и прислушивались к рассказу полуголого старика, который сидел перед нами на корточках, глядя на тлеющие угли прогоревшего костра.
— Тики, — негромко произнес старик. — Он был и бог, и вождь. Это Тики привел моих предков на эти острова, где мы теперь живем. Раньше мы жили в большой стране далеко за морем.
Он поковырял угли палочкой, чтобы не потухли окончательно, а сам продолжал размышлять. Старый человек, он жил прошлым и был связан с ним всеми узами. Он преклонялся перед своими предками и их подвигами, совершенными в незапамятные времена, когда на земле жили боги. И он предвкушал встречу с предками. Старый Теи Тетуа был последним представителем вымерших племен, которые когда-то населяли восточное побережье Фату-Хивы. Он не знал, сколько ему лет, но его морщинистая темно-коричневая кожа выглядела так, словно ветер и солнце сушили ее сто лет. Он был одним из тех немногих жителей архипелага, кто еще помнил сказы отцов и дедов и верил в предания о сыне Солнца — великом полинезийском вожде и боге Тики.
Ночью, когда мы поднялись в нашу клетушку на сваях и легли спать, в моей голове все еще звучал рассказ старого Теи Тетуа о Тики и о заморской родине островитян. Глухие удары прибоя аккомпанировали моим мыслям; казалось, голос седой старины, рокочущий там, в ночи, хочет что-то поведать. Я не мог уснуть. Как будто время перестало существовать, и Тики во главе своей морской дружины в эту самую минуту впервые высаживается на сотрясаемый прибоем берег. И вдруг меня осенило.
— Лив, тебе не кажется, что огромные каменные изваяния Тики в здешних лесах удивительно похожи на могучие статуи, памятники некоторых древних культур Южной Америки?
Прибой явственно пророкотал что-то одобрительное. И постепенно стих: я уснул.
Да, пожалуй, так все и началось. Во всяком случае так было положено начало целому ряду событий, в итоге которых мы шестеро и один зеленый попугай оказались на плоту посреди океана, вдали от берегов Южной Америки.
Помню, как я потряс отца и удивил мать и друзей, когда, вернувшись в Норвегию, сдал свою коллекцию жуков и рыб с Фату-Хивы в Зоологический музей университета. Я решил бросить зоологию и заняться древними народами. Меня захватили нерешенные загадки Южных морей. Должен же быть вразумительный ответ. И я задался целью установить, кем был этот легендарный Тики, откуда он пришел.
Много лет океанский прибой и развалины в дебрях были словно далекий сон, туманные образы, которые неотступно сопровождали все мои занятия. Я начал с того, что на собственном опыте изучил, как жили народы Тихого океана; теперь я взялся за научную литературу. Нельзя понять мысли и поступки первобытного народа, если только штудировать книги и музейные коллекции, но нельзя и ограничиваться одними лишь путешествиями и наблюдениями в поле.
Ученые труды, записки эпохи великих открытий, необъятные коллекции музеев Европы и Америки давали богатейший материал для мозаики, которую мне хотелось собрать из многих кусочков.
С тех пор как представители нашей расы — вскоре после открытия Америки — впервые добрались до тихоокеанских островов, исследователи во всех областях науки собрали неисчерпаемое множество сведений как о народах Южных морей, так и об их соседях. И однако до сих пор нет единого мнения ни о происхождении полинезийцев, ни о том, почему они населяют только уединенные острова восточной части Тихого океана.
Когда европейцы впервые отважились выйти на необозримые просторы величайшего из океанов земли, они, к своему удивлению, нашли там множество гористых островков и плоских коралловых рифов, отделенных друг от друга и от всего остального мира огромными водными пространствами. И каждый островок был уже заселен, красивые, великолепно сложенные люди встречали мореплавателей на берегу, а кругом бегали собаки, свиньи, куры. Откуда пришли эти люди? Они говорили на своем языке, который больше никто не понимал. Нескромные представители нашей расы, присвоившие себе честь открытия этих островов, обнаруживали на каждом пригодном для заселения клочке суши возделанные земли и поселения, хижины и святилища. А на некоторых островах были даже древние пирамиды, мощеные дороги и каменные статуи вышиной с четырехэтажный европейский дом. Но никто не мог разрешить загадку. Что это за народ, откуда он явился сюда?
Сколько написано трудов на эту тему, столько и ответов. Специалисты в разных областях предлагали совершенно различные решения, которые затем опровергались весьма логичными доводами других исследователей, шедших своими путями. Родиной полинезийцев вполне убежденно называли Малайские острова, Индию, Китай, Японию, Аравию, Египет, Кавказ, Атлантиду, даже Германию и Норвегию! Но всякий раз возникала какая-нибудь закавыка, из-за которой все построение повисало в воздухе.
А там, где пасовала наука, выступала на сцену фантазия. Таинственные каменные истуканы острова Пасхи вместе со всеми прочими следами древней культуры неизвестного происхождения на этом клочке земли, который лежит один-одинешенек как раз посередине между ближайшими островами Полинезии и Южной Америкой, давали повод к всевозможным догадкам. Многие считали, что находки на острове Пасхи похожи на памятники некоторых древнейших цивилизаций Южной Америки. Может быть, в незапамятные времена существовал затонувший позднее материковый мост? Может быть, остров Пасхи и все те острова Южных морей, на которых найдены сходные изваяния, — остатки затонувшего континента?
Это предположение кое-кому нравилось и казалось приемлемым, однако геологи и другие ученые отвергают его. К тому же зоологи, которые изучают насекомых и улиток, доказали, что острова Южных морей на всем протяжении истории человечества, как и в наши дни, были полностью изолированы друг от друга.
Вот почему совершенно очевидно, что давным-давно, по собственной воле или вынужденно, праполинезийцы откуда-то приплыли на эти уединенные острова, либо дрейфуя по течению, либо под парусами. Больше того, если присмотреться, выходит, что это было не так уж много столетий назад. На островах не успели еще сложиться разные языки, хотя полинезийцы разбросаны на площади, в четыре раза превосходящей Европу. От Гавайских островов на севере до Новой Зеландии на юге, от Самоа на западе до острова Пасхи на востоке тысячи морских миль, и однако все живущие порознь племена говорят на диалектах одного общего языка, который мы называем полинезийским. Нигде на островах не было письменности, если не считать острова Пасхи, где туземцы сохраняли деревянные дощечки с загадочными знаками, которых не могли прочесть ни они сами, ни кто-либо другой. Но школы были, и в них главным предметом считались поэтические предания: в Полинезии история была и религией. Островитяне обожествляли предков, они поклонялись своим умершим вождям, начиная с Тики, которого называли сыном Солнца.
Почти на каждом острове были ученые, которые могли перечислить поименно всех местных вождей со времени заселения острова. А помнить все это им помогали хитроумно связанные вместе шнуры с узлами, — такими же точно шнурами пользовались инки в Перу. Современные исследователи сопоставили все родословные с различных островов и обнаружили поразительное совпадение как имен, так и числа поколений. Принимая средний возраст полинезийского поколения в 25 лет, подсчитали, что острова Южных морей были заселены не раньше конца V — начала VI века нашей эры. Следы другой культуры и соответствующая ей новая генеалогия вождей свидетельствуют, что около 1100 года нашей эры на эти же острова пришли другие переселенцы.
Откуда же вышли эти люди, причем сравнительно недавно? Похоже, лишь очень немногие исследователи учли важнейший фактор, а именно: на столь позднем этапе истории сюда приплыл типичный неолитический народ. Хотя во всем остальном уровень культуры был поразительно высок, переселенцы привезли с собой особого рода каменные топоры и много других характерных каменных орудий, которые и распространились на всех островах. Вспомним, что, за исключением немногих изолированных лесных племен, к 500 и тем более к 1100 году нашей эры нигде не было неолитической культуры, способной к дальнейшему распространению, — нигде, кроме Нового Света, где даже самые развитые индейские культуры не знали железа и пользовались каменными топорами и другими орудиями точно такого вида, какой употреблялся на островах Южных морей, пока здесь не появились европейцы.
Многочисленные индейские племена, о которых мы здесь говорим, были ближайшими родственниками полинезийцев на востоке. На западе жили только дикие и первобытные народы Австралии и Меланезии, отдаленные родичи негроидов, а за ними лежали Индонезия и побережье Азии, где период неолита, судя по всему, был пройден раньше, чем где-либо еще на свете.
Вот почему мое внимание все больше переключалось со Старого Света, где многие искали разгадку и никто ее не нашел, на изученные и неизученные индейские культуры Америки, о которых никто до тех пор всерьез не думал в этой связи. И что же: на ближайшем на восток материке, там, где сегодня берег Тихого океана и прилегающие к нему горные цепи занимает южноамериканская республика Перу, не было недостатка в следах, стоило только поискать. Здесь некогда жил неизвестный народ, который создал одну из самых своеобразных культур на свете, чтобы затем, еще в давние времена, вдруг буквально исчезнуть с лица земли. Остались громадные каменные скульптуры, похожие на изваяния на островах Питкерне, Маркизских и Пасхе, а также гигантские ступенчатые пирамиды, какие встречаются на Таити и Самоа. На склонах гор древние зодчие высекали каменными орудиями глыбы величиной с наш железнодорожный вагон, перемещали их на десятки километров и устанавливали торчком или клали друг на друга, сооружая ворота, могучие стены и террасы — совсем такие, какие мы видим на некоторых островах Тихого океана.
Когда в Перу пришли первые испанцы, в этой горной стране они нашли великую империю инков. И местные жители рассказали, что огромные, теперь заброшенные, монументы были воздвигнуты белыми богами, жившими здесь до того, как инки взяли власть в свои руки. Исчезнувших зодчих описывали как мудрых и миролюбивых учителей, которые пришли с севера на заре истории и обучили предков индейцев строительному искусству и земледелию, передали им свои обычаи. Они выделялись среди индейцев белой кожей, длинной бородой и высоким ростом. В конце концов они покинули Перу так же внезапно, как и пришли туда. Инки сами стали править страной, а белые учителя навсегда исчезли из Южной Америки, уйдя на запад, в Тихий океан.
А надо сказать, что, когда европейцы впервые попали на тихоокеанские острова, их как раз поразило, что у многих туземцев была борода и почти белая кожа. На многих островах можно было увидеть целые семьи с необычайно светлой кожей, рыжими вплоть до русых волосами, серо-голубыми глазами и лицами чуть ли не семитского типа, с орлиным носом. У собственно полинезийцев была золотисто-смуглая кожа, волосы цвета воронова крыла и плоский, широкий нос. Рыжеволосые называли себя
урукеху и утверждали, что происходят от первых вождей на островах — белокожих богов по имени Тангароа, Кане, Тики. Во всей Полинезии были распространены легенды о происхождении первых островитян от загадочных белых людей. Вот и Роггевен, когда в 1722 году открыл остров Пасхи, с удивлением увидел на берегу «белых людей». А пасхальцы могли поименно перечислить тех своих предков, у кого была белая кожа, начиная с Тики и Хоту Матуа, которые, по их словам, приплыли из-за моря, «из гористой, иссушенной солнцем страны на востоке».
Продолжая поиски, я находил в культуре, мифологии, языке Перу поразительные следы, которые побуждали меня еще более настойчиво и целеустремленно искать родину главного полинезийского бога Тики.
И вот настала минута, когда я нашел то, на что надеялся.
Читая инкские легенды о короле-солнце Виракоче, предводителе исчезнувшего из Перу белого народа, я вдруг увидел в комментарии следующие строки:
«Виракоча — инкское слово (язык кечуа), следовательно, оно позднего происхождения. Первоначально бога солнца Виракочу в древнем Перу, по-видимому, называли Кон-Тики, или Илла-Тики, что означает Солнце-Тики, или Огонь-Тики. Кон-Тики был верховным жрецом и королем „белых людей“ из инкских преданий, народа, о котором нам напоминают развалины могучих сооружений на берегах озера Титикака. Легенда сообщает, что на Кон-Тики нападал вождь по имени Кари, который пришел из долины Кокимбо. В битве на одном из островов озера Титикака таинственные белые бородатые люди были разбиты наголову, но сам Кон-Тики вместе с ближайшими сподвижниками спасся и пробрался позднее к побережью, откуда они в конце концов исчезли в западном направлении, в море».
Теперь я больше не сомневался, что белый вождь-бог Солнце-Тики, изгнанный, по словам инков, их предками из Перу в Тихий океан, и есть белый бог-вождь Тики, сын Солнца, которого население всех восточных тихоокеанских островов воспевает как своего родоначальника. И ведь различные черты жизни Солнца-Тики в Перу, с упоминанием древних географических наименований района Титикака, можно было проследить и в исторических преданиях жителей Полинезии.
Но полинезийские острова хранят свидетельства и другого рода, говорящие о том, что миролюбивое племя Кон-Тики недолго оставалось единовластным хозяином на новом месте. Сначала на Гавайи, а потом и на другие острова Южных морей прибыли на больших военных пирогах, связанных попарно и не уступавших по размерам ладьям викингов, индейцы с западного побережья Северной Америки. Они смешались с родом Кон-Тики и принесли с собой новую культуру. Это был уже второй неолитический народ, добравшийся до Полинезии. В 1100 году он не знал ни металла, ни колеса, ни гончарного искусства, ни ткацкого станка, не был знаком с хлебными злаками.
Вот почему, когда немцы вторглись в Норвегию, я был в Канаде, у северо-западных индейцев Британской Колумбии, и расчищал наскальные изображения в духе древнеполинезийских рисунков.
Напра-во! Нале-во! Кру-гом! Мытье полов в казарме, чистка амуниции, школа радиотелеграфистов, парашютная тренировка и в конце концов высадка зимой с морского конвоя в Финмарке, где в отсутствие солнца-бога хозяйничал бог войны.
Но вот настал мир.
И пришел день, когда моя теория обрела законченную форму. Я решил отправиться в Америку, чтобы изложить ее там.
Глава 2
Рождение экспедиции
У специалистов. — Камень преткновения. — В Доме моряка. — Последний выход. — Клуб исследователей. — Новое снаряжение. — У меня появляется спутник. — Триумвират. — Один художник и два диверсанта. — В Вашингтон. — Совещание в военном департаменте. — У генерал-квартирмейстера со списком пожеланий. — Денежные затруднения. — Среди дипломатов в ООН. — Мы летим в Эквадор
Да, так оно, пожалуй, и началось — у костра на одном из островов Южных морей, где старый полинезиец сидел и рассказывал предания и легенды своего племени. А много лет спустя я сидел уже с другим стариком в сумрачном кабинете большого музея в Нью-Йорке.
Кругом, за стеклом аккуратных витрин лежали немые свидетели былого, словно следы, ведущие в прошлое. Рядом с витринами вдоль стен вытянулись книжные полки. Тут были такие книги, что один человек написал и не больше десяти прочли. Седой добродушный старик, сидящий за рабочим столом, прочитал все эти книги и сам написал некоторые из них. Но сейчас он явно был не в духе. Нервно стиснув подлокотники кресла, он смотрел на меня так, словно я спутал ему карты в пасьянсе.
— Нет, — говорил он, — это невозможно!
Наверное, такой нее вид был бы у Деда Мороза, если бы кто-нибудь сказал, что следующий Новый год придется на 1 мая.
— Вы ошибаетесь, в корне ошибаетесь, — повторил он и возмущенно затряс головой, словно вытряхивая из нее столь еретическую мысль.
— Но ведь вы еще не читали моих доводов, — попытался возразить, кивая с надеждой в сторону лежащей на столе рукописи.
— Доводы! — воскликнул он. — Нельзя же подходить к этнографическим проблемам так, словно это детективная загадка.
— Почему нет? Все мои выводы основаны на собственных наблюдениях и на фактах, которые добыты наукой.
— Задача науки — чистое исследование, — спокойно сказал он, — а не попытки что-либо доказать.
Он бережно отодвинул в сторону нетронутую рукопись и наклонился над столом.
— Это верно, что в Южной Америке развилась одна из самых замечательных культур прошлого, и нам неизвестно, ни какой народ ее создал, ни куда он исчез, когда власть захватили инки. Но одно мы знаем совершенно точно: ни один из народов Южной Америки не переселился на тихоокеанские острова.
Он пристально взглянул на меня и продолжал:
— И знаете, почему? Ответ очень прост. Они не могли туда попасть, у них не было лодок!
— У них были плоты, — нерешительно возразил я. — Знаете, наверное, — бальсовые плоты.
Старик улыбнулся и спокойно сказал:
— Ну что ж, попробуйте пройти из Перу до тихоокеанских островов на бальсовом плоту.
Последнее слово осталось за ним. Было уже поздно. Мы встали. Старый ученый проводил меня до дверей, добродушно похлопал меня по плечу и сказал, что я всегда могу обращаться к нему за помощью. Но в дальнейшем мне все-таки лучше заниматься либо Полинезией, либо Америкой, не валить в кучу две разных части света. Здесь он спохватился и вернулся к столу.
— Вы, кажется, забыли вот это. — Он возвратил мне рукопись.
Я прочел знакомый заголовок: «Полинезия и Америка, к вопросу о древних связях». Зажав рукопись под мышкой, я побрел вниз по лестнице и смешался с толпой прохожих.
Позднее, в тот же вечер я приехал в Гринвич Вилледж и постучался в дверь невзрачного домика на окраине поселка. Так повелось, что я шел сюда со своими заботами, когда они уж очень меня донимали.
Маленький тщедушный человечек с длинным носом опасливо приоткрыл дверь, но тут же, широко улыбаясь, распахнул ее и затащил меня внутрь. Он провел меня прямо в уютную кухоньку и заставил накрывать на стол, а сам тем временем удвоил порцию загадочного, но приятно пахнущего варева, которое разогревал на газовой плите.
— Молодец, что зашел, — сказал он. — Ну как?
— Плохо, — ответил я. — Никто не хочет читать рукопись.
Он наполнил тарелки, и мы принялись за еду.
— Очень просто: те, к кому ты обращаешься, думают, что все это твоя фантазия. Ты же знаешь, у нас в Америке сколько угодно чудаков.
— И еще одно, — вставил я.
— Знаю, аргументация. Все они узкие специалисты и недоверчиво относятся к такой методике, когда привлекаются данные из самых различных отраслей, от ботаники до археологии. Они сознательно ограничивают размах исследований, чтобы тем настойчивое зарываться в глубину и добывать детали. Современная наука требует, чтобы каждый специалист копался в своей яме. Редко кто-нибудь принимается разбирать и складывать вместе то, что они добывают.
Он встал и сходил за объемистой рукописью:
— Вот, посмотри. Мой последний труд — о птичьем орнаменте в китайских народных вышивках. Семь лет готовил, зато сразу приняли к изданию. Наше время требует специализации.
Карл был прав. Но пытаться решить загадки Тихого океана без всестороннего подхода было, на мой взгляд, все равно что складывать мозаику из кусочков только одного цвета.
Мы убрали со стола, я помог ему вытирать посуду.
— Из Чикагского университета что-нибудь ответили?.
— Нет.
— А что сказал сегодня твой старый приятель из музея?
Я помялся, прежде чем ответить.
— Его моя теория тоже не заинтересовала. Сказал, что у индейцев были только плоты, значит, нечего и думать о том, чтобы они могли открыть полинезийские острова.
Хозяин вдруг принялся ревностно тереть тарелку.
— М-да, — промолвил он наконец. — По правде говоря, мне тоже это кажется таким препятствием, которое ставит под сомнение всю твою теорию.
Я мрачно поглядел на тщедушного этнолога, которого всегда считал своим верным союзником.
— Ты только не пойми меня превратно, — поспешно добавил он. — Я допускаю, что ты прав, но очень уж это непонятно. Мой труд о вышивках подтверждает твою теорию.
— Карл, — сказал я, — я уверен, что индейцы ходили на своих плотах через Тихий океан, я даже готов сам построить такой плот и пересечь на нем океан, чтобы доказать, что это было возможно.
— Ты с ума сошел!
Мой друг принял мои слова за шутку и рассмеялся, но за смехом крылось опасение: а что, если я это всерьез?..
— Значит, по-твоему, это невозможно?
— Ты с ума сошел! На плоту!?
Он не знал, что и думать, и пытливо уставился на меня, как бы ожидая, что я сейчас улыбнусь и станет ясно: пошутил.
Он не дождался улыбки. Я понял, что никто не примет мою теорию, потому что Перу и Полинезию разделяет необозримый океан, а я пытаюсь обойти этот факт на доисторическом плоту.
— Послушай-ка, — неуверенно произнес Карл. — Пойдем куда-нибудь, выпьем по стаканчику.
Мы пошли и выпили по четыре.
Как раз в эти дни пришел срок платить за комнату. Одновременно из Норвежского банка мне написали, что больше долларов я не получу: валютные ограничения… Я собрал вещи и доехал подземкой до Бруклина. Меня пустили в Норвежский дом моряка, там кормили сытно и вкусно, и цены отвечали возможностям моего бумажника. Мне выделили комнатушку наверху, а ел я вместе со всеми в просторной столовой внизу.
Одни моряки въезжали, другие уезжали. Разные люди — разные по внешности, росту, степени трезвости, но всех их объединяло одно: о море они говорили со знанием дела. Я узнал, что волны не увеличиваются с удалением от суши и с возрастанием глубины. Наоборот, внезапный шквал подчас коварнее всего как раз у берега. Мели, прибрежные течения и противотечения — все это может породить куда более могучие валы, чем в открытом море. И выходит, что если судно может плавать вдоль открытого, незащищенного берега, то оно не подведет и вдали от материка. Я узнал также, что при сильной волне большие суда зарываются носом или кормой, и многотонные массы воды, врываясь на палубу, завязывают узлом стальные трубы, а маленькой лодке хоть бы что — она целиком умещается между волнами и легко перемахивает через гребни. Некоторые из моих собеседников спасались на шлюпках после того, как их судно шло ко дну, разбитое волнами.
А вот о плотах они мало что знали. Плот — разве это судно: ни киля, ни поручней! Так просто — плавучее средство, на котором при аварии можно продержаться, пока тебя не подберут. Правда, один из них очень хорошо отзывался о плотах: он три недели провел на плоту после того, как немецкая торпеда пустила ко дну его судно посреди Атлантического океана.
— Но управлять им никак нельзя, — добавил он. — То боком идет, то задом наперед, смотря откуда ветер.
В библиотеке мне удалось разыскать записки первых европейцев, которые достигли тихоокеанского побережья Южной Америки. В этих записках было вдоволь зарисовок и описаний больших индейских бальсовых плотов. Прямой парус, шверты, на корме — длинное рулевое весло. Значит, они управляемы.
Шли недели, а ко мне в Дом моряка не поступало никакого ответа ни из Чикаго, ни из других городов, куда я разослал копии рукописи. Не хотят читать.
И вот как-то под воскресенье я взял себя в руки, отправился в морскую лавку на улице Уотер-стрит и купил лоцманскую карту Тихого океана; продавец учтиво величал меня «капитаном». Зажав карту под мышкой, я доехал на электричке до Оссининга, где обычно проводил уикэнд на даче молодой норвежской четы. Хозяин был раньше капитаном судна, а теперь представлял в Нью-Йорке компанию «Фред Ульсен Лайн».
Освежившись в бассейне, я на два дня прочно забыл о большом городе. Амбьёрг вынесла поднос с коктейлями, и мы уселись на траве, где пригревало солнце. Я не мог утерпеть, расстелил на газоне карту и спросил Вильгельма, как он считает: можно дойти на плоту от Перу до островов Южных морей?
Он был слегка озадачен и смотрел больше на меня, чем на карту, однако сразу ответил утвердительно. Я испытал такое облегчение, словно мне прицепили к воротнику воздушный шар, ведь Вильгельм был большой знаток и любитель всего, что касалось моря и мореходства. Тут же, не сходя с места, я посвятил его в свои замыслы. К моему удивлению, он заявил, что это чистейшее безумие.
— Но ведь ты же сам сейчас сказал, что считаешь это возможным! — прервал я его.
— Совершенно верно, — согласился он. — Но столько же шансов, что дело кончится плохо. Ты еще никогда вообще не бывал на бальсовом плоту, и на тебе — сразу через Тихий океан. Может быть, пройдешь, а может быть, и нет. Древние индейцы Перу, наверное, опирались на опыт поколений. Возможно, на каждый дошедший плот тонуло десять, если не сто. Сам говоришь, инки выводили в море целые флотилии бальсовых плотов. Если с кем-нибудь случалось несчастье, другие могли их выручить. А кто подберет вас посреди океана? Даже если ты возьмешь с собой радиопередатчик, это вовсе не так просто — найти маленький плот среди волн за тысячи миль от суши. Разыграется шторм, смоет вас с плота, и вы сто раз успеете утонуть, пока подойдет помощь. Нет уж, сиди-ка ты лучше на месте и жди, кто-нибудь прочтет твою рукопись. Пиши им еще и еще, напоминай, только так и добьешься чего-нибудь.
— Я не могу больше ждать, последние центы досчитываю.
— Переезжай к нам. Кстати, как ты вообще намереваешься организовать экспедицию из Южной Америки, если у тебя нет денег?
— Легче заинтересовать людей экспедицией, чем непрочтенной рукописью.
— И чего же ты добьешься?
— Опровергну один из самых веских аргументов против моей теории, не говоря уже о том, что привлеку внимание ученых к этому вопросу.
— А если несчастье?
— Тогда я ничего не доказал.
— И будет твоя теория окончательно скомпрометирована.
— Возможно, но ведь ты сам сказал, что один плот из десяти доходил.
Пришли дети хозяина, они затеяли играть в крокет, и в тот день мы больше не возвращались к моему вопросу.
На следующий уикэнд я снова отправился в Оссининг с картой под мышкой. И когда я возвращался оттуда в город, через всю карту от побережья Перу до островов Туамоту в Тихом океане протянулась длинная карандашная черта. Мой друг капитан понял, что меня не отговорить, и мы несколько часов просидели вместе над картой, определяя наиболее вероятный путь плота.
— Девяносто семь суток, — сказал наконец Вильгельм. — Но помни, это только при идеальных условиях, если все время будет дуть попутный ветер и если плот в самом деле сможет идти под парусом, как ты предполагаешь. Так что считай никак не меньше четырех месяцев, а то и гораздо дольше.
— Добро, — ответил я удовлетворенно. — Будем считать минимум четыре месяца, а уложимся в девяносто семь суток.
Комнатушка в Доме моряка показалась мне в этот вечер вдвое уютней, когда я вернулся домой и сел на койку с картой в руках. Я встал и вымерил площадь комнатки шагами, насколько позволяли кровать и комод. Ну-у, плот будет куда больше! Я высунулся из окна, чтобы отыскать взглядом всеми позабытое звездное небо над большим городом — маленький квадрат, стиснутый крышами высоких домов. Что ж, если на плоту окажется тесновато, то во всяком случае небу над нами будет просторно.
Около Центрального парка, на 72-й западной улице расположен один из самых избранных клубов Нью-Йорка. Лишь блестящая латунная дощечка с надписью «Клуб исследователей» говорит прохожему, что за этой дверью кроется нечто необычное. А войдешь — и словно ты вдруг приземлился с парашютом в другом мире, за десятки тысяч километров от зажатых небоскребами шеренг автомобилей. Двери в Нью-Йорк закрылись за твоей спиной, и ты погружаешься в атмосферу львиной охоты, горных восхождений и полярных экспедиций, но в то же время чувствуешь себя как бы в салоне комфортабельной яхты, совершающей кругосветное плавание. Головы бегемотов и благородных оленей, могучие рога и бивни, военные барабаны и копья, индейские покрывала, идолы, модели кораблей, флаги, фотографии и карты со всех сторон окружают членов клуба, когда они собираются, чтобы отметить юбилей или послушать доклад о дальних странах.
После моей поездки на Маркизские острова меня избрали действительным членом клуба, и как самый молодой из членов я старался не пропускать ни одного заседания, когда бывал в городе. Но, зайдя туда в дождливый ноябрьский вечер, я немало удивился непривычной картине, которая предстала моим глазам. Посреди пола лежала надувная резиновая лодка с различными принадлежностями и аварийным запасом продовольствия, а вдоль стен и на столах можно было увидеть парашюты, резиновые костюмы, спасательные пояса и всякого рода арктическое снаряжение, а также аппараты для дистилляции воды и другие чудеса. В этот день новый член клуба, полковник Хескин из службы материального обеспечения военно-воздушных сил, должен был прочесть доклад, показывая военные изобретения, которые, как он считал, годились также и для научных экспедиций, тропических и полярных.
После доклада началось горячее и веселое обсуждение.
Известный датский полярный исследователь Петер Фрейхен поднялся во весь свой могучий рост и скептически потряс густой бородой. Он не очень-то верил в эти новомодные штучки. Во время одной из своих экспедиций в Гренландию он решил сменить эскимосский каяк и иглу на резиновую лодку и палатку и едва не поплатился жизнью. Сначала он чуть не замерз: разыгрался буран, а замок «молния» на палатке обледенел, и он никак не мог попасть внутрь. Потом, когда он рыбачил, крючок зацепился за лодку, проколол ее, и она пошла ко дну. Вместе с приятелем эскимосом Фрейхен еле успел перебраться на другой каяк, который пришел им на выручку. Так что он был твердо убежден: сколько ни мудри все хитроумные изобретатели мира в своих лабораториях, им не превзойти того, чему научил эскимосов тысячелетний опыт.
Дискуссия закончилась неожиданным предложением полковника Хескина — действительные члены клуба могли отобрать все что угодно из нового снаряжения для своей очередной экспедиции, с одним только условием: вернувшись, сообщить лаборатории, как понравилась ее продукция.
В этот вечер я последним ушел из клуба. Хотелось до мельчайших подробностей изучить это новехонькое снаряжение, которое само шло в руки, стоило только попросить.
Как раз то, что мне нужно: спасательное оборудование на тот случай, если плот, вопреки всем ожиданиям, развалится, а поблизости не будет других плотов, чтобы прийти к нам на выручку.
Это снаряжение занимало мои мысли и на следующее утро, за завтраком в Доме моряка, когда к моему столу подошел со своим подносом отлично одетый, атлетически сложенный молодой человек. Мы разговорились. Оказалось, что он тоже не моряк, а инженер из Тронхейма, приехал в Америку закупить части для машин и поработать на холодильниках. Он поселился неподалеку и часто приходит в столовую Дома моряка ради хорошей норвежской кухни. Потом он спросил меня, чем я занимаюсь, и я коротко поделился с ним своими замыслами. Сказал, что если до конца недели я не получу ни от кого положительного ответа на рукопись, то все силы обращу на то, чтобы устроить экспедицию на плоту. Мой собеседник помалкивал, но слушал с большим интересом.
Четыре дня спустя мы снова встретились в той же столовой.
— Ну как ты решил — поплывешь или нет? — спросил он.
— Решил. Поплыву.
— Когда?
— При первой возможности. Если я замешкаюсь, со стороны Антарктики нагрянут штормы, в Полинезии начнется сезон ураганов. Надо выходить из Перу через два-три месяца. Но сперва — раздобыть денег, все организовать.
— Сколько человек будет участвовать?
— Думал собрать человек шесть: будет достаточное разнообразие в жизни на плоту и удобно разбить сутки на четырехчасовые вахты.
Он постоял, подумал, потом выпалил:
— Черт, до чего же хочется пойти с тобой! Я бы занимался всякими измерениями и опытами. Тебе же понадобится для твоего эксперимента точно измерять ветер, течения, волны. Не забывай, ведь ты будешь плыть через громадные пространства, которые почти не изучены, потому что там нет регулярного движения судов. Такая экспедиция сможет провести много важных гидрографических и метеорологических исследований, тут и моя термодинамика пригодилась бы.
Что я знал о нем? Только то, что может рассказать прямое, открытое лицо. Впрочем, этого иногда оказывается вполне достаточно.
— Идет, — ответил я. — Пойдем вместе.
Его звали Герман Ватцингер, он был такой же сухопутный краб, как я.
Через несколько дней я привел его с собой в «Клуб исследователей». Здесь мы встретили полярника Петера Фрейхена. У Фрейхена есть выгодное свойство: он никогда не растворяется в толпе. Огромный, как платяной шкаф, с пышной бородой, он выглядит так, словно только что вернулся из тундры. Кажется, что он должен водить за собой на ремне гризли.
Мы подвели его к громадной карте на стене и рассказали о своем замысле пересечь Тихий океан на плоту. Слушая нас, он теребил свою бороду, а его мальчишеские голубые глаза выросли в оловянные блюдца. Потом он топнул деревянной ногой и затянул потуже ремень:
— Вот это план! Черт побери, я и сам бы не прочь с вами!
Старый исследователь Гренландии наполнил наши пивные кружки и стал рассказывать о своей твердой вере в суденышки первобытных народов: они так замечательно приспособлены к природным условиям, что где угодно пройдут. Он сам ходил на плотах по великим рекам Сибири и тащил на буксире плот с туземцами вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Рассказывая, он не переставал теребить свою бороду и приговаривать:
— Эх, черт возьми, Здорово вы задумали!
Благодаря горячей поддержке Фрейхена колеса завертелись с головокружительной скоростью и о нашем плане заговорили все скандинавские газеты. Уже на следующее утро в дверь моей комнаты в Доме моряка громко постучали; меня вызывали к телефону в коридоре. После этого телефонного разговора мы с Германом вечером того же дня очутились в роскошной квартире в одном из фешенебельных районов города. Нас принял холеный молодой человек в лакированных туфлях и шелковом халате, наброшенном на синий костюм. Он извинился, прижимая к носу надушенный платок, и пояснил, что простужен. На вид — хлюпик, но мы-то знали, что он известен в Америке как один из лучших летчиков военного времени. Кроме вялого хозяина присутствовали два энергичных молодых газетчика, которых буквально распирал задор и всевозможные идеи. Нам было известно имя одного из них, талантливого журналиста.
За бутылкой хорошего виски хозяин рассказал, что его заинтересовала наша экспедиция. Он готов ее финансировать, если мы обязуемся по возвращении написать статьи для газет и совершить турне с докладами. В конце концов мы обо всем договорились и выпили за плодотворное сотрудничество между финансирующей стороной и участниками экспедиции. О деньгах больше думать не надо, эта проблема решена, наши казначеи все берут на себя. Нам с Германом надлежит не медля заняться подбором команды и снаряжения, строить плот и отправляться в путь, пока не начались ураганы.
На следующий день Герман взял расчет на работе, и мы засучив рукава принялись за дело. Из экспериментальной лаборатории военно-воздушных сил мне уже сообщили, что такая экспедиция как нельзя лучше подходит для проверки их снаряжения и мне охотно перешлют через «Клуб исследователей» все, о чем бы я ни попросил. Доброе начало! Теперь главной задачей было найти для нашей команды подходящую четверку добровольцев и раздобыть провиант.
Подбирать людей для плавания через океан на плоту надо было очень тщательно, чтобы после нескольких недель вынужденной изоляции на плоту не начались ссоры и беспорядки. Мне не хотелось составлять команду из моряков: вряд ли они больше нашего знают о плотах, да и к чему давать повод для возражений, дескать, мы справились потому, что разбирались в мореходном деле лучше, чем древние перуанские плотоводцы.
Вместе с тем для наших научных отчетов нужен был человек, умеющий и обращаться с секстантом, и нанести на карту наш дрейф.
— Я знаю одного занятного художника, — рассказал я Герману. — Здоровенный детина, играет на гитаре, весельчак. Окончил штурманское училище и несколько раз ходил вокруг света, потом взялся за кисть и краски. Мы с ним с детства знакомы, сколько раз ходили вместе в поход в горы. Напишу ему — уверен: он согласится.
— Что ж, как будто подходит, — кивнул Герман, — но нам еще нужен человек, чтобы разбирался в радио.
— Радио?! — воскликнул я. — На кой черт нам радио — на доисторическом плоту?
— Ну, нет, не говори. Это просто мера предосторожности, и она никак не повлияет на твою теорию, если мы не вызовем помощь. Радио необходимо, чтобы передавать метеосводки и другие сообщения. А нам служба погоды ничего не даст, она не занимается этой частью океана. И даже если мы примем предупреждение о шторме — что толку нам от этого на плоту?
В потоке аргументов утонули мои робкие возражения, которые в общем-то коренились в нелюбви к всевозможным штепселям и верньерам.
— Как ни странно, — сдался я, — но если говорить о радиосвязи на большие расстояния с помощью маленьких передатчиков, то я знаю подходящих людей. В войну я сам попал в радиоподразделение — так сказать, надлежащий человек на надлежащем месте. Словом, я черкну Кнюту Хаугланду и Торстейну Робю.
— Ты их знаешь?
— Да. С Кнютом первый раз встретился в Англии, в сорок четвертом году. У него уже была награда от британского короля, Кнют участвовал в диверсии на Рьюканском заводе тяжелой воды, был радистом группы. Когда мы познакомились, он только что вернулся из Норвегии, с задания. В Осло он укрывался в женской клинике, свою радиостанцию прятал в дымоходе. Гестаповцы запеленговали его, все здание окружили солдаты, против каждой двери поставили по пулемету. Сам начальник гестапо Фемер стоял на дворе и ждал, когда ему вынесут Кнюта. Но выносить пришлось его собственных людей. Стреляя из пистолета, Кнют пробился с чердака в подвал, а оттуда на задний двор и перескочил через каменную ограду, провожаемый градом пуль. Мы встретились в старинном английском замке, там был тайный центр, а его прислали туда, чтобы он наладил связь с тайными радиостанциями в оккупированной Норвегии их в его сети было больше ста. А я окончил курсы парашютистов, и нас должны были сбросить вместе над Нурдмарком. Но тут русские вышли в район Киркенеса, и в Финмарк отправили из Шотландии норвежский отряд, чтобы установить связь с русской армией. И я вместо Нурдмарка попал туда. Там я и встретил Торстейна. Полярная зима была в разгаре, круглые сутки тьма и северное сияние на черном небе, мороз пробирал сквозь все овчины. Наконец мы добрались до пепелищ в Финмарке, и тут с гор к нам спускается веселый, лохматый русоволосый парень с голубыми глазами — Торстейн Робю. Он бежал от оккупантов в Англию, кончил там курсы, потом его забросили в Норвегию, в район Трумсё. И он засел в тайнике с маленьким передатчиком, по соседству с немецким линкором «Тирпиц», десять месяцев ежедневно сообщал в Англию обо всем, что делалось на корабле. Пользовался приемной антенной одного немецкого офицера, подключался к ней по ночам. Так он и наводил английские бомбардировщики, которые в конце концов добили «Тирпиц». А Торстейн ушел в Швецию, откуда снова попал в Англию. Теперь его сбросили с радиостанцией в немецком тылу в Финмарке. Когда немцы отступили, он оказался в нашем тылу и вылез из тайника, чтобы помочь нам своей малюткой: наша станция не дошла, нарвались на мину. Могу поклясться, что и Кнюту, и Торстейну осточертело сидеть дома, они с удовольствием прогуляются на плоту.
— Напиши, спроси их, — предложил Герман.
Я сочинил коротенькое письмецо Эрику, Кнюту и Торстейну. В нем говорилось без всяких околичностей:
«Собираюсь пройти на плоту через Тихий океан, чтобы подтвердить теорию о заселении Полинезийских островов из Перу. Поедете со мной? Обещаю только бесплатный проезд до Перу и Южных морей и обратно, а также, что в пути вы найдете хорошее применение своим специальным знаниям. Отвечайте немедленно».
От Торстейна тотчас пришла телеграмма:
«Еду. Торстейн».
Остальные двое тоже согласились.
На шестое место претендовал то один, то другой кандидат, но всякий раз возникала какая-нибудь помеха. Тем временем мы с Германом занялись провиантом. Мы вовсе не собирались жевать в пути жесткое мясо старой ламы или сушеные клубни кумары, ведь мы выходили в море не за тем, чтобы доказать, что сами происходим от индейцев. Наша цель — испытать добротность и мореходные качества инкского плота, его грузоподъемность и направление дрейфа, убедиться, могут ли стихии переправить его и всю команду без потерь через океан в Полинезию. Конечно, наши древние предшественники могли обойтись сушеным мясом, вяленой рыбой и сушеным картофелем — это была их обычная повседневная пища. К тому же мы собирались проверить: может быть, они в пути ловили рыбу и запасали дождевую воду. А для нашего собственного меню я выбрал скромные армейские пайки, знакомые нам по военному времени.
Как раз в эти дни на должность помощника норвежского военного атташе в Вашингтоне прибыл новый человек. В свое время он командовал в Финмарке ротой, а я был его заместителем. Настоящий сгусток энергии, пламенная душа, Бьёрн Рёрхолт больше всего на свете любил бороться с препятствиями. Он был из тех людей, которые просто теряются, если, одолев одну проблему, не оказываются тотчас перед новой.
Я написал ему о наших делах и попросил его мобилизовать свой нюх, чтобы связаться с интендантским управлением американской армии. Может быть, их лаборатории разрабатывают новые армейские пайки, которые мы можем испытать на тех же условиях, что снаряжение из лаборатории ВВС.
Два дня спустя Бьёрн позвонил мне по междугородному телефону из Вашингтона. Он обращался в отдел внешних сношений военного департамента США, там хотят узнать, что мы затеваем.
С первым же поездом мы с Германом отправились в Вашингтон.
Мы застали Бьёрна в его кабинете при военной миссии.
— Думаю, все будет в порядке, — сказал он. — Завтра нас примут в отделе внешних сношений, надо только заручиться подходящим письмом от полковника.
Полковник был не кто иной, как Отто Мюнте-Кос, норвежский военный атташе. Он встретил нас дружелюбно и, когда узнал, в чем дело, охотно согласился написать письмо.
А когда мы на следующий день утром зашли за письмом, он вдруг поднялся со стула и сказал, что, пожалуй, будет лучше, если он сам поедет с нами. На машине полковника мы отправились к Пентагону, где разместился военный департамент. Впереди сидели полковник и Бьёрн при всех своих регалиях, позади — мы с Германом. Через ветровое стекло мы издали увидели громадное — самое большое в мире — здание Пентагона. В этом доме-гиганте с его 30 тысячами служащих и 25 километрами коридоров состоится наша «морская конференция» с военным начальством. Я ущипнул сам себя за нос. Никогда, ни до, ни после этого, наш плотик не казался нам с Германом таким ничтожным.
После бесконечных скитании по коридорам и коридорчикам мы очутились у отдела внешних сношений. И вот уже мы сидим у роскошного стола красного дерева, рядом с блестящими офицерами; председательствовал сам начальник отдела.
Суровый коренастый офицер из Уэстпоинта, сидящий во главе стола, долго не мог понять, что связывает военный департамент США и наш плот. Но убедительная речь нашего полковника и то, что мы благополучно выдержали ураган вопросов, которые посыпались на нас со всех сторон, сделали свое дело. Он с интересом прочитал письмо из интендантской службы ВВС, потом встал, приказал своему штабу помочь нам через соответствующие каналы, пожелал нам удачи и, чеканя шаг, вышел из конференц-зала. Когда дверь за ним закрылась, молодой штабс-капитан прошептал мне на ухо:
— Бьюсь об заклад, вы получите все, что просите. Это же смахивает на небольшую военную операцию, а у нас тут, как война кончилась, сплошная канцелярия, рутина. И будет отличный случай основательно испытать снаряжение.
Отдел внешних сношений тут же договорился, что нас примет полковник Льются из экспериментальной лаборатории генерал-квартирмейстера. Нас с Германом отвезли туда на машине.
Полковник Льются был добродушный великан с осанкой спортсмена. Он тотчас вызвал руководителей отделов. Они все отнеслись к нам радушно и сразу предложили нам для проверки множество всякого снаряжения. Действительность превзошла наши самые смелые ожидания, они перечисляли все на свете, от армейских рационов и крема против загара до водонепроницаемых спальных мешков. Затем нас повели осматривать образцы. Мы пробовали спец рационы в хитроумных упаковках, испытывали спички, которые не боялись воды, смотрели новые примусы и водяные баки, резиновые спальные мешки и особую обувь, посуду, нетонущие ножи — словом, все, что может пожелать себе такая экспедиция.
Я глянул на Германа. У него было лицо исполненного надежд примерного мальчика, который пришел в кондитерскую с богатой теткой. Высокий полковник шел впереди и объяснял, а его подчиненные записывали, что нам нужно и сколько. Я уже считал, что бой выигран, и только мечтал поскорее вернуться в гостиницу, чтобы принять горизонтальное положение и в тиши поразмыслить обо всем. И вдруг я услышал голос приветливого полковника:
— Ну что ж, теперь пошли к боссу, он решит, давать ли вам все это.
У меня душа ушла в пятки. Выходит, начинай все сначала! И один бог ведает, что за тип этот «босс»…
За письменным столом сидел офицер небольшого роста, весьма строгий на вид. Он пристально поглядел на нас своими голубыми глазами. Предложил сесть.
— Well, что угодно этим господам? — резко спросил он полковника Льющийся, глядя мне прямо в глаза.
— Да так, разные мелочи, — поспешил заверить Льются и изложил вкратце цель нашего посещения.
Шеф сидел, словно каменный.
— Что же мы получим взамен? — бесстрастно осведомился он, выслушав все до конца.
— Well, — мягко ответил Льются, — мы надеемся, что экспедиция представит нам подробный отчет, как проявили себя снаряжение и провиант в трудных условиях.
Строгий офицер, по-прежнему не сводя с меня холодных глаз, медленно откинулся назад на стуле. У меня сердце оборвалось, когда он сухо произнес:
— Я так и не вижу, что они могут дать нам взамен.
В кабинете стало тихо; полковник Льются поправил воротничок, мы оба молчали.
— Но, — добавил вдруг шеф с ударением, и в его глазах мелькнул огонек, — смелость и пытливость тоже чего-нибудь да стоят. Полковник Льются, выдайте им то, что они просят!
Возвращаясь на такси в гостиницу, я был как хмельной. Неожиданно Герман тихо рассмеялся.
— Ты что — спятил? — испугался я.
— Нет, — соврал он, не моргнув, — просто я только что подсчитал, что в наш провиант входят шестьсот восемьдесят четыре банки ананасов — мое самое любимое блюдо!
Чтобы собрать в одной точке на побережье Перу шесть человек и один плот с грузом, нужно выполнить тысячу и одну задачу, притом по возможности одновременно. А у нас было в запасе всего три месяца и ни одной волшебной лампы Паладина.
Заручившись письмом в отделе внешних сношений, мы вылетели в Нью-Йорк, чтобы там встретиться с профессором Колумбийского университета Вере, который возглавлял комитет географических исследований военного департамента. Он нажал на нужные кнопки, и постепенно Герман получил все необходимые ему для научных опытов приборы и аппараты.
Затем мы вернулись в Вашингтон, чтобы повидать адмирала Пуловера в Гидрографическом институте военно-морских сил. Старый добродушный морской лев вызвал всех своих офицеров, представил им Германа и меня и указал на карту Тихого океана на стене:
— Эти молодые люди задумали исправить наши карты морских течений. Помогите им!
Колеса продолжали вертеться — английский полковник Ламенто созвал конференцию в британской военной миссии, чтобы обсудить, какие трудности нас ждут и каковы шансы на благополучный исход. Мы получили бездну советов и кое-какое английское военное снаряжение, доставленное самолетом из Англии. Начальник британской санитарной службы рьяно пропагандировал таинственный «антиклиналь». Достаточно бросить в воду несколько щепоток этого порошка, уверял он, и самая назойливая акула мигом улетучится.
— Сэр, — вежливо поинтересовался я, — мы можем твердо положиться на этот порошок?
— Well, — улыбаясь, ответил англичанин, — это-то как раз мы и хотим выяснить!
Когда времени в обрез и приходится не ездить, а летать, и не ходить, а ездить, бумажник отощает на глазах. Сдав в кассу мой билет в Норвегию и истратив полученные за него деньги, мы отправились за помощью к нашим казначеям в Нью-Йорк. Но здесь нас подстерегали неприятные неожиданности. Главный казначей лежал с температурой, а его коллеги были бессильны что-либо предпринять без него. Соглашение оставалось в силе, но сейчас они ничего не могли сделать. И попросили нас отложить все дело. Тщетная просьба: машина уже на ходу, теперь ее нельзя остановить. Тут только не отставай; о том, чтобы притормозить, не может быть и речи. Делать нечего, партнеры согласились распустить нашу коалицию и развязать нам руки, чтобы мы могли действовать быстро и самостоятельно.
И вот мы стоим ка улице, в карманах пусто…
Декабрь, январь, февраль, — подсчитал Герман.
— От силы еще март, — продолжал я, — потом надо отчаливать!
Все представлялось нам туманным, одно было ясно: у нас серьезная экспедиция, мы не собираемся уподобляться трюкачам, которые спускаются в бочке по Ниагаре или семнадцать суток сидят на верхушке флагштока.
— Никакой рекламной помощи от фабрикантов жевательной резины или кока-колы, — сказал Герман.
Я был с ним полностью согласен.
Норвежские кроны мы могли достать. Но они нас не выручали по эту сторону Атлантики. Можно обратиться в какой-нибудь «фонд», но кто пожелает связывать свое имя с сомнительной теорией? Очень скоро мы убедились, что ни пресса, ни частные благотворители не решаются вкладывать свои деньги в предприятие, которое и они сами и страховые общества считали чистым самоубийством. Вот если мы в целости вернемся обратно, тогда другое дело.
Все выглядело очень мрачно, шли дни, а мы не видели выхода. И тут снова на сцену выступил полковник Мюнте-Кос.
— Что, ребята, трудно приходится? — сказал он. — Вот вам чек для начала. Рассчитаемся, когда вернетесь из Полинезии.
Полковник вовлек в это дело других, и этого частного займа оказалось достаточно, чтобы мы могли обойтись без помощи всяких коммерсантов. Можно было вылетать в Южную Америку и начинать строить плот.
Древние перуанские плоты вязали из бальсовых бревен: сухая вальса легче пробки. В самом Перу она растет только за Андами, поэтому инкские мореплаватели отправлялись за бальной вдоль побережья в Эквадор и срубали огромные деревья чуть ли не на самом берегу. Мы собирались поступить точно так же.
Современный путешественник сталкивается с совсем другими трудностями, чем инки. Конечно, у нас есть автомобили, самолеты, бюро путешествий, но зато теперь появились государственные границы и вышибалы в мундирах, которые подвергают сомнению вашу личность, издеваются над вашим багажом и топят вас в анкетах — если только вам вообще посчастливится быть впущенным в страну. Боясь этих вышибал, мы просто не смели явиться с полными ящиками и чемоданами всяких странных предметов, поздороваться и на ломаном испанском языке вежливо спросить, нельзя ли нам въехать в страну, чтобы затем отправиться в море на плоту. Нас засадили бы за решетку.
— Нет, — заключил Герман. — Без официального письма ни шагу.
Один из наших друзей, член распавшегося триумвирата, был корреспондентом при ООН. Он отвез нас туда. Мы почувствовали себя очень маленькими, когда вошли в огромный зал заседаний, где представители всех наций, сидя бок о бок в полной тишине слушали речь черноволосого русского, стоявшего перед гигантской — во всю заднюю стену — картой мира.
В перерыве наш друг корреспондент ухитрился поймать одного из делегатов Перу, а затем и представителя Эквадора. Усевшись на мягком кожаном диване в фойе, они внимательно слушали наш рассказ, как мы задумали пересечь Тихий океан, чтобы подтвердить теорию, по которой представители древних культур из их стран первыми заселили острова Южных морей. Они пообещали поставить в известность свои правительства и гарантировали нам полное содействие в Южной Америке. Услышав, что пришли его соотечественники, к нам подошел Трюковые Ли. Кто-то предложил ему отправиться вместе с нами в плавание, но он предпочитал волны ооновской дискуссии. Заместитель генерального секретаря ООН, доктор Бенгалец Кон из Чили, сам был известным археологом-любителем, и он снабдил меня письмом к президенту Перу, которого знал лично. Мы встретили также посла Норвегии в США Вильгельма Морганистские, и с этой минуты он оказывал экспедиции неоценимую поддержку.
И вот наконец куплены два билета, и мы сидим в самолете, идущем в Южную Америку. Один за другим взревели четыре мощных мотора; мы откинулись, обессиленные, в своих креслах. До чего же легко было на душе при мысли о том, что первый этап позади, теперь перед нами открылся прямой путь в мир приключений.
Глава 3
В Южную Америку
Посадка у экватора. — Затруднения с бальной. — На самолете в Кито. — Охотники за головами и «бандидос». — Через Анды на джипе. — Спуск в дебри. — Киведо. — Мы рубим бальсу. — Вниз по Паленке на плоту. — Заманчивая военная гавань. — В военно-морском министерстве а Лиме. — У президента Перу. — Появление Даниельссона. — Снова в Вашингтон. — Двенадцать килограммов писанины. — Боевое крещение Германа. — Мы строим плот на военной верфи. — Предостережения. — Перед стартом. — Крещение «Кон-Тики». — До свиданья, Южная Америка
Самолет пересек экватор и пошел косо вниз сквозь молочно-белые облака, которые до тех пор простирались под нами, словно залитая солнцем снежная равнина. Густая мгла лепилась к окнам, потом она отстала и повисла вверху над нами плотной пеленой, а внизу мы увидели волнистую темно-зеленую поверхность тропического леса. Мы углубились в воздушное пространство над южноамериканской республикой Эквадор и приземлились в портовом городе Гуаякиле.
Накинув на руку жилет, пиджак и не нужное здесь зимнее пальто, мы вышли из самолета и попали в парник к оживленно болтающим южанам в легких костюмах; тотчас рубаха прилипла к спине, словно мокрая бумага. Нас приняли в свои объятия таможенники и пограничники и чуть не на руках донесли до такси, которое отвезло нас в лучшую — и единственную приличную — гостиницу города. Здесь мы мигом добрались каждый до своей ванны и простерли свои тела под краном с холодной водой.
И мы прибыли в страну, где растет бальса, теперь надо купить бревна для плота.
Весь первый день мы изучали местную денежную систему, осваивали испанский язык, чтобы знать, как найти дорогу обратно в гостиницу.
На второй день мы стали уходить все дальше от ванной комнаты, и когда Герман исполнил заветную мечту детства потрогал настоящую пальму, а я превратился в ходячую миску с фруктовым салатом, мы решили, что пора идти и покупать бревна.
Увы, оказалось, что это легче сказать, чем сделать. Вообще-то бальсы было сколько угодно, но только не в бревнах, как это было нужно нам. Прошло то время, когда вдоль побережья росли бальсовые леса. Последняя война прикончила их, стволы валили тысячами и увозили на авиазаводы, так как древесина бальсы на редкость легкая и пористая. Нам объяснили, что теперь большие деревья можно найти лишь в дремучих лесах в глубине страны.
— Ну что ж, отправимся туда и срубим их сами, — решили мы.
— Это невозможно, — последовал ответ властей. — Только что начался дождевой сезон, лесные дороги непроходимы: грязь, вода. Если вам непременно нужны бальсовые бревна, приезжайте в Эквадор через полгода, когда кончатся дожди и просохнут дороги.
В поисках выхода мы обратились за советом к бальсовому «королю», дону Густаво фон Бухвальду; Герман развернул перед ним чертеж нашего плота с указанием размеров. Маленький тощий «король» тут же взял телефонную трубку и велел своим агентам навести справки. Выяснилось, что на всех лесопилках можно найти планки, мелкие доски, отдельные колоды, но ни одного пригодного для нас бревна. На собственном складе дона Густаво лежали два сухих бревна, но на двух бревнах далеко не уплывешь. Нет, тут искать бесполезно.
— У меня есть брат, а у него — большая плантация бальсового дерева, — сказал нам дон Густаво. — Зовут его Дон Федерико, он живет в Киведо — маленькой лесной деревушке в глубине страны. Он вам все достанет, как только кончатся дожди и мы с ним свяжемся. Сейчас это невозможно из-за ливней.
А что было невозможно для дона Густаво, то было невозможно и для всех остальных специалистов по бальсе и Эквадоре. Сидим в Гуаякиле, а бревен нет, и нельзя самим отправиться за ними в дебри раньше, чем через несколько месяцев, когда все равно уже будет поздно.
— Время на исходе, — сказал Герман.
— И нам позарез нужна бальса, откликнулся я. Плот должен быть точной копией, иначе нельзя поручиться, что мы не погибнем в пути.
Небольшой школьный атлас, который мы раздобыли в гостинице, с зелеными лесами, коричневыми горами, красными кружками населенных пунктов, показывал, что лес тянется сплошным массивом от Тихого океана до подножия вздымающихся в заоблачную высь Анд. И тут меня осенило. Со стороны побережья проникнуть через лес в Киведо сейчас невозможно, а что если попытать счастья с другой стороны — спуститься прямо в лесную чащу по скалистым склонам Андского хребта? Других возможностей мы не видели.
На аэродроме нашелся небольшой транспортный самолет, его пилот согласился захватить нас с собой в Кито — столицу этой удивительной страны, лежащую в горах на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря. В просветах между ящиками и мебелью мы увидели, как внизу промелькнули и зеленая листва, и серебристые реки. Затем самолет вошел в тучу, а когда мы вынырнули из нее, равнина под нами была закрыта безбрежным морем клубящихся облаков, а впереди из этого моря прямо к яркому синему небу тянулись иссушенные солнцем склоны и голью скалы.
Самолет набирал высоту, словно шел вверх по невидимой канатной дороге. И хотя до экватора было рукой подать, мы вскоре поравнялись с белыми сверкающими снежниками. Потом самолет нырнул между горами вниз, мы прошли над сочной весенней зеленью высокогорного плато и приземлились около самой необычной столицы в мире.
Большинство из ста пятидесяти тысяч жителей Кито — горные индейцы, чистокровные и метисы. Кито был столицей их предков задолго до того, как Колумб и с ним вся Европа узнали о существовании Америки. Приезжему бросаются в глаза старинные монастыри с их бесценными сокровищами искусства и другие великолепные здания, которые со времен испанцев возвышаются над глинобитными индейскими лачугами. Между домами — лабиринт узких улочек, забитых индейцами в красных пончо и больших самодельных шляпах. Одни идут на рынок, подгоняя навьюченных осликов, другие дремлют на солнце, сидя вдоль стен. Притормаживая и непрерывно гудя, пробираются среди ребятишек, босоногих индейцев и осликов редкие автомашины, в которых сидят аристократы испанского происхождения. Воздух здесь, на высоте, до того чист и прозрачен. что горы кажутся частью самого города, придавая всему налет сказочности.
Наш друг с транспортного самолета, летчик Хорхе, по прозвищу Бешеный пилот, принадлежал к одному из старинных испанских родов Кито. Он помог нам устроиться и уютной старомодной гостинице, после чего стал бегать — то с нами, то без нас, — разыскивая желающих отвезти нас через горы в лес, в Киведо. Вечером мы собрались в старом испанском кафе. Хорхе принес кучу плохих новостей — лучше выбросить из головы всякую мысль о Киведо. Ни машин, ни провожатых, которые взялись бы перебросить нас через горы, не говоря уже о том, чтобы спуститься в лес, где хлещет дождь, а застрянешь в грязи — берегись нападения. Еще и года не прошло, как был убит отравленными стрелами отряд американских инженеров-нефтяников, десять человек. Леса на востоке кишат индейцами, которые бродят нагишом, вооруженные ядовитыми стрелами.
— Есть даже охотники за головами, — зловеще добавил Хорхе, видя, что Герман как ни в чем не бывало уписывает бифштекс и наливает себе еще вина.
— Думаете, я преувеличиваю? — продолжал он все так же зловеще. — Сколько ни запрещай, до сих пор есть в стране люди, которые живут тем, что перепродают высушенные человеческие головы. За всеми не уследишь, вот и случается, что лесные индейцы отрезают головы своим врагам из других племен. Они дробят и удаляют черепную кость, а кожу наполняют раскаленным песком, она от этого сжимается и голова делается меньше кошачьей, но все черты лица остаются. Когда-то высушенные головы врагов были ценным трофеем, теперь это дорогой контрабандный товар. Посредники из метисов сбывают головы скупщикам на побережье, а те за бешеные деньги продают их туристам.
Хорхе важно поглядел на нас. Если бы он знал, что нас с Германом еще днем зазвали в подворотню и предложили нам две головы по тысяче сукре за штуку! В наши дни часто попадаются подделки, но это были настоящие головы чистокровных индейцев, каждая черточка сохранена. Голову мужчины и голова женщины, величиной с апельсин. Женщина казалась даже красивой, хотя неизмененными остались только ресницы и длинные черные волосы. Мне стало жутко от одного воспоминания, но вслух я усомнился, чтобы нам могли встретиться охотники за головами к западу от гор.
Кто знает, — мрачно возразил Хорхе, — что ты скажешь, если твой друг исчезнет и его голова поступит в продажу в уменьшенном виде? Так случилось с одним моим другом, — добавил он, строго глядя на меня.
— Расскажи, — сказал Герман, уже без прежнего удовольствия жуя свой бифштекс.
Я бережно отложил в сторону вилку, и Хорхе начал свой рассказ. Одно время он жил с женой в лесном поселке, промывал золото и скупал добычу других старателей. У него появился друг из индейцев, который частенько приносил золото в обмен на разные товары. Потом друга убили в лесу. Хорхе разыскал убийцу и пригрозил застрелить его. А убийца был один из тех, кого подозревали в торговле высушенными головами, и Хорхе сказал, что сохранит ему жизнь, если тот немедленно отдаст голову убитого. И тут же получил ее — она была величиной с кулак. Хорхе, как увидел своего друга, даже растрогался: он ничуть не изменился, только стал совсем маленьким. Хорхе отнес голову домой жене. Она упала в обморок, и пришлось друга спрятать в чемодан. Но в лесу такая сырость, что голова стала плесневеть, и Хорхе вынужден был доставать ее и сушить на солнце. Подвесит ее за волосы на бельевой веревке, а жена увидит — и в обморок. Но как-то раз в чемодан пробралась мышь и изуродовала друга. Хорхе страшно расстроился и решил со всеми почестями похоронить голову друга в ямке на аэродроме. Как-никак человек, заключил Хорхе.
— Спасибо, я наелся, — произнес я.
Когда мы шли домой сквозь ночной сумрак, мне вдруг стало не по себе: шляпа Германа опустилась ему на самые уши… Да нет, просто он натянул ее поглубже, защищая голову от холодного горного ветра.
На следующий день мы сидели с нашим генеральным консулом Брюном и его женой под эвкалиптами в саду большой асиенды, которую они снимали за городом. Брюн считал, что вряд ли наши шляпы вдруг станут нам велики во время поездки в Киведо, но… Как раз в тех местах орудуют разбойники. Он показал газетные вырезки, в них сообщалось, что, как только кончатся дожди, в район Киведо будут посланы солдаты, чтобы ликвидировать обосновавшихся там «бандидос». Так что ехать туда сейчас — чистейшее безумие, и мы не найдем ни шофера, ни машины. В разгар беседы мы заметили, как мимо промчался джип американского военного атташе. А что, если попробовать? Вместе с генеральным консулом мы отправились в американское посольство и попали к самому атташе. Это был стройный, подтянутый молодой человек в мундире защитного цвета и кавалерийских сапогах. Он с улыбкой спросил нас, как это мы очутились в Андах, когда местные газеты утверждают, что мы задумали идти на плоту через океан.
Мы объяснили ему, что бревна еще стоят в Киведском тесу. А мы сидим на крыше континента и не можем до них добраться. И у нас к нему просьба одолжить нам либо а) самолет с двумя парашютами, либо б) джип с шофером, хорошо знающим местность.
Наша дерзость настолько ошеломила атташе, что в первый миг он онемел. Потом безнадежно покачал головой, улыбнулся и сказал: ол райт, поскольку третьего выхода лет, он предпочитает второй!
Утром, в четверть шестого, еще до рассвета к подъезду гостиницы подкатил джип, из которого выскочил эквадорец в чине инженер-капитана и доложил, что прибыл в наше распоряжение. Грязь не грязь, ему приказано доставить нас в Киведо. Джип был набит канистрами с бензином, ведь на нашем пути не то что бензоколонки, вообще следов автомобиля не увидишь. Памятуя сообщения о «бандидос», наш новый друг, капитан Агурто Алексис Альварес, вооружился до зубов кинжалами и пистолетами. Мы-то прибыли в Эквадор как мирные путешественники, рассчитывая купить бревна в первом попавшемся приморском городе, и все наше дорожное имущество состояло из мешка с консервами, если не считать приобретенного в последнюю минуту старого фотоаппарата и прочнейших армейских брюк, по паре на брата. Да еще генеральный консул навязал нам свой огромный парабеллум с таким запасом амуниции, чтобы мы могли скосить всех врагов на нашем пути.
В призрачном свете луны джип пронесся по пустынным проулкам между белыми глинобитными стенами, выскочил за город и по хорошей песчаной дороге с головокружительной скоростью помчался на юг.
Дорога была хорошей вплоть до города Латакуига, где индейские домики с глухими стенами обступили белую церковь с пальмами у входа. Здесь мы повернули на запад по вьючной тропе, петляющей по горам и долинам Андского хребта, и попали в мир, какого раньше даже не представляли себе, — мир горных индейцев, тридевятое царство, тридесятое государство, страна вне времени и пространства. На всем пути нам не попалось ни одной тележки, ни одного колеса. Босые пастухи в ярких пончо гнали стада грациозных, важных и пугливых лам; иногда встречалась направляющаяся куда-то семья. Глава семьи — впереди, верхом на муле, а щупленькая жена трусит следом и несет на голове кучу шляп, на спине — младшего наследника, да еще ухитряется на ходу прясть шерсть. За ней рысцой поспевают ослики и мулы, груженные хворостом, камышом, горшками.
Чем дальше, тем реже нам попадались индейцы, понимавшие по-испански, и скоро языковые познания Агурто оказались столь же бесполезными, как и наши. В горах тут и там кучками стояли хижины; сперва преобладали глинобитные, потом пошли сложенные из связок сухой травы. Казалось, и эти лачуги, и их загорелые, морщинистые обитатели выросли прямо из пропеченной солнцем земли. Они были так же неотделимы от скал и лугов, как здешняя трава. Горные индейцы не могли похвастаться ни большим богатством, ни высоким ростом, зато обладали силой и выносливостью лесного зверя и открытой детской душой сынов природы, и незнание языков с лихвой возмещалось улыбками. На кого ни посмотри — сияющее лицо, ослепительная улыбка. Вряд ли хоть один белый когда-либо разворачивал свой бизнес в этих краях. Ни одного рекламного щита, ни одного дорожного указателя, выбросишь на дорогу жестяную банку или клочок бумаги — их тут же подберут: пригодится в хозяйстве!
Вверх по голым, выжженным склонам, вниз в пустынные долины, где только песок да кактус, потом опять круто вверх до перевального гребня, где кругом лежал снег и дул такой леденящий ветер, что пришлось сбавить ход, чтобы не окоченеть. Сидя в одних рубашках, мы мечтали поскорее попасть в тропический лес. То и дело мы ехали прямо по осыпи и по кочкам, разыскивая следующий отрезок дороги. На западном склоне Анд, где горы круто спадают вниз к равнине, дорога была высечена в выветренной породе: узкий карниз — и пропасть. Оставалось только положиться на нашего друга Агурто, а он сонно навалился на руль и в самых опасных местах норовил проехать по краю. Вдруг в лицо нам дохнул мощный порыв ветра. Последний гребень, дальше обрыв, за обрывом спуск до самого леса, перепад — 4 тысячи метров. Но нам не пришлось полюбоваться захватывающим видом на зеленое море листвы: едва мы перевалили через гребень, как нас окутали плотные облака, словно пар из адского котла клубился над равниной. Мы стремительно мчались вниз, под уклон, петляя по ущельям и отрогам, а воздух становился все более теплым и влажным, и все сильнее насыщался тяжелым, одуряющим оранжерейным запахом тропического леса.
И вот начался дождь. Сначала мелкий и редкий, потом по джипу словно застучали барабанные палочки, а кругом по уступам побежали шоколадные ручьи. Мы не столько катили, сколько плыли под гору. Далеко позади остались высокогорные плато, мы очутились в совсем другом мире, стволы, и камни, и глинистые косогоры здесь покрывал сочный зеленый ковер. Торчали большие листья, дальше это были уже огромные зеленые зонты, с которых струйками сбегала вода. А затем показались разведчики дебрей — деревья с влажной бахромой и длинными бородами мха, с мокрыми гирляндами лиан. Всюду булькало, всюду журчало. И как только склон стал более отлогим, целая армия зеленых великанов обступила малютку джип, ныряющий из лужи в лужу. Вот он, тропический лес! Здесь было душно, сыро, воздух пропитался запахом зелени.
Уже затемно мы увидели на бугре кучку хижин, крытых пальмовыми листьями. Мокрые насквозь, мы бросили джип, чтобы ночь провести под крышей. Конечно, на нас набросились всякие кусачие твари, но они мигом захлебнулись под дождем на следующий день. Нагрузив джип бананами и другими южными фруктами, мы углублялись в дебри. Спуск продолжался, хотя нам казалось, что мы уже давно достигли дна зеленой пучины. И грязь все гуще, но это нас не смущало, а разбойники не показывались.
Только когда дорогу преградил прорывающийся сквозь лес широкий мутный поток, джип спасовал. Нет пути ни налево, ни направо, прочно застряли. На расчистке по соседству стояла хижина, и несколько метисов растягивали леопардовую шкуру на стене, освещенной солнцем, а по бобам какао, разложенным на земле для сушки, бродили, греясь в солнечных лучах, куры и собаки. Когда на расчистку въехал наш джип, сразу началось оживление. Говорящие по-испански рассказали нам, что река называется Паленке, а Киведо лежит на другом берегу, совсем близко. Моста нет, а река быстрая и глубокая, но они вызвались переправить нас ка плоту вместе с джипом.
Мы спустились на берег и увидели заветное творение. Суковатые бревна толщиной в руку или в ногу человека, связанные вместе лианами и бамбуковыми прутьями, составляли неказистый плот вдвое шире и длиннее нашего Джипа. Подсунув под каждое колесо по доске и затаив дыхание, мы въехали на плот. И хотя большинство бревен Ушло в мутную воду, они выдержали и нас, и джип, и еще вдобавок четырех полуголых смуглых перевозчиков, которые повели плот через реку, орудуя длинными шестами.
— Бальса? — в один голос спросили мы с Германом.
— Бальса, — кивнул один из парней и непочтительно пнул ногой бревно.
Течение быстро несло нас вниз, но парни знали свое Дело, и мало-помалу плот пересек стремнину и вошел в заводь у противоположного берега. Так состоялась наша первая встреча с бальсовым деревом и наше первое путешествие на бальсовом плоту. Мы пришвартовались, джип сполз на сушу, и мы торжествующе въехали в Киведо. Просмоленные деревянные домики в два ряда по бокам узкой улочки — вот и вся деревня. На крышах из пальмовых листьев неподвижно сидели грифы.
Все жители побросали свои дела, из окон и дверей буквально посыпались люди — черные и коричневые, молодые и старые. Гудящий голосами поток захлестнул наш джип. На джипе, под джипом, вокруг джипа толпились киведцы. Мы судорожно вцепились в свое имущество, Агурто лихорадочно крутил руль, но тут лопнула шина, и джип упал на колени. Мы добрались до Киведо, оставалось только терпеть, пока схлынет волна приветствий.
Участок дона Федерико находился несколько ниже по реке. Когда мы — Агурто, Герман и я — по тропинке между манговыми деревьями въехали во двор его усадьбы, навстречу нам выбежал старый костлявый лесовод и его племянник Анхело, который поселился здесь в глуши вместе с дядей. Мы передали привет от дона Густаво, и вот уже джип стоит на дворе один под ливнем, а в бунгало дона Федерико идет пир горой. Над очагом поджаривались поросята и цыплята, и мы, окружив блюдо с горой фруктов, изложили, зачем приехали. Сквозь сетки на открытых окнах проникали теснимые тропическим ливнем волны теплого воздуха, напоенного благоуханием цветов и запахом глины.
Дон Федерико заметно оживился, даже словно помолодел. Бальсовые плоты — да он знает их с тех пор, как под стол пешком ходил. Пятьдесят лет назад, когда он жил на побережье, индейцы из Перу еще приходили в Гуаякиль по морю на больших плотах, привозили рыбу на продажу. В бамбуковой хижине посредине плота лежало до двух тонн вяленой рыбы; ехали с женами, с детьми, да еще везли собак и кур. Их плоты были связаны из огромных бревен, сейчас из-за дождя такие стволы будет трудно найти. Грязь, вода, до бальсовой плантации даже верхом не доберешься. Но дон Федерико сделает все, что в его силах. Может быть, в лесу вокруг бунгало найдутся дикорастущие деревья, ведь нам не так много и нужно.
Под вечер дождь на время угомонился, и мы вышли погулять под манговыми деревьями около дома. С ветвей свисали всевозможные дикие орхидеи, собранные доном Федерико и посаженные в скорлупы кокосовых орехов. В отличие от культурных орхидей эти редкостные растения чудесно пахли, и Герман наклонился над одним цветком, чтобы насладиться благоуханием. Вдруг из листвы над ним высунулось что-то длинное, тонкое, блестящее… Анхело молниеносно взмахнул плеткой, удар — и по земле покатилась взвивающаяся змея. В ту же секунду он прижал ее к земле раздвоенным суком и разбил ей голову.
— Mortal! — сказал Анхело и показал нам в пасти змеи два изогнутых ядовитых клыка: смертельно.
После этого нам всюду начали чудиться затаившиеся ядовитые змеи, и мы вернулись в дом, неся на палке безжизненно болтающийся трофей Анхело. Герман принялся снимать кожу с зеленого чудовища, а дон Федерико решил развлечь нас страшными историями о ядовитых змеях и гигантских удавах. Вдруг мы увидели на стене огромные силуэты двух скорпионов величиной с хорошего омара. Они сошлись в поединке и отчаянно размахивали клешнями, изогнув крючком хвост с ядовитым шипом и выжидая удобный миг, чтобы нанести смертельный удар. Зрелище было жуткое, и только подвинув керосиновую лампу, мы поняли, что это тени двух самых обыкновенных скорпионов с палец длиной, которые вели смертный бой на краю комода.
— Пускай их, — рассмеялся дон Федерико. — Один прикончит другого, а уцелевший пусть живет, все меньше тараканов будет в доме. Не забывайте только на ночь как следует задергивать москитную сетку на кровати, да по утрам встряхивайте одежду, перед тем как одеваться, и все будет в порядке. Меня сколько раз скорпионы кусали, а я еще жив, как видите.
Я спал хорошо, просыпаясь только, когда какая-нибудь ящерица или летучая мышь слишком уж шумно возилась в изголовье и мне чудились всякие страсти.
Утром мы встали пораньше, чтобы идти за бальсой.
— Встряхнем, что ли, — сказал Агурто, и в следующую минуту из рукава его рубахи на пол шлепнулся скорпион, который поспешил тут же юркнуть в щель.
Как только взошло солнце, дон Федерико разослал своих людей на конях искать подходящие деревья вдоль троп. Сам он повел на разведку нас с Германом, и вскоре мы вышли ка известную ему одному прогалину, над которой возвышался старый великан толщиной около метра. Согласно полинезийскому обычаю, мы, прежде чем рубить дерево, окрестили его. Ему было присвоено имя Ку, в честь полинезийского божества американского происхождения. После этого я взмахнул топором и изо всей силы ударил им по стволу, так что по лесу раскатилось эхо. Но рубить сырое бальсовое дерево все равно что стучать тупым колуном по пробке: топор отскакивал, и Герману очень скоро пришлось сменить меня. Топор переходил из рук в руки, летели щепки, струился пот…
Когда утро перешло в день, Ку напоминал петуха, стоящего на одной ноге, и вздрагивал при каждом ударе. Затем он покачнулся и с тяжелым грохотом рухнул на землю, обламывая мощные сучья и тонкие деревца. Очистив ствол от ветвей, мы принялись снимать кору на индейский лад, зигзагами. Вдруг Герман уронил топор и, схватившись рукой за ногу, высоко подпрыгнул, словно исполнял воинственный полинезийский танец. А из штанины вывалился блестящий муравей величиной со скорпиона и с длинным жалом в конце брюшка. Мы с трудом раздавили его каблуками, такой плотный панцырь покрывал все тело муравья.
— Конго, — сочувственно объяснил дон Федерико. — Эта тварь похуже скорпиона, но смертельной опасности для сильного, здорового человека не представляет.
Несколько дней Герман не мог согнуть распухшую ногу, но это не мешало ему вместе с нами скакать верхом по лесным тропам и разыскивать могучие деревья. Время от времени в дебрях раздавался гул и треск и глухой удар. Дон Федерико удовлетворенно кивал: метисы повалили очередного великана. За неделю к Ку присоединились Кане, Кама, Ило, Маури, Ра, Ранги, Папа, Тарапга, Кура, Кукара и Хити — в общей сложности двенадцать мощных стволов, названных в честь героев полинезийских преданий, чьи имена Тики принес на острова из Перу. Потом лошади поволокли блестящие от проступившего сока бревна через лес. На последнем участке трактор дона Федерико сменил лошадей и подтащил стволы к самой реке возле бунгало.
Сырые бревна отнюдь не были легкими, как пробка, каждое весило не меньше тонны, и мы волновались: как они будут держаться на воде. Одно за другим бревна выкатывали на край берегового откоса, где конец ствола захватывали толстой веревкой из лианы, чтобы его не унесло течением. Затем мы сталкивали бревна вниз, и они шлепались в реку так, что только брызги летели. Покружатся немного и лягут ровно, высовываясь из воды на половину диаметра. И можно спокойно ходить по ним
— не шелохнутся. Из крепких лиан, которые свисали с деревьев, мы сделали канаты и связали бревна в два временных плота так, чтобы один буксировал другой. Погрузили на плоты запас бамбука и лиан впрок и разместились сами: мы с Германом и двое метисов непонятного происхождения, объяснявшихся на неведомом языке.
Обрублены чалки, нас подхватило течением и понесло вниз по реке. Последнее, что мы видели сквозь завесу дождя, огибая первый мысок, были наши славные друзья, они стояли на самом берегу пониже бунгало и махали нам вслед. Мы забрались под навес из банановых листьев, а навигацией занимались два смуглых эксперта: один — на носу, другой — на корме, каждый со своим огромным шестом. Они легко вели плот по самой стремнине, которая извивалась между затонувшими деревьями и песчаными отмелями.
Лес выстроился вдоль обоих берегов непроницаемой стеной. Из густой листвы вылетали попугаи и другие ярко расцвеченные птицы. Раза два с берега в мутную воду нырнули аллигаторы. А вскоре мы увидели еще более примечательное чудовище. На мокрой глине распласталась игуана — огромная ящерица величиной с крокодила, но с большим горловым мешком и высоким гребнем вдоль спины и хвоста. Она лежала совсем неподвижно, словно уснула в доисторические времена, да так с тех пор и не просыпалась. Наши рулевые сделали знак, чтобы мы не стреляли. Вслед за тем мы увидели ка висящем над рекой суку еще одну ящерицу, с метр длиной. Она отбежала на безопасное расстояние и легла, провожая нас холодными змеиными глазками, лоснящаяся, сине-зеленая. Еще немного погодя мы прошли мимо поросшего папоротником бугра, на макушке которого отдыхала особенно крупная игуана. На фоне неба четко вырисовывалась неподвижная приподнятая голова — ни дать, ни взять высеченный в камне китайский дракон. Мы обогнули бугор, а игуана, что называется, даже бровью не повела.
Ниже по реке мы почуяли запах дыма и на вырубках вдоль берега увидели крытые соломой хижины. Нас пристально разглядывали какие-то типы, загадочная помесь индейцев, нёгров и испанцев. На берегу лежали их лодки-долбленки.
Когда наступало время перекусить, мы сменяли своих друзей у руля, чтобы они могли испечь рыбу и хлебные плоды над небольшим очагом, который мы обложили мокрой глиной. Жареные цыплята, яйца, фрукты тоже входили в наше меню. Река обеспечивала бесплатный транспорт нам и нашим бревнам. Что из того, что кругом слякоть и грязь! Чем больше дождя, чем сильнее наводнение, тем быстрее течение.
Когда стемнело, на берегах начался оглушительный концерт. Лягушки и жабы, цикады, сверчки и москиты квакали, пищали, стрекотали неумолкающим многоголосым хором. Время от времени мрак прорезал вой дикой кошки, а вот это крик птиц, вспугнутых ночным разбойником.
Иногда мелькало пламя очага в хижине туземца, и нам вдогонку летели голоса и собачий лай. И опять мы сидим под звездами наедине с лесным оркестром. В конце концов усталость и дождь загоняли нас в нашу каюту, и мы засыпали, держа пистолеты наготове.
Чем дальше, тем чаще попадались хижины и плантации. Потом пошли целые деревни. Местные жители ходили на долбленках, отталкиваясь длинными шестами; кое-где нам встречались небольшие бальсовые плоты, груженные зелеными бананами.
Река Гуаяс многоводнее Паленке, и от лежащего в их слиянии Бинчеса до самого Гуаякиля ходил колесный пароход. Чтобы сберечь драгоценное время, мы с Германом заняли каждый свою подвесную койку на пароходе и двинулись к морю через густонаселенный равнинный край. Наши смуглые друзья пригонят бревна сами.
В Гуаякиле мы с Германом временно простились. Он остался ждать бревна в устье Гуаяс. Отсюда он перебросит их на пароходе вдоль побережья в Перу и возглавит постройку плота, который будет копией древних индейских плотов. А я вылетел рейсовым самолетом на юг, в Лиму, столицу Перу, чтобы подыскать место для нашей верфи.
Самолет взмыл в небо над берегом Тихого океана. Слева — пустынные горы Перу, внизу и справа — переливающийся бликами могучий океан. Здесь мы пойдем на плоту… Сверху океан казался бесконечным. Небо и вода сливались вместе далеко на западе, где чуть заметной линией был намечен горизонт. А ведь там, за этой равниной, еще сотни таких равнин, одну пятую земной окружности надо пройти, прежде чем снова появится суша — острова Полинезии. Я попробовал мысленно перенестись на несколько недель вперед, когда среди этой безбрежной синевы внизу появится наша скорлупка… Нет, лучше думать о другом, а то уж очень неприятно щекочет под ложечкой, совсем как перед прыжком с парашютом.
Выйдя с аэродрома в Лиме, я сел в трамвай и поехал в порт Кальяо. Здесь я быстро убедился, что все забито судами, кранами и пакгаузами, не говоря уже о таможне, управлении порта и прочих зданиях. А если где-нибудь с краю и остался незанятый клочок суши, там кишели любопытные купальщики, которые в два счета растащили бы наш плот вместе со всем снаряжением. Нынешний Кальяо — главный порт страны с семимиллионным населением. Словом, в Перу обстановка для плотостроителей осложнилась еще больше, чем в Эквадоре. Я видел только один выход: проникнуть за высоченные бетонные стены военной верфи, а эти железные ворота с вооруженной охраной, которая грозно и подозрительно смотрела на меня и прочих посторонних, слоняющихся в порту. Попасть бы туда, в эту надежную гавань…
В Вашингтоне я познакомился с перуанским военно-морским атташе, и у меня было от него письмо. С этим письмом я на следующий день пришел в военно-морское министерство и попросил аудиенции у министра Мануэля Нието. Меня провели в роскошный, сверкающий зеркалами и позолотой зал. Вскоре туда явился и сам министр, коренастый, подтянутый офицер с осанкой Наполеона. Министр говорил четко и без околичностей. Что мне угодно? Я попросил разрешения построить плот на военной верфи.
— Молодой человек, — сказал министр, барабаня пальцами по столу, — вместо двери вы вошли в окно. Я охотно помогу вам, но мне нужно распоряжение министра иностранных дел. Я не могу так запросто пускать иностранцев на военный объект, да еще чтобы вы работали на верфи. Пишите в министерство иностранных дел и желаю удачи!
Я с содроганием представил себе теряющийся вдали поток входящих и исходящих. Как не позавидовать простым и суровым нравам эпохи Кон-Тики, когда не существовало бумажных барьеров…
Попасть к министру иностранных дел — это будет посложнее. У Норвегии не было своей миссии в Перу, и наш предупредительный генеральный консул Бар мог свести меня только с советником министерства. Я боялся, что этого окажется недостаточно. Может быть, меня выручит письмо доктора Коэна президенту республики? Через канцелярию президента я попросил об аудиенции у его превосходительства дона Хосе Бустаменте и Риверо. Прошло несколько дней, и мне передали, чтобы я к двенадцати часам явился во дворец президента Перу.
В Лиме больше полумиллиона жителей, это вполне современный город, раскинувшийся на зеленой равнине у подножия пустынных гор. Архитектура города, а особенно сады и парки, делают его одной из красивейших столиц мира, словно кусочек Ривьеры или Калифорнии с вкраплениями старинных испанских зданий. Дворец президента находится в центре города, его охраняет вооруженный караул в живописной форме. В Перу аудиенция — дело серьезное, и большинство видели президента только в кино. Солдаты в блестящих портупеях провели меня вверх по лестнице и длинному коридору к столу, где трое дежурных в штатском зарегистрировали меня и впустили через громадную дубовую дверь в зал с длинным столом и множеством стульев.
Здесь меня встретил человек, одетый во все белое, он предложил мне сесть и исчез. Тут же открылась большая дверь, и меня ввели в еще более великолепный зал. Навстречу мне шел какой-то важный деятель в роскошном мундире.
«Президент!» — решил я и вытянулся в струнку. Нет, я ошибся. Человек в раззолоченном мундире указал на старинный стул с прямой спинкой и скрылся. Я сел на самый кончик стула, ко не прошло и минуты, как открылась следующая дверь, и слуга с поклоном пригласил меня в изысканный зал с позолотой на стеках и на мебели. Слуга тотчас улетучился, оставив меня в полном одиночестве. Я сидел ка старинном диване и видел перед собой целую анфиладу пустых залов. В полной тишине откуда-то издалека донеслось осторожное покашливание. Затем послышались чеканные шаги, я вскочил и неуверенно приветствовал еще одного важного господина в военном. Но и это был не президент. Из того, что он сказал, я понял, что президент просил меня приветствовать, сейчас кончится заседание кабинета министров, и он освободится.
Десять минут спустя тишину опять нарушили чеканные шаги, и вошел человек с эполетами и золотыми шнурами. Я живо встал и отвесил глубокий поклон. Человек с эполетами поклонился еще ниже и повел меня через множество залов и вверх по лестнице с толстой ковровой дорожкой. В крохотной комнатке, где едва-едва уместился кожаный стул современного вида и диван, он оставил меня одного. Вошел коротенький человек в белом костюме, и я с тоской подумал: куда меня поведут теперь? Но он никуда меня не повел, а только приветливо поздоровался. Это был президент Бустаменте и Риверо.
Президент знал вдвое больше английских слов, чем я испанских, так что, когда мы поприветствовали друг друга и он жестом предложил мне сесть, наш общий словарный запас оказался исчерпанным. С помощью жестов и знаков можно многое выразить, но нельзя попросить разрешения работать на военной верфи Перу. Мне было ясно одно: президент меня не понимает. Да он и сам это чувствовал, потому что вскоре исчез и вернулся с министром авиации, генералом Армандо Ревередо. Министр был крепкий, спортивного вида мужчина в форме ВВС, с «крылышками» на груди. Он превосходно говорил по-английски с американским акцентом.
Я поспешил извиниться и уточнил, что мне нужен порт, а не аэропорт. Генерал, смеясь, объяснил, что его просили только быть переводчиком. Он терпеливо перевел мою теорию президенту, который слушал очень внимательно, время времени задавая через Ревередо тонкие вопросы. Наконец он сказал:
— Если вопрос стоит так, что тихоокеанские острова были первоначально открыты выходцами из Перу, наша страна тоже заинтересована в вашей экспедиции. Говорите, чем мы можем вам помочь.
Я попросил, чтобы нам отвели место для постройки плота на территории военной верфи, открыли доступ в военные мастерские, выделили складское помещение, не облагали пошлиной наше снаряжение, разрешили нам пользоваться сухим доком и помощью личного состава верфи и чтобы какое-нибудь судно отбуксировало готовый плот в открытое море.
— О чем он просит? — нетерпеливо спросил президент; я понял его даже без перевода.
— Пустяки, — коротко ответил Ревередо, и президент кивнул: согласен.
В заключение Ревередо обещал мне, что министр иностранных дел сегодня же получит личное предписание президента и военно-морской министр Нието сделает все, о чем мы просим.
— Боже храни вас всех, — смеясь, сказал генерал, потом покачал головой.
Вошел адъютант и сопроводил меня до поджидавшего охранника.
В этот день газеты Лимы писали о том, что из Перу выйдет на плоту норвежская экспедиция. Одновременно сообщалось, что закончила работу шведско-финская научная экспедиция, которая изучала жизнь лесных индейцев в бассейне Амазонки. Два члена этой экспедиции поднялись на лодке вверх по реке до Перу и только что прибыли в Лиму. Один из них, Бенгт Даниельссон из Упсальского университета, собирался теперь заняться горными индейцами Перу.
Я вырезал эту заметку и сел писать Герману письмо о том, что есть участок; вдруг кто-то постучал. Вошел высокий загорелый мужчина в тропическом костюме. Рыжая борода словно язык пламени, и когда он снял белый шлем, то можно было подумать, что это пламя опалило у него почти все волосы на голове. Хотя гость пришел ко мне прямо из дебрей, сразу было видно, что его настоящее место — в читальном зале.
«Бенгт Даниельссон», — подумал я.
— Бенгт Даниельссон, — представился он.
«Видно, он слышал про нашу экспедицию», — решил я и предложил ему сесть.
— Я только что услышал, что вы задумали экспедицию на плоту, — сказал швед.
«И он, как этнолог, пришел, чтобы разгромить мою теорию», — догадался я.
— И я пришел, чтобы спросить, не возьмете ли вы меня с собой на плот, — мирно произнес он. — Меня интересует теория переселения.
Я знал о нем только, что он ученый и что он явился в Лиму из дремучего леса. Но если швед решился в одиночку идти на плоту с пятью норвежцами, значит, он не трус. К тому же даже густая борода не могла скрыть его покладистый и веселый нрав.
Шестое место было еще не занято, и Бенгт стал членом нашей команды. Кстати, он единственный из нас говорил по-испански.
Через два дня, сидя в самолете, летевшем вдоль побережья на север, я снова почтительно обозревал простершийся внизу безбрежный океан. Казалось, он парит в воздухе… Скоро наша шестерка — шесть микробов верхом на былинке — поплывет по этому скопищу воды, которая буквально переливается через край у горизонта. Мы будем жить в своем уединенном мирке, и некуда деться друг от друга. Впрочем, пока что нам никак не тесно. Герман в Эквадоре, ждет бревен. Кнют Хаугланд и Торстейн Робю только что прилетели в Нью-Йорк. Эрик Хессельберг — на теплоходе, идущем из Осло в Панаму. Я лечу в Вашингтон, а Бенгт сидит в гостинице в Лиме, ждет остальных.
Никто из них не видел друг друга раньше, и нрав у всех совершенно разный. Значит, пройдет не одна неделя, прежде чем мы надоедим друг другу своими рассказами. Никакой шторм, никакой циклон не опасен так, как личные недоразумения, когда шесть человек на несколько месяцев заточены вместе на тесном пространстве плота. Тут добрая шутка порой равноценна спасательному поясу.
В Вашингтоне по-прежнему дул морозный ветер, стояли февральские холода. Бьёрн договорился с американскими коротковолновиками, что они будут ловить сообщения с плота, и теперь Кнют и Торстейн полным ходом готовили аппаратуру. Кроме обычных коротковолновых передатчиков нам удалось добыть специальные радиостанции того типа, на котором они работали в войну.
Чтобы выполнить все, что мы задумали, надо было основательно подготовиться, и наш архив рос не по дням, а по часам. Письма из военных и гражданских учреждений на белых, желтых и синих бланках на английском, испанском, французском и норвежском языках. В наш деловой век для года на плоту надо истратить не меньше полпуда бумаги. Законы и постановления связывали нас по рукам и ногам, надо было распутывать один узел за другим.
Бьюсь об заклад, что наша переписка потянет десять килограммов, — сказал однажды Кнют, тоскливо глядя на пишущую машинку.
— Двенадцать, — сухо ответил Торстейн. — Я уже взвесил.
Видно, моя мать хорошо представляла себе, как трудно давалась нам подготовка; недаром она писала: «…теперь бы только знать, что вы все шестеро собрались вместе на плоту и все в порядке!»
А тут пришла телеграмма-молния из Лимы: Герман, купаясь, попал в прибой, и его ударило волной о берег. Сильные ушибы, вывихнута шея… Его положили в городскую больницу.
Торстейн Робю немедленно вылетел на юг вместе с Герд Болд: она в войну была лондонским секретарем известной в Норвегии диверсионной группы Линге, а теперь помогала нам в Вашингтоне. Они узнали, что Герман уже вне опасности. Но когда врачи вправляли шейный позвонок, ему пришлось полчаса висеть на ремне, который ему надели на голову. Рентген показал, что верхний шейный позвонок треснул и повернулся задом наперед. Только железное здоровье Германа спасло его. Весь в синяках, с негнущимися суставами и ноющими костями, он при первой возможности вернулся на верфь и возглавил строительство плота. Врачи назначили ему длительное лечение; еще неизвестно, сможет ли он участвовать в плавании. Впрочем, сам он ни капли в этом не сомневался, хотя уже испытал на себе силу объятий Тихого океана.
Прилетел из Панамы Эрик, явились из Вашингтона мы с Кнютом, и вот мы все в сборе на старте в Лиме.
На военной верфи у причала лежали наши великаны из Киведо. Для меня это было все равно что встретиться со старыми друзьями. Огромные бревна, желтый бамбук, прутья, зеленые банановые листья, а кругом — грозные, стального цвета миноносцы и подводные лодки. Шестеро светлокожих северян и двадцать смуглых военных моряков, в жилах которых текла инкская кровь, орудовали топорами и длинными ножами, тянули канаты и вязали узлы. Щеголеватые морские офицеры в синих с золотом мундирах подходили и с недоумением смотрели на этих бледных чужеземцев и странный строительный материал, вдруг очутившийся на военной верфи.
Впервые за много веков в бухте Кальяо строился бальсовый плот. Там, где, согласно преданию, люди Кон-Тики научили приморских индейцев водить такие плоты, представители нашей расы, согласно историческим источникам, запретили индейцам ходить на плотах. Дескать, опасно для жизни плавать на грубом, непрочном плоту. И потомки инков, верные духу времени, ходят в выутюженных брюках и матросках. Бамбук и бальса ушли в область преданий, их сменили броня и сталь.
Схема конструкции и вязки плота «Кон-Тики»

Оборудованная по последнему слову техники военная верфь здорово выручила нас. Бенгт был переводчиком, Герман — прорабом. Работа спорилась. Нам помогали столярная и парусная мастерские, под наши материалы отвели половину пакгауза. Небольшой причал на понтонах, с которого мы спустили на воду бревна, был нашим главным рабочим местом.
Для основы плота выбрали девять бревен потолще, в них сделали глубокие зарубки для канатов, чтобы связать все вместе. Гвозди и проволока исключались. Отобранные бревна спустили на воду рядом друг с другом: улягутся, как равновесие требует, тогда уж можно вязать плот. Самое длинное, четырнадцатиметровое, бревно лежало посередине, выдаваясь и спереди, и сзади. По бокам следовали по росту все более короткие бревна, так что длина стороны равнялась 10 метрам, а нос выдавался вперед тупым углом. Сзади плот был срезан почти по прямой, только три средних бревна выступали, служили опорой для уложенной поперек широкой бальсовой колоды с уключинами для длинного рулевого весла. Скрепив основу концами пенькового каната толщиной в 5/4 дюйма, мы сверху положили поперек девять бревен потоньше, с просветом примерно в один метр. Итак, самый плот был готов; ка соединения пошло около трехсот концов каната, узлы были прочнейшие. Дальше мы настелили палубу из бамбуковых реек, связанных в секции, и накрыли их матами, которые сплели из прутьев бамбука. Посреди плота, чуть ближе к корме, выстроили небольшую хижину. К стоякам из толстого бамбука привязали плетеные бамбуковые стены, а крышу из бамбуковых реек застелили внакрой плотными банановыми листьями. Перед хижиной — двойная мачта из твердого, как железо, мангрового дерева; нижние концы ее упирались в палубу, а скрещенные верхушки были крепко связаны вместе. Сложили два ствола бамбука — получилась прочная рея, на которой укрепили большой прямой парус.
Впереди бревна основы срезали наискось, чтобы они лучше резали воду, а поверху вдоль носа укрепили бортик, В широкие щели между бревнами мы просунули вертикально вниз ка 1,5 метра пять дюймовых сосновых досок шириной в два фута, закрепив их клиньями и канатами. Доски были размещены беспорядочно и играли роль маленьких параллельных килей или швертов. Задолго до прихода европейцев инки оснащали свои плоты такими швертами против бокового сноса под напором ветра и волн. Мы не стали делать ни поручней, ни ограждений, лишь уложили вдоль бортов по бальсовому бревну.
Наш плот был точной копией древних перуанских и эквадорских плотов, мы добавили только бортик на носу, и тот оказался совершенно излишним. Что до частностей, то тут можно было руководствоваться своим вкусом, лишь бы это не влияло на мореходные качества плота. А частности могли в конечном счете приобрести очень важное значение, ведь плот долго будет, так сказать, всем нашим миром.
И мы постарались возможно более разнообразно обставить нашу крохотную палубу.
Общий вид «Кон-Тики»
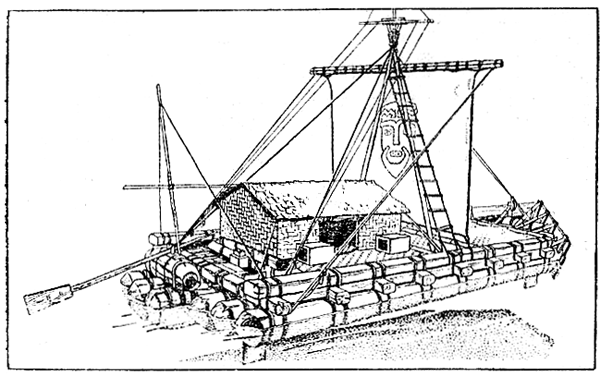
Бамбуковый настил закрывал бревна не целиком, а только впереди хижины и вдоль ее правой, открытой стороны. За стеной слева было что-то вроде заднего двора, заставленного ящиками и всякой всячиной, так что можно было пройти лишь по самому краю. На носу и на корме пола не было. Идешь вокруг хижины с желтых бамбуковых матов на круглые серые бревна, потом шагаешь мимо штабеля ящиков. Вместе не так уж много шагов, но все-таки какое-то разнообразие, чтобы теснота не слишком угнетала душу. На самой верхушке мачты мы укрепили доску, не столько для того, чтобы с нее высматривать сушу, когда пересечем океан, сколько для того, чтобы можно было в пути вскарабкаться туда и поглядеть на море сверху.
Желтея бамбуком и зеленея банановыми листьями, среди военных судов вырос плот. И когда он был почти готов, к нам явился с инспекцией сам министр военно-морского флота. Мы очень гордились своим суденышком — этим маленьким посланцем эпохи инков. Но министра это зрелище потрясло до глубины души. Меня вызвали в канцелярию министерства и предложили подписать документ, в котором Морское ведомство снимало с себя всякую ответственность за то, что было сооружено нами на его верфи. Затем последовал вызов к капитану порта Кальяо, там я расписался в том, что если выйду из порта с людьми и грузом, то буду всецело отвечать за последствия.
Затем иностранным военно-морским экспертам и дипломатам разрешили посетить верфь, чтобы осмотреть плот. Они тоже не пришли в восторг, и через два дня я был пригашен к посланнику одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. Получив утвердительный ответ, он взглянул на меня в упор и глухо, зловеще произнес: — Ваш отец и ваша мать очень тяжело воспримут весть о вашей гибели.
Как частное лицо он посоветовал мне, пока не поздно, отказаться от моей затеи. Один адмирал, смотревший плот, сказал ему, что мы обречены на гибель. Во-первых, у плота неправильные размеры: он так мал, что первая же крутая волна опрокинет его, и вместе с тем настолько велик, что его может поднять сразу на двух гребнях, а тогда хрупкие бревна не выдержат груза и переломятся. Но больше всего посланник был озабочен словами виднейшего в стране экспортера бальсы, который заверил его, что пористые бревна не пройдут и четверти пути: они пропитаются водой и затонут вместе с нами.
Да, страшная перспектива, но я стоял на своем. Тогда посланник подарил мне на дорогу Библию.
Вообще от знатоков, посетивших наш плот, мы не услышали ничего утешительного. Первый же шторм или ураган смоет нас и разобьет вдребезги наше открытое низенькое суденышко, которое окажется игрушкой ветра и волн. Даже самая маленькая волна промочит нас насквозь, морская вода разъест нам ноги и испортит наше снаряжение. Если собрать все, что знатоки считали роковым недостатком нашего плота, не оставалось той детали, которая не угрожала бы сгубить нас в океане. Все бились об заклад, сколько дней протянет наш плот, а один опрометчивый военно-морской атташе обязался на всю жизнь обеспечить нашу команду виски, если мы доберемся до любого из островов Полинезии.
Главное огорчение ожидало нас, когда в гавань пришло норвежское судно и нам разрешили провести на верфь капитана и еще нескольких видавших виды морских волков. Нас очень волновало, что скажут практики. И как же мы Разочаровались: они дружно заявили, что плот слишком тяжелый и неуклюжий, от паруса не будет никакого толка. Капитан сказал, что, если плот не пойдет ко дну, понадобится не меньше года, а то и двух, чтобы пересечь океан с течением Гумбольдта. Боцман осмотрел узлы и покачал головой: нам нечего бояться затяжного путешествия, плот и двух недель не протянет, могучие бревна, колыхаясь вверх-вниз, перетрут все канаты. Если мы не перейдем на стальной трос и цепи, лучше сразу отказаться от экспедиции.
Словом, мрачных пророчеств хватало. Достаточно оправдаться одному из них, и нам конец. Кажется, в те дни я не раз спрашивал сам себя: понимаем ли мы, на что идем. Не обладая морским опытом, я не мог опровергнуть все эти предупреждения. Но у меня был в запасе важный козырь, на котором было основано все наше предприятие. Я был твердо убежден, что древняя культура распространилась из Перу на острова Тихого океана, когда единственным судном на этом побережье был плот. Отсюда я делал вывод: если у Кон-Тики в VI веке бальсовые бревна не тонули и узлы не рвались, то и нам нечего бояться, только надо точно повторить древний образец. Ребята хорошо изучили теорию, и вся наша компания преспокойно веселилась в Лиме, предоставив знатокам переживать и волноваться. Только один раз Торстейн озабоченно спросил, уверен ли я, что океанские течения идут туда, куда нам надо. Это было после того, как мы в кино увидели Дороти Лямур на чудесном тропическом острове, где она танцевала в соломенной юбочке среди пальм и местных девушек.
— Вот куда нам надо попасть! — сказал Торстейн. — Берегись, если течения тебя подведут!
Когда осталось совсем немного до отъезда, мы пошли в паспортный отдел министерства иностранных дел. Первым подошел наш переводчик Бенгт.
— Ваше имя? — спросил кроткий тщедушный чиновник, подозрительно поглядывая поверх очков на бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — последовал почтительный ответ.
Служащий вставил в машинку длинную анкету:
— С каким судном вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — стал объяснять Бенгт, наклонясь над испуганным человечком, — я прибыл не с судном, я приехал в Перу на пироге.
Онемев от изумления, служащий воззрился на Бенгта и написал в анкете: «пирога».
— С каким теплоходом вы покидаете Перу?
— Простите, — продолжал Бенгт вежливо, — я уезжаю не на теплоходе… я поплыву на плоту.
— Ну знаете! — выкрикнул чиновник сердито, выдергивая бланк из машинки. — Будьте любезны отвечать на мои вопросы серьезно!..
За два дня до старта мы погрузили на плот провиант,
у и все наше снаряжение. Мы запасли продовольствия на четыре месяца — армейские пайки в небольших картонных коробках. Герман придумал облить каждую коробку тонким слоем расплавленного асфальта. Чтобы они не склеились, мы обсыпали их песком, после чего плотно уложили под бамбуковой палубой между девятью поперечинами.
Пятьдесят шесть канистр общей вместимостью 1100 литров мы наполнили кристально чистой водой из высокогорного источника и также привязали между бревнами, где бы их постоянно омывала морская вода. Сверху ка палубе укрепили снаряжение и большие плетеные корзины, доверху наполненные фруктами и кокосовыми орехами.
Внутри бамбуковой хижины один угол был отведен Кнюту и Торстейну для радиостанции. Между поперечинами мы поставили восемь деревянных ящиков. Два из них мы заняли научными приборами и киносъемочной аппаратурой, а остальные шесть распределили по одному на члена команды, предупредив, что вместимостью ящика определяется, сколько личного имущества может взять с собой каждый. Уложив несколько рулонов рисовальной бумаги и гитару, Эрик был вынужден сунуть свои носки к Торстейну. Ящик Бенгта принесли четыре военных моряка. Его походное имущество составляли одни книги, зато он ухитрился уложить 73 тома социологических и этнологических исследований. На ящики мы настелили плетеные маты и соломенные матрацы по числу участников; можно было отправляться в путь.
Сначала плот отбуксировали с верфи на простор, чтобы проверить, ровно ли распределен груз. Затем нас доставили на пристани яхт-клуба Кальяо. Здесь накануне отплытия состоялось крещение плота с участием приглашенных лиц и прочих, кто пожелал прийти.
27 апреля на плоту был поднят норвежский флаг; вдоль короткой реи над парусом развевались флаги всех наций, которые помогли нам организовать экспедицию. Набережная кишела людьми, многим захотелось посмотреть, как будут крестить столь необычное судно. Судя по чертам лица и цвету кожи, здесь было немало потомков тех, кто в давние времена ходил вдоль побережья на бальсовых плотах. Пришли и потомки первых испанцев во главе с представителями военно-морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины, Кубы, экс-губернатор британских владении в Тихом океане, посланники Швеции, Бельгии и Голландии и наши друзья из норвежского землячества во главе с генеральным консулом Баром. Сновали журналисты, жужжали камерами кинооператоры, не хватало только духового оркестра. Одно было для нас ясно: если плот рассыплется, выйдя из бухты Кальяо, мы скорее погребем каждый на своем бревне в Полинезию, чем возвратимся сюда.
Герд Волд, секретарь экспедиции и ее уполномоченная на суше, должна была крестить плот молоком кокосового ореха — отчасти, чтобы не нарушать колорит каменного века, отчасти же потому, что шампанское, по странному недоразумению, очутилось на дне личного сундучка Торстейна. По-английски и по-испански мы сообщили нашим друзьям, что плот будет назван в честь могущественного предшественника инков, короля-солнца, который полтора тысячелетия тому назад ушел из Перу через океан на запад, чтобы появиться затем в Полинезии. Герд Волд нарекла плот именем «Кон-Тики» и с такой силой стукнула заранее надрезанным кокосовым орехом по переднему бревну, что сок ореха обрызгал всех, кто почтительно окружил наше суденышко.
После этого мы подняли бамбуковую рею и расправили парус, в середине которого наш живописец Эрик намалевал красной краской голову Кон-Тики. Это была точная копия головы бога Солнца, которая высечена на красном камне, стоящем среди развалин города Тиауанако.
— А! Сеньор Даниельссон! — восхищенно воскликнул руководитель строителей, увидев на парусе бородатую физиономию.
Два месяца он величал Бенгта сеньором Кон-Тики, после того как мы показали ему рисунок головы древнего вождя. Теперь до него наконец дошло, что Бенгта зовут Даниельссон…
Перед отъездом команда получила прощальную аудиенцию у президента. Потом мы забрались высоко в горы, чтобы досыта наглядеться на скалы и утесы, прежде чем выходить в безбрежный океан. Пока шла работа, мы жили в пансионате в зеленом пригороде Лимы и каждый день ездили в порт Кальяо на машине военно-воздушного ведомства, которую Герд удалось взять напрокат вместе с персональным водителем. Вот мы и попросили шофера отвезти нас подальше в горы. По иссушенным солнцем склонам, мимо древних оросительных сооружений инков мы поднялись на 4 тысячи метров над верхушкой мачты «Кон-Тики». Здесь мы буквально пожирали глазами камни, утесы и зелень лугов, пытаясь пресытиться величественным зрелищем могучего отрога Анд. Мы внушали себе, что камень и суша нам осточертели, теперь нам не терпится поскорее узнать океан!
Глава 4
Через Тихий океан. I
Драматический старт. — На буксире в море. — Долгожданный ветер. — Поединок с волнами. — Обитатели течения Гумбольдта. — Самолет не находит нас. — Бревна впитывают воду. — Дерево и канаты — кто кого? — Летающие рыбные блюда. — Необычный сосед в постели. — Рыба-змея садится не в свои сани. — Глаз в океане. — Морские призраки. — Встреча с величайшей рыбой в мире. — Погоня за морской черепахой
28 апреля, в день, когда «Кон-Тики» должны были отбуксировать в море, в порту Кальяо царило оживление. Министр Нието распорядился, чтобы буксир военно-морского ведомства «Гуардиан Риос» вывел нас из бухты за пределы области прибрежного судоходства, туда, где некогда индейцы ловили рыбу с плотов. Газеты сообщили об этом большими красными и черными буквами, и с раннего утра к пристани устремился народ.
Конечно, в самую последнюю минуту у каждого из нас нашлись свои неотложные дела, и, когда я пришел на пристань, один только Герман нес вахту на плоту. Я нарочно остановил машину подальше от причала и прошелся пешком вдоль набережной — когда еще смогу вот так погулять! И вот я на палубе нашего плота. Что здесь творилось! Гроздья бананов, корзины с фруктами, мешки — все, что забросили на борт в последнюю минуту, чтобы потом, когда разберемся, расставить по местам и закрепить. Среди всей этой неразберихи в полном отчаянии сидел Герман, держа в руках клетку с зеленым попугаем — последний прощальный подарок какого-то доброжелателя из Лимы.
— Присмотри за попугаем, а я сбегаю в город, выпью кружечку пива, — сказал Герман. — До прихода буксира еще несколько часов.
Только он исчез в толпе на пристани, как зрители приветственно замахали руками: из-за мыса показался идущий на всех парах «Гуардиан Риос». Он бросил якорь за лесом мачт, преграждавших путь к «Кон-Тики», и выслал мощный катер, чтобы тот провел нас между яхтами. Катер был битком набит матросами, офицерами и кинооператорами. Под звуки команды и стрекот съемочных аппаратов к носу плота привязали прочный буксирный трос.
— Ун моменто, — завопил я, прижимая к себе клетку, — еще рано, и мы должны подождать остальных, там лос экспедисионариос!
Я указал в сторону города.
Но меня никто не понял. Офицеры вежливо улыбнулись и проследили за тем, чтобы трос был закреплен образцово. Я отцепил его и, усиленно жестикулируя, бросил за борт. Попугай воспользовался суматохой, просунул клюв наружу и открыл задвижку. Когда я обернулся, он уже бодро шагал по палубе. Я попытался схватить его, но тут он крикнул что-то нехорошее по-испански и взлетел над банановыми гроздьями. Не спуская глаз с матросов, которые опять взялись крепить трос, я ринулся за ним вдогонку. Попугай, крича, укрылся в хижине, где мне удалось загнать его в угол и схватить за ногу, когда он попытался прыгнуть через меня. Выскочив наружу и заточив отбивающегося попугая в клетку, я обнаружил, что матросы убрали все чалки плота и его теперь бросало взад и вперед на длинных валах, которые прорывались в гавань. Я схватил весло, чтобы предотвратить столкновение с пристанью. Раздался глухой треск, но тут на катере заработал мотор, трос рывком натянулся, и «Кон-Тики» начал свое плавание. Моим единственным спутником был говорящий (только по-испански) попугай, который обиженно глядел на меня из своей клетки. Толпа кричала и махала нам вслед, а чернявые операторы на катере с риском для жизни старались запечатлеть на кинопленку все подробности драматического старта экспедиции.
В полном отчаянии я стоял один на плоту, высматривая своих пропавших сподвижников. Они словно сквозь землю провалились. Тем временем мы уже подошли к «Гуардиан Риос», которому не терпелось сняться с якоря и двинуться в путь. Я взлетел вверх по веревочному трапу и поднял такой шум, что старт отложили и отправили к пристани шлюпку. Ее долго не было, наконец она вернулась, везя множество прелестных сеньорит и ни одного из членов команды «Кон-Тики». Грациозные сеньориты наводнили плот, но мне от этого не стало легче, и шлюпка снова отправилась на поиски лос экспедисионариос норуэгос.
Пока все это происходило, Эрик и Бенгт явились на пристань, нагруженные свертками и книгами. Навстречу валила расходившаяся по домам толпа, а затем они наткнулись на полицейское ограждение, где им вежливо объяснили, что больше смотреть не на что. Элегантно помахивая сигарой, Бенгт возразил, что они пришли не смотреть, они сами участники экспедиции.
— Поздно, — терпеливо сказал полицейский. — «Кон-Тики» ушел час назад.
— Но этого не может быть. — Эрик сунул ему под нос один из свертков. — Вот судовой фонарь!
— Да, да! — поддержал его Бенгт. — Этот человек — штурман, а я стюард.
Они протиснулись к краю пристани, но плота в самом деле не было. Друзья растерянно забегали по набережной и встретили остальных участников, они тоже разыскивали пропавший плот. Тут показалась шлюпка, и наша шестерка наконец-то воссоединилась. Рассекая носом волны, «Кон-Тики» пошел на буксире в море.
Старт состоялся уже под вечер, и «Гуардиан Риос» должен был тащить нас до утра, когда мы выйдем из области каботажного судоходства.
Сразу за молом мы попали в легкую зыбь, и провожающие нас лодки одна за другой повернули назад. Лишь несколько больших увеселительных яхт последовали за нами до самого выхода из бухты, чтобы посмотреть, как поведет себя плот в море.
«Кон-Тики» тянулся за буксирным судном, словно сердитый бычок на привязи, и бодал волны так, что гребни захлестывали палубу. Не очень-то обнадеживающее начало, ведь здесь была тишь и гладь перед тем, что ожидало нас дальше.
Посреди бухты буксирный трос лопнул. Наш конец медленно пошел ко дну, а буксир как ни в чем не бывало продолжал идти своим курсом. Яхты поспешили на перехват «Гуардиан Риос», мы же бросились вылавливать трос. Вдоль плота качались в воде здоровенные, с таз, медузы, и все канаты обволокло жгучее скользкое желе. Волна задрала кверху нос плота. Перегнувшись через бортик, мы еле-еле дотянулись кончиками пальцев до троса. Но тут плот снова нырнул в очередную волну, и мы с головой окунулись в воду, набрав полные пазухи огромных медуз. Мы плевались, чертыхались, вытаскивали из волос длинные щупальца, зато, когда вернулся «Гуардиан Риос», трос был выловлен. Только мы приготовились подать его на буксир, как нас увлекло под ахтерштевень и чуть не прихлопнуло. Бросив все, мы схватили шесты и весла. Но что толку: когда плот скатывался в ложбину между волнами, мы не могли дотянуться до кормы «Гуардиан Риос», а когда нас поднимало на гребне, ахтерштевень судна, уходя в воду, грозил накрыть нас и раздавить о бревна плота. Матросы бегали, кричали, наконец пустили мотор, винт погнал воду назад, и мы в последнюю секунду выбрались из этой ловушки. Правда, нос плота от сильных ударов слегка покривился, но он сам же понемногу и выпрямился.
— Лиха беда начало, — бодро сказал Герман. — Только бы этот проклятый буксир не разорвал плот на части.
Нас буксировали малым ходом всю ночь, и обошлось без серьезных происшествий. Яхты давно распрощались с нами, скрылся за кормой последний маяк. В темноте лишь несколько раз промелькнули мимо судовые фонари. Мы разделили ночь на вахты, чтобы следить за тросом.
Когда рассвело, берег Перу был скрыт густым туманом, зато на западе нас встречало ослепительное синее небо. По океану катились длинные ленивые валы с мелкими барашками; одежда, бревна — все отсырело от росы. Было свежо, зеленая вода оказалась неожиданно холодной для 12° южной широты. Нас окружало течение Гумбольдта, которое несет холодную воду из антарктических областей на север вдоль побережья Перу, после чего, немного не доходя экватора, сворачивает на запад в океан. Именно здесь Писарро, Сарате и другие испанские путешественники впервые увидели большие парусные плоты инков, которые выходили на 50–60 миль, чтобы ловить в течении Гумбольдта тунца и корифену. Днем ветер дул с материка, под вечер он сменялся морским бризом, который помогал инкам возвращаться.
Здесь «Гуардиан Риос» остановился. Оберегая плот от новой встречи с ахтерштевнем, мы спустили на воду резиновую лодку. Прыгая по волнам, словно футбольный мяч, она доставила к буксиру Эрика, Бенгта и меня. Мы поднялись на борт по веревочному трапу, и капитан показал нам нашу позицию на карте. Мы находились в 50 морских милях от суши, к северо-западу от Кальяо. Чтобы на нас не наскочили ночью суда каботажных линий, лучше первое время ночью идти с зажженными фонарями. Дальше нам уже никто не встретится, в этой части Тихого океана нет пароходных линий.
Торжественно попрощавшись с матросами «Гуардиан Риос», мы спустились в свою лодку и заскользили назад к плоту. Нас провожали взгляды, в которых были и тревога, и сочувствие. Отдан конец, теперь плот предоставлен самому себе. Вся команда «Гуардиан Риос», тридцать пять человек, выстроилась вдоль борта и махала нам, пока судно не скрылось из виду. На плоту шесть человек сидели на ящиках и не сводили глаз с удалявшегося парохода. Но вот уже и черный дымок растаял у горизонта; мы покачали головами и взглянули друг на друга.
— До свиданья, прощай… — произнес Торстейн. — Что ж, пускай мотор, ребята!
Мы рассмеялись и проверили, откуда дует ветер. Слабый южный бриз сменился юго-восточным. Мы подняли бамбуковую рею с большим квадратным парусом. Он вяло повис на мачте, Кон-Тики нахмурился и смотрел на нас явно неодобрительно.
— Старик недоволен, — заметил Эрик. — Видно, в его молодости ветерок был посвежее.
— Ух ты, лихо несемся! — сказал Герман и бросил бальсовую щепку в воду около носа. — Раз, два, три… тридцать девять, сорок один.
Щепочка лениво покачивалась у борта, она не прошла и половины длины плота.
— Не иначе через весь океан с нами поплывет, — бодро заключил Торстейн.
— Надеюсь, нас не пригонит обратно вечерним бризом, — забеспокоился Бенгт. — Боюсь, встреча будет не такой теплой, как проводы!
Щепка достигла кормы. Мы прокричали «ура» и принялись размещать все то, что было погружено в последнюю минуту. Бенгт разжег на дне пустого ящика примус, и вот уже мы пьем горячее какао с печеньем, закусываем свежим кокосовым орехом. Бананы еще не дозрели.
— А что, здорово, — решил Эрик.
Он расхаживал в огромной овчинной бурке, надвинув на глаза широкую индейскую шляпу и посадив на плечо попугая.
— Одно только мне не нравится, — продолжал он, — все эти мало изученные противотечения, как бы они не выбросили нас на береговые утесы, если мы тут застрянем надолго.
Мы обсудили, не пустить ли в ход весла, потом решили еще подождать ветра.
И ветер подул. Мало-помалу зюйд-ост набирал силу. Парус наполнился, выгнулся, словно грудь воина, и лицо Кон-Тики вспыхнуло задором. Плот зашевелился. Крича «вперед, на запад!», мы тянули фалы и шкоты. Вот и рулевое весло установлено на место, вступает в силу вахтенное расписание. Мы бросали в воду щепки, бумажные шарики и подстерегали их на корме с секундомером в руках:
— Раз, два, три… восемнадцать, девятнадцать — есть!
Бумажки и щепки одна за другой проплывали мимо весла, и вскоре позади нас на волнах вытянулась длинная качающаяся цепочка. Метр за метром мы продвигались вперед. «Кон-Тики» не рассекал волны с лихостью быстроходного катера. Широкий и тупоносый, тяжелый и крепкий, он плавно переваливался с волны на волну. Он никуда не спешил, но уж как пошел — все, не остановишь.
Поначалу мы долго мучились с рулевым устройством. Плот в точности отвечал записям испанцев, но в наше время не нашлось никого, кто бы мог на деле обучить нас, как управлять индейским плотом. Мы много
говорили об этом с экспертами, но эти дискуссии почти ничего не дали: они знали столько же, сколько мы.
Зюйд-ост все крепчал, и нужно было следить за тем, чтобы плот шел в бакштаг. Стоило ему рыскнуть, как парус начинал полоскать, избивая хижину, груз и людей, потом обстенивался, и плот, сделав полный оборот, шел задним ходом. И начиналась наша мука. Трое боролись с парусом, остальные трое наваливались на рулевое весло, чтобы правильно развернуть плот. Как развернешь, следи в оба, не то тут же опять обстенит.
Шестиметровое рулевое весло свободно лежало в уключине на здоровенной колоде на корме. Это было то самое весло, которым пользовались наши друзья в Эквадоре, когда мы сплавляли бревна вниз по реке Паленке: длинная жердь из мангрового дерева, на конце привязана лопасть — широкая сосновая доска. Весло было прочное, как железо, но зато такое тяжелое, что только урони за борт — сразу утонет. Как ударит по нему волной, держи что есть силы. Пальцы сводило судорогой от напряжения, настолько трудно было удерживать лопасть в нужном положении. Правда, эту задачу мы решили: привязали к веслу поперечную рукоятку и получилось что-то вроде рычага.
А ветер продолжал крепчать и во второй половине дня разгулялся вовсю. Он вспахал поверхность моря, и вдогонку нам катили бурлящие валы. Вот когда до нас по-настоящему дошло, что кругом океан, а с ним шутки плохи. И нет возврата. Теперь все решают мореходные качества плота. Здесь уже не будет западного ветра, который позволил бы нам вернуться обратно. Мы вошли в полосу пассата, и он с каждым днем будет увлекать плот все дальше в океан. Знай иди на всех парусах. Попробуешь развернуться — все равно плот пойдет тем же курсом, только вперед кормой. Для нас теперь есть лишь один курс: ветер — с кормы, нос — на закат. И ведь в этом и заключается цель экспедиции — идти за солнцем, как шел, по-моему, Кон-Тики со своей свитой солнцепоклонников, когда их вытеснили из Перу.
С радостью и облегчением мы смотрели, как легко переваливает плот через шипящие гребни, которые грозной чередой пошли на нас. Но одному человеку было не под силу удерживать руль, когда волны с ревом обрушивались на него и вышибали весло из уключины или могучим ударом заставляли руль разворачиваться так, что рулевой беспомощно тащился следом. Даже двое не могли справиться с веслом, если волны шли с кормы. И мы решили укрепить весло на растяжках, да еще привязали его к уключине. Обузданное весло могло сопротивляться любым волнам, только бы нас самих не смыло.
Ложбины между валами становились все глубже, очевидно, мы вошли в основную струю течения Гумбольдта. Это оно изрыло поверхность океана, не только ветер. Куда ни погляди, зеленая вода, холодная вода; зубчатые горы Перу скрылись за плотными облаками. Стемнело, и всерьез развернулась наша первая схватка со стихиями. Мы еще робели, мы не знали, как примет океан незваных гостей — как друг или недруг. Заслышав в кромешном мраке сквозь ровный гул океана рев подкравшейся волны и завидев белый гребень вровень с крышей, мы цеплялись за что попало и мрачно ждали: сейчас вал захлестнет нас вместе с плотом. И каждый раз — приятная неожиданность. Чуть наклонившись, «Кон-Тики» легко взмывал вверх, и гребень катился вдоль борта. Потом мы сваливались в ложбину до следующей волны. Самые большие валы следовали по два, по три подряд, перемежаясь множеством волн поменьше. Лишь когда два вала шли совсем вплотную друг за другом, второй с грохотом обрушивался на корму, потому что нос еще был приподнят первым. Вахтенному строго предписывалось обвязать себя вокруг пояса канатом, второй конец которого крепился к бревнам, ведь поручней не было. Задача рулевого — держать корму к ветру и волнам, вести плот в океан. На ящик на корме мы поставили старый компас, чтобы Эрик мог проверять курс, исчислять наше местонахождение и снос. Но сейчас невозможно было определить, где мы: небо заволокло тучами, горизонт представлял собой хаос волн. Сразу двое несли вахту на руле, и то они едва управлялись с беснующимся веслом, пока остальные четверо пытались хоть немного вздремнуть в каюте. Когда надвигался особенно мощный вал, рулевые бросали весло, полагаясь на растяжки, и повисали на торчащем из крыши бамбуковом шесте. Ревущая волна падала на корму и уходила между бревнами или скатывалась через борт. Тут надо было, не мешкая, возвращаться к рулю, пока не развернуло плот и не обстенило парус. А то, как станет плот боком, волны и ворвутся в каюту. Идя с кормы, они мгновенно просачивались в щели, не дотягиваясь до хижины. В этом преимущество плота: чем больше дыр, тем лучше — вода только вытекает через них, но никогда не просачивается снизу вверх.
Ночью, часов около двенадцати, вдали на севере промелькнули огни какого-то судна. В три часа тем же курсом проследовал второй корабль. Мы размахивали керосиновым фонарем, сигналили карманным фонариком, но нас не заметили. Огни ушли на север. На борту судна не подозревали, что здесь на волнах качается настоящий инкский плот. Не знали и мы, что это последний корабль, последний на нашем пути через океан признак человека.
Во тьме мы, как клещи, впивались по двое в кормовое весло. Соленая вода стекала с волос, весло колотило нас и спереди, и сзади, руки коченели от напряжения. Первые же дни и ночи оказались для нас хорошей школой, сухопутные крабы превратились в моряков. Сначала по нашему расписанию каждый человек два часа нес вахту у руля, три часа отдыхал. Через каждый час свежий человек сменял одного из вахтенных. Рулевые не знали ни минуты передышки, мышцы были напряжены до предела. Устал толкать весло — переходи на другую сторону и тяни; если грудь и руки болят от непрерывных усилий, — упирайся в руль спиной. Синяков хватало кругом… Наконец вахта кончилась, ты заползаешь, совершенно одуревший, в хижину, обвязываешь ноги веревкой и засыпаешь прямо в мокрой одежде: нет сил забраться в спальный мешок. Не успел глаз сомкнуть, как уже дергают веревку: три часа прошло, пора на вахту.
На вторую ночь стало еще хуже, волнение только усилилось. Сражаться с веслом два часа подряд не было мочи, к концу вахты волны брали верх, шутя разворачивали плот и захлестывали палубу. Мы перешли на одночасовую вахту с полуторачасовым отдыхом. Первые шестьдесят часов прошли в непрерывной борьбе с нескончаемой чередой штурмовавших нас волн. Волны высокие, волны низкие, волны крутые и волны отлогие, косые волны и волны на гребнях других волн. Хуже всего досталось Кнюту. Он был свободен от рулевой вахты, зато без конца приносил жертвы Нептуну. Страдалец молча лежал в своем уголке и хижине. Попугай уныло сидел в клетке, взмахивая крыльями всякий раз, когда плот вдруг подпрыгивал и в заднюю стену ударяла волна.
Вообще-то «Кон-Тики» не так уж сильно качался. Он был устойчивее любой лодки таких же размеров. Вот только никак нельзя было предугадать направление крена, потому что плот бросало во все стороны. Так мы и не научились пружинить ногами.
На третью ночь волны поумерились, хотя ветер дул с прежней силой. Часов около четырех вдруг нагрянул какой-то замешкавшийся вал, и не успели рулевые опомниться, как плот развернуло кругом. Парус захлопал по хижине, грозя разнести в клочья ее и себя. Все наверх — спасать груз, тянуть тросы и шкоты, чтобы плот вернулся на прежний курс, чтобы парус снова наполнился ветром и выгнулся гордой дугой! Но плот не слушался нас. Он продолжал идти задом наперед, и никаких гвоздей. Мы тянули, толкали, гребли, но достигли только того, что двое чуть не свалились за борт, их захватило парусом в темноте. И хотя море вело себя тише, мы не стоили ни гроша: окоченевшие, измученные, руки ободраны, глаза слипаются… Лучше уж поберечь силы на тот случай, если резко испортится погода. Кто знает, что нас ждет впереди. И мы убрали парус, привязали его к рее. «Кон-Тики» повернулся бортом к волнам и скользил через них, как пробка. Надежно все укрепив, мы отменили вахты, вся шестерка втиснулась в бамбуковую каюту, и мы уснули мертвым сном.
Мы не подозревали, что самые тяжелые вахты позади. И лишь уйдя далеко в океан, мы догадались, как просто и гениально управляли своими плотами инки.
Проснулись мы днем от того, что попугай начал свистеть и гикать, прыгая взад и вперед на своей жердочке. Поверхность океана по-прежнему была изрыта высокими волнами, но теперь они шли длинной, ровной чередой, это была уже не та буйная мешанина, что накануне. И мы сразу увидели солнце, оно пригревало бамбуковую палубу, и в его лучах океан казался светлым и дружелюбным. Пусть волны бурлят и дыбятся — ведь они не трогают нас! Пусть перед самым носом у нас стеной вздымаются валы через секунду плот одолеет пенистый гребень, примнет его, словно тяжелым катком, грозная водяная гора только поднимет нас кверху и прокатится, шипя и булькая, под бревнами! Древние перуанские мастера неспроста предпочли плот сплошному корпусу лодки, которую может наполнить вода, и недаром рассчитали длину так, что плот легко переваливал через волны. Дорожный каток из пробки — вот с чем можно было сравнить наш бальсовый плот.
Эрик измерил высоту солнца и установил, что в дополнение к ходу под парусом нас сильно сносит вдоль побережья на север. Мы все еще были в течении Гумбольдта, в ста милях от суши. Теперь главное — не попасть в беспорядочные стремнины южнее Галапагосского архипелага. Это может нам все испортить, если нас подхватят сильные течения, которые сворачивают в сторону Центральной Америки. Если же все пойдет, как задумано, основное течение увлечет нас на запад в океан раньше, чем мы подойдем к Галапагосу. По-прежнему дул юго-восточный ветер. Мы подняли парус, развернули плот правильно и возобновили вахты.
Кнют оправился от морской болезни. Вместе с Торстейном он забрался на качающуюся мачту, и, сидя там, они стали экспериментировать с разными антеннами, поднимая их в воздух то на шаре, то на бумажном змее. Вдруг один из них крикнул, что слышит вызов из Лимы. Радиостанция военно-морского ведомства сообщала, что самолет американского посла вылетел в море, чтобы проводить нас и посмотреть, как наш плот выглядит в океане. Потом нам удалось связаться с бортрадистом, и состоялся неожиданный разговор с секретарем экспедиции Герд Волд: она была на самолете. Мы сообщили свои координаты, постаравшись определить их возможно точнее, и долго передавали сигнал для пеленга. Самолет ходил сужающимися кругами, и голос в эфире звучал все громче и громче. Но гул мотора мы так и не услышали и не увидели самолет. Трудновато искать в волнах низенький плот… А наше поле зрения было сильно ограничено. Пришлось летчику сдаться и повернуть назад. После этого никто уже не пытался найти нас.
Волнение не прекращалось, но волны шли с юго-востока ровными шеренгами, так что рулить было легче. Мы правили так, чтобы принимать волны и ветер с кормы, немного слева, при этом рулевого окатывало не так часто, и плот лучше выдерживал курс. С каждым днем юго-восточный пассат и течение Гумбольдта относили нас все ближе к водоворотам у Галапагоса. Мы быстро двигались я северо-запад, покрывая в среднем за сутки 50–60 мор-миль, а рекорд составлял 71 милю (то есть больше 30 километров) в сутки.
А как там, на Галапагосе, можно жить? — озабоченно спросил как-то Кнют, глядя на карту: значки, обозначающие нашу позицию, напоминали палец, который злорадно указывал прямо на заколдованный архипелаг.
— Не очень-то, — признался я. — По преданиям, инка Тупак Юпанки незадолго до открытия Америки Колумбом ходил на бальсовых плотах из Эквадора на Галапагос, по не стал там задерживаться: нет питьевой воды. И после него никто там не селился.
— Понятно, — сказал Кнют. — Тогда и мы туда не пойдем. Надеюсь…
Мы уже настолько привыкли к беспрестанной пляске волн, что перестали с ней считаться. Подумаешь, качает и бросает, и что такое тысяча саженей — лишь бы мы вместе с плотом оставались на поверхности! Правда, в том-то и вопрос: долго ли мы останемся на поверхности? Одного взгляда было довольно, чтобы убедиться, что бальса впитывает воду. Особенно задняя поперечина; она так размокла, что кончик пальца легко входил в сырую древесину. Раз я потихоньку отковырнул от колоды щепочку и бросил ее в воду. Она медленно пошла ко дну. Потом я заметил, что и другие ребята, когда на них никто не смотрит, проделывают этот опыт. Молча они смотрели, как щепочки исчезают в зеленой толще. На старте мы пометили осадку плота, но из-за воли нельзя было проверить, какая у нас осадка теперь. Правда, втыкая в бревна перочинный нож, мы узнали, что древесина отсырела всего на дюйм с небольшим. Расчеты показали, что, если бревна и впредь будут впитывать воду с такой же скоростью, палуба окажется под водой к тому времени, когда мы достигнем суши. Но мы надеялись, что смола все-таки затормозит этот процесс.
И еще одно заботило нас — канаты… В первые недели нам было не до них, слишком много дел, но, когда смеркалось и мы ложились спать, появлялось время осязать, размышлять и слушать. Лежа каждый на своей циновке, мы чувствовали, как палуба под нами колышется вместе с бревнами. Мало того что весь плот качался, еще и бревна терлись друг о друга. Одно вверх, другое вниз, словно волна бежит по плоту. Конечно, они шевелились не сильно, но все же нам казалось, будто мы лежим на спине огромного мерно дышащего животного. Поэтому мы предпочитали ложиться вдоль бревен. Хуже всего были первые две ночи, но тогда нам из-за усталости было все равно. Потом канаты, отсырев, натянулись и немного усмирили бревна. Но и после этого на плоту нельзя было найти совсем неподвижной точки. Так как основа непрерывно колыхалась и дергалась, все остальное тоже шевелилось. Палуба, двойная мачта, плетеные стены каюты, крыша из реек — все было скреплено только канатами, и все колебалось не в лад. Сразу, может быть, и не заметишь, но если приглядеться: один угол каюты поднимается, другой — опускается, половина крыши загнулась вверх, другая половина — вниз. А если посмотришь в дверь наружу, то и подавно все колышется: небо словно кружится, а море то и дело подпрыгивает.
Вся нагрузка ложилась на канаты. Ночь напролет были слышны скрип и шуршание, треск и визг. Словно жалобный хор звучал во мраке; у каждой веревки — свой голос. По утрам мы тщательно проверяли все канаты, даже под днищем: кто-нибудь, перегнувшись через край плота, окунался с головой в воду, а двое других держали его за лодыжки.
Но снасти были в порядке. От силы две недели, говорили моряки, и все наши канаты перетрет. А мы, несмотря на жуткий концерт, не видели никаких повреждений. Потом-то мы поняли, в чем дело: канаты мало-помалу стирали мягкую бальсовую древесину, вот и вышло, что не бревна истерли их, а они ушли в дерево.
На восьмой-девятый день волны стали заметно меньше и море вместо зеленого стало синим. Мы теперь дрейфовали уже не на норд-вест, а на вест-норд-вест, — очевидно, вышли из прибрежного течения, можно надеяться, что нас вынесет в океан.
Уже в первый день, когда ушел буксир, мы видели около плота рыбу, но ловить ее было некогда, все внимание было обращено на руль. На второй день мы попали в плотный косяк сардины, а затем восьмифутовая синяя акула сверкнула своим белым брюхом, проходя мимо кормы, где Герман и Бенгт стояли на руле, оба босые. Она покружила возле плота, но ушла, как только мы приготовились пустить в ход гарпун.
На следующий день нас посетили тунцы, бониты и корифены. Воспользовавшись тем, что на палубе приземлилась большая летучая рыба, мы изрезали ее на наживку и живо выловили двух корифен по десяти — пятнадцати килограммов — обед на несколько дней.
Неся вахту у руля, мы частенько видели совсем незнакомых рыб, а однажды попали в косяк дельфинов, которому казалось, не было ни конца, ни края. Сплошной массив черных спин до самого плота… Посмотришь с мачты, всюду, насколько хватает глаз, из воды выскакивают дельфины. И чем дальше мы уходили от материка к экватору, тем больше было летучих рыб. Когда мы наконец вышли на голубые океанские просторы, где степенно катились, блестя на солнце и курчавясь барашками, могучие валы, целые стаи, словно серебристые снаряды, вырывались из воды и, пролетев, сколько позволял разгон, снова ныряли в воду.
Если ночью на палубе стоял наш маленький керосиновый фонарь, его свет притягивал гостей — летучие рыбы, большие и маленькие, проносились над плотом. Врежутся в каюту или парус и шлепаются на палубу. Они ведь только в воде могут разогнаться и взлететь, вот и лежат, беспомощно взмахивая длинными грудными плавниками, этакие большеглазые сельди. Частенько можно было услышать бранное слово, когда холодная рыба с ходу награждала звонкой оплеухой кого-нибудь из членов команды. Рыбы летели довольно быстро. Как ткнет тебя мордой прямо в физиономию — получалось очень чувствительно. Впрочем, пострадавшие недолго обижались на незаслуженные зуботычины. Разве плохо, когда по воздуху летят отличные рыбные блюда, совсем как жареная птица в земле обетованной? Утром мы жарили нашу добычу, и то ли рыба была хороша, то ли кок молодец, то ли аппетит отличный, но очищенная от чешуи она напоминала вкусом форель.
Первой обязанностью кока, когда он вставал утром, было пройти по палубе и собрать всех приземлившихся за ночь летучих рыб. Обычно их было штук шесть — восемь, а один раз мы насчитали двадцать шесть жирных рыбин. Кнют просто огорчился, когда летучая рыба попала ему в Руку, а не прямо на сковородку, на которой он только что расплавил сало.
Торстейн лишь тогда по-настоящему уразумел, что море — наш сосед, когда, проснувшись утром, нашел у себя на подушке сардину. В каюте было тесновато, так что он спал, высунув голову за дверь, и кусал за ноги каждого, кто, выходя ночью по своим делам, нечаянно наступал ему на нос. Подняв сардину за хвост, Торстейн доверительно сообщил ей, что вообще неравнодушен к сардинам. Мы старательно поджимали ноги, чтобы освободить ему место, но тут случилось такое, после чего Торстейн устроил себе постель на ящике с кухонной утварью возле нашей радиостанции.
Это было несколько дней спустя. Небо покрылось облаками, и ночью стоял непроглядный мрак, поэтому Торстейн поставил керосиновый фонарь около своей головы, чтобы вахтенные, входя и выходя, видели, куда ступать. Часов около четырех Торстейн проснулся оттого, что фонарь упал и что-то холодное и скользкое хлестало его по ушам. Летучая рыба, решил он, и стал шарить кругом, чтобы схватить ее и вышвырнуть за борт. Ему попалось что-то мокрое, длинное, змееподобное, и он отдернул руку, словно обжегся. Пока Торстейн возился с потухшим фонарем, невидимый ночной гость увильнул и заполз к Герману. Герман вскочил, тут и я проснулся, и мне сразу пришел на ум гигантский кальмар, который по ночам всплывает к поверхности как раз в этих широтах. Наконец зажегся фонарь, и мы увидели Германа: он сидел с торжествующим видом, сжимая в руке извивающуюся угрем тонкую рыбину. Она была длиной около метра, тело змеевидное, громадные черные глаза; длинные хищные челюсти усеяны острыми зубами, которые могли складываться назад, пропуская пищу. Стиснутая рукой Германа хищница вдруг отрыгнула большеглазую белую рыбку сантиметров около двадцати, за ней — еще одну. Обе рыбы, явно глубоководные, были сильно искалечены зубами рыбы-змеи. Тонкая кожа хищницы отливала на спине сине-фиолетовым цветом, на брюхе — сине-стальным, от наших прикосновений она слезала большими лоскутами.
Вся эта возня разбудила Бенгта, и мы поднесли к его глазам фонарь и длинную рыбину. Он сел в спальном мешке и сонно произнес:
— Ерунда, таких зверей не бывает.
После чего повернулся и преспокойно уснул опять.
Бенгт был почти прав. Позже выяснилось, что мы шестеро, повстречавшие рыбу-змею в бамбуковой хижине при свете керосинового фонаря, первыми увидели ее живьем. До тех пор на побережье Южной Америки и на Галапагосских островах находили только ее скелеты, да и то всего несколько раз. Ихтиологи назвали ее Gempylus, или змеевидная скумбрия, и считали, что она обитает в морской бездне, ведь никто не видел живую рыбу-змею. Возможно, Gempylus и в самом деле уходит на большую глубину, но только днем, когда солнце слепит его громадные глаза. А ночью — в этом мы лично убедились — Gempylus даже выходит из воды.
Через восемь дней после того, как редкая рыба попала спальный мешок Торстейна, к нам явился еще один гость. Это опять случилось в четыре часа утра. Луна зашла, хотя сияли звезды, было совсем темно. Плот хорошо слушался руля, и, когда моя вахта кончилась, я пошел вдоль борта, проверяя, все ли в порядке. Как всегда у вахтенного, у меня вокруг пояса была обвязана веревка. Держа в руке фонарь, я стал осторожно огибать мачту, ступая по самому краю. Бревно было мокрое, скользкое, и я не на шутку разозлился, когда кто-то сзади ухватился за веревку и дернул так, что я едва не шлепнулся в море. Я сердито обернулся и посветил фонарем — никого! Вдруг веревка опять натянулась и задергалась, и тут я разглядел, что на палубе извивается что-то блестящее. Это был новый Gempylus. Он с такой силой впился зубами в веревку, что некоторые из них обломились, прежде чем я сумел его оторвать. Вероятно, свет фонаря упал ка белую веревку, и, когда она зашевелилась, гость из бездны прыгнул на плот, надеясь добыть этот длинный лакомый кусок. И кончил свой путь в банке с формалином.
Много неожиданностей готовит океан тому, кто выкладывает себе пол прямо на его поверхности и двигается не спеша, бесшумно. Один охотник с шумом ломится сквозь лес, возвращается и заявляет, что там пусто, ни одной зверюшки нет. Другой тихо сядет на пенек и ждет — и вот уже со всех сторон доносятся шорохи, отовсюду выглядывают любопытные глаза. Вот и на море так. Мы бороздим волны под гул моторов и стук поршней, только брызги летят. А вернувшись, говорим, что в океане не на что посмотреть.
Не было дня, чтобы нас не навестили любопытные гости. Они сновали и кружились возле плота, а некоторые, скажем корифены и лоцманы, до того с нами свыклись, что шли следом, не покидая нас ни днем, ни ночью.
Когда спускалась ночь и в черном тропическом небе загорались яркие звезды, ночесветки словно соревновались с небесными огоньками. Некоторые виды светящегося планктона до того напоминали круглые угольки, что мы невольно поджимали босые ноги, когда волны подносили к нашим пяткам огненные шарики. Выловишь — оказывается: это маленькие рачки. В такие ночи нас пугали круглые светящиеся глаза, которые вдруг появлялись из воды у самого плота и гипнотизировали нас, будто это сам водяной поднялся из пучины. Обычно это были всплывшие на поверхность огромные кальмары с мерцающими, точно Фосфор, чудовищными зелеными глазами. Но иногда наш Фонарь приманивал какую-нибудь глубоководную тварь, поднимающуюся из пучины только ночью, и она глядела, как завороженная, на свет.
В тихую погоду раза два случалось, что черную воду вокруг плота вдруг заполняли круглые головы шириной в два-три фута. Лежат и таращат на нас огромные светящиеся глаза… Или в толще воды появлялись световые шары диаметром в метр и больше. Они неравномерно мигали, словно кто-то включал и выключал электрические фонари.
Мало-помалу мы свыклись с тем, что у нас под полом водятся всякие чудовища. И все-таки каждый новый экспонат одинаково поражал нас. В одну пасмурную ночь, часов около двух, когда рулевой с трудом отличал черную воду от столь же черного неба, он заметил под водой тусклое зарево, которое постепенно приняло очертания животного. То ли планктон светился, соприкасаясь с животным, то ли само чудовище фосфоресцировало, во всяком случае, призрачное существо все время меняло свою форму. Оно было то круглым, то овальным, то треугольным, потом внезапно разделилось на две части, которые независимо друг от друга плавали взад и вперед под плотом. Под конец уже три огромных светящихся привидения медленно кружили под нами. Это были какие-то неимоверные чудовища, одно туловище достигало шести — восьми метров в длину. Выскочив из хижины на палубу, мы все шестеро смотрели на танец привидений. А он продолжался не один час. Не отставая от плота, наши загадочные светящиеся спутники бесшумно кружили, держась довольно глубоко, преимущественно с правого борта, где стоял фонарь, но иногда появлялись и прямо под плотом или слева. Если судить по отсвечивающим спинам, они были больше слонов, но это были не киты, потому что они ни разу не поднялись к поверхности за воздухом. Может быть, это гигантские скаты поворачивались на бок и оттого меняли конфигурацию? Мы подносили фонарь к самой воде, надеясь приманить их и как следует рассмотреть, — тщетно. Как и положено настоящей нечисти, они на рассвете исчезли, словно и воду канули.
Мы так никогда и не получили удовлетворительного ответа, кем были три светящихся зверя, которые навестили нас ночью. Если только не считать ответом другой визит. Это было через тридцать шесть часов, днем 24 мая, когда ленивые валы доставили нас в точку с примерными координатами 95° западной долготы и 7° южной широты. Дело шло к обеду, мы только что выбросили за борт внутренности двух больших корифен, выловленных рано утром.
Вот почему я, принимая освежающую ванну в море у носа Кнюта, внимательно поглядывал по сторонам и не выпускал из рук каната. Вдруг я увидел толстую бурую рыбу длиной около двух метров, которая с любопытством плыла ко мне сквозь кристально прозрачную воду. Я живо влез на плот и, греясь на солнце, рассматривал неторопливо следующее вдоль плота существо. И тут с кормы, из-за хижины, донесся дикий крик Кнюта… Он вопил «акула!» так, что голос сорвался. Но ведь мы чуть ли не ежедневно сидели у плота акул и не устраивали из-за этого шума. Значит, тут что-то особенное! И мы дружно бросились выручать Кнюта.
Сидя на корточках, Кнют полоскал в волнах свои невыразимые, а когда поднял голову, узрел такую огромную и уродливую морду, какой никто из нас в жизни не видел. Голова принадлежала исполинскому чудовищу, и она была такая громадная, такая страшная, что сам морской змей, появись он перед нами, не поразил бы нас так сильно. Маленькие глазки сидели по краям широкой и плоской морды, жабья пасть с длинной бахромой в уголках была не меньше полутора метров в ширину. Могучее туловище заканчивалось длинным тонким хвостом, острый вертикальный плавник свидетельствовал, что это во всяком случае не кит. Туловище в общем казалось в воде бурым, но и оно, и голова были усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно, лениво плыло за нами, щурясь по-бульдожьи и тихо работая хвостом. Большой округлый спинной плавник торчал из воды, иногда мелькал и хвостовой. А когда великан попадал в ложбину между волнами, высовывалась широченная спина, словно риф, окруженный водоворотами. Прямо перед пастью веером плыла туча полосатых лоцманов; к огромной туше присосались здоровенные прилипалы и другие паразиты — ну прямо подводный камень с целой колонией морских животных!
За кормой у нас была в воде приманка для акул: корифена килограммов на десять, надетая на шесть здоровенных крючков. Лоцманы живо подлетели к ней, обнюхали, но не стали трогать, а тотчас вернулись к царю морей, своему господину и повелителю. Гигантская махина чуть прибавила ход и не спеша пошла к наживке, которая выглядела просто жалкой рядом с такой мордой. Мы стали выбирать леску — чудовище не отставало и подошло вплотную к плоту. Потыкалось носом в корифену и решило, что ради такой мелочи не стоит распахивать ворота настежь. Потом почесало спину о наше тяжеленное кормовое весло, отчего оно выскочило из воды. Теперь мы могли совсем близко рассмотреть этого исполина, так близко, что я испугался за рассудок команды: от столь невероятного зрелища мы принялись дико хохотать и орать что-то невразумительное. Даже богатое воображение Уолта Диснея не могло бы создать более страшного монстра, чем этот, который, осклабившись, разлегся в воде у нашего борта.
Это была китовая акула, крупнейшая из акул и вообще крупнейшая современная рыба. Она встречается очень редко, лишь иногда в тропических морях наблюдают единичные экземпляры. Китовая акула достигает в среднем пятнадцати метров в длину; зоологи определяют ее вес в пятнадцать тонн. Говорят, что самые большие китовые акулы — около двадцати метров. У детеныша китовой акулы, убитого гарпуном, только печень весила триста килограммов, а в его широкой пасти насчитали три тысячи зубов.
Чудовище было таким огромным, что, когда ему вздумалось нырнуть под плот, мы увидели его голову с одного борта, а хвост — с другого. Морда у него была до того нелепая и тупая, что мы просто не могли удержаться от хохота, хотя отлично понимали: если эта гора мускулов вздумает напасть на нас, от наших бальсовых бревен одни щепки останутся. Китовая акула продолжала кружить под самым плотом, а мы гадали, чем это кончится. Вот опять скользнула под весло и подняла его спиной. Мы стояли наготове вдоль бортов, держа ручные гарпуны, которые казались зубочистками перед этим колоссом. Похоже было, что акула и не помышляет уходить от нас, она следовала за нами, как верный пес, держась у самого плота. Мы в жизни не то что не видели, даже не представляли себе ничего подобного. Встреча в упор с морским чудовищем была таким невероятным событием, что мы как-то не принимали происходящее всерьез.
Китовая акула плавала вокруг нас меньше часа, но нам этот час показался за десять. В конце концов Эрик — он стоял на корме, держа в руках гарпун длиной в 2,5 метра, — не выдержал и, подбадриваемый легкомысленными выкриками, занес свое оружие для удара. Вот голова акулы медленно скользнула под угол плота… В ту же секунду Эрик изо всех своих могучих сил ударил гарпуном вниз, прямо в хрящевой череп гиганта. Прошло несколько секунд, прежде чем до акулы дошло, что случилось. Вдруг ленивый дуралей, как по мановению волшебной палочки, превратился в сплошной сгусток железных мускулов, зашуршал по доскам линь, в воздух взметнулся каскад брызг — это гигант нырнул и ринулся вглубь. Три человека, которые стояли ближе других, были сбиты с ног пнем, причем у двоих остались сильные ссадины и ожоги. хотя линь был толстый, рассчитанный на немалую нагрузку, он, зацепившись за борт, лопнул, как бечевка. Тут же метрах в двухстах от нас к поверхности всплыл обломок гарпуна. Стая испуганных лоцманов сорвалась с места и ринулась вдогонку за своим господином и повелителем. Мы долго ждали, что чудовище вернется и обрушится на нас, словно взбесившаяся подводная лодка, но китовая акула больше не показывалась.
Когда произошла эта встреча, наш плот, увлекаемый на запад южным экваториальным течением, находился примерно в 400 морских милях к югу от Галапагосских островов. Коварные течения остались в стороне, но архипелаг напоминал нам о себе: мы видели огромных морских черепах, которые забираются далеко в океан. Так, однажды мы заметили здоровенную черепаху, она отчаянно вертела головой и одним ластом. Ее приподняло на гребне волны, и в толще воды под ней замелькали зеленые, синие, желтые пятна: черепаха вела смертный бой с корифенами. Но бой, судя по всему, носил односторонний характер. Полтора десятка большеголовых красочных рыб атаковали шею и ласты черепахи, стремясь взять ее измором. Исход был предрешен, ведь она не могла без конца прятать свои конечности в панцире.
Заметив плот, черепаха нырнула и, преследуемая поблескивающими рыбами, направилась к нам. Подошла вплотную и только хотела взобраться на борт, как заметила нас. Будь у нас больше сноровки, мы легко могли бы набросить аркан на громадный панцирь, пока он тихо скользил мимо плота. Но мы слишком долго таращили глаза на черепаху, и, когда мы приготовили аркан, она уже обогнала плот. Мы живо спустили на воду надувную лодку, и Герман, Бенгт и Торстейн бросились в погоню на этой скорлупке, которая была чуть больше преследуемой дичи. Наш стюард Бенгт в мечтах уже видел множество мисок с мясом и изысканным черепаховым супом. Но чем сильнее они налегали на весла, тем быстрее плыла черепаха. А когда они отошли от плота метров на сто, черепаха вдруг бесследно исчезла. Ничего, хоть сделали доброе дело: когда желтая лодчонка запрыгала обратно по волнам, все корифены ринулись за ней. Они кружили возле новой «черепахи», и самые смелые норовили цапнуть весла, которые разгребали воду совсем как ласты. А миролюбивая морская черепаха благополучно ушла от всех коварных преследователей.
Глава 5
На полпути
Повседневная жизнь и эксперименты. — Питьевая вода для плотогонов. — Картофель и тыква — ключи к секрету. — Кокосовый орех и крабы. — Юханнес. — Мы плывем по ухе. — Планктон. — Съедобное пламя. — Дружба с китами. — Муравьи и морские желуди. — Домашние животные под водой. — Наш спутник — корифена. — Ловля акул. — «Кон-Тики» становится морским чудовищем. — Лоцманы и прилипалы в наследство от акулы. — Летающие кальмары. — Неизвестный посетитель. — Водолазная корзина. — С тунцами и бонитами в их родной стихии. — Ложный риф. — Шверт подсказывает разгадку. — На полпути
Шли недели. Мы не видели ни судов, ни обломков — никаких признаков того, что, кроме нас, на свете есть еще люди. Весь океан — наш, все пути открыты, кругом безбрежный простор, и сам небосвод словно излучал мир и приволье.
Соленые брызги и чистая синева будто омывали нам душу и тело. Здесь, посреди океана, большие проблемы казались маленькими, надуманными. Только стихии были реальностью. А стихиям не до нашего плота. Или, может быть, он был для них частицей природы, ничуть не нарушающей гармонии моря, покорной волнам и течениям, как морские птицы, как рыбы. Из грозного врага, который с ревом кидался на нас, стихии стали надежным другом, они неутомимо, упорно увлекали с собой наш плот. Ветер и волны толкали нас, океанское течение тянуло нас — прямо к цели.
Попадись нам в океане судно, пассажиры увидели бы, как плот плавно переваливает через длинные валы, сморщенные барашками, и наполненный пассатом тугой оранжевый парус глядит туда, где Полинезия.
На корме они бы увидели человека — полуголого, смуглого, бородатого, — который то воевал с длинным рулевым веслом, подтягивая потрепанные фалы, то дремал на солнышке, сидя верхом на ящике и лениво подталкивая весло пальцами ноги.
Если это был не Бенгт, его скорее всего можно было найти в дверях каюты, где он лежал на животе, углубившись в один из семидесяти трех томов своей библиотеки. А вообще мы назначили его стюардом, это он отмерял нам дневной паек. Герман в любое время суток мог оказаться где угодно — то с метеорологическими приборами на мачте, то с подводными очками под плотом, где он проверял шверт, то за кормой, в надувной лодке, где он занимался воздушными шарами и какими-то непонятными приборами. Он был у нас начальником технической части и отвечал за метеорологические и гидрографические наблюдения.
Кнют и Торстейн без конца возились со своими отсыревшими сухими батареями, паяльниками и схемами. Вся их военная сноровка была нужна, чтобы заставить нашу маленькую радиостанцию работать наперекор соленому душу и сильной росе, меньше чем в полуметре над водой. Каждую ночь они поочередно дежурили и посылали в эфир наши рапорты и метеосводки. Случайные радиолюбители принимали эти сообщения и передавали дальше — в метеорологический институт в Вашингтоне или по другим адресам.
Эрик чаще всего латал парус, или сращивал канаты, или вырезал деревянные скульптуры, или рисовал бородатых людей и удивительных рыб. Точно в полдень он вооружался секстантом и взбирался на ящик, чтобы поглядеть на солнце и высчитать, сколько мы прошли за сутки. Сам я прилежно заполнял судовой журнал, составлял рапорты, собирал пробы планктона и рыб, снимал кинофильм. Каждый отвечал за свой участок и не вмешивался в дела других. Менее приятную работу, вроде рулевой вахты и дежурства на кухне, распределяли поровну. На руле каждый стоял по два часа днем и столько же ночью. Все по очереди были коками. Обязательных правил и постановлений было немного: на ночной вахте непременно обвязываться канатом, спасательная веревка должна всегда висеть на месте, стряпать и есть только на палубе, по нужде ходить на самый край кормы. Когда возникал важный вопрос, мы по примеру индейцев созывали общее собрание и принимали решение сообща.
День на борту «Кон-Тики» начинался с того, что последний ночной вахтенный будил кока, который спросонок выбирался на увлажненную росой и залитую утренним солнцем палубу и начинал собирать летучих рыб. В отличие от полинезийцев и перуанцев мы не ели рыбу сырой, а жарили ее на маленьком примусе, который стоял на дне ящика, прочно привязанного к палубе у входа в хижину. Вся наша кухня помещалась в этом ящике. Каюта заслоняла его от юго-восточного пассата, и, только когда ветер и волны слишком уж небрежно подбрасывали плот, случалось, что ящик загорался. А один раз кок задремал, и кухня запылала ярким пламенем, которое перебросилось на хижину. Дым просочился сквозь стену внутрь, и пожар был мигом потушен, благо за водой на «Кон-Тики» было не далеко идти.
Запах жареной рыбы не мог разбудить храпящих в каюте субъектов, и коку приходилось колоть их вилкой и петь «бери ложку, бери бак» таким гнусавым голосом, что невозможно было его слушать. Если у бревен не мелькали акульи плавники, мы для начала освежались в Тихом океане, после чего завтракали под открытым небом.
Меню было безупречное. Две экспериментальных диеты: одна подсказанная квартирмейстером и двадцатым веком, вторая — Кон-Тики и пятым. Первую диету испытывали на Торстейне и Бенгте — они ограничили свой стол хитроумными маленькими спецпайками, которые мы уложили между бревнами и бамбуковым настилом. Кстати, они вообще не очень-то любили рыбу и прочую морскую живность. А мы, остальные, ели все, чем нас могло снабдить море.
Со спецпайками дело обстояло просто. Раз в две или три недели мы поднимали настил и доставали несколько коробок, потом привязывали их к палубе перед каютой, чтобы были под рукой. Слой асфальта, которым мы залили коробки, вполне себя оправдал, а вот лежавшие тут же консервы разъела и испортила морская вода.
Конечно, Кон-Тики, когда он вышел в океан, не располагал ни асфальтом, ни консервами, но он и без них мог решить проблему питания. Тогда, как и теперь, мореплаватели ели то, что брали с собой, и то, что добывали в пути. Покидая Перу после разгрома на озере Титикака, Кон-Тики мог выбирать между двумя маршрутами. Как посланец Солнца и вождь солнцепоклонников он скорее взял курс на запад, чтобы, идя за солнцем, найти новую страну, где можно будет жить спокойно. У него был и второй вариант: плыть на плотах вдоль побережья на север и обосноваться где-нибудь подальше от тех, кто его изгнал. Но и в этом случае его все равно увлекло бы на запад. Стараясь держаться подальше от грозных скал и враждебных племен побережья, он, как и мы, оказался бы во власти юго-восточного пассата и течения Гумбольдта, которые понесли бы его в океан.
Какой бы путь ни избрали люди Кон-Тики, они, наверное, позаботились о провианте. Их главными продуктами питания были вяленая рыба, сушеное мясо и батат. Когда древние моряки ходили на плотах вдоль засушливых берегов Перу, они старались захватить с собой побольше воды. Глиняным сосудам они предпочитали не боящиеся ни толчков, ни ударов высушенные тыквы. Еще удобнее было возить на плоту толстые стволы гигантского бамбука; все перемычки внутри просверливали, наливали воду и дырочку на конце либо затыкали деревянной пробкой, либо замазывали смолой. Под палубой можно было разместить в длину тридцать — сорок таких сосудов. Здесь они были закрыты от солнца, их все время омывала морская вода, температура которой в экваториальном течении не превышала 26–27 °C. Такой запас вдвое превосходил количество воды, которое израсходовали мы за все наше плавание, а ведь можно взять и больше, если привязать бамбуковые сосуды снизу к днищу плота, где они места не занимают и веса не прибавляют.
К концу второго месяца питьевая вода зацвела и стала противной на вкус. Но к этому времени плот давно миновал бедную дождями зону и вышел в такую область океана, где сильные ливни позволяли пополнять запасы. На каждого члена команды в день выдавался литр с четвертью, и далеко не всегда эта норма расходовалась полностью.
Если даже наши предшественники не успели захватить с собой достаточно провианта, голод им не грозил, пока их несло богатое рыбой морское течение. За все наше плавание не было дня, чтобы вокруг плота не ходила рыба, и ее было легко поймать, а летучая рыба сама прыгала к нам на палубу. Иногда волны забрасывали на корму здоровенных вкусных бонит, и они бились на бревнах. Нет, умереть с голоду было просто невозможно.
Древние хорошо знали то, в чем во время войны убедились жертвы кораблекрушений: хочешь пить — жуй сырую рыбу. Если завернуть куски рыбы в тряпочку, можно выжать из них сок, а у крупной рыбы достаточно вырезать кусок в боку и ямка быстро заполнится лимфой. Не очень. — то вкусно, если у вас есть что-нибудь получше, но солей в этой жидкости мало и можно вполне утолить жажду.
Еще одно средство борьбы с жаждой — почаще купаться и, не вытираясь, ложиться в тень. Когда вокруг плота лениво ходили акулы, не пуская нас в море, мы ложились на бревна на корме, крепко держась за веревки. И Тихий океан щедро поливал нас кристально чистой водой.
Когда в жару вас мучит жажда, вам кажется, что организму нужна вода. И вы пьете без конца, а толку чуть. В тропиках в жаркий день можно до отказу накачаться теплой водой, и все равно хочется пить. А дело в том, что организму нужна не жидкость, а соль. Недаром в наших спецпайках лежали таблетки соли, и они были очень кстати в жару, когда пот лил с нас градом и мы теряли много соли. Бывало так: ветра нет, и солнце жарит вовсю. Опрокидываешь кружку за кружкой, вода уже булькает и плещется в животе, а во рту все так же сухо. Тогда мы добавляли в пресную воду от двадцати до сорока процентов морской; солоноватая смесь отлично утоляла жажду. Правда, во рту долго пахло морем, но на здоровье это не отражалось, зато мы сберегали пресную воду. Однажды во время завтрака шальная волна разбавила нам овсянку, и мы нечаянно открыли, что овес почти начисто уничтожает тошнотворный привкус моря.
В интереснейших преданиях полинезийцев сообщается, что, когда предки нынешних островитян плыли через океан, они утоляли жажду, жуя листья какого-то растения, которое везли с собой. Благодаря этим же листьям можно было в крайнем случае пить морскую воду, не боясь отравиться. На островах Полинезии таких растений не было; значит, надо их искать на родине мореплавателей. Полинезийские историки так настойчиво об этом говорили, что современные ученые решили разобраться и пришли к выводу,
что есть только одно растение с такими свойствами — кока, и растет оно исключительно в Перу. А в древнем Перу — об этом говорят раскопки — содержащее кокаин кока употреблялось не только инками, но и их предшественниками. В трудных горных переходах и далеких плаваниях они жевали листья кока, чтобы победить жажду и усталость. И эти самые листья позволяют недолго пить неразбавленную морскую воду.
На борту «Кон-Тики» не было кока, но в больших корзинах на носу мы везли другие растения, которые играли важную роль в жизни полинезийцев. Каюта надежно заслоняла корзины от ветра, и вскоре появились желтые ростки и зеленые листья. Казалось, на плоту вырос небольшой тропический сад.
Когда европейцы впервые прибыли в Полинезию, ка острове Пасхи, на Гавайских островах и на Новой Зеландии они увидели большие плантации батата. Он встречался на полинезийских островах, но дальше на запад его не знали. На уединенных островах, где население в основном пыталось рыбой, батат был одним из главных культурных растений. Ему посвящено немало преданий, и будто его привез сам Тики, когда вместе со своей женой Пани приплыл сюда, покинув родину, где сладкие клубни были важным продуктом питания. Новозеландские предания подчеркивают, что батат был привезен из-за моря не на пирогах, а на «связанных веревками бревнах».
Как известно, до плаваний европейцев Америка была единственным кроме Полинезии местом, где произрастал батат. Причем Hipomoea batatas, привезенный Тики на острова, — тот самый вид, который с древних времен выращивают индейцы Перу. Сушеный батат был основным провиантом как полинезийских мореплавателей, так и древних перуанцев. На островах Южных морей батат требует самого тщательного ухода, а так как он не переносит морской воды, то нелепо объяснять его появление здесь тем, что его будто бы принесло течением за 8 тысяч километров из Перу. Это тем более неубедительно, что на полинезийских островах батат называют «кумара», то есть так же, как называют его индейцы на севере Перу; это доказано языковедами. Название пришло из-за океана вместе с клубнями.
Бутылочная тыква Lagenaria vulgaris — второе важное для Полинезии растение, которое мы везли с собой на «Кон-Тики». Причем корка была не менее важна, чем мякоть. Полинезийцы высушивали ее над огнем и использовали как сосуд для воды. Это типично огородное растение, которое не может распространяться с морскими течениями, было известно и древнейшим полинезийцам и исконным жителям Перу. Калебасы найдены в древних могилах в приморских пустынях Перу; здешние рыбаки пользовались ими задолго до того, как в Полинезии появился человек. Полинезийское название бутылочной тыквы — «кими» — встречается в языке индейцев Центральной Америки, куда дотягиваются корни перуанской культуры.
Кроме разных южных фруктов, с которыми мы управились за неделю-другую, пока они еще не успели сгнить, У нас был с собой еще один плод — кокосовые орехи, которые наряду с бататом сыграли важную роль в истории тихоокеанских островов. Мы везли двести орехов — массаж для десен и запас освежающего напитка. Некоторые орехи быстро проросли, и через два с половиной месяца на плоту образовалась рощица — шесть-семь пальм ростом около фута, с плотными зелеными листьями. Еще до плаваний Колумба кокосовый орех рос и на Панамском перешейке, и в Южной Америке. Летописец Овьедо указывает, что испанцы застали на побережье Перу большие рощи кокосовых пальм. Задолго до этого кокосовый орех распространился на всех островах Тихого океана. Ботаники еще не знают точно, с какой стороны он сюда попал. Одно бесспорно: несмотря на свою мощную скорлупу, даже кокосовый орех не может без помощи человека переселиться через океан. Те орехи, которые мы везли в корзинах ка палубе, благополучно добрались до Полинезии, их можно было есть, можно было сажать. А вот те, которые мы положили под палубу вместе со спецпайком, были испорчены морской водой. И ведь орех не поплывет быстрее, чем подгоняемый ветром бальсовый плот. Вода проникает внутрь через глазки, как только они загниют. К тому же в океане вдоволь «санитарных постов», они следят за тем, чтобы ничто съедобное не могло попасть своим ходом из одной части света в другую.
В тихие дни мы иногда встречали посреди океана одиноко плывущее на поверхности белое перышко. Буревестники и другие птицы умеют спать на воде, и мы видели их в тысячах миль от суши. Рассмотришь перышко поближе, а на нем лихо плывут по ветру два-три пассажира. Приметив рядом Голиафа — наш «Кон-Тики», — они живо смекали, что на этом судне и места побольше, и ход лучше. И, бросив перо на произвол судьбы, они во всю прыть скользили боком по поверхности воды к плоту. Вскоре у нас набралось множество безбилетников, маленьких пелагических крабов величиной с ноготь, от силы с пятак, довольно приятных на вкус, когда удавалось их отведать. Они всегда были начеку, не пропускали ничего съедобного. Прозевает кок во время утреннего обхода летучую рыбу, и через несколько часов на ней уже сидят восемь — десять крабиков, которые отщипывают кусочки своими крохотными клешнями. Они были очень робки и, заметив нас, спешили спрятаться. Но около колоды на корме, в небольшой ямке, поселился один совсем ручной крабик, которого мы прозвали Юханнес. У нас уже был один любимец — попугай; теперь мы и крабика приняли в нашу команду. В ясные солнечные дни вахтенный, сидя возле руля за хижиной, чувствовал себя совсем одиноким в голубом океане, если рядом с собой не видел Юханнеса. Остальные крабики шарахались от нас, не забывая захватить с собой крошки — совсем как тараканы на настоящем корабле. Не таким был Юханнес. Круглый, широкий, он восседал у входа в свое убежище и пристально наблюдал за сменой вахты. Каждый новый вахтенный приносил ему либо крошку галеты, либо кусочек рыбы, и стоило наклониться над его убежищем, как он выходил навстречу и протягивал свои кулачки. Взяв клешнями крошку, он бегом возвращался в дом, садился у входа и уплетал угощение совсем как мальчишка, который ест что-то, не снимая рукавиц, в студеный зимний день.
Стоило забродившему от сырости кокосовому ореху лопнуть, как крабики облепляли его словно слепни. Или же они охотились на планктон и всякую морскую мелюзгу, которую приносили волны. Надо сказать, что планктон, как он ни мелок, пришелся по вкусу и нам, Гулливерам, как только мы научились ловить достаточно, чтобы получился добрый глоток.
Да и кто усомнится в том, что эти почти незримые организмы, которых в Мировом океане несметное количество, питательны. Ведь нет такого обитателя моря, который не был бы в конечном счете обязан своим существованием планктону. Птицы и те из рыб, которые не питаются им непосредственно, поедают других рыб или морских животных, которые живут планктоном, иначе говоря, тысячами видов мельчайших организмов. Одни из этих организмов относятся к растительному миру — это фитопланктон; другие — зоопланктон — представляют собой икринки и микроскопических животных. Зоопланктон живет за счет фитопланктона, а этот последний поглощает аммоний, нитриты и нитраты, выделяемые при разложении погибшего зоопланктона. Образуется цепь, в которой каждое последующее звено живет за счет предыдущего, а вместе они — пища всех, кто плавает в толще воды или летает над водой. Их размеры малы, зато велико их количество. Есть места в море, где в стакане воды вы насчитаете тысячи мельчайших организмов. Сколько раз люди погибали посреди моря, потому что ни острогой, ни сетью, ни крючком не могли добыть рыбу. А между тем они нередко плавали по ухе, пусть даже сырой и несколько жидковатой. Будь у них кроме крючка и сети приспособление, чтобы фильтровать эту уху, и осадок, планктон, стал бы Их пищей. Это как с зерном — нужно собрать много, чтобы Насытиться. Но может быть, рыбаки будущего научатся извлекать из моря планктон, как некогда земледелец научился собирать урожай в поле.
Биолог А. Д. Байков подсказал нам эту мысль и даже снабдил нас сетью, рассчитанной как раз на такую добычу. Сеть необычная, из шелковой нити, около 3 тысяч ячей на квадратный дюйм. Она была сшита в виде колпака и прикреплена к металлическому обручу диаметром в полтора фута. Этот колпак мы тащили на буксире за кормой. Улов колебался в зависимости от времени и места, как это всегда бывает. Чем дальше на запад, тем теплее была вода и меньше улов. Ночью мы ловили больше, чем днем: когда светит солнце, многие виды планктона уходят вглубь.
Даже если бы у нас не было других дел на плоту, мы не остались бы без развлечений — достаточно было заглянуть в планктонную сеть. Правда, запах был скверный. И аппетитным это зрелище тоже нельзя было назвать — все вместе выглядело тошнотворно. Но если разложить добычу на доске и разглядывать каждую тварь в отдельности, глазу открывалось бесконечное разнообразие самых поразительных форм и красок.
Преобладали крохотные, напоминающие креветок, веслоногие рачки, а также икринки. Попадались эмбрионы рыб и моллюсков, удивительные миниатюрные крабы всех цветов радуги, медузы и бездна всякой мелочи, которая словно вышла из диснеевского фильма. Тут и какие-то трепещущие привидения, как будто вырезанные из целлофана, тут и миниатюрные красноклювые пичужки с панцирем вместо перьев. В мире планктона природа поистине дала волю своей безудержной фантазии; художник-сюрреалист не мог бы с ней сравниться.
Там, где холодное Перуанское течение, не доходя экватора, сворачивает на запад, мы за несколько часов вылавливали до двух килограммов планктонного киселя. А так как сеть за это время проходила через разные скопления, то осадок напоминал многослойный торт с коричневым, красным, серым, зеленым слоями. Ночью, когда светились ноктилюки, казалось, что сеть наполнена сверкающими драгоценностями. Вытащишь из воды этот пиратский клад — и он превращается в миллионы крохотных рачков и эмбрионов, которые мерцали во мраке, будто угольки. Из сети улов вытряхивали в банку, и казалось, что какая-нибудь ведьма приготовила этот кисель из светлячков. Насколько красиво наша добыча выглядела издалека, настолько жуткой была она вблизи. Запах отвратительный, а вкус превосходный, стоило набраться храбрости и отправить в рот ложку этих углей. Когда в улове преобладали малюсенькие рачки, он вкусом напоминал паштет из омаров, креветок или крабов. А иногда нам казалось, что мы едим икру или даже устриц. Растительный планктон был так мал, что уходил с водой через ячею, либо настолько велик, что его можно было выбрать руками. Сверху кисель покрывала «пенка» из организмов покрупнее — желеобразных простейших червей, напоминающих стеклянные ампулы длиной в сантиметр, и медуз. Они горькие на вкус, их надо выбрасывать. А все остальное можно есть или сырым, или сварив в пресной воде. Известно, на вкус и цвет товарища нет. Двоим из нашей шестерки планктон очень нравился, двое говорили — неплохо, а остальных двоих мутило от одного его вида. Питательностью планктон не уступает крупным моллюскам. Если умело приготовить его и подобрать приправы, получится первоклассное блюдо для тех, кто любит продукты моря.
Синий кит, самое большое животное в мире, — живое доказательство того, что в этой мелюзге предостаточно калорий, ведь он питается только планктоном. До чего же жалким и примитивным показался нам наш способ лова маленькой сетью, которую частенько рвали зубами голодные рыбы, когда мы однажды увидели пасущегося кита… Пуская вверх фонтаны, он преспокойно плыл мимо плота и процеживал воду с планктоном через свои усы. Они блестели, как целлулоидные.
— А вы бы тоже так попробовали, — ехидно предложили Торстейн и Бенгт, когда мы потеряли нашу планктонную сеть. — Вон какие бороды отрастили!
Я и раньше видел китов — издали, с парохода, а в музее — рядом, но там было чучело. Словом, настоящего контакта не было, и я никогда не воспринимал кита так, как воспринимаешь обычных теплокровных животных, скажем, лошадь или слона. Конечно, я знал, что биологически кит — самое настоящее млекопитающее, и все-таки для меня он всегда оставался громадной холодной рыбиной. Это восприятие разом переменилось, когда мы столкнулись с могучими китами нос к носу.
В этот день мы сидели и ели, как обычно, у самого Сорта — достаточно протянуть руку, чтобы сполоснуть в море посуду. Неожиданно, мы даже вздрогнули от испуга, послышалось громкое лошадиное пыхтение. Мы обернулись — огромный кит, да так близко, что видно, как дыхало отливает внутри лаковым блеском. Услышать мощное дыхание в открытом море, где все плавающие твари беззвучно шевелили жабрами, было до того необычно, что мы прониклись теплым чувством к нашему древнему сородичу, которого, как и нас, занесло в океанские дали. От холодной, жабоподобной китовой акулы мы ни одного вздоха не слышали, то ли дело этот кит, напоминающий сытого, добродушного бегемота из зоопарка. Он опять запыхтел — ну до чего же симпатичное существо! — потом погрузился в воду и исчез.
Киты много раз навещали нас; чаще всего вокруг плота большими стадами резвились морские свиньи и косатки, но иногда, группами и поодиночке, подходили огромные кашалоты и усатые киты.
Порой они, как корабли, проплывали на горизонте, пуская вверх фонтаны, а порой шли прямым ходом на нас.
В первый раз, когда здоровенный кит вдруг изменил курс и на всех парах пошел к плоту, мы решили, что сейчас произойдет страшное столкновение. Все ближе, ближе слышно мощное сопящее дыхание всякий раз, как голова высовывается из воды… Казалось, сквозь волны ломится громадное толстокожее наземное животное; и в самом деле — между китом и рыбой столько же общего, сколько между летучей мышью и птицей. Он шел к нам с левого борта, и мы столпились на краю плота, а наблюдатель крикнул с мачты, что за первым китом идут еще семь или восемь.
Всего каких-нибудь два метра отделяли от плота этот огромный, лоснящийся черный лоб, когда кит нырнул. Мы смотрели, как широченная иссиня-черная спина не спеша скользнула под плот у наших ног. И застыла там… Затаив дыхание, мы разглядывали этот темный свод, который был куда длиннее нашего «Кон-Тики». Потом кит стал медленно погружаться в голубую толщу, пока совсем не исчез. Тут подошли и остальные, но их плот вовсе не заинтересовал. Известны случаи, когда киты обращали во зло свою колоссальную силу и ударом хвоста топили китобойные суда, если перед этим они сами подвергались нападению. Полдня вокруг нас то тут, то там раздавалось громкое сопение, и ни разу наши гости даже не задели плот. Они с явным наслаждением кувыркались в волнах, а в полдень, как по сигналу, дружно нырнули и уже больше не появлялись.
Не только китов можно было наблюдать под нашим плотом. Стоило приподнять циновки, на которых мы спали, и в щелях между бревнами видно голубую, кристально чистую воду. Приглядишься — то плавник мелькнет, то хвост, а то и целую рыбу рассмотришь. Будь щели на несколько дюймов пошире, мы могли бы лежа в постели прямо из-под матраца вытаскивать рыбу.
Особенно полюбился плот корифенам и лоцманам. Первые корифены подошли к нам недалеко от Кальяо, и с тех пор до самого конца путешествия не было дня, чтобы они не сновали вокруг нас. Поди, угадай, чем их так притягивает плот? То ли им нравилась плавучая крыша, то ли — манил наш огород из водорослей и ракушек, свисавших гирляндами с бревен и рулевого весла. Сначала бревна обволокла зеленая скользкая тина, дальше обрастание усилилось, и вскоре «Кон-Тики» стал похож на косматого водяного. А среди водорослей обосновались мальки рыб и наши безбилетные пассажиры — крабики.
Одно время нас совсем одолели маленькие черные муравьи. Они жили в срубленных нами бревнах, а когда мы вышли в море и древесина намокла, муравьи высыпали наружу и стали искать спасения в наших спальных мешках. Не было уголка, куда бы не проникали эти мучители, они кусали и преследовали нас, хоть прыгай за борт. Однако, чем дальше мы уходили в океан, тем сырее становилось на плоту, и муравьи поняли, что очутились не в своей стихии. К концу плавания их уцелело лишь несколько.
Наряду с крабами лучше всех чувствовали себя на плоту морские желуди, достигавшие трех-четырех сантиметров в длину. Они сотнями облепили бревна, особенно густо — с подветренной стороны. Соберешь сколько надо для супа, а на этом же месте развиваются новые. У них был приятный свежий вкус, а из водорослей мы делали салат — тоже можно есть, хотя и не так вкусно. И постоянно в наш огород, мелькая золотистым брюхом, заходили корифены; правда, нам так и не удалось подсмотреть, что они там едят.
Корифена — ярко окрашенная тропическая рыба. Те, которых мы ловили, были в длину от 100 до 135 сантиметров, туловище плоское, очень высокая голова и спина. Один раз мы вытащили корифену длиной в 143 сантиметра, высота головы — 37 сантиметров. У этой рыбы великолепная расцветка: в воде чешуя переливалась сине-зеленым цветом, плавники сверкали золотом. А вытащишь ее на плот, и на твоих глазах происходит удивительное превращение. Засыпая, рыба сперва становилась серой с черными пятнами, потом сплошь серебристо-белой. Но через четыре-пять минут к ней постепенно возвращалась первоначальная окраска. Да и в воде корифена иногда меняет цвет, словно хамелеон. Заметишь какую-то «новую» рыбу медного цвета, присмотришься, а это наша старая, знакомая — корифена.
Высокая голова, из-за которой корифена напоминает сплющенного с боков бульдога, всегда торчала из воды, когда хищница, словно торпеда, мчалась вдогонку за косяком летучей рыбы.
Когда корифена была в хорошем настроении, она поворачивалась на бок, разгонялась и выскакивала из воды высоко в воздух, потом шлепалась в море, как блин, только брызги летели. Тут же следовал новый прыжок, еще и еще, с волны на волну. Если же рыба была не в духе, — скажем, когда мы вытаскивали ее из воды, — она больно кусалась. Торстейн долго ходил с забинтованным пальцем ноги и прихрамывал: он зазевался и попал пальцем в рот корифене, а она как следует его цапнула. После плавания мы услышали, будто корифены нападают на купальщиков и пожирают их. Это было не очень-то лестно для нас, ведь мы ежедневно купались среди корифен, однако они упорно нас избегали… Но они настоящие хищники, это точно, мы находили у них в желудке и кальмаров, и целиком проглоченных летучих рыб.
Вообще летучая рыба — любимое блюдо корифен; они, как бешеные, бросаются на все, что шевелится у поверхности, только бы не упустить лакомый кусок. Сколько раз бывало: выползешь, сонный, из каюты, сунешь зубную щетку в воду, и сразу весь сон долой — рыбина килограммов на пятнадцать выскакивает из-под плота и разочарованно тычется носом в щетину. Или сядешь с завтраком у борта — и вдруг тебя обдает фонтаном воды: это корифена исполнила свой любимый прыжок.
Торстейн однажды показал просто невероятный трюк — такие случаются только в рассказах хвастливых рыболовов. Мы сидели и обедали, вдруг он отложил в сторону вилку, окунул руку в воду, и не успели мы оглянуться, как море забурлило и к нам на палубу шлепнулась здоровенная корифена. Все объяснилось просто: Торстейн поймал обрывок лески, а на другом ее конце была слегка озадаченная корифена, которую Эрик упустил накануне.
Что ни день, вокруг плота и под ним кружили шесть или семь корифен. Очень редко их было только две-три; зато на следующий день мы могли насчитать и тридцать, и сорок. Если нам хотелось свежей рыбы, достаточно было, как правило, сдать заказ коку за двадцать минут до обеда. Он привязывал леску к короткой бамбуковой палке и наживлял крючок половинкой летучей рыбы. Тотчас, рассекая лбом воду, какая-нибудь корифена бросалась на добычу, спеша опередить других. Она сильная, тянуть ее из воды одно удовольствие. У корифены отличное плотное мясо, вкусом что-то среднее между треской и лососем. Оно держалось свежим два дня, а нам дольше и не нужно было: рыбы в море хватало.
С рыбой-лоцманом мы познакомились иначе, через акул, после гибели которых осиротевшие лоцманы переходили к нам. Первые акулы навестили нас вскоре после начала путешествия, и потом мы их видели почти ежедневно. Иногда они подходили просто с проверкой — сделают круг-другой возле плота и отправляются дальше искать добычу. Но чаще всего акулы пристраивались к нам в кильватер за рулевым веслом и бесшумно шли там, смещаясь то влево, то вправо, изредка чуть шевеля хвостом, чтобы не отстать от неторопливо скользящего по волнам плота. Они держались у самой поверхности, качаясь вместе с волнами, и спинной плавник зловеще торчал из воды, а серо-синее туловище казалось бурым в лучах солнца. Большие валы поднимали их выше плота. Смотришь на гребень, а там, словно за стеклянной стеной, прямо на тебя не спеша идет акула, и лоцманы снуют у нее перед мордой. Так и кажется, что сейчас она вместе со своей полосатой свитой очутится на палубе. Но тут же плот, накренившись, взмывал на гребень и переваливал через него.
Первое время мы относились к акуле с большим почтением — такая уж у нее слава, да и вид грозный. Железные мускулы веретенообразного туловища обладают невероятной силой, а широкая плоская голова с кошачьими глазками и громадной — футбольный мяч войдет — пастью олицетворяет беспощадную кровожадность. Заслышав крик рулевого «акула слева!» или «акула справа!», мы хватали гарпуны и остроги и становились вдоль борта. Хищницы частенько подходили вплотную к бревнам, но остроги гнулись, как лапша, от встречи с наждачной спиной акулы, а гарпуны обламывались, и наше почтение к противнику только росло. Когда же нам все-таки удавалось пробить эту толстую кожу и поразить мускулы или хрящевой череп, это приводило лишь к тому, что после короткой ожесточенной схватки акула срывалась и уходила, окатив нас с ног до головы водой, и только жирное пятно расплывалось на поверхности моря.
Не желая терять последний гарпунный наконечник, мы связали гроздь из самых больших рыболовных крючков и наживили их корифеной. Из многожильного стального канатика сделали поводок, для лесы отрезали кусок от нашей спасательной веревки и закинули приманку. Акула уверенно, не спеша, подошла к ней, распахнула огромную полукруглую пасть, так что рыло высунулось из воды, и корифена целиком исчезла в ее глотке. Попалась, проклятая! И давай отбиваться, вода в пену превратилась, но мы крепко держали веревку и подтянули зверюгу к корме. Она лежала в воде, разинув пасть, словно хотела нас напугать видом своих зубов, которые торчали, как пилы, но тут мы, улучив миг, с помощью набежавшей волны затащили добычу волоком на скользкие от тины бревна. Набросили ей на хвост петлю, чтобы не ушла, и отскочили в сторону, пока длился воинственный танец.
В хрящевом черепе первой добытой нами акулы мы обнаружили один из наших гарпунных наконечников и решили, что именно эта рана помогла нам одержать сравнительно легкую победу. Но за первой последовала вторая, третья, и каждый раз все шло как по маслу. Конечно, акулы бились и вырывались, и тянуть их было тяжеловато, но, если мы не отпускали лесу ни на дюйм, хищницы быстро падали духом и сдавались. Мы ловили бурых и синих акул длиной от 2 до 3 метров. У бурых шкура настолько крепкая, что мы еле-еле могли ее проткнуть острым ножом. Причем на брюхе кожа такая же прочная, как на спине, и единственное уязвимое место хищницы — жаберные щели позади головы, по пяти с каждой стороны.
Вытащишь из воды акулу, а на ней сидят скользкие черные прилипалы. Овальный присосок на макушке плоской головы позволял им буквально прирастать к акуле, сколько ни тяни за хвост — не оторвешь. А сами они мгновенно отцеплялись и перескакивали на другое место. Когда до них доходило, что «хозяин» уже не вернется в родную стихию, прилипалы сквозь щели в плоту ныряли в море и шли искать другую акулу. Не найдет акул — на время прицепится еще к какой-нибудь рыбе. Нам попадались прилипалы длиной от десяти до тридцати сантиметров. Мы решили испытать старую уловку полинезийцев: поймав живьем прилипалу, они привязывали ему за хвост веревку и пускали обратно в воду. Прилипала присасывался к первой попавшейся рыбе, да так крепко, что удачливый рыбак мог вытащить за веревку обоих. Но у нас ничего не получилось. Каждый раз, когда мы выпускали в воду прилипалу, он немедленно присасывался к ближайшему бревну нашего плота, должно быть, принимая его за редкостно крупную акулу. И сколько ни тяни — не оторвешь. Постепенно среди ракушек на днище плота собралась целая колония небольших прилипал, и они прошли так с нами через весь Тихий океан.
Но прилипала глуп и безобразен, и как домашнее животное нам гораздо больше нравился веселый лоцман. Это небольшая сигаровидная рыбка, полосатая, как зебра; лоцманы стаями вертятся перед носом акулы, образуя ее свиту. Свое название они получили потому, что их долго считали как бы проводниками плохо видящих акул. На самом деле лоцманы сами лишь слепо следуют за акулой и уходят вперед только тогда, когда в поле зрения появляется что-то съедобное. Лоцманы тоже до последней секунды оставались верны своему господину и повелителю. Но ведь они в отличие от прилипалы не могут судорожно уцепиться за хозяина и совсем терялись, когда тот вдруг возносился в воздух и больше не возвращался. Они ошалело метались взад-вперед, искали акулу, снова и снова возвращались к тому месту, где потеряли ее. А акулы нет как нет, и приходилось им искать себе нового покровителя. Кстати, под рукой был наш «Кон-Тики».
Окунешь голову в чистую, как стеклышко, воду, и днище плота предстает твоему взгляду, словно брюхо морского чудовища. Вон там хвост (рулевое весло), вот тупые плавники (шверты), а между ними бок о бок плавали усыновленные нами лоцманы. Булькающая пузырями человеческая голова их ничуть не смущала, разве что один-два разведчика подойдут, обнюхают вам нос и тотчас возвращаются в строй.
Наши лоцманы составили два отряда: большинство держалось между швертами, остальные шли веером перед носом плота. Иногда, завидев что-нибудь съедобное, они бросались вперед. А когда мы после еды споласкивали посуду, можно было подумать, что кто-то высыпал в воду целый ящик живых полосатых сигар: каждая крошка тщательно исследовалась, и все, кроме растительной пищи, исчезало в желудках лоцманов. Причудливые рыбешки с таким чисто детским доверием искали у нас защиты, что мы испытывали к ним какое-то отеческое чувство. Строгое табу охраняло этих подводных домашних животных «Кон-Тики» от посягательств со стороны членов команды.
Среди наших лоцманов были еще совсем юные, меньше дюйма в длину, но преобладали полуфутовые. Когда китовая акула, которую поразил гарпуном Эрик, молнией Ринулась прочь, часть ее лоцманов переметнулась к победителю; они были около двух футов в длину. После сени побед над акулами свита «Кон-Тики» выросла до со-ока — пятидесяти лоцманов. Многим из них наш неторопливый ход и крошки с нашего стола настолько пришлись по вкусу, что они плыли за нами много тысяч километров.
Но не все оставались нам верны. Однажды, когда я стоял на руле, море к югу от плота закипело: косяк корифен пронизывал волны, словно серебристые торпеды. Они не плескались игриво, а неслись, как безумные, больше по воздуху, чем по воде. Спасающиеся бегством корифены вспенили голубые валы, а следом, словно глиссер, зигзагами мелькала над водой черная спина. Возле плота объятые ужасом корифены ушли вглубь, но около сотни из них, идя плотным слоем, свернули на восток, и море за кормой вспыхнуло яркими красками. Лоснящаяся спина изогнулась в воздухе, красиво нырнула под плот и стрелой метнулась вдогонку за косяком. Мы успели разглядеть здоровенную синюю акулу длиной в 5–6 метров. Через минуту она исчезла вдали, и с ней — многие наши лоцманы, которым новый герой показался интереснее, чем наш «Кон-Тики».
Но изо всех морских чудовищ нам особенно советовали остерегаться гигантского кальмара, который был способен забраться на плот. В Географическом обществе в Вашингтоне мы видели отчеты и драматические фотографии, снятые в одном из районов течения Гумбольдта, где в огромном количестве водились чудовищные кальмары, ночью всплывающие к поверхности. Мол, они настолько прожорливы, что, если один попадет на крючок, соблазненный куском мяса, другие тотчас принимаются поедать своего незадачливого сородича. Своими громадными ручищами кальмар может задушить самую большую акулу, его присоски оставляют страшные следы на коже кита, да еще в основании щупалец скрыт грозный, хищный клюв. Всплывает ночью и лежит на воде, сверкая своими светящимися глазами, а щупальца у него такие длинные — весь плот обшарят, а то и сам на палубу влезет. Проснуться ночью от того, что холодная рука тянет тебя за шею из спального мешка, нам вовсе не улыбалось, и мы запаслись острыми, как сабля, мачете, на случай если попадем в объятия кальмара. Эта угроза казалась нам всего страшнее, когда мы собирались в путь, тем более что перуанские океанологи тоже говорили об этом и даже показали на карте самый опасный участок — как раз посреди течения Гумбольдта.
Мы долго не замечали никаких кальмаров ни на плоту, ни в море. Но вот однажды утром мы получили первый сигнал. Когда рассвело, на плоту лежал детеныш кальмара, величиной с кошку. За ночь он неведомо как взобрался на плот и теперь лежал мертвый перед входом в хижину, обхватив щупальцами бамбуковые жерди. Возле него чернела лужица густой жидкости, и по палубе тянулась дорожка того же цвета. Заполнив несколько страниц в судовом журнале этими чернилами, напоминающими тушь, мы выбросили гостя за борт, к большой радости корифен.
Этот скромный эпизод мы восприняли как предупреждение. Теперь жди посетителей поздоровее… Если детеныш смог влезть на плот, то и его прожорливые родители сумеют. Должно быть, наши предки, викинги, когда сидели в своих ладьях и ждали, что вот-вот встретят морского змея, чувствовали примерно то же самое.
Но то, что произошло дальше, нас озадачило. Рано утром мы нашли совсем маленького кальмаренка на крыше каюты. Головоломка! Сам он туда не влез, это видно по тому, что нигде не было чернильных пятен, только черное кольцо вокруг самого «младенца». Его не уронила на крышу морская птица, иначе мы нашли бы метки от клюва или когтей. Видимо, его забросило туда волной, хотя никто из ночных вахтенных не мог припомнить такой здоровенной волны. И пошло: что ни утро — новые находки, причем самые маленькие кальмарята были длиной с палец.
Стало обычным, что мы по утрам вместе с летучей рыбой подбирали на палубе одного-двух маленьких кальмаров, даже если ночью не было никакого волнения. Вот уж поистине дьявольское отродье: восемь длинных рук, усеянных присосками, да еще два ловчих щупальца с крючками на концах. Но крупные кальмары не делали попыток забраться на плот. В темные ночи мы наблюдали на поверхности моря светящиеся глаза, а однажды днем вода вдруг забурлила, закипела, и в воздухе будто завертелись большие колеса, при этом часть наших корифен бросилась наутек, выскакивая из воды. Но только через два насыщенных событиями месяца после того, как мы вышли из пресловутого кальмарового района, мы получили ответ, почему взрослые не поднимались на борт, хотя их потомство каждую ночь навещало нас.
Мы по-прежнему собирали на палубе кальмарят. И вот в одно солнечное утро мы все увидели, как что-то вырвалось из воды и с шумом взлетело в воздух, словно небольшие капли дождя, спасаясь от вспенивших море корифен. В первую минуту мы подумали, что это еще какой-то вид летучей рыбы; мы уже познакомились с тремя. Но когда рой блестящих капель приблизился к плоту, летя на высоте полутора метров, что-то ударило Бенгта в грудь, шлепнулось на палубу и обернулось… маленьким кальмаром. Мы немало удивились и поместили малыша в брезентовое ведро с морской водой. Он напрягся и пошел вверх, но в ведре не мог хорошенько разогнаться и лишь наполовину выскочил из воды. Известно, кальмар перемещается по тому же принципу, что реактивный самолет. С огромной силой он проталкивает воду через канал внутри тела и быстрыми рывками плывет задом наперед, а собранные в гроздь щупальца тянутся за головой, делая кальмара обтекаемым. Две округлых, мясистых кожных складки по бокам работают как рули и как весла, когда кальмар не торопится. А теперь мы еще узнали, что не умеющие постоять за себя кальмарята, любимое блюдо многих крупных рыб, уходят от погони, взлетая в воздух, как и летучие рыбы. Они освоили реактивное движение задолго до того, как до этого додумался человеческий гений. Прокачивая сквозь себя воду, они набирают хорошую скорость и, действуя кожными складками как крыльями, под острым углом выскакивают из воды. И парят над волнами, сколько хватит разгона. Мы часто видели, как маленькие кальмары пролетали сорок — пятьдесят метров, либо в одиночку, либо по двое, по трое. Зоологи, которым мы потом рассказывали об этом, никогда раньше не слышали, что кальмар умеет планировать в воздухе.
На тихоокеанских островах меня часто угощали кальмаром: на вкус это помесь омара с резиной. Но на «Кон-Тики» кальмар занимал в меню самое последнее место. И когда на палубу сваливался такой неожиданный дар, мы спешили обменять его на что-нибудь другое. Обмен происходил просто: забросишь крючок, наживленный кальмаром, и вытащишь хорошую рыбину. Даже тунцы и бониты жадно брали такую приманку, а они у нас шли по высшему разряду.
Дрейфуя с волнами, мы встречали не только знакомые виды. В нашем дневнике много записей такого рода.
«11/V. Сегодня вечером, когда мы ужинали на краю плота, рядом с нами два раза всплыло какое-то громадное морское животное. Вспенит всю воду и исчезнет. Мы не могли понять, что это такое».
«6/VI. Герман видел толстую рыбу с темной спиной и белым брюхом, у нее был тонкий хвост и много шипов. Она выскакивала из воды справа от плота».
«16/VI. Слева по носу замечена странная рыба. Длина — 2 метра, ширина — один фут, коричневая, длинное, тонкое рыло, на спине около головы большой плавник, посередине — второй, поменьше, огромный серповидный хвостовой плавник. Держалась у поверхности, иногда плавала, как угорь, извиваясь всем туловищем. Ушла вглубь, когда мы с Германом взяли гарпун и сели в надувную лодку. Потом появилась опять — и снова нырнула, уже насовсем».
На следующий день:
«В полдень Эрик с верхушки мачты заметил тридцать — сорок длинных, тонких бурых рыб такого же рода, как виденная нами вчера. Они шли очень быстро с левого борта и исчезли вдали за кормой, слившись в сплошное бурое пятно».
«18/VI. Кнют наблюдал какое-то тонкое, похожее на змею животное, длиной в два-три фута, оно стояло в воде торчком у самой поверхности, потом ушло вглубь, извиваясь по-змеиному».
Два или три раза мы проплывали мимо чего-то темного, громадного, неподвижно застывшего у самой поверхности, ну прямо подводный риф. Наверное, это был грозный гигантский скат; но сам он не двигался с места, а мы не могли подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть его.
Понятно, в таком обществе мы не могли пожаловаться на скуку. Но иногда мы не были ему рады, скажем, когда надо было самим лезть в воду, чтобы осмотреть днище. Как-то раз одна из швертовых досок отвязалась и ушла в щель под плот. Там она за что-то зацепилась, и мы никак не могли ее вытащить. Лучшими ныряльщиками считались у нас Герман и Кнют. Дважды Герман нырял под плот и, окруженный корифенами и лоцманами, тянул и дергал доску. Только он вынырнул после второго захода и сел на краю плота перевести дух, вдруг мы в каких-нибудь 3 метрах увидели восьмифутовую акулу, которая шла откуда-то снизу курсом на ноги Германа. Возможно, мы ее зря обидели, но нам показалось, что акула замыслила недоброе, и мы всадили ей в голову гарпун. Акула вознегодовала, и завязалась лихая схватка. В итоге хищница ушла, оставив на поверхности воды маслянистое пятно, а доска осталась лежать под плотом.
И тут Эрику пришло в голову смастерить водолазную корзину. Мы не были богаты сырьем, но нашелся бамбук, Нашлись веревки и старая корзина из-под кокосовых орехов. Мы надставили корзину бамбуковыми жердями и заплели веревками пространство между ними. Теперь можно было спускаться под воду. Наши ноги — приманка для морских хищников — были скрыты в корзине. Правда, веревочная сетка была скорее психологической, чем реальной защитой, но в крайнем случае можно было, заметив что-то опасное, присесть и сжаться в комок, а друзья на палубе мигом вытянут тебя из воды.
Эта водолазная корзина сочетала в себе полезное и приятное. Постепенно она стала для команды своего рода увеселительным учреждением, ведь мы теперь могли вволю изучать плавучий аквариум под нашим «Кон-Тики».
Когда по поверхности океана катили длинные, ленивые валы, мы поочередно спускались в корзине и сидели под водой, сколько хватало дыхания. Здесь царило своеобразное освещение, приглушенное и без теней. И не поймешь, откуда свет идет, не то что в надводном мире. Блики сверкают и вверху, и внизу; и солнце не где-то в определенной точке, а словно равномерно разлито повсюду. Днище плота купалось в ярком магическом свете — вот они, девять могучих бревен и сеть веревочных креплений, а по краям и вдоль рулевого весла колышутся светло-зеленые гирлянды водорослей. Идут, послушно держа строй, лоцманы — эти зебры в рыбьем обличье; вокруг них нервно скользят прожорливые корифены. Светится розовая древесина торчащих из щелей швертов, усеянных мирными колониями светлых морских уточек, которые мерно взмахивают желтой бахромой жабер, добывая себе пищу и кислород. При опасности они тотчас захлопывали створки с желтоватой или розовой каймой и не открывали дверь, пока враг не уйдет. После яркого тропического солнца подводный свет казался нам удивительно мягким, чистым и приятным. Даже если смотреть вниз, где в пучине таится вечная ночь, глаз ласкает голубое сияние пронизанной солнцем толщи. И на самом дне этой хрустальной толщи можно различить рыб — то ли бониты, то ли еще кто-то, не опознать: уж очень глубоко. Иногда они шли огромными косяками. Может быть, в полосе течения всегда много рыбы? Или их привлек наш «Кон-Тики», и они решили несколько дней провести в нашем обществе?
Мы особенно любили спускаться в корзину, когда нас на вещали щеголяющие золотистыми плавниками огромные тунцы. Иногда они ходили косяками, но чаще всего по двое, по трое, и несколько дней подряд мерно скользили вокруг плота, если только не попадались на наши крючки. Смотришь с плота — неуклюжие бурые туши, никакого изящества. А окунешься в их родную стихию — что за штука: и цвет не тот, и рыба не та! До того разительная перемена, что мы возвращались на плот проверить, не обознались ли. А они на нас ноль внимания, плывут как ни в чем не бывало, но до чего же изящные, элегантные, никакая другая рыба с ними не сравнится. Цвет металлический, с фиолетовым отливом. Этакая увесистая торпеда из сверкающей стали и серебра, идеально обтекаемая форма, безупречно отрегулированная плавучесть. Чуть шевельнет одним, другим плавником, и 70–80-килограммовая туша удивительно легко рассекает воду.
И чем ближе мы соприкасались с морем и его обитателями, тем лучше его понимали, тем увереннее себя чувствовали в нем. Мы прониклись уважением к первобытным людям, которые жили в Тихом океане, жили Тихим океаном, а потому воспринимали его совсем не так, как мы.
Спору нет, мы определили солевой состав, дали тунцу и корифене латинские имена. Древние до этого не додумались. И все-таки, сдается мне, их представление о море было вернее нашего.
Океан не баловал нас твердыми ориентирами. Волны и рыбы, солнце и луна — все непрерывно перемещалось. Мы с самого начала зарубили себе на носу, что на протяжении всех восьми тысяч километров от Перу до островов Южных морей суши не будет. Тем сильнее мы удивились, когда, подойдя к 100° западной долготы, прямо по курсу увидели на карте пунктирный кружочек, обозначающий риф. И так как карта была совсем свежая, мы поспешили раскрыть «Лоцию для Южной Америки», где прочли:
«В 1906 году, а затем в 1926 году были получены сообщения о бурунах, наблюдавшихся примерно в 600 морских милях к юго-западу от Галапагосских островов, на 6°42′ южной широты и 99°43′ западной долготы. В 1927 году с судна, проходившего в одной морской миле к западу от этой точки, ничего не было замечено, в 1934 году другое судно прошло в миле к югу и также не обнаружило бурунов. В 1935 году теплоход „Каури“ производил в этой точке промеры до глубины 160 саженей, но дна не достал».
Судя по карте, район этот все еще считался ненадежным, и мы решили идти прямо к загадочной точке и обследовать ее, ведь плот не корабль, ему мели не так страшны. Риф был помечен чуть севернее предполагаемой линии нашего дрейфа, поэтому мы повернули парус и руль так, чтобы нос плота смотрел на север. Теперь мы принимали ветер и волны с правого борта, а тут еще посвежело, и в итоге Тихий океан чаще обычного совал нос в наши спальные мешки. Нас утешало то, что «Кон-Тики» доказал свою способность уверенно идти под неожиданно большим углом к ветру. Правда, стоило нам выйти из бак-штага, как начиналась потасовка, чтобы снова подчинить себе плот. Двое суток шли мы курсом норд-норд-вест. Ветер дул то с востока, то с юго-востока, стройные шеренги волн поломались, гребни норовили подмять нас, но плот переваливал через них. На мачте постоянно кто-нибудь сидел, ловя секунды, когда «Кон-Тики» взлетал на высокой волне и кругозор увеличивался. Валы вздымались на два метра над каютой, а когда две волны сталкивались, они, борясь между собой, поднимались еще выше, и невозможно угадать, куда обрушится шипящий гребень… На ночь мы нагромоздили ящики у входа в каюту, но это нас не спасло. Только уснули, вдруг на стену обрушился первый удар, тысячи струек прорвались сквозь щели, а через ящики внутрь ринулся пенящийся каскад.
— Позвоните водопроводчику, — послышался чей-то сонный голос. Но водопроводчик не пришел, и как мы ни жались к стенкам, чтобы вода могла стекать через пол, за ночь к нам в постели натекло столько воды, что купаться не надо. А во время вахты Германа волна забросила на плот здоровенную корифену.
На следующий день пассат решил, что хватит метаться, лучше дуть прямо с востока, и волны утихомирились. Плот должен был достичь заветной точки еще до полудня, и мы то и дело сменялись на мачте. В этот день мы наблюдали особенно много разных рыб, может быть, потому, что смотрели внимательнее.
Утром увидели большую рыбу-меч, которая мчалась прямо на плот. Между двумя острыми плавниками, торчавшими из воды, было метра два; меч казался таким же длинным, как туловище. У самой кормы плота рыба-меч заложила крутой вираж и скрылась за гребнями. А когда мы принялись за обед, приправленный морской водой,
конусовидная волна рядом с нами подняла вверх большущую черепаху, широко растопырившую свои ласты. Через секунду волна схлынула и черепаха пропала так же внезапно, как появилась. Мы успели только заметить, что под ней бледно-зелеными молниями сверкали корифены. Здесь было на редкость много крохотных, не больше дюйма, летучих рыб. Они целыми косяками взлетали в воздух и часто приземлялись на плоту. Появились поморники, то и дело над плотом кружили фрегаты — хвост, как ножницы, этакие здоровенные ласточки. Принято считать, что фрегат не улетает далеко от суши, поэтому настроение на борту сразу поднялось.
— Глядишь, найдем песчаную косу или хотя бы подводный камень, — мечтали ребята.
А самый главный оптимист сказал:
— Вдруг там зеленый бугорок торчит, здесь же почти никто не бывал! Откроем остров и назовем его Кон-Тики!
Начиная с полудня, Эрик все чаще взбирался на кухонный ящик и колдовал секстантом. В 18.20 он объявил, что наши координаты — 6°42′ южной широты и 99°42′ западной долготы. Всего одна миля отделяла нас от помеченного на карте рифа. Мы спустили рею и убрали парус. Ветер восточный, он приведет нас точно в нужное место. Солнце нырнуло в океан, и луна включила на полную мощность свой прожектор, осветив морскую гладь: от края до края — черные тени, серебряные блики. Видимость с мачты была хорошей. Куда ни погляди — длинные шеренги волн, и всюду рушатся гребни, но нигде не видно бурунов, указывающих на отмель или риф. Спать не хотелось, все жадно всматривались в горизонт, на мачте висело сразу по два, по три человека. Мы медленно проходили над заветным местом, непрерывно промеряя глубину. Весь наш запас свинцовых грузил был привязан к восьмисотметровому шелковому канатику в пятьдесят четыре нитки. Даже если считать наклон из-за сноса, наш лот достигал глубины не меньше шестисот метров. Но ни к востоку от помеченной точки, ни в ней самой, ни к западу от нее мы не нащупали дна. Напоследок еще раз внимательно осмотрели все до самого горизонта, убедились, что можно считать район обследованным и свободным от каких-либо мелей, потом подняли парус и легли на прежний курс, заданный самой природой. Опять наш плот шел в левый бакштаг, опять волны обрушивались на корму и здесь же уходили в щели между бревнами. Можно было спать в сухой постели и есть, не опасаясь душа, хотя ветер снова принялся метаться от востока к юго-востоку и волны затеяли лихую потасовку.
Разыскивая мнимый риф, мы узнали кое-что о том, как работают наши шверты. Позднее Герман и Кнют, вместе нырнув под плот, вытащили наконец пятую доску, и мы совсем приблизились к разгадке секрета этих приспособлений, который был утрачен, когда индейцы перестали ходить на плотах. Нетрудно было сообразить, что эти доски — своего рода шверткиль, позволяющий идти под углом к ветру. Но ведь первые испанские путешественники сообщали, что индейцы, выйдя в море, «управляли» плотом с помощью досок, которые они просовывали в щели между бревнами. Это казалось непостижимым всем, кто занижался загадкой швертов, в том числе и нам. Ведь доска плотно зажата в щели, ее нельзя повернуть, какой же это Руль?..
Вот как раскрылся секрет.
Дул ровный ветер, волны улеглись, и «Кон-Тики» уже несколько дней выдерживал курс при закрепленном рулевом весле. Тут мы просунули выловленную доску в щель на корме — в ту же секунду плот рыскнул на несколько градусов к северо-западу и пошел новым курсом. Вытянули доску обратно — «Кон-Тики» вернулся на прежний курс. Опустили — опять повернул; вытянули наполовину — пошел средним курсом. Не трогая рулевого весла, а только маневрируя швертом, мы могли менять курс. В этом и заключалась гениальная идея индейцев. Они создали простую систему равновесия, где мачта и парус играли роль опорной точки, фиксированной давлением ветра. Плечами рычага служили передняя и задняя части плота. Если общая площадь швертов в задней части «перевешивала», плот рыскал, если же «перевешивали» носовые доски, плот уваливался. Меньше всего, естественно, влияют шверты, расположенные ближе к мачте, они образуют более короткое плечо. Если идти точно на фордевинд, доски перестают действовать, но тогда все время надо рулить веслом, чтобы выдерживать курс; к тому же, идя перпендикулярно волне, плот не так легко переваливал через гребни, сказывалась его длина. А так как вход в каюту и кухня-столовая были в правой части плота, мы предпочитали идти левым бакштагом.
Конечно, можно было так и продолжать плавание — пусть рулевой маневрирует швертом, вместо того чтобы тянуть весло. Но мы уже приноровились к веслу и рулили нм, а швертами только задавали общий курс.
Следующая важная веха на нашем пути была такой же невидимой, как таинственный риф.
На сорок пятый день плавания мы прошли 108° западной долготы и завершили первую половину нашего путешествия. Позади, в 4 тысячах километрах на восток, лежала Южная Америка, и ровно столько же осталось до Полинезии на западе. Ближайшая суша — Галапагосские острова, направление ост-норд-ост, и остров Пасхи точно на зюйд, но и до них не близко: 2 тысячи километров. За все эти дни мы не встретили ни одного судна и, как видно, не встретим, ведь мы идем вдали от обычных путей.
Но мы не чувствовали этих огромных расстояний, потому что наш кругозор не менялся, горизонт перемещался вместе с нами, и мир наш ограничивался все той же полусферой небосвода с плотом в центре, и каждую ночь над головой загорались одни и те же звезды.
Глава 6
Через Тихий океан. II
Потешное судно. — Прогулка на надувном лодке. — К чему приводит развязность. — Без ориентиров. — Бамбуковая хижина в океане. — На долготе острова Пасхи. — Загадка острова Пасхи. — Боги-великаны и каменные исполины. — Парики из красного камня. — Творения «длинноухих». — Тики — связующее звено. — Красноречивые наименования. — Мы ловим акул руками. — Попугай. — Вызывает LI2B. — Звездный компас. — Три волны. — Шторм. — Кровь в воде, кровь на палубе. — Человек за бортом. — Еще один шторм. — «Кон-Тики» становится разболтанным. — Привет из Полинезии
Если море вело себя смирно, мы садились в надувную лодку и отправлялись на прогулку с фотоаппаратом. Никогда не забуду первый раз, когда двое из команды, видя, что погода тихая, решились спустить на воду этот резиновый пузырь и прогуляться на нем по волнам. И только отъехали от плота, как выпустили из рук маленькие весла и покатились со смеха. Лодка то поднималась на гребне, то ныряла в ложбину, а они, глядя на нас, хохотали так, что гул стоял над Тихим океаном. Мы растерянно посмотрели налево, направо… Ничего смешного, разве что наши обросшие физиономии, но к ним-то они давно должны были привыкнуть. Постой, уж не сошли ли они с ума? Очень просто — солнечный удар и все такое… Между тем двое приятелей до того обессилели от смеха, что еле добрались обратно до «Кон-Тики». Вытерли глаза, перевели дух и предложили нам самим сесть в лодку и полюбоваться.
Мы с Кнютом прыгнули в качающуюся резиновую лодку; в ту же минуту нас отнес в сторону могучий вал. Теперь уже мы расхохотались, да как! Пришлось срочно грести к плоту, чтобы успокоить последнюю двойку, пока они не решили, что мы все безнадежно свихнулись.
А смеялись мы потому, что очень уж дико и нелепо выглядело со стороны наше гордое судно со своей командой. До сих пор мы просто не знали, как все это смотрится в открытом море, а зрелище было презабавное. Малейшая волна заслоняла бревна, и мы видели, да и то не всегда, лишь торчащую из воды низенькую хижину с широким входом и лохматой крышей. Словно в океан невесть откуда занесло старый норвежский сарай — скособочившийся сеновал, занятый загорелыми бородатыми бродягами. Наверно, точно так же мы бы смеялись, увидев, что за нами гонится корыто, полное гребцов. Гребни волн катили чуть не вровень с крышей, и казалось, что вода без помех вторгается прямо в дверь, захлестывая глазеющих бородачей. Но вот сарайчик снова всплыл, и бродяги лежат как лежали — все такие же косматые и невозмутимые. За волнами повыше исчезала не только хижина, но и мачта, и парус, а схлынет — сеновал тут как тут, никуда не делся.
Поглядишь так со стороны на это хлипкое сооружение, и даже удивительно, что до сих пор все обходилось благополучно.
Но в следующий раз, когда мы вышли на лодке за порцией здорового смеха, чуть не случилась беда. Мы недооценили силу ветра и волн, «Кон-Тики» рассекал волны гораздо быстрее, чем мы думали. Пришлось нам крепко поработать веслами, чтобы догнать своенравный плот, который не мог остановиться и подождать нас, не говоря уже о том, чтобы развернуться и подойти к нам. Ребята спустили парус, но каюта-то оставалась, и ветер гнал плот на запад с такой скоростью, что мы на круглой пляшущей лодчонке еле-еле поспевали за ним, орудуя крошечными веслами. Только бы не потерять друг друга — эта мысль владела всеми. Немало неприятных минут мы пережили, прежде чем нагнали отбившийся от рук плот и воссоединились с товарищами.
С того дня было строго-настрого запрещено выходить на надувной лодке, не привязавшись к плоту длинным канатом, чтобы в случае чего ее можно было подтянуть обратно. И лишь когда ветер совсем стихал и волны вели себя смирно, мы решались отойти подальше. Несколько таких дней выдалось примерно на полпути, среди простершегося во все стороны могучего океана. Мы спокойно покидали «Кон-Тики» и гребли в голубую даль между небом и морем. Посмотришь — плот все меньше и меньше, парус словно непонятная клеточка на горизонте; и в душу закрадывается чувство предельного одиночества. Под нами синее море, над нами синее небо, и, встречаясь, они незаметно сливались воедино. И вот уже кажется, что мы свободно парим в воздухе, и ничего кругом, только синева, ни единого ориентира, кроме жгучего тропического солнца. Маленький парус вдали тянул нас к себе, будто магнит. Мы наваливались на весла, спешили забраться на плот, возвращаясь в родной и близкий мир, и словно обретали твердую почву под ногами. А в хижине — тень, запах бамбука и увядших пальмовых листьев. И солнечная прозрачная синева заключена в рамки открытой двери. Так-то лучше, привычнее, пока опять не начнет манить голубая безбрежная даль…
Удивительно, как влияла на душу наша хрупкая бамбуковая хижина. Размеры — 8 х 14 футов; чтобы уменьшить напор ветра, мы ее сделали такой низкой, что в рост не встанешь. Стены и крыша связаны из толстого бамбука, крытого бамбуковой плетенкой; каркас укреплен растяжками. Желто-зеленые рейки и свисающая между ними бахрома листьев куда приятнее для глаза, чем белые переборки; и хотя правая стена на одну треть была открыта, хотя стены и потолок пропускали и солнечный, и лунный свет, в этом примитивном убежище мы чувствовали себя надежнее, чем в настоящей каюте с задраенными иллюминаторами. Чем это объяснить? Мы решили вопрос так: в нашем сознании бамбуковая хижина совсем не связывалась с морским путешествием. Что общего между беспокойным исполином океаном и качающейся на волнах щелеватой хижиной? Либо хижина должна казаться неуместной среди волн, либо волны — чужеродными рядом с бамбуковой стенкой. На плоту преобладало второе впечатление, на лодке — наоборот.
Бальсовый плот чайкой взмывал на любую волну, вода захлестывала только нос и корму и тут же уходила между бревнами, поэтому мы с непоколебимым доверием относились к сухому прямоугольнику в середине плота, где стояла наша хижина. С каждым днем мы все более надежно чувствовали себя в своем уютном убежище, а на громоздящиеся перед дверью буйные валы смотрели, как на кадры фильма, нам они ничем не грозили. Всего пять футов было от входа до края плота, и лишь полтора фута отделяло нас от воды внизу, однако стоило нам забраться в хижину, и казалось, что мы сидим в шалаше среди джунглей, сотни километров от океана со всеми его опасностями. Лег на спину — и смотри на колышащуюся, словно ветви на ветру, крышу, вдыхай запах леса, источаемый сырыми бревнами, бамбуком и пальмовыми листьями.
Раз мы вышли на лодке ночью. Кругом вздымались угольно-черные валы; мириады ярких звезд перемигивались с фосфоресцирующим планктоном. Все ясно, все просто, есть ночь, есть звезды — больше ничего. 1947 год до или после рождества Христова, какая разница? С небывалой силой ощущали мы полноту жизни. И сознавали, что вот так, даже еще насыщеннее, жили люди до эры техники. Время перестало существовать, все сущее было таким и будет всегда, поток истории, влекущий нас, вливается в этот безбрежный девственный мрак под звездным роем. Из моря медленно всплывал «Кон-Тики» и опять пропадал за черной громадой волн. Свет луны придавал плоту необычный вид. Огромные, блестящие бревна с гирляндой водорослей, квадратный силуэт варяжского паруса, косматая бамбуковая хижина, озаренная тусклым светом керосинового фонаря, будто картинка из сказки. Плот поминутно исчезал за черными валами, но тотчас появлялся вновь, четко вырисовываясь на фоне звезд, и с бревен срывались серебристые струи.
Глядя на этот одинокий плот, легко было представить себе целую флотилию, идущую веером, чтобы вернее обнаружить землю. Именно так шли первые покорители этого океана.
Незадолго до прихода испанцев инка Тупак Юпанки, владыка Перу и Эквадора, во главе многотысячной армии вышел на бальсовых плотах в Тихий океан искать острова, о которых он знал понаслышке. Инка нашел два острова, — в Галапагосском архипелаге, считают некоторые, — и через восемь месяцев вернулся в Эквадор. А за несколько сот лет до инки таким же веером, наверное, шел Кон-Тики со своими людьми, только им незачем было пробиваться обратно.
Вернувшись на плот, мы садились в кружок на палубе у керосинового фонаря и вспоминали мореплавателей из Перу, которые шли здесь пятнадцать столетий назад. На парусе колыхались громадные тени бородатых голов, и я представлял себе белокожих бородатых людей, которые, присутствуют в мифологии и в декоративном искусстве от Мексики, через Центральную Америку и северо-западные области Южной Америки вплоть до Перу, где их загадочная культура вдруг, как по волшебству, исчезает, уступая место инкской, чтобы затем столь же неожиданно появиться на уединенных островах на востоке Полинезии. Может быть, это представители одной из Средиземноморских культур, которые на таких же нехитрых судах, как и мы, в незапамятные времена с ветром и течением прошли от Канарских островов до Мексиканского залива? Для меня океан перестал быть преградой, разделяющей народы. Многие исследователи считают, что великие индейские культуры, начиная с ацтекской в Мексике и кончая инкской в Перу, были вызваны к жизни внезапными импульсами с востока, из-за океана: ведь обычные индейцы в нашем представлении — это охотничьи и рыбачьи племена из Азии, которые 20 тысяч лет назад, если не раньше, начали переселяться в Америку из Сибири. Характерно для всех высокоразвитых культур, некогда существовавших в огромной области от Мексики до Перу, что мы не видим признаков их постепенной эволюции. Чем глубже зарываются археологи, тем совершеннее раскапываемая культура, и так до какого-то слоя, свидетельствующего, что древняя цивилизация появилась вдруг, среди примитивных племен.
Причем возникли эти культуры как раз там, где к берегам подходят атлантические течения, среди одуряюще жарких пустынь и дебрей Центральной Америки, а не в умеренных поясах, где условия намного благоприятнее.
То же самое можно сказать про острова Южных морей. Древняя культура оставила наиболее глубокие следы на острове Пасхи, хотя он безводный, беден растительностью и больше других тихоокеанских островов удален от Азии.
Пройдя половину маршрута, мы покрыли такое же расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу, и легендарный остров лежал теперь прямо на юг от нас. Мы нарочно вышли из точки, расположенной посередине побережья Перу, чтобы возможно точнее повторить статистически средний путь древних плотов. Если бы мы стартовали южнее, в районе, над которым в горах находятся развалины Тиауанаку, древнего города Кон-Тики, ветер был бы тот же, но течение слабее, и оно увлекло бы нас к острову Пасхи.
Миновав 110° западной долготы, мы очутились в Полинезии, и теперь полинезийский остров Пасхи оказался ближе нас к Перу. Словно некая нить протянулась к форпосту царства Южных морей, центру древнейшей островной культуры. И когда наш огненный проводник, покинув небо, исчезал в море на западе вместе со всеми красками, ласковый пассат как бы вдыхал жизнь в рассказы об удивительной загадке острова Пасхи. В ночном небе растворялось понятие времени, на парусе снова возникали тени огромных бородатых голов.
А далеко на юге, на острове Пасхи, стояли, охраняя вековые тайны, еще большие головы — настоящие исполины, с острой бородкой и чертами белого человека, только высеченные из камня. Они стояли там, когда европейцы впервые увидели остров в 1722 году, причем успели уже пережить двадцать два поколения полинезийцев, после того как предки современного населения высадились на берег со своих лодок и перебили всех до единого взрослых мужчин таинственного народа, который еще до них принес на остров высокую культуру. Со времен открытия Пасхи головы идолов стали в ряд самых ярких символов неразрешимости загадок прошлого. На косогорах безлесного острова высятся эти громадные истуканы — монолиты высотой в трех-, четырехэтажный дом, которым рука мастера придала подобие человека. Как могли люди прошлого обрабатывать, перемещать и устанавливать этих каменных исполинов высотой до двенадцати метров? Мало того, они еще ухитрились увенчать многие головы своего рода огромными париками из красного туфа. В чем смысл этих фигур? И какие тонкости механики знали исчезнувшие каменотесы, ведь они решали задачи, которые заставили бы призадуматься лучших современных инженеров?
Впрочем, если вспомнить перуанские плоты и сложить вместе все кусочки мозаики, загадки острова Пасхи окажутся, пожалуй, не такими уж неразрешимыми. Творцы древней культуры оставили на острове следы, которые время не смогло начисто стереть.
Остров Пасхи — макушка давным-давно потухшего вулкана. До наших дней сохранились проложенные древним народом мощеные дороги, которые ведут к пристаням на побережье, свидетельствуя, что уровень моря на острове был в ту пору таким же, как теперь. Перед нами не остаток затонувшего материка, а пустынный островок, такой же маленький и уединенный, как и тогда, когда он был культурным центром Тихого океана.
Посреди этого конусообразного острова расположен кратер потухшего вулкана, а внутри кратера находятся поразительные мастерские и каменоломни древних скульпторов. Все здесь выглядит так, как много сотен лет назад, когда ваятели и архитекторы поспешно бежали к восточной оконечности острова, где, по преданию, новые пришельцы всех их перебили. Внезапно покинутая мастерская являет нам картину обычного рабочего дня в кратере острова. Разбросанные кругом твердые каменные рубила показывают, что этот народ не знал железа, как не знали его изгнанные из Перу скульпторы Кон-Тики, после которых на Андском плоскогорье тоже остались каменные исполины. Как и там, здесь можно увидеть каменоломни, где легендарные белые бородатые люди вырубали из горного массива двенадцатиметровые глыбы, орудуя рубилами из более твердой породы. И в обоих местах многотонные монолиты перетаскивали по пересеченной местности на много километров, чтобы либо воздвигнуть в виде огромных истуканов, либо уложить друг на друга, сооружая загадочные стены и террасы.
Немало незавершенных фигур и поныне лежит там, где их начали высекать, в нишах по склонам пасхальского кратера, это позволяет изучить разные этапы работы. Самый большой идол, почти законченный к тому времени, когда художникам пришлось бежать, достигает 22 метров в длину; поставленный прямо, он сравнялся бы с восьмиэтажным домом. Каждую фигуру высекали из одного монолита, причем, судя по рабочим местам скульпторов, над статуей работало одновременно не так уж много людей. Истуканы лежали на спине, и руки у них были сложены на животе, как у перуанских исполинов; после того как каменотесы полностью завершали работу, готовую статую из мастерской перемещали туда, где для нее было приготовлено место. На последнем этапе работы только узкая полоска камня вдоль спины соединяла идола с горой, потом и ее удаляли, одновременно подмащивая великана булыжником.
Множество фигур спустили на дно кратера и расставили там. Но немало могучих статуй подняли из кратера и перенесли на много километров по пересеченной местности, чтобы установить их на каменных платформах и водрузить им на макушку обтесанные глыбы застывшей красной лавы. Как их переносили, уже само по себе может показаться загадкой, но факт остается фактом. А ведь исчезнувшие из Перу архитекторы оставили в Андах таких же колоссов, то есть они были специалистами именно в этой области. Правда, на Пасхе статуи больше и многочисленнее, и здесь сложился свой, самобытный стиль, но тот же самый исчезнувший народ, носитель древней культуры, воздвиг подобные фигуры и на других ближайших к Америке тихоокеанских островах, и везде скульптуры переносили на алтари из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах мне довелось слышать легенды, как справлялись с такими глыбищами. То же самое рассказывали островитяне на Тонгатабу о переноске каменных колонн Для исполинских ворот на этом острове. Значит, можно предположить, что тот же народ применял и на Пасхе те способы.
Работа над статуей в мастерской отнимала много времени, но в каждом случае ею было занято лишь несколько специалистов. Переноска готовой фигуры происходила гораздо быстрее, зато требовалось гораздо больше людей. Тогда островок был хорошо обеспечен рыбой; земля была возделана и занята обширными плантациями перуанского батата. Исследователи считают, что в пору расцвета остров легко мог прокормить семь-восемь тысяч человек. Тысячи человек было вполне достаточно, чтобы извлечь каменных исполинов из кратера с его крутыми склонами; дальше тащить статую могли пятьсот человек.
Из луба и растительного волокна сплетали прочнейшие канаты; каменного богатыря одевали в раму из бревен и волокли по деревянным каткам и валунам, смазанным соком корней таро. Хорошо известно, что древние жители островов Южных морей мастерски делали веревки и канаты, а в Перу первые гости из Европы увидели переброшенные через ущелья и водопады стометровые висячие мосты из канатов толщиной с человека.
После того как великан был доставлен на место, возникала следующая проблема — надо было его установить. Для этого из камня и песка сооружали насыпь и втаскивали статую наверх по пологому склону, ногами вперед. Перевалив через гребень, статуя съезжала по второму, более крутому склону вниз, так что основание попадало в заранее вырытую яму. Вершина насыпи оказывалась вровень с затылком истукана, и напрашивалась мысль вкатить наверх каменный цилиндр и увенчать им голову статуи, прежде чем разбирать насыпь. Такие насыпи до сих пор стоят во многих местах на Пасхе, дожидаясь великанов, которых так и не доставили. Словом, работа этих людей и впрямь достойна восхищения, но ничего загадочного тут нет, стоит лишь перестать недооценивать ум древнего человека и запас времени и рабочей силы, которым он располагал.
Для чего же делали эти статуи? И почему надо было отправляться в совсем другую каменоломню, в семи километрах от мастерской, за особым, красным камнем, который водружали на голову скульптуры? В Южной Америке и на Маркизских островах подчас делали всего идола из красного камня, хотя бы его приходилось доставлять издалека. Как в Полинезии, так и в Перу по красным головным уборам узнавали высокопоставленных лиц.
Посмотрим сперва, кого изображают статуи. Когда на Пасху впервые пришли европейцы, они увидели там таинственных «белых людей», встретили также необычный для полинезийских народов тип мужчин с длинными рыжими бородами, потомков уцелевших женщин и детей народа, который первым заселил остров. Жители острова рассказывали, что среди их предков были и белокожие и смуглые. По их подсчетам, смуглые предки пришли из других частей Полинезии двадцать два поколения тому назад, а белокожие приплыли с востока на больших судах целых пятьдесят семь поколений назад (то есть в V–VI веках нашей эры). Людей, пришедших с востока, прозвали «длинноухими», потому что они подвесками растягивали мочки ушей, так что те свисали до плеч. Вот эти загадочные «длинноухие» и были истреблены, когда на остров пришли «короткоухие». И у всех каменных истуканов Пасхи длинные, свисающие до плеч уши — такие же, какие были у ваятелей.
Но ведь легенды перуанских инков как раз говорят о том, что король-солнце Кон-Тики правил бородатыми белокожими людьми, которых инки прозвали «большеухими», потому что их искусственно удлиненные уши доставали до самых плеч. По словам инков, огромные заброшенные статуи в Андах были воздвигнуты именно этими «большеухими» до того, как их частью изгнали, частью истребили в битве на острове посреди озера Титикака.
Итак, белокожие «большеухие» подданные Кон-Тики, мастера вытесывать огромные статуи из камня, уходят its Перу на запад, и белокожие «длинноухие» подданные Тики, такие же мастера ваяния, приходят на остров Пасхи с востока и сразу же начинают вытесывать скульптуры, и мы не находим на островке никаких намеков на какое-либо предшествующее развитие этого искусства.
Подчас между каменными идолами в Перу, с одной стороны, и на некоторых островах Океании — с другой, больше сходства, чем между фигурами с разных островов. На Маркизах и на Таити все такие статуи назывались одинаково — Тики — и изображали славных предков, которых после смерти возвели в ранг богов. Вот вам и ответ на загадку красных колпаков, которыми венчали статуи Пасхи. Как уже говорилось, на всех полинезийских островах попадались люди, даже целые семьи, с рыжеватыми волосами и светлой кожей, а сами островитяне называли их потомками первого, белокожего, населения. На некоторых островах устраивали религиозные празднества, участники которых окрашивали кожу в белый цвет, а волосы R красный, чтобы быть похожими на своих древнейших предков. Во время ежегодных церемоний на Пасхе главного героя ритуала остригали наголо, чтобы покрасить кожу на голове в красный цвет. А огромным цилиндрам из красного камня на головах идолов Пасхи старательно придавали форму прически местных мужчин, которые носили круглый пучок на макушке.
У статуй острова Пасхи были длинные уши, потому что такие уши были у ваятелей. Идолов снабжали красными шапками, потому что у скульпторов были рыжеватые волосы. У истуканов выступающие, с острой гранью подбородки, потому что ваятели были бородатыми. У них присущие европеоидной расе черты лица — узкий, сильно выступающий нос, тонкие, четко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали к монголоидной расе.
А если у статуй огромные головы, крохотные ноги и сложенные на животе руки, это потому, что так их делали ваятели еще в Перу. Высеченный на животе пояс — единственное украшение исполинов на острове Пасхи. Тот же символ видим на всех без исключения статуях в развалинах древнего города вождя Кон-Тики у озера Титикака. Это радуга, таинственная эмблема бога-солнца. На Мангареве был миф, по которому бог-солнце, сняв с себя свой магический пояс-радугу, спустился по нему с неба на остров, чтобы населить его своими белокожими детьми. На всех этих островах, как и в Перу, некогда считали Солнце своим древнейшим родоначальником.
Сидя в кружок на плоту под звездным небом, мы словно переживали удивительную историю Пасхи, хотя течение влекло плот в сердце Полинезии, так что заветный остров остался для нас лишь названием на географической карте. Даже название этого острова, где столько следов связи с востоком, может кое-что подсказать.
На карте написано «остров Пасхи», потому что какие-то голландцы случайно «открыли» его в день пасхи. И мы забыли, что его обитатели называли свою землю куда более содержательными и выразительными именами. У любимого дитяти, гласит пословица, много имен, так и у этого острова целых три полинезийских названия.
Одно из них — Те-Пито-те-Хенуа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, которое сами полинезийцы считают наиболее древним, явно выделяет Пасху из ряда других островов, лежащих дальше к западу. В его восточной части, недалеко от места, где, по преданию, впервые высадились «длинноухие», лежит тщательно обтесанный круглый камень, так называемый «Золотой пуп», который считается пупом самого острова Пасхи. Каждый, знакомый с поэтичной душой полинезийцев, поймет, что символ этот подразумевает «рождение», то есть открытие островного царства, причем крайний на восток остров Пасхи, «Пуп островов» почитался как связующее звено с родиной первооткрывателей.
Второе полинезийское название — Рапа-нуи, или «Большой Рапа»; есть еще Рапа-ити, или «Малый Рапа», он примерно такой же величины, но лежит гораздо дальше на запад. И ведь так принято у всех народов — называть свое первоначальное место жительства, скажем, «Большой Рапа», а следующее — «Новый Рапа» или «Малый Рапа», хотя бы «малый» на деле был ничуть не меньше «большого». Вот и предания туземцев «Малого Рапы» говорят, что первые жители острова пришли с лежащего ближе других к Америке острова «Большой Рапа» (остров Пасхи) на востоке.
И третье название этого острова, занимающего ключевую позицию, — Мата-Ките-Рани — «Глаз, смотрящий в небо». На первый взгляд это непонятно, ведь относительно низкий остров Пасхи устремлен к небу не больше, чем другие гористые острова, скажем, Таити, Маркизские или Гавайи. Но в слове «Рани» («небо») для полинезийцев был заключен и другой смысл, оно обозначало также исконную родину предков, священную страну бога-солнца, покинутое горное царство Тики. И если из тысячи островов в океане именно остров Пасхи назван «глазом, смотрящим на родину», это, конечно, неспроста. Тем более что на тихоокеанском побережье Перу, напротив острова Пасхи, у подножия гор, в которых найдены развалины древнего города Тики в Андах, мы видим старое перуанское название «Мата-Рани», означающее на полинезийском языке «Глаз Неба».
Сидя на палубе под звездным небом, мы без конца говорили об острове Пасхи и чувствовали себя как бы причастными к его сказочной истории. И нам уже казалось, что со времен Тики плывем мы то под солнцем, то под звездами по океану в поисках земли.
Волны и сам океан уже не вызывали в нас прежней робости. Мы хорошо с ними познакомились, знали, чего можно ждать от них. Акула, и та стала для нас обыденным существом, с тех пор как мы изучили ее повадки. Мы перестали хвататься за гарпун, даже не отодвигались от края плота, когда она подходила вплотную к плоту. Больше того, мы позволяли себе подергать ее за спинной плавник, меж тем как она невозмутимо скользила вдоль бревен. Постепенно из этой игры развился небывалый вид спорта: кто кого перетянет — акула или человек.
Началось с малого. Мы сплошь и рядом вылавливали больше корифен, чем могли съесть. И чтобы не переводить зря пищу, мы придумали развлечение себе и корифенам — обманную ловлю без крючка. Привяжешь за веревочку ненужную летучую рыбу и тянешь по воде. Корифена тут же подлетает к поверхности и хватает приманку. Каждый тянет к себе, и начинается потеха. Одна корифена сорвется — ее место тут же займет другая. Нам веселье, а корифене в конечном счете доставалась добыча.
Потом мы затеяли такую же игру с акулами. Привяжем к веревке либо кусок рыбы, либо мешочек с остатками обеда и закинем в воду. Акула не переворачивалась на спину, она высовывала нос из воды и шла вперед с разинутой пастью, нацеливаясь на лакомый кусок. Только приготовится схватить его, как мы поддергиваем веревку. И до чего же глупая и терпеливая морда была у акулы, когда она снова и снова тянулась за приманкой, которая всякий раз выскакивала у нее из самой пасти. И вот уже акула, подплыв к бревнам, прыгает, будто собачонка, пытается схватить мешочек, болтающийся у нее перед носом. Все равно, что кормить бегемота в зоопарке.
В конце июля, когда мы провели на плоту уже три месяца, в дневнике появилась такая запись:
«Сегодня мы отлично ладили с сопровождавшей нас акулой. За обедом выливали ей остатки прямо в разинутую пасть. Плывет рядом с нами, словно пес, во нраве которого столько же свирепости, сколько добродушия. Право же, акула может производить симпатичное впечатление, пока не попал к ней в зубы. Во всяком случае общество акул нас развлекает, когда мы. не купаемся».
Однажды у нас на краю плота лежала бамбуковая удочка с привязанным на веревке мешочком, в котором лежало угощение для акул. Набежала волна и смыла все за борт. Удочка уже отстала от плота на несколько сот метров, вдруг она встала в воде торчком и помчалась вдогонку за нами, будто задумала сама лечь на место. Когда она приблизилась, мы разглядели трехметровую акулу, над которой удочка торчала, словно перископ. Хищница проглотила мешочек, но веревку не перекусила. Удочка быстро догнала плот, обошла его и скрылась впереди.
Но хотя наш взгляд на акулу переменился, уважение к притаившимся в пасти острейшим зубам в пять-шесть рядов осталось.
Кнюту пришлось как-то раз совершить невольный заплыв в обществе акулы. Отплывать в сторону от плота строго запрещалось, во-первых, из-за опасности отстать, во-вторых, из-за акул. Но в тот день выдалась на редкость тихая погода, и так как акулий эскорт только что был выловлен, команда получила разрешение быстро искупаться. Кнют прыгнул в воду и довольно далеко проплыл под водой, наконец вынырнул и повернул обратно. В ту же секунду наблюдатель увидел с мачты, что позади Кнюта в глубине возник длинный, длиннее нашего товарища силуэт. Спокойно, чтобы не было паники, мы позвали Кнюта, и он рванулся к плоту. Но силуэт в толще воды принадлежал более искусному пловцу, который ринулся вдогонку, быстро настигая Кнюта. Они одновременно подошли к плоту. Кнют вскарабкался на бревна, и в ту же секунду у него под животом проскользнула акула. Она заняла пост возле плота, и мы ей выдали лакомую голову корифены в благодарность: за то, что она не пустила в ход свои зубищи.
Вообще-то хищный инстинкт акулы пробуждается скорее запахом, чем видом добычи. Мы иногда на пробу опускали ноги в воду — акулы подплывали на полметра-метр и преспокойно отворачивались. А вот стоило хоть капле крови попасть в воду, — скажем, когда мы чистили рыбу, — и тотчас поверхность моря вспарывали острые плавники, хищницы мчались отовсюду, будто мясные мухи. Если же мы выбрасывали внутренности акулы, они приходили в бешенство и остервенело метались вокруг плота. Жадно глотали печень, и уж теперь, стоило нам окунуть ноги, ракетой бросались вперед и с ходу вонзали зубы в бревно. Да, акула акуле рознь, все зависит от настроения хищницы в эту минуту.
Кончилось тем, что мы стали тянуть акул за хвост. Говорят, дергать животных за хвост — недостойный спорт, но вы померяйтесь силой с акулами, это совсем другое дело.
Чтобы добраться до акульего хвоста, сперва надо хорошенько угостить зубастую. Ради лакомого куска она не поленится высунуть голову из воды. Обычно мы подносили угощение на веревочке. Ибо, кто однажды кормил акулу из рук, больше не захочет так развлекаться. Если кормишь пса или ручного медведя, он хватает зубами мясо и треплет его, пока не откусит или не вырвет из руки весь кусок. А когда вы держите на почтительном расстоянии от акульего рыла большую корифену, хищница подскакивает, захлопывает пасть, и рыбы как не бывало, один хвост остался, и никакого рывка не слышно. Сколько мы возились, чтобы разрезать ножом корифену, а вот акула одним движением треугольных зубов рассекала рыбу, что твой резак колбасы.
Поворачиваясь, чтобы уйти вглубь, акула вскидывала над водой хвост — хватай, чего проще. Акулья кожа на ощупь будто наждак, а на конце верхней лопасти хвостового плавника есть выемка, словно созданная для того, чтобы можно было взяться покрепче. И уж как ухватился, рука не сорвется. Тяни живей, пока акула не опомнилась, затаскивай ее подальше на бревна. На секунду-другую акула терялась, потом начинала извиваться: без помощи хвоста ей не набрать ход, остальные плавники служат только для баланса и управления. Несколько отчаянных рывков — тут важно не выпустить хвост, — и ошарашенная акула буквально падает духом. Внутренности смещаются к голове, и в конце концов акулу будто сковывает паралич. Вот тут, когда она висит, как бы выжидая, надо опять тянуть изо всех сил. Нам редко удавалось вытащить тяжеленную рыбину больше чем наполовину, но она, ожив, остальное доделывала сама. Яростно дергаясь, акула закидывала голову на бревна — тогда уж не зевай, дерни еще раз посильней напоследок и отскакивай в сторонку, да поживей, коли ноги дороги. Потому что теперь от акулы милости не жди. Она скачет, колотит стену хижины хвостом, точно кувалдой, пуская в ход всю свою страшную силищу. Огромная пасть разевается во всю ширь, частокол зубов устрашающе щелкает в воздухе, норовя кого-нибудь или что-нибудь ухватить. Иногда воинственная пляска кончалась тем, что акула, более или менее невредимая, возвращалась в море и после пережитого позора исчезала навсегда. Но чаще всего пленница бестолково билась на бревнах на корме, пока мы не ухитрялись набросить ей на хвост петлю или пока она сама не переставала скалить свои дьявольские челюсти.
Попугай буквально приходил в неистовство, когда у нас на палубе оказывались акулы. Он выбегал из хижины и стремглав взбирался по стене на крышу. Облюбует себе удобный и безопасный наблюдательный пост и сидит, наклоняя голову то влево, то вправо. Или носится по коньку, хлопая крыльями и визжа от восторга. Он очень скоро стал у нас заправским моряком, и его всегда распирало веселье. Мы так и считали, что нас на борту семеро, включая зеленого попугая в это число. Что до нашего краба Юханнеса, то ему приходилось мириться с ролью холоднокровного довеска. На ночь попугай забивался в свою клетку под крышей хижины, но днем он важно расхаживал по палубе или выполнял на вантах и штагах головоломные акробатические упражнения.
Поначалу мы натягивали ванты винтовыми стяжками, но они сильно истирали такелаж, и мы перешли на петлю-удавку. Когда от солнца и ветра такелаж ослабевал, приводилось общими силами натягивать ванты, чтобы тяжеленные мангровые мачты не свалились. И в самую горячую минуту попугай вдруг начинал кричать клоунским голосом: «Раз-два — взяли! Раз-два — взяли! Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха!» Рассмешит нас, и сам хохочет, как безумный, довольный своим остроумием, и вертится волчком на штагах.
Первое время попугай строил козни радистам. Сидят они, зажав уши магическими наушниками, в своем уголке, с головой ушли в переговоры, скажем, с каким-нибудь радиолюбителем из Оклахомы. Вдруг звук пропадает, и сколько ни дергай проволочки, ни крути ручки, в наушниках безмолвие. Ну конечно, опять попугай напроказил, перекусил антенный провод. Особенно он увлекался этим в начале плавания, когда мы подвешивали антенну к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Угрюмо сидел он в клетке, двое суток не притрагивался к пище, и в помете его поблескивали кусочки золотистого антенного канатика. Радисты поспешили взять обратно все бранные слова, попугай тоже раскаялся и с той поры считал Торстейна и Кнюта своими лучшими друзьями, не соглашался спать нигде, кроме радиоугла. Его родным языком, когда он впервые попал к нам на плот, был испанский, но, если верить Бенгту, попугай начал говорить с норвежским акцентом задолго до того, как усвоил любимые, сугубо норвежские обороты Торстейна.
Два месяца зеленый попугайчик радовал нас своим ярким нарядом и веселым нравом. А потом… В ту минуту, когда он слезал по штагу с мачты, большая волна захлестнула корму. Мы схватились его, но было уже поздно: попугай исчез. И ведь «Кон-Тики» ни повернуть, ни остановить; сколько раз уже мы убеждались: что улетело за борт, того не вернешь.
В тот вечер на плоту царило подавленное настроение, мы отлично знали, что такая же участь ждет любого из На. с, упади он за борт во время ночной вахты, когда остальные спят.
Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, Женили предохранительную веревку для ночной вахты и постарались внушить друг другу, что два месяца удачного давания еще не залог безопасности. Неосторожный шаг, необдуманное движение — и можно даже средь бела дня Последовать за попугаем.
Много раз мы видели качающиеся на голубых волнах яйца кальмара, с виду похожие не то на страусово яйцо, не то на череп. Однажды под таким яйцом барахтался и и сам кальмар. Заметишь такой белоснежный шар на гребне, на уровне глаз, и кажется, ничего не стоит сходить за ним на лодке и забрать его. Впрочем, так же мы судили в тот раз, когда лопнул тросик планктонной сети, и она поплыла без привязи в кильватере. Спустили на воду надувную лодку с веслами и с удивлением обнаружили, что ветер и волны не хотят пускать лодку назад, да и канат, связывающий ее с плотом, тормозит, никак не удается догрести до точки, которую плот уже прошел. Порой всего несколько метров отделяло нас от заманчивого предмета, но тут кончался канат, и «Кон-Тики» тащил нас за собой на запад. И мало-помалу мы твердо усвоили истину: что за борт упало, то пропало. Не хочешь отстать — держись за «Кон-Тики», пока он не врежется носом в берег по ту сторону океана.
Без попугая в радиоуглу стало пусто, но на следующий день тропическое солнце быстро развеяло нашу грусть. Вылавливая в последующие дни акул, мы находили в их желудках среди тунцовых голов и прочей снеди черные, кривые, как у попугая, клювы. Но эти черные клювы представляли собой остатки переваренных кальмаров.
С самого начала плавания наши радисты почти не знали передышки. Только мы вошли в течение Гумбольдта, как аккумуляторы залило морской водой, и пришлось им, защищаясь от волн, накрыть брезентом уязвимый радиоугол. А сколько они помучились, чтобы натянуть на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Попробовали запустить змея на антенном проводе, но от порывистого ветра змей нырнул в волну и утонул. Тогда они попытали счастья с воздушным шаром — тропическое солнце прожгло его, он испустил дух и упал в море. И попугай поморочил им голову. К тому же плот две недели шел с течением Гумбольдта в образуемой Андами мертвой зоне, где эфир на коротких волнах был нем и безжизнен, как воздух в пустой жестянке.
Но вот однажды ночью короткая волна, наконец, пробилась и какой-то любитель в Лос-Анджелесе, который в это время пытался
наладить связь с одним шведским коротковолновиком, услышал вызов Торстейна. Первым делом американец осведомился, какая у нас станция. Затем, удовлетворив свое любопытство по этой части, поинтересовался, кто его корреспондент и где он живет. Узнав, что Торстейн сидит в бамбуковой хижине на плоту посреди Тихого океана, он изобразил телеграфным ключом что-то странное, и — Торстейн поспешил уточнить, что он подразумевает. Придя в себя от изумления, человек в эфире сообщил, что его зовут Гал, а его жену — Анна, она шведка родом и передаст нашим семьям, что мы живы-здоровы.
Как-то чудно было думать о том, что в городе с миллионным населением, вообще во всем мире только один, совершенно чужой нам человек по имени Гал, кинооператор, знал, где мы и что с нами.
С этой ночи Гал (Гарольд Кэмпел) и его друг Фрэнк Кевэс поочередно дежурили, ловя сигналы с плота, и Герман стал получать телеграммы с благодарностью от директора американской метеослужбы за передаваемые два раза в сутки сводки из неизученной области. Потом Кнют и Торстейн уже чуть не каждую ночь связывались и с другими радиолюбителями, они передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика Эмиля Берга в Нутоддене.
Только один раз посреди океана мы на несколько дней остались без связи, когда радиостанция нахлебалась соленой воды и отказала. Наши корреспонденты решили, что плоту пришел конец, но оба радиста день и ночь орудовали отвертками и паяльниками, и наконец в эфире снова зазвучали позывные LI2B. Тотчас наш радиоуголок загудел, словно потревоженный улей: сотни американских радиолюбителей лихорадочно выстукивали ответ.
Кстати, если во владения радистов забредал непосвященный, ему и впрямь могло показаться, что он сел на осиное гнездо. Все дерево отсырело, и хотя на бревне у радиостанции лежала каучуковая подушка, смельчака, коснувшегося телеграфного ключа, сразу с двух сторон поражали электрические жала. Если кто-нибудь пытался стащить карандаш из радиоугла, у него волосы вставали дыбом, а между пальцами и карандашом проскакивали длинные искры. Только Торстейн и Кнют, да еще попугай ухитрялись пробираться невредимыми среди аппаратуры; для прочих вывесили картонку, обозначающую опасную зону.
Однажды ночью Кнют, орудовавший при свете фонаря в своем углу, вдруг дернул меня за ногу и сообщил, что связался с неким Христианом Амундсеном, живущим под Осло. Это был своего рода рекорд, ведь наш передатчик, Работавший на частоте 13 990 килогерц, обеспечивал мощность от силы шесть ватт, примерно столько, сколько берет лампочка от карманного фонаря. Дело происходило 2 августа, мы прошли с востока на запад больше шестидесяти градусов, так что наша столица была на противоположном конце земного шара. На следующий день норвежскому королю исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравление с плота, а 4 августа Христиан опять появился в эфире и передал ответную телеграмму короля, который желал нам дальнейшего счастливого плавания.
Еще один эпизод выделяется на фоне нашей повседневной жизни на плоту. У нас было два фотоаппарата, и Эрик захватил химикаты, чтобы еще в пути проявлять пленки и, если что-нибудь не получилось, сделать новые снимки. После встречи с китовой акулой он не выдержал — вечером развел в воде порошки точно по рецепту и проявил две пленки. Негативы получились похожими на старое телефото, одни точки да морщинки. Пленка была испорчена. Мы запросили по радио совета у своих друзей; один коротковолновик в Голливуде услышал наш запрос, позвонил в лабораторию и сообщил нам, что раствор был слишком теплым. Чтобы эмульсия не сморщилась, температура воды не должна превышать шестнадцати градусов.
Мы поблагодарили за совет и установили, что в наших условиях самая низкая температура — это температура несущего нас на запад течения, а именно двадцать семь градусов. Вспомнив, что Герман специалист по холодильникам, я в шутку поручил ему раздобыть воды с температурой не выше шестнадцати градусов. Он выпросил баллончик с углекислотой из комплекта надувной лодки (все равно она уже была надута), накрыл котелок с водой нижней рубашкой и спальным мешком, поколдовал, и вдруг в воздухе появились снежинки, а в котелке засверкал кусок белого льда. Эрик развел новый проявитель и получил отличные негативы. Конечно, радиоволны, которые Торстейн и Кнют вылавливали из эфира, были незнаемой роскошью во времена Кон-Тики, но морские волны под нами ничем не отличались от тогдашних, и бальсовый плот упорно шел на запад, как и его предшественники пятнадцать столетий назад.
Теперь, когда мы приблизились к Полинезии, погода стала покапризнее, иногда шел дождь, и пассат изменил направление. Прежде он дул с юго-востока, но чем дальше нас уносило Экваториальное течение, тем больше он смещался к востоку. 10 июня мы прошли крайнюю северную точку нашего пути: 6°19′ южной широты. В это время мы так близко подошли к экватору, что казалось — нас пронесет севернее Маркизского архипелага, и мы затеряемся в океане, не обнаружив земли. Но пассат с востока переместился к северо-востоку и повлек плот по широкой дуге к островам.
Случалось, ветер и волны день за днем не менялись, и мы даже забывали, кому стоять на руле, исключая ночь, когда вахтенный оставался один на палубе. Потому что при постоянном ветре кормовое весло закрепляли в одном положении, и от нас не требовалось никаких усилий, чтобы парус с изображением Кон-Тики оставался наполненным. Ночью вахтенный мог спокойно сидеть в дверях хижины и любоваться звездами. Если созвездия вдруг смещались, вот тогда уж выходи и проверяй, в чем дело — то ли весло сдвинулось, то ли ветер переменился.
Это удивительно, до чего просто держать курс по звездам, после того как ты несколько недель наблюдал их движение по небосводу. Да и на что еще смотреть ночью? Мы точно знали, где и какие созвездия появятся с наступлением темноты. Когда мы приблизились к экватору, Большая Медведица поднялась так высоко над северным горизонтом, что мы уже боялись, как бы не показалась Полярная звезда, встречающая того, кто пересекает экватор с юга. Но пассат подул с северо-востока, и Большая Медведица опять сползла вниз.
Древние полинезийцы были замечательными навигаторами. Днем они ориентировались по солнцу, ночью — по звездам. Поражают их познания о небесных телах. Они знали, что земля круглая, у них были свои слова для таких сложных понятий, как экватор, эклиптика, северный и южный тропики. Жители Гавайских островов вырезали на бутылочных тыквах карты прилегающих областей; на некоторых других островах карты сплетали из прутьев, обозначая раковинами жемчужниц острова, а прутьями — течения. Полинезийцы знали пять планет, они называли их блуждающими звездами в отличие от настоящих звезд, тремстам из которых дали свои названия. Хороший навигатор в древней Полинезии отлично знал, где в разные времена года покажется с приходом темноты та или иная звезда, как она перемещается за ночь. Полинезийцы запоминали, какие созвездия кульминируют над данным островом, и случалось, он носил то же название, что звезда, которую из ночи в ночь, из года в год можно было наблюдать над ним.
Глядя на звезды, полинезийцы определяли, как далеко на юг или север забрались они во время плавания. Исследовав и покорив ближайшие к Америке архипелаги, они из поколения в поколение поддерживали связь между отдельными островами. По преданию, когда вожди из Таити отправлялись в гости на Гавайские острова, лежащие в 2 тысячах морских миль к северу и на несколько градусов западнее, кормчий сперва правил по солнцу и звездам прямо на север, пока звезды у него над головой не говорили ему, что он достиг широты Гавайского архипелага. Тогда он поворачивал под прямым углом и шел на запад, пока птицы и облака не указывали ему цель.
Откуда у полинезийцев такое знание астрономии, откуда тщательно разработанный календарь? Во всяком случае не от меланезийских или малайских народов на западе. А вот у «белых бородатых людей», которые передали свою замечательную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, был сходный календарь и такое знание астрономии, каким никто в Европе не обладал в ту пору.
В Перу, где южноамериканский материк спускается в Тихому океану, по сей день в песчаной пустыне можно увидеть древнюю астрономическую обсерваторию, памятник времен все того же таинственного народа, который высекал исполинских идолов, строил пирамиды, разводил батат и бутылочную тыкву.
2 июля мирному созерцанию звездного неба пришел конец. Вместо слабого норд-оста подул сильный ветер, и пошли высокие волны. Ночью, при свете яркой луны, мы лихо неслись вперед. Чтобы определить скорость, мы считали, за сколько секунд плот проходит мимо щепки, брошенной в воду у носа. И вот оказалось, что «Кон-Тики», так сказать, побил свой личный рекорд. Обычно мы, выражаясь нашим языком, шли со скоростью «двенадцати — восемнадцати щепок», теперь же достигли «шести щепок», и за кормой вихрилась сверкающая попутная струя.
Четыре человека крепко спали в бамбуковой хижине. Торстейн стучал телеграфным ключом в своем углу, я нес вахту на руле. Близилась полночь, когда я увидел нагонявшую нас сзади громадную волну, гребень которой терялся за пределами поля зрения, а сразу за ней пенились еще два таких же исполинских вала. Если бы мы только: что не прошли это место, я был бы уверен, что это высокие буруны над коварной банкой. Первый вал могучей стеной катился за нами в свете луны. Я крикнул товарищам, чтобы побереглись, и повернул плот, готовясь принять удар.
Вот волна настигла нас, плот вильнул кормой и взмыл над гребнем, который только что обрушился, так что все кругом клокотало и пенилось. Мы лихо перевалили через бурлящую круговерть, пропуская под собой могучий вал, нос плота задрался, и мы кормой вперед покатились вниз, в широкую ложбину. А там уже наступала следующая стена. Снова мы легко взмыли вверх и срезали гребень вала, приняв на себя сверкающий каскад воды. Удар развернул плот боком, и уже не было времени повернуть его обратно. Третья волна догнала плот, над клочьями пены выросла блестящая стена и начала рушиться. Не видя другого выхода, я ухватился покрепче за торчавший из крыши бамбуковый шест и затаил дыхание; нас бросило вверх, и все скрылось в кипящем водовороте. В следующую секунду «Кон-Тики» вынырнул на поверхность и медленно заскользил вниз по отлогому скату волны. И сразу море угомонилось. Три исполинских вала умчались вперед, а за кормой у нас в лунном свете качались, вытянувшись цепочкой, кокосовые орехи.
Последняя волна здорово тряхнула нашу хижину, так что Торстейн в своем радиоуглу шлепнулся на пол, да и остальные проснулись от устрашающего грохота и пробившихся снизу и сбоку холодных струй. В палубном настиле на носу слева зияла дыра, водолазную корзину сплющило о бревна, но все остальное было в сохранности. Мы так и не смогли выяснить, откуда явились эти могучие валы, разве что они были вызваны довольно обычными для этой области колебаниями океанского дна.
А два дня спустя мы попали в первый с начала плавания шторм. Началось с того, что пассат вдруг стих, а к легким, как пух, пассатным облачкам в бездонной сини над нами присоединилась, выйдя из-за южного горизонта, плотная черная туча. Отовсюду стали налетать неожиданные шквалики, и рулевой никак не поспевал за ними. Только развернет корму к ветру и наполнит парус, как новый порыв с другой стороны сминает гордую дугу, и обмякший парус неистово бьется, угрожая целости людей и груза. Внезапно на смену шкваликам подул со стороны тучи устойчивый ветер. Черные пряди нависли над плотом, одновременно ветер стал крепким, переходящим в штормовой.
Не успели мы оглянуться, как волны кругом достигли высоты пяти метров, а отдельные гребни шипели в шести, даже в семи метрах над ложбинами, вровень с топом нашей мачты. Согнувшись в три погибели, мы под вой и свист ветра в штагах выбрались из поскрипывающей хижины на палубу.
Чтобы защитить радиостанцию, мы накрыли хижину сзади и слева парусиной. Все, что лежало на палубе, хорошенько принайтовили, парус спустили и закрепили на рее.
Под сумрачным небом и океан стал темным и грозным, и. куда ни глянь, всюду белели барашки. Клочья пены длинными полосами расписали валы в направлении ветра, и всюду, где рушились гребни, на иссиня-черной поверхности бурлили зеленые шрамы. Ветер подхватывал брызги и нес соленый дождь. И когда каскады тропического ливня принялись хлестать океан, струйки, стекавшие у нас по лицу, тоже казались солоноватыми на вкус. Полуголые, продрогшие, мы возились на палубе, готовя плот к схватке со штормом.
Естественно, мы волновались, даже слегка оробели, когда увидели грозную тучу и ощутили ее дыхание. Но вот разыгрался шторм, и оказалось, что «Кон-Тики» играючи перелетает через любую волну. И поединок с непогодой вылился в увлекательный спорт, мы любовались яростью океана, с которой наш плот лихо справлялся, пробкой взлетая на гребни волн, так что бушующая стихия все время на несколько дюймов не дотягивалась до нас. В шторм у океана было много общего с горами. Как будто буря застигла нас среди голых седых вершин. Хотя мы находились в сердце тропиков, пляска плота на волнах, в вихрях водяной пыли, напоминала нам скоростной спуск по исчерченному сугробами склону.
От рулевого в такую погоду требовалось предельное внимание. Когда гребень волны поднимал нос плота, корма зависала в воздухе, чтобы в следующую секунду шлепнуться вниз и карабкаться на очередной вал. И если этот вал настигал нас прежде, чем предыдущая волна отпустила нос, могучие каскады с грозным ревом обрушивались на рулевого, но тут же корма опять взмывала вверх и бурлящая вода уходила в щели меж бревен, словно сквозь сито.
Мы подсчитали, что при обычной погоде, когда интервал между волнами составлял в среднем семь секунд, корма принимала в сутки около 200 тонн воды, которой мы почти не замечали, потому что она спокойно омывала босые ноги рулевого и так же спокойно уходила вниз между бревнами. Во время шторма на корму обрушилось за сутки больше 10 тысяч тонн воды — каждые пять секунд от нескольких десятков литров до двух-трех кубометров, когда и больше. С грохотом гребень падал на бревна, и рулевой оказывался по пояс в воде, чувствуя себя так, будто попал в бурную горную реку. Плот на секунду словно замирал на месте, весь дрожа, но тут же беспокойный груз, бурля, низвергался в море.
Герман то и дело выскакивал со своим анемометром из хижины, измерял силу шторма, иногда даже карабкался на качающуюся мачту, чтобы высоченные волны не мешали.
Только через сутки шторм понемногу сменился крепким ветром. Море по-прежнему кипело, и мы быстро шли на запад, почти все время под дождем.
Наконец ветер стих, зато рыба, казалось, осатанела. Море вокруг плота кишело акулами, тунцами, корифенами, у самых бревен мелькали ошарашенные бониты. На глазах у нас развернулась ожесточенная борьба за существование. Крутые спины вспарывали поверхность воды и ракетой неслись одна за другой; поминутно в волнах расплывались густые пятна крови. Схватка шла главным образом между тунцами и корифенами, причем корифена шла большими косяками и двигалась куда более прытко, чем обычно. Нападали тунцы. Глядишь — летит по воздуху семидесяти — восьмидесятикилограммовая зверюга, зажав в зубах кровавую голову корифены. Но хотя с каждой минутой становилось все больше корифен с зияющей раной в передней части спины, лишь некоторые из них спасались бегством, преследуемые тунцами, косяк в целом не отступал. Порой и на акул находило бешенство, они бросались на огромных тунцов и расправлялись с ними.
Мирные лоцманы словно в воду канули. То ли их сожрали разъяренные тунцы, то ли они попрятались в щелях между бревнами, а может быть, просто улепетнули подальше от поля битвы. Опустить голову в воду и посмотреть, куда они подевались, мы как-то не решались.
Пройдя на корму по сугубо личному делу, я пережил немалый испуг, после чего от души смеялся над собой. Мы давно привыкли к волнам в нашем ватерклозете, но когда вместе с волной меня шлепнуло сзади что-то большое, увесистое и холодное, я перестал соображать. И опомнился уже на штаге, по которому лез вверх, не сомневаясь, что на ягодице у меня висит акула. Корчась от смеха, рулевой Герман рассказал, что мне влепил хороший шлепок здоровенный тунец килограммов на семьдесят. Потом и Герман, и сменивший его Торстейн видели, как тот же упитанный баловник норовил вскочить на корму вместе с волной. Дважды он был уже на бревнах, но оба раза срывался за Сорт прежде, чем мы успевали поймать скользкую тушу.
А одна волна внесла прямо на палубу ошалевшую толстую бониту. С этой добычей и пойманным накануне тунцом мы решили порыбачить, чтобы навести хоть какой-то порядок в окружающем нас кровавом хаосе.
Слово дневнику:
«Первой схватила крючок и была извлечена на палубу шестифутовая акула. Только крючок забросили снова, его заглотала восьмифутовая акула, и мы вытащили ее. Опять забросили крючок, и опять подцепили шестифутовую акулу, уже подтянули ее к бревнам, но тут она сорвалась и ушла. Тотчас закинули снова, и началась схватка с восьмифутовой акулой. Мы втащили ее голову на бревна, но тут она перекусила все четыре жилы стального тросика и нырнула в глубину. Привязали новый крючок и вытащили на палубу семифутовую акулу. Теперь уже было опасно продолжать лов со скользких бревен на корме, ведь три акулы, которым давно полагалось испустить дух, все еще бились и щелкали зубами. Мы перетащили их за хвост на нос, и вскоре клюнул здоровенный тунец, с которым нам пришлось повозиться больше, чем с любой акулой, чтобы извлечь его из воды. Он оказался таким тяжелым, что никому из нас не было под силу поднять его за хвост.
А море по-прежнему кишело мечущимися рыбьими спинами. Еще одна акула попалась на крючок, но сорвалась прежде, чем мы смогли ее вытянуть. Зато потом мы успешно втащили на плот шестифутовую акулу. За ней последовала пятифутовая. Снова попалась шестифутовая, и мы ее вытащили. Забросили опять и вытянули семифутовую акулу».
После этого, куда ни ступи, на каждом шагу лежали акулы, которые судорожно колотили хвостом по палубе или стенкам хижины и яростно щелкали зубами. Усталые, измотанные после шторма, мы совсем запутались — какие акулы уже издохли, какие могли еще сомкнуть свою пасть, если их заденешь, и какие, сохранив силы, стерегли нас зелеными кошачьими глазами. Пять часов мы сражались с акулами и с тяжелым тросом, наконец устали и сдались; к этому времени вокруг нас на палубе валялось девять акул.
На следующий день было меньше тунцов и корифен, но акул не убавилось. Мы снова начали их вылавливать, но вскоре бросили, поняв, что стекающая с плота свежая акулья кровь только привлекает новых хищниц. Тогда мы выбросили в море все акульи туши и смыли с палубы кровь. Бамбуковые циновки были изодраны клыками и жесткой шкурой акул; мы отправили за борт те из них, которые сильнее всего пострадали, и настелили новые, чистые, золотистые из запаса, сложенного на носу.
В эти дни, ложась вечером спать, мы и с закрытыми глазами продолжали видеть кровь и свирепые, хищные акульи пасти. В ноздрях прочно засел запах акульего мяса. Кстати, это мясо можно было есть, оно напоминало треску, если сутки вымачивать его в морской воде, чтобы удалить аммиачный привкус. Но бониты и тунцы были несравненно вкуснее.
Впервые за все плавание я услышал, как кто-то из ребят, ложась вечером спать, заметил, что хорошо бы вытянуться на траве под пальмами на островке, а то уже надоели эти волны да холодные рыбины.
Погода, хотя и улучшилась, не была такой устойчивой, как прежде. То и дело внезапные резкие шквалики приносили бурные ливни, которым мы только радовались, потому что запасенная нами пресная вода протухла и отдавала болотом. В сильный дождь мы собирали воду с крыши, а сами выстраивались нагишом на палубе, наслаждаясь возможностью смыть с себя всю соль.
Рыбки-лоцманы суетились под плотом, как прежде, то ли наши старые знакомые, то ли новые спутники, приставшие к нам после побоища, — поди, угадай.
Двадцать первого июля вдруг опять заштилело. Стояла духота, полное безветрие, а по прошлому разу мы уже знали, чем это грозит. И в самом деле, после сильных шквалов с востока, запада и юга установился крепкий южный ветер, и снова из-за моря появились грозные черные тучи. Герман поминутно измерял скорость ветра, и прибор уже показывал 14–16 метров в секунду; внезапно спальный мешок Торстейна улетел за борт. Дальше все происходило куда быстрее, чем об этом можно рассказать.
Герман попытался схватить мешок на лету, сделал неверный шаг и сам упал в воду. Сквозь плеск волн мы услышали слабый голос, зовущий на помощь, потом увидели слева от плота голову Германа и машущую руку, а в море вокруг него извивалось что-то зеленое и непонятное. Он напрягал все силы, борясь с высокими волнами, которые отнесли его от плота. Торстейн — он в это время стоял на руле — и я, чем-то занятый на носу, первыми заметили Германа и похолодели от ужаса. С криком: «Человек за бортом!» — мы бросились к спасательным средствам. Остальные из-за шума волн даже не слышали голоса Германа, но все, как один, выскочили на палубу. Герман отлично плавал, и хотя нам было ясно, что дело идет о жизни и смерти, мы всей душой надеялись, что он сумеет догнать плот.
Торстейн, стоявший ближе всех, кинулся к бамбуковому вороту, на котором был намотан конец от спасательной лодки. Но конец заело — первый и единственный раз за все плавание. Все решали секунды. Германа отнесло к корме, теперь его единственной надеждой было подплыть к рулевому веслу и зацепиться за него. Увы, он попытался поймать лопасть, но она ушла вперед. И вот он уже барахтается там, откуда нам еще ни разу не удавалось что-нибудь выручить. Пока мы с Бенгтом спускали на воду лодку, Кнют и Эрик попытались бросить Герману спасательный жилет, который висел наготове на углу крыши. Но в этот день напор ветра был таков, что, как они ни старались, жилет относило обратно на плот. Одна тщетная попытка следовала за другой, а Герман уже был довольно далеко. Как ни силился он не отстать, с каждым новым порывом ветра расстояние росло. Он понял, что просвет будет неумолимо расти, но еще продолжал надеяться на лодку, которую нам наконец-то удалось столкнуть в воду. Пожалуй, без тормозящего линя мы сумели бы пробиться к нему навстречу, но возникал вопрос: сможет ли лодка потом догнать «Кон-Тики»? Так или иначе втроем на лодке еще можно на что-то рассчитывать, а одинокий пловец в океане заведомо обречен…
И вдруг мы увидели, как Кнют присел и бросился в воду. Держа в одной руке спасательный жилет, он плыл изо всех сил. Когда голова Германа показывалась на гребне, Кнюта не было видно, а когда появлялся Кнют, Герман пропадал из виду. Но вот две головы вместе поднялись на волне, друзья встретились, и оба крепко держались за жилет. Кнют помахал рукой. Мы уже успели вытащить обратно надувную лодку и теперь принялись лихорадочно выбирать линь спасательного жилета, не спуская глаз с темного силуэта, который корчился в воде позади наших друзей. Когда Кнют еще только пробивался it Герману, загадочное чудовище крепко его напугало, высунув из волны темно-зеленый треугольник. Один Герман знал, что это не акула и не какой-либо другой хищник, просто наполненный воздухом угол непромокаемого спального мешка. Впрочем, мешок недолго плавал, после того как мы благополучно вытащили Германа и Кнюта на плот.
Тот, кто похитил его, явно упустил добычу поценнее…
— Спасибо меня не было внутри, — сказал Торстейн и занял свое место у руля.
А вообще-то в тот вечер мы не были расположены острить. Еще долго нас не покидало чувство ужаса, правда, к нему примешивалась благодарность провидению за то, что нас на борту по-прежнему шестеро.
И Кнют услышал немало добрых слов не только от Германа — от всех нас.
Впрочем, долго размышлять над случившимся было некогда. Небо опять почернело, ветер дул все сильнее, и еще до ночи мы встретили новый шторм. Теперь спасательный жилет плыл на длинном лине за кормой плота, и, если кого-нибудь вдруг снесет за борт, будет, за что ухватиться. Потом спустилась ночь, и в кромешном мраке мы уже ничего не видели, только слышали, как завывает в снастях ветер, под напором которого хижина скрипела так, что казалось — она вот-вот улетит. Но хижина была накрыта брезентом и хорошо укреплена растяжками. Мы чувствовали, как «Кон-Тики» взлетает на шипящих гребнях, при этом бревна ходили ходуном, будто клавиши пианино. Нас всегда удивляло, почему из широких щелей между бревнами не бьет фонтаном вода, хотя они работали, словно могучие мехи, качая влажный воздух.
Пять суток шторм чередовался с крепким ветром, море вспахали глубокие борозды, полные водяной пыли, сорванной с гребней бурлящих серо-голубых валов, словно сплющенных могучими порывами ветра. Наконец среди туч появились синие просветы, а затем зловещие черные тучи и вовсе уступили место вечно побеждающему синему небу, шторм прошел дальше. На память о себе он оставил поломанное весло и лопнувший парус; гуары оборвали канаты снизу и болтались между бревнами. Но сами мы и весь наш груз были в полной сохранности.
Два шторма заметно расшатали плот. Большая нагрузка на крутых волнах растянула канаты, а непрерывное трение заставило их глубоко врезаться в бальсовую древесину. Мы были рады, что последовали инкским образцам, а не воспользовались стальным тросом, который в шторм попросту перепилил бы все бревна. И возьми мы для основы высушенную бальсу с максимальной плавучестью, плот давно затонул бы под нами, пропитавшись морской водой. А так сок свежерубленных стволов играл роль пропитки, которая не пускала воду внутрь. Правда, крепления настолько ослабли, что приходилось следить, как бы нога не угодила в щель между бревнами, где ее вполне могло раздавить, когда бревна сталкивались с огромной силой. На носу и на корме, где не было настила, приходилось пружинить ногами, когда мы стояли на двух соседних бревнах. К тому же на корме обросшие влажной зеленью бревна были скользкими, как листья банана. И хотя мы протоптали тропку, а для рулевого положили широкую доску, не так-то просто было устоять на ногах под ударами волн. Один из девяти стволов-великанов с левого борта день и ночь глухо бился о поперечины. И отчаянно скрипели канаты в месте скрещения мачт, которые опирались каждая на свое бревно и все время качались не в лад.
Кормовое весло мы скрепили длинными шинами из твердого мангрового дерева, а Эрик и Бенгт выступили в роли парусных мастеров. И вот уже голова Кон-Тики опять решительно смотрит в сторону Полинезии, и руль приплясывает на присмиревших волнах. Только гуары не хотели работать, как прежде. Ведь нижние крепления лопнули, поэтому гуары не могли противостоять напору воды и болтались под плотом туда-сюда. Добраться до канатов снизу было невозможно, они совсем обросли. Сняв палубный настил, мы обнаружили, что из главных канатов, скреплявших основу, лишь три не выдержали, да и то их перетерло неудачно уложенным грузом. Сразу было видно, что бревна впитали изрядно воды, зато груз в целом убавился и выходило примерно так на так. Мы уже израсходовали большую часть провианта и пресной воды, а радисты, кроме того, заметно сократили запас сухих батарей.
Подводя итоги после шторма, мы заключили, что плот не утонет и не рассыплется на отрезке, который еще отделял нас от островов. Теперь нас больше всего занимала совсем другая проблема: каким будет финиш нашего путешествия?
«Кон-Тики» будет упорно пробиваться на запад, пока не боднет носом скалу или что-нибудь еще, что преградит нам путь. Но плавание можно считать законченным лишь после того, как вся команда благополучно высадится на один из многочисленных полинезийских островов.
Пока что невозможно было сказать, где именно плот пристанет к суше. Мы находились одинаково далеко от Маркизского архипелага и от островов Туамоту и вполне могли пройти между ними, не увидев ни того, ни другого. Ближайший из Маркизских островов был в 300 морских милях на северо-запад, ближайший из группы Туамоту — в 300 милях на юго-запад, а ветер и течение в основном держались западного направления.
Между прочим, на северо-западе ближе всех был Фату-Хива, тот самый лесистый горный островок, на берегу которого, живя в свайной хижине, я услышал яркие рассказы старика о главном боге его племени — Тики. Если «Кон-Тики» прибьет к этому берегу, я встречу немало знакомых, но старик вряд ли будет среди них. Он, наверное, давно покинул этот мир, в душе надеясь увидеть самого Тики. Да, если нас понесет к Маркизскому архипелагу, мои друзья убедятся, что там от острова до острова довольно далеко и волны с ревом разбиваются об отвесные скалы, вся надежда на узкие долины, заканчивающиеся тесными бухтами.
Если же мы пойдем к Туамоту, там острова густо рассыпаны на большой площади. Правда, этот архипелаг еще называют «Низкие», или «Опасные острова», потому что он весь сложен из кораллов, представляя собой коварные рифы и поросшие пальмами атоллы, которые возвышаются всего на 2–3 метра над поверхностью моря. Кольцевые рифы ограждают барьером каждый атолл, затрудняя судоходство в этой области. Но хотя атоллы Туамоту сооружены коралловыми полипами, а Маркизские острова представляют собою потухшие вулканы, оба архипелага населяет один и тот же полинезийский народ, тут и там вожди считают Тики родоначальником.
Уже 3 июля, когда до Полинезии была еще тысяча миль, природа подсказала нам, как она некогда подсказывала первым выходцам из Перу, что впереди в океане где-то лежит суша. Покинув берег Перу, мы наблюдали небольшие стаи фрегатов, пока не ушли примерно на тысячу морских миль от материка. Около 100° западной долготы они исчезли, и после этого мы встречали качурок. И вот 3 июля, у 125° западной долготы, снова появились фрегаты. С этого дня мы часто их видели, когда высоко в небе, а когда над гребнями волн, где они перехватывали летучих рыбок, спасающихся от корифен. Эти фрегаты прилетели не из Америки, оставшейся у нас далеко за кормой, их дом был где-то впереди.
Шестнадцатого июля природа послала нам еще более яркое свидетельство: мы выловили девятифутовую акулу, и та отрыгнула большую непереваренную морскую звезду, которую недавно подобрала у какого-то берега.
А на следующий день нас навестили гости прямо из Полинезии. Торжественная минута — две крупные олуши появились над горизонтом на западе и вскоре очутились над нашей мачтой. Сделали несколько кругов, потом сложили свои полутораметровые крылья и закачались на воде рядом с плотом. Тотчас подскочили любопытные корифены и заметались вокруг плавающих птиц, однако ни одна из сторон не задевала другую. Первые живые посланцы как бы желали нам «добро пожаловать» в Полинезию. Вечером олуши не улетали, они остались отдыхать на море, и после полуночи мы слышали их хриплые крики, когда они парили вокруг мачты.
Летучая рыба, которую мы теперь собирали на палубе, принадлежала уже к другому, куда более крупному виду, знакомому мне по той поре, когда я ловил рыбу вместе с островитянами у берегов Фату-Хивы.
Трое суток несло нас к этому острову, но тут подул сильный норд-ост, и мы повернули в сторону атоллов Туамоту. Плот вышел из Южного экваториального течения, и сразу в мире течений начался ералаш. Сегодня они есть, завтра невесть куда пропали. Течения напоминали невидимые реки, разветвляющиеся в океане. Как течение посильнее, смотришь — и волна покруче, и температура воды ка градус пониже. О его направлении и силе мы могли также судить по разнице между исчислимой и действительной позицией нашего плота, ежедневно определяемой Эриком.
На самом пороге Полинезии ветер вдруг спал, передав нас слабому течению, которое, к нашему ужасу, держало курс на Антарктиду. Правда, мертвого штиля не было не только в этот раз, но и вообще за все плавание, а при слабом ветре мы ставили все паруса, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было дня, когда бы нас несло обратно к Америке, и самый маленький суточный переход составлял 9 морских миль (около 17 километров), средняя же скорость была 42,5 морских мили (78,5 километров) в сутки.
Но совесть не позволила пассату совсем бросить нас на финише. Он снова заступил на вахту и принялся подталкивать разболтанный плот, который готовился к завершающему броску в незнакомой части света.
С каждым днем росло количество морских птиц, бесцельно круживших над нашим плотом. Однажды вечером, когда солнце готовилось нырнуть в море, мы заметили, что птицы вокруг сильно прибавили ходу. Они спешили на запад, не замечая ни нас, ни летучих рыб. С верхушки мачты мы убедились, что, пройдя над нами, птицы дальше летят одним курсом. То ли им сверху было видно что-то, чего мы не могли разглядеть, то ли они просто следовали инстинкту. Во всяком случае они целеустремленно летели к ближайшему острову, к своим гнездам.
Мы повернули кормовое весло, чтобы плот шел туда же, куда исчезали птицы. И после того как стемнело, мы слышали крики отставших, которые шли под звездным небом тем же курсом, что и плот. Ночь выдалась чудесная, в третий раз после нашего старта была почти полная луна.
На следующий день в воздухе над нами стало еще больше птиц, но на этот раз нам не надо было дожидаться вечера, чтобы они указали путь, это сделало за них появившееся над горизонтом неподвижно стоящее облако. Остальные облака легкими хлопьями возникали на небе на востоке, увлекаемые пассатом, пересекали небосвод и исчезали за краем моря на западе. Так вели себя пассатные облака, когда я познакомился с ними на Фату-Хиве, и ту же картину мы день и ночь наблюдали в небе над «Кон-Тики». А одинокое облако над горизонтом на юго-западе не трогалось с места, торчало, будто столб пара, пропуская мимо пассатные. По-латыни такие неподвижные облака называют кумулюнимбус. Полинезийцы этого не знали, зато они знали, что под такими облаками находится суша. Тропическое солнце раскаляет песок, получается восходящий поток горячего влажного воздуха, который, достигнув более холодных слоев атмосферы, конденсируется.
Мы правили на это облако, пока оно не скрылось после заката. Ветер был ровный, и с закрепленным рулем «Кон-Тики», как всегда в хорошую погоду, сам держал курс. Теперь задачей вахтенного было сидеть, сколько хватит выдержки, на истертой до блеска дощечке на мачте, высматривая признаки земли.
Всю ночь в воздухе над нами стоял оглушительный птичий крик. И с неба светила почти полная луна.
Глава 7
Встреча с Полинезией
Первая встреча с землей. — Нас относит от Пука-Пука. — Праздник у рифа Ангатау. — У врат рая. — Первые полинезийцы. — Новая команда «Кон-Тики». — Кнют получает увольнение на берег. — Неравная схватка. — Нас опять относит в море. — Опасные воды. — От Такуме до Рароиа. — Нас несет к чертовой мельнице. — Во власти прибоя. — Крушение. — На коралловом рифе. — Мы находим необитаемый остров
В ночь на 30 июля на «Кон-Тики» царило какое-то особенное настроение. Возможно, неумолчный гомон морских птиц вызвал у нас ощущение, что назревает что-то необычное. Три месяца мы кроме шума моря слышали только монотонный, безжизненный скрип канатов, после этого многоголосый птичий хор казался таким земным и пылким. И луна, плясавшая вокруг впередсмотрящего на мачте, выглядела небывало большой и круглой. Глядя на нее, мы представляли себе пальмовые кроны и тропическую романтику; луна не была такой желтой, когда свет ее падал на холодных рыб в пустынном океане.
В 6 утра Бенгт покинул наблюдательный пункт, разбудил Германа и лег спать. Когда Герман полез на скрипучую, шаткую мачту, уже светало. А десять минут спустя он скатился вниз по веревочному трапу и дернул меня за ногу.
— Вставай, погляди на свой остров!
Лицо его сияло, и я выскочил на палубу, а за мной — Бенгт, который еще не успел по-настоящему заснуть. Один за другим мы вскарабкались на мачту. Кругом метались птицы. В воде отражалась сине-фиолетовая мгла — след отступающей ночи, но восточный горизонт весь зарделся, и румяное зарево быстро росло, а на юго-востоке на багровом фоне зари протянулась слабая тень, будто начерченная синим карандашом.
Земля! Остров! Мы пожирали его глазами, потом растормошили остальных членов экипажа, они ошалело выскочили из хижины и завертели головами в разные стороны, словно ожидали, что плот сейчас врежется в берег. Голосистые морские птицы перекинули в небе мост к далекому острову, который все яснее вырисовывался на горизонте, по мере того как заря из красной становилась золотой.
Нам сразу бросилось в глаза, что остров лежит не там, где он должен быть. Но острова не дрейфуют, значит, плот ночью попал в течение, идущее на север. Одного взгляда на море было достаточно, чтобы по ходу волн убедиться, что этот шанс уже упущен. Отсюда ветер не позволит нам пробиться к острову. Известно, в архипелаге Туамоту хватает сильных местных течений, которые сплошь и рядом меняют направление, столкнувшись с сушей, да еще на них влияют мощные приливы и отливы, устремляющиеся через рифы и лагуны.
Мы переложили руль, хотя отлично знали, что это ни к чему. В половине седьмого солнце вынырнуло из моря, и как всегда в тропиках, пошло прямо вверх. До острова теперь было несколько морских миль, над горизонтом словно ползла полоска леса. Деревья сплошной стеной выстроились вдоль узкого светлого бережка, такого плоского, что он поминутно пропадал за волнами. По вычислениям Эрика, это был Пука-Пука, первый из островов Туамоту. Лоция 1940 года, обе наши карты и обсервации Эрика совсем по-разному указывали координаты острова, но других островов по соседству не было, а потому не приходилось сомневаться в том, что это в самом деле Пука-Пука.
Никто на борту не давал волю своим чувствам. Развернув парус и переложив руль, мы молча смотрели, кто с мачты, кто с палубы, на эту землю, которая вдруг появилась на горизонте среди могучего, необозримого океана. Наконец-то перед нами было наглядное доказательство, что мы все эти месяцы продвигались вперед, а не просто качались вверх и вниз в центре одного и того же водного диска. Все мы были очень довольны, что достигли Полинезии, но все-таки было чуточку досадно, что манящий остров недосягаем, наш долгий дрейф на запад продолжается.
Сразу после восхода солнца над деревьями в левой части острова поднялся к небу столб черного дыма. Мы смотрели на него и представляли себе, как люди на Пука-Пука, проснувшись, готовят завтрак. Никто из нас тогда не подозревал, что островитяне заметили плот и дым был сигналом, приглашением пристать к берегу. Около семи часов наши просоленные ноздри уловили слабый запах горящих сучьев борао. Я сразу вспомнил костер на берегу Фату-Хивы… Еще через полчаса к нам донесся аромат сырых дров и леса. Остров уходил назад, и ветер приносил его дыхание. Мы с Германом минут пятнадцать висели ка мачте, упиваясь запахом листьев и трав. Да, это Полинезия, чудесное благоухание плодородной земли после 93 суток среди волн, во власти соленого ветра. Бенгт уже храпел в своем спальном мешке, Эрик и Торстейн, лежа в хижине, предались размышлениям, а Кнют выбегал на палубу понюхать запах листьев, потом опять брался за дневник.
В половине девятого Пука-Пука канул в воду за кормой, но с мачты мы еще до половины одиннадцатого видели ка горизонте синеватую полоску. Наконец и она исчезла, только застывший в небе кумулюнимбус говорил, где лежит Пука-Пука. Птицы отстали. Им больше нравилась наветренная сторона острова: вечером, набив живот, возвращаешься домой с попутным ветром. Заметно поредели ряды корифен, гораздо меньше лоцманов стало под плотом.
Ночью Бенгт заявил, что соскучился по столу и стульям, дескать, уже все бока протер, читая лежа. А вообще-то он был даже рад, что мы промахнулись на этот раз, ему еще осталось прочитать три книги. Торстейну вдруг захотелось яблока, а я проснулся среди ночи оттого, что ощутил чудесный запах котлет с луком. Увы, это была всего-навсего чья-то грязная рубаха.
На следующее утро мы увидели над горизонтом сразу два облака, словно два паровозных дымка. На карте мы прочли названия островов — Фангахина и Ангатау. При господствовавшем ветре Ангатау нас больше устраивал, и мы взяли курс ка него. Закрепили весло и наслаждались привольем и покоем тихоокеанских просторов. В хорошую погоду жизнь на бамбуковой палубе «Кон-Тики» была так хороша! И мы жадно впитывали впечатления, сознавая, что так или иначе путешествию скоро конец.
Трое суток мы держали курс на облако над Ангатау, погода стояла великолепная, рулевое весло само вело плот, и течения не строили нам никаких козней. Утром четвертого дня, сменив Германа, который нес вахту с четырех до шести, Торстейн услышал от него, что в лунном свете на горизонте можно было различить что-то вроде низкого острова. Тут и солнце взошло, и Торстейн разбудил нас криком:
— Земля прямо по курсу!
Мы выскочили наружу и бросились поднимать флаги.
Первым, на корме, — норвежский, за ним, на мачте, — французский: ведь мы подходили к французской колонии. Дальше последовали все остальные флаги из нашей коллекции — американский, перуанский, шведский, британский, не говоря уже о лихо развевавшемся на свежем ветру флаге «Клуба исследователей». Сразу было видно, что «Кон-Тики» принарядился к празднику. В самом деле, остров был расположен идеально, прямо по нашему курсу и лишь немногим дальше, чем Пука-Пука четыре дня назад. Солнце у нас за спиной быстро поднималось вверх, и мы увидели зеленый отсвет в мглистом небе над островом.
Это было отражение тихой, мелководной лагуны за барьерным рифом. Некоторые атоллы дают такое отражение на высоте в тысячи метров, и первобытные мореплаватели знали об их присутствии задолго до того, как остров показался на горизонте.
Около десяти часов мы сами взялись за руль, надо было решать, к какой части острова править. Уже можно было различить кроны отдельных деревьев; на фоне густой, темной листвы выделялись освещенные солнцем стволы.
Мы знали, что где-то между нами и берегом притаился под водой коварный риф, подстерегающий все, что несет течением к невинному островку. Риф подставлял ножку катящим с востока могучим валам, они поднимались на дыбы, теряли равновесие и, рокоча, обрушивались на острые зубцы. Сколько судов было затянуто яростными струями и разбито вдребезги о рифы Туамоту.
Но с моря эту волчью яму не было видно. Идя по ветру, мы видели только покатые лоснящиеся скаты волн, уходящих к острову. Сам барьерный риф и бурлящая вокруг него чертова мельница были скрыты от нас чередой высоких валов. Зато справа и слева от
острова, у северной и южной оконечностей, которые мы видели, так сказать, в профиль, море в нескольких стах метрах от берега кипело и пенилось.
Мы взяли курс по касательной к беснующимся бурунам У южной оконечности острова. Расчет был такой: дойдя туда, либо поплывем дальше вдоль барьерного рифа, пока не окажемся с подветренной стороны, либо еще раньше на мелком месте остановим дрейф самодельным якорем и будем ждать, пока переменится ветер и остров нас прикроет.
Около двенадцати часов мы увидели в бинокль, что растительность острова состоит из молодых зеленых кокосовых пальм, вздымающих плотно сомкнутые кроны над пышным волнистым кустарником. На берегу лежали на светлом песке огромные глыбы кораллового известняка. И никаких признаков жизни, если не считать парящих над пальмами белых птиц.
К двум часам мы приблизились уже настолько, что пошли вдоль острова совсем близко от коварного кольцевого рифа. Рокот прибоя напоминал гул водопада, а потом стало похоже, что с правого борта, в нескольких стах метрах от нас мчится неимоверной длины курьерский поезд. И мы видели, как высоко над гребнями изогнувшихся волн взлетают белые брызги.
На руле стояло два человека, но бамбуковая хижина не позволяла им увидеть, что происходит впереди. Ответственный за навигацию Эрик забрался на кухонный ящик и руководил рулевыми. Дело в том, что мы решили идти возможно ближе к опасному рифу. С мачты наблюдатель упорно высматривал проход или щель, сквозь которую можно было бы юркнуть. Течение шло вдоль рифа и не грозило нам никакими каверзами. Разболтанные гуары позволяли отклоняться до двадцати градусов от ветра, тоже направленного вдоль рифа.
Эрик вел плот зигзагами, приближаясь к рифу, насколько позволял прибой, а мы с Германом сели в резиновую лодку и пошли на длинном буксире. И когда плот делал вираж к острову, нас увлекало волнами так близко к рокочущему рифу, что мы видели падающую бутылочно-зеленую стену воды. Отступая, волны обнажали риф, словно баррикаду из ржаво-красной железной руды. Насколько хватает глаз, нигде не видно прохода или хотя бы щели. Тут Эрик разворачивал парус, выбирая левый и потравливая правый шкоты, рулевые перекладывали весло, и «Кон-Тики» выходил из опасной зоны до следующего галса.
Каждый раз, когда «Кон-Тики», зайдя к рифу, делал поворот, у нас с Германом душа уходила в пятки, потому что мы чувствовали, как возрастает ярость волн. И каждый раз нам казалось, что Эрик переборщил, не вывести ему «Кон-Тики» — прибой понесет плот на свирепый красный риф. Но Эрик уверенно совершал маневр, и «Кон-Тики» благополучно уходил в море, подальше от коварных щупалец прибоя. И все время мы продвигались вперед, причем настолько близко от берега, что могли разглядеть каждую мелочь. Увы, кипящий «крепостной ров» делал эту райскую красоту недосягаемой для нас.
Часов около трех пальмовая роща расступилась, и в широкий просвет мы увидели голубое зеркало лагуны. Но барьерный риф все так же стоял плотной стеной, зловеще скаля кроваво-красные клыки. Прохода не было, а там и роща опять сомкнулась; мы продолжали идти вдоль острова, подгоняемые ветром. Дальше просветы следовали один за другим, позволяя заглянуть в сердце атолла, где, будто тихое лесное озеро, простерлась изумительная сверкающая лагуна, окаймленная светлыми пляжами и гибкими кокосовыми пальмами. Восхитительный зеленый островок образовал широкое песчаное кольцо вокруг манящей лагуны; в свою очередь остров был окружен ржаво-красным рифом, который играл роль меча, охраняющего врата в царство небесное.
Целый день мы шли зигзагами вдоль Ангатау, и до прелестей его было рукой подать. Солнечные лучи ласкали пальмовую рощу, остров был олицетворением радости и счастья. Мы уже настолько отработали свой маневр, что Эрик достал гитару и, надев широкополую перуанскую шляпу, начал распевать чувствительные полинезийские мелодии. Тем временем Бенгт подал вкусный обед. Мы раскололи кокосовый орех из перуанского запаса и выпили его сок в честь свежих орехов на пальмах за рифом. Покой, который излучали ярко-зеленые, прочно вросшие в землю пальмы, парящие над кронами белые птицы, тихая гладь лагуны, мягкий песчаный бережок и свирепость красного рифа, наполняющего воздух канонадой и барабанным боем, — все это производило сильнейшее впечатление на нашу шестерку мореплавателей. Впечатление на всю жизнь… Да, вне сомнения, мы подошли к цели: более типичного полинезийского острова не придумать. Независимо от того, удастся ли нам сегодня причалить, мы достигли Полинезии, необозримый океан остался позади.
Так уж вышло, что этот праздничный день у берегов Ангатау был девяносто седьмым днем нашего плавания. Девяносто семь суток — срок, который мы наметили в Нью-Йорке как минимальный, при абсолютно идеальных условиях, чтобы достичь ближайших островов Полинезии.
Около пяти часов мы увидели на берегу между деревьями две хижины с крышами из пальмовых листьев. Но дыма не было видно, вообще никаких признаков жизни.
В половине шестого мы снова подошли к рифу. Осталось немного до западной оконечности острова, надо было еще раз напоследок осмотреть барьер: нет ли прохода. Солнце склонилось так низко, что слепило глаза, но все-таки там, где волны разбивались о риф в нескольких стах метрах от последнего мыса, можно было различить в воздухе небольшую радугу. А мыс выступал силуэтом на фоне неба. Мы заметили на берегу по соседству гроздь каких-то черных пятен. Вдруг одно пятно медленно двинулось к воде, а еще несколько ринулись к лесу. Люди! Мы прижались поближе к рифу, ветер ослаб, и было похоже, что плот скоро окажется с подветренной стороны острова. Вот спускают на воду лодку, двое садятся в нее и гребут там, за рифом. Пройдя немного вдоль коралловой гряды, они повернули лодку, она вошла в проход и, взлетая на гребнях, направилась к нам.
Так вот он где, долгожданный проход, вот она — наша единственная надежда! Между стволами мы теперь видели уже всю деревню. Но тени от деревьев стали заметно длиннее…
Гребцы приветственно помахали нам, мы поспешили ответить тем же, и они прибавили ход. Лодка представляла собой полинезийский аутригер, и два смуглых гребца в трусах и майках работали веслами. Как-то мы объяснимся? На плоту только я знал несколько слов на маркизском диалекте. Конечно, я жил на Фату-Хиве, но в Скандинавии не больно-то попрактикуешься в полинезийском языке.
Поэтому мы облегченно вздохнули, когда, причалив к плоту, гребцы вскочили на бревна и один из них, широко улыбаясь, подал нам руку с приветственным возгласом:
— Гуд найт!
— Гуд найт, — удивленно ответил я. — Ду ю спик инглиш?
Он опять улыбнулся и кивнул:
— Гуд найт, гуд найт.
Этим исчерпывалось его знание иностранных языков, которое явно производило огромное впечатление на второго, более робкого островитянина — он стоял сзади и с восхищенной улыбкой глядел на своего просвещенного друга.
— Ангатау? — спросил я, указывая на остров.
— Х’ангатау, — подтвердил туземец.
Эрик гордо кивнул головой. Он оказался прав, верно определил по солнцу, где мы находимся.
Я собрался с духом:
— Маимаи хее июта.
Если я правильно запомнил, чему меня учили на Фату-Хиве, это означало: «Хотеть идти к берегу».
Они дружно указали на неразличимый с плота проход в рифе, и мы переложили руль — попытаем счастья. В ту же минуту подул порывистый ветер со стороны острова. Над лагуной повисла дождевая тучка. Ветер норовил отогнать нас от рифа, и тут выяснилось, что «Кон-Тики» недостаточно слушается руля, чтобы выйти к проходу. Мы швырнули в воду якорь, но конец оказался коротким. Надо браться за весла, да поживей, пока ветер не взялся за нас всерьез. Мы поспешили убрать парус и взяли каждый по веслу. Я предложил весла и островитянам, которые наслаждались полученными от нас сигаретами. Однако они затрясли в ответ головой и снова показали на проход, с явным недоумением на лице. Я показал знаком, что надо всем грести и повторил: «Хотеть — идти — к берегу!» Тогда просвещенный полинезиец нагнулся и покрутил в воздухе правой рукой, сопровождая этот жест звуком:
— Бррррррррр.
Ну конечно, предлагает нам запустить мотор. Они решили, что находятся на борту необычного судна с глубокой осадкой. Мы провели их на корму, чтобы они могли на ощупь убедиться, что там одни бревна — ни корпуса, ни винта. Побросав от изумления сигареты, туземцы заняли место у борта, и вот уже по четыре человека с каждой стороны орудуют веслами. В это время солнце отвесно ушло в море за мысом, и порывы ветра с острова стали заметно чувствительнее. Мы явно не двигались с места. Туземцы прыгнули обратно в лодку и исчезли. Смеркалось, и мы отчаянно гребли вшестером, чтобы нас не унесло спять в море.
Тьма уже поглотила остров, когда за рифом показались четыре лодки. И вот на плоту целый отряд полинезийцев, здороваются, получают сигареты. С такими опытными помощниками мы не пропадем, они не дадут ветру унести плот в море, сегодня вечером быть нам на берегу!
Мы живо впрягли все четыре аутригера в плот, и они раскинулись веером впереди, будто собачья упряжка. Кнют прыгнул в надувную лодку и занял место вожака, а мы сидели у бортов «Кон-Тики» и работали веслами. И начался поединок с восточным ветром.
Луна еще не взошла, стоял кромешный мрак, и дул свежий ветер. На берегу жители деревни натаскали хворосту и разожгли большой костер, чтобы указать нам направление на проход. Рокот прибоя отдавался во тьме, словно гул водопада, и поначалу сила звука росла.
Мы не могли видеть свою артель буксировщиков, но слышали, как они, не жалея глоток, подбадривают себя воинственными песнями. Кнют старался не отставать, в перерыве между полинезийскими куплетами мы слышали его одинокий голос, распевающий «Вперед, отважные». Чтобы хаос был полным, мы на плоту затянули «Том Браунз бэби хэд э пимпл он хиз ноуз» («У крошки Тома Брауна был прыщик на носу»). Смеясь и распевая, белые и коричневые навалились на весла.
Настроение было отменное. Девяносто семь суток. Мы в Полинезии. Сегодня вечером в деревне будет праздник. Жители кричали и ликовали. Гости на Ангатау появлялись только раз в год, когда с Таити приходила шхуна за копрой. Да, сегодня у костра на берегу будет весело!
Но этот проклятый ветер не уступал. Мы налегали на весла так, что все суставы ныли. И не давали ветру снести плот, но костер не приближался, и прибой ревел, как прежде. Постепенно пение смолкло. Все притихли, занятые греблей. Костер не двигался, только покачивался в лад подбрасывавшим нас волнам. Часы показывали девять, поединок длился уже три часа. И вот нас мало-помалу начинает сносить. Мы выдохлись.
Нам удалось втолковать островитянам, что нужны еще люди. Они ответили, что людей-то на берегу хватает, а вот лодок больше на острове нет.
Из темноты показался Кнют. Ему пришла в голову идея: можно подвезти несколько мужчин с берега на надувной лодке. В крайнем случае человек пять-шесть поместятся.
Я возразил, что это слишком рискованно. Кнют не знает здешних вод, ему ни за что не выйти к проходу в такую тьму. Тогда он предложил взять с собой предводителя, пусть покажет дорогу. Мне и эта мысль не очень-то пришлась по душе, ведь им еще никогда не доводилось форсировать опасный, узкий проход на неповоротливой надувной лодке. Поэтому я попросил Кнюта пригласить предводителя, который сидел на одном из аутригеров. Послушаем, что он скажет. Было очевидно, что снос остановить нам не под силу.
Кнют ушел во тьму за предводителем. Ждем — ни Кнюта, ни предводителя. Мы покричали и услышали в ответ нестройные возгласы гребцов. Кнют словно в воду канул. И мы поняли, что в спешке и неразберихе Кнют все перепутал, пошел вместе с островитянином к берегу. Теперь кричи не кричи, не услышит он ничего за оглушительным рокотом прибоя на рифе.
Мы живо отыскали сигнальный фонарь, один из членов экипажа взобрался на мачту и стал передавать азбукой Морзе: «Вернись. Вернись».
Но никто не возвращался.
Два человека выбыли, третий сидел с фонарем на мачте, и плот начало сносить сильнее; и ведь мы крепко устали. Стоило бросить в воду несколько щепочек, и было видно, что плот медленно, но верно идет не туда, куда нам надо. Костер казался все меньше, и прибой ревел уже не так грозно. И чем дальше мы выходили из-под прикрытия леса, тем сильнее был напор неутомимого восточного ветра. Старый знакомый, вот так он дул и в открытом море. И мы поняли, что поединок проигран. Нас несло в океан. Но весла бросать никак нельзя, надо, сколько хватит сил, грести, тормозить снос, пока Кнют не вернулся на борт.
Прошло пять минут. Десять минут. Полчаса. Костер стал совсем маленьким, порой он вовсе исчезал, когда мы съезжали в ложбины между волнами. Прибой все глуше рокотал вдалеке. Показалась луна, мы разглядели ее сверкающий диск за пальмами на берегу, но небо было мглистое, наполовину затянутое тучами.
Мы услышали, как островитяне совещаются, потом один аутригер вдруг отдал конец и скрылся. Гребцы на остальных трех лодках подустали и оробели, они уже не могли работать в полную силу. «Кон-Тики» уходил в открытое море.
Оставшиеся три буксирных конца ослабли, лодки со стуком уткнулись в борт. Один из полинезийцев перебрался на плот и, тряхнув головой, спокойно произнес:
— Июта. К берегу.
Он озабоченно посмотрел на костер, который подолгу пропадал за валами, лишь иногда мелькая вдали, словно искра. Мы быстро удалялись. Шум прибоя заглох, только море плескалось, как прежде, да скрипели на разные голоса канаты.
Мы щедро одарили наших помощников сигаретами, и я поспешно написал записку, чтобы они передали ее Кнюту, если разыщут его. «Попроси, чтобы двое подбросили тебя на аутригере, лодку возьмете на буксир. Ни в коем случае не выходи один на лодке».
Мы рассудили, что дружелюбные островитяне привезут Кнюта на аутригере, если только посчитают безопасным выходить сейчас в море. А не посчитают, тогда со стороны Кнюта было бы безумием в одиночку выходить в океан с надувной лодкой, вдогонку за непокорным плотом.
Островитяне взяли записку и исчезли в ночи. Напоследок мы услышали, как звонкий голос крикнул:
— Гуд найт!
Менее поднаторевшие в иностранных языках одобрительно что-то пробурчали, затем все посторонние звуки смолкли, будто тысяча морских миль отделяла нас от ближайшей суши.
Грести вчетвером при полном ветре в открытом море было бесполезно, но сигналить с мачты мы не переставали. Передавать «вернись» мы уже не решались, просто включали и выключали фонарь через равные промежутки времени. Царил кромешный мрак, луна лишь изредка проглядывала между тучами. Не иначе над нами навис ангатаусский кумулюнимбус.
В десять вечера мы окончательно потеряли надежду вновь увидеть Кнюта. Сидя на краю плота, молча пожевали галеты. К все время по очереди слали световые сигналы с мачты, такой одинокой и голой без широкого паруса с головой Кон-Тики.
Мы были готовы сигналить всю ночь, покуда не станет ясно, где Кнют. Мы не допускали мысли, что его могло накрыть прибоем. Кнют всегда выходил сухим из воды, будь то тяжелая вода или буруны, и конечно, он жив. Но уж очень это нелепо, если он останется с полинезийцами на уединенном острове в Тихом океане. Совсем глупо. После такого плавания только понюхать земли, высадить человека в глухом уголке Полинезии, а самим пойти дальше… Не успели первые полинезийцы ступить на борт, как им пришлось уносить ноги, чтобы не оказаться жертвами безудержного стремления «Кон-Тики» на запад. Черт те что. И канаты скрипели как-то особенно нудно. Никто из нас не помышлял о сне.
Часы показывали половину одиннадцатого. Бенгт спускался с качающейся мачты, отсидев свое. Вдруг мы вздрогнули. Из темноты к нам явственно донеслись чьи-то голоса. Вот опять. Полинезийская речь. Мы закричали «эгей!» что было мочи. В ночи отдалось ответное «эгей!», и мы узнали голос Кнюта! От радости мы были готовы, как говорится, съесть собственную шляпу, усталость прошла, мрачное настроение разрядилось. Подумаешь, нас отнесло от Ангатау — в океане полно других островов. Теперь эта неугомонная девятка бальсовых бревен может дрейфовать, куда угодно, была бы наша шестерка в полном составе на борту.
Прыгая через валы, из мрака вынырнули три аутригера, и Кнют первым вскочил на палубу старого доброго «Кон-Тики», за ним последовали шесть полинезийцев. Долго беседовать было некогда, надо поскорей вручить подарки, чтобы они могли пуститься в опасный путь обратно на остров. Не видя ни огней, ни берега — даже звезды едва можно было различить, — гребцы могли руководствоваться только ветром и волнами, идти против них, пока не покажется костер. Мы щедро вознаградили их съестным, сигаретами и другими подарками, и они горячо пожали нам руки на прощание.
Островитяне явно беспокоились за нас, жестами они дали нам понять, что на западе нас подстерегает грозный риф. Предводитель со слезами на глазах поцеловал меня в щеку, да так горячо, что я мысленно поблагодарил судьбу за свою пышную бороду. Затем они вернулись в лодки, и мы снова остались одни на плоту, в полном составе.
Предоставив «Кон-Тики» дрейфовать, как ему заблагорассудится, мы слушали рассказ Кнюта.
Неправильно истолковав мое распоряжение, Кнют взял к себе в надувную лодку предводителя гребцов и пошел с ним к берегу. Полинезиец сам работал веслами, ведя лодку к проходу в рифе. Вдруг Кнют, к своему удивлению, увидел сигналы с «Кон-Тики», предлагающие ему вернуться. Жестом он показал гребцу, что надо поворачивать, но тот не подчинился. Кнют сам ухватился за весла, но полинезиец оттолкнул его руки. Затевать потасовку рядом с ревущим во мраке рифом было нелепо. Они вприпрыжку прошли сквозь проход и продолжали идти уже под прикрытием рифа, пока волна их не посадила на глыбу коралла на берегу. Множество рук тотчас подхватило резиновую лодку и оттащило ее подальше от воды, и Кнют очутился под пальмами, окруженный толпой островитян, тараторивших что-то на непонятном для него языке. Смуглые босые мужчины, женщины и дети всех возрастов обступили гостя, щупали его рубашку, штаны. На них тоже была европейская одежда, но старая, изношенная. Белых на острове не было.
Кнют обратился к самым крепким парням, жестами пригласил их выйти с ним на лодке. Тут появился какой-то толстый здоровяк, не иначе вождь, потому что на нем была старая форменная фуражка и говорил он громко и властно. Все расступились, пропуская его. Кнют толковал по-норвежски и по-английски, что ему нужны люди, надо добраться до плота, пока нас не унесло совсем. Но вождь его не понимал и только улыбался в ответ. Как Кнют ни возражал, гомонящая толпа увлекла его за собой в деревню. Здесь его встретили собаки, свиньи и куры; очаровательные молодые полинезийки поднесли ему свежие фрукты. Островитяне явно задумали потрафить Кнюту, но он не поддавался ни на какие соблазны, с грустью Думая об уходящем на запад «Кон-Тики». Понять их было не трудно. Они истосковались по людям из внешнего мира, и они знали, что у белого человека на судне есть всякая всячина. Нужно только задержать Кнюта, тогда и мы причалим к берегу со своим необычным судном. Белые ни за что не бросят своего товарища на таком уединенном островке, как Ангатау.
После всяких приключений Кнюту удалось все-таки настоять на своем, и сквозь толпу почитателей и почитательниц он начал протискиваться к надувной лодке. На международном языке жестов он втолковал островитянам, что должен непременно возвратиться на это странное судно, которое почему-то упорно стремилось дальше.
Тогда полинезийцы пустились на хитрость и знаками показали Кнюту, будто мы уже идем к берегу за мысом. Кнют растерялся, однако тут послышались громкие голоса у костра, в который женщины и ребятишки непрерывно подбрасывали хворост. Это вернулись три аутригера, и гребцы передали Кнюту нашу записку. Отчаянное положение! В записке говорилось, чтобы он не выходил один в море, а островитяне наотрез отказывались проводить его.
Разгорелся шумный и жаркий спор. Видевшие плот отлично понимали, что удерживать Кнюта, чтобы привлечь остальных, нет смысла. В конце концов Кнют посулами и угрозами убедил гребцов помочь ему догнать «Кон-Тики». И с надувной лодкой на буксире они ушли в тропическую ночь. А возле затухающего костра стояла притихшая толпа, провожая взглядом своего светлокожего друга, который исчез так же внезапно, как появился.
Выйдя в море, провожатые Кнюта заметили с гребней мигание нашего фонаря. Узкие, стройные полинезийские челны с острым противовесом для устойчивости ножом резали волну, и все-таки для Кнюта прошла вечность, прежде чем он снова ступил на толстые бревна «Кон-Тики».
— Что, хорошо на берегу? — завистливо спросил Торстейн.
— Еще как! Ты бы видел, какие там девушки! — поддразнил его Кнют.
Мы не стали поднимать парус, весла тоже оставили в покое, забрались в хижину и уснули как убитые.
Трое суток мы шли дальше, не видя никаких признаков суши.
Нас несло прямо на грозные рифы Такуме и Рароиа, которые выстроили на нашем пути барьер длиной в 70–80 километров. Мы делали все, чтобы обойти с севера эти коварные гряды, и нам казалось, что это удастся, пока вахтенный ночью не ворвался в хижину с криком: «Подъем!»
Ветер переменился. Он гнал плот на риф Такуме. Шел дождь, видимость была равна нулю. А до рифа оставалось совсем немного.
Тут же мы устроили совет. Дело шло о жизни и смерти. Теперь нечего было и думать о том, чтобы обогнуть риф с севера, оставалось попытаться сделать это с юга. И, переложив парус и руль, мы легли на рискованный курс, подгоняемые неустойчивым северным ветром. Если опять подует с востока прежде, чем мы минуем восьмидесятикилометровый фасад рифов, нам уже не спастись от ярости прибоя.
На случай аварии был разработан план, как себя вести. Во что бы то ни стало надо удержаться на плоту. На мачту не влезать, оттуда нас стряхнет, как перезревшие плоды, будем изо всех сил цепляться за штаги, когда плот захлестнет волнами. Резиновую лодку положили на палубе, а в нее погрузили и покрепче привязали маленькую герметичную радиостанцию, немного провианта, фляги с пресной водой и аптечку. Если при форсировании рифа мы останемся без снаряжения, этот аварийный запас вынесет на берег независимо от нас. На корме «Кон-Тики» мы укрепили длинный канат с поплавком: его тоже выбросит, и мы попробуем подтянуться к берегу, если плот застрянет на рифе. После совета мы снова улеглись спать, оставив под дождем рулевого на вахте.
Пока держался северный ветер, мы медленно, но верно дрейфовали на юг мимо притаившегося за горизонтом кораллового рифа. Но однажды под вечер ветер стих, а вернулся он уже с востока. По расчетам Эрика, нас снесло на юг так далеко, что появилась надежда обойти южную оконечность рифа Рароиа. А там попытаемся зайти сзади и укрыться с подветренной стороны, пока нас не отнесло дальше, к другим рифам.
Когда спустилась ночь, мы отметили сотые сутки своего пребывания в океане.
Среди ночи я проснулся от какого-то тревожного предчувствия. Волны вели себя как-то странно — «Кон-Тики» шел не так, как обычно в таких же условиях. Мы научились сразу улавливать перемену, если бревна начинали колыхаться по-другому. Подумав, что сказывается откат от встречи волн с приближающимся берегом, я поминутно выходил и карабкался на мачту. Океан, один океан кругом. Но уснуть я уже не смог. Время тянулось очень медленно.
На рассвете, часов около шести, Торстейн, дежуривший на мачте, скатился вниз и сказал, что прямо по курсу вдали видно цепочку островков с пальмами. Первым делом мы переложили руль так, чтобы идти возможно южнее. Судя по всему, Торстейн увидел коралловые островки, которые выстроились в круг за рифом Рароиа, будто бусы в ожерелье. Значит, нас опять подхватило течение, идущее на север.
К половине восьмого вдоль всего горизонта на западе открылась гирлянда островов. Самые южные из них лежали прямо по носу, остальные тянулись справа, теряясь вдалеке на севере. До ближайших островов оставалось 4–5 морских миль.
Одного взгляда с макушки мачты было довольно, чтобы убедиться: хотя нос плота и смотрел на крайний южный островок гирлянды, боковой снос был настолько силен, что мы шли не прямо, а наискосок, в сторону рифа. Будь наши гуары в порядке, мы еще могли бы попытаться обойти гряду. А нырнуть и укрепить вихляющиеся доски новыми растяжками мы не смели: возле самого плота увивались акулы.
Стало очевидно, что нам осталось плыть на «Кон-Тики»! от силы часа два. За это время надо было подготовиться к неминуемому крушению на рифе. Каждому было сказано, что делать в решающую минуту, каждый точно знал свои обязанности, чтобы не метаться и не мешать друг другу, когда все будут решать секунды. «Кон-Тики» переваливал через волны, вверх-вниз, вверх-вниз, и ветер упорно тащил нас к барьерному рифу. Не оставалось никакого сомнения, что частая неровная волна вызвана откатом валов, которые попусту колотятся о коралловую гряду.
Мы не спускали парус, еще надеялись, что удастся обогнуть риф. Приближаясь бортом к нему, мы увидели, как гирлянда островков смыкается с торчащей из моря рваной грядой, похожей на мол, на котором бурлила белая пена и высоко вверх взлетали кипящие каскады.
Кольцевой риф Рароиа напоминает овал с поперечником в 40 километров, его длинная сторона обращена на восток, откуда мы приближались вместе с волнами. Ширина самого барьера всего несколько сот метров, а за ним тянется цепочка идиллических островков, окруживших тихую лагуну.
Не очень-то приятно было смотреть, как голубые валы! Тихого океана разбиваются вдребезги впереди и с обеих сторон, сколько хватает глаз. Я знал, что нас ожидает, уже бывал на Туамоту — стоял в безопасности на берегу и любовался грозным зрелищем на востоке, где могучий океанский прибой обрушивался на барьерный риф. На юге из-за горизонта появлялись все новые рифы и острова. Видно, мы очутились перед самым фасадом коралловой стены.
На борту «Кон-Тики» шли последние сборы. Все ценные Для нас предметы внесли в хижину и прочно привязали. Документы и записи уложили в непромокаемые мешочки вместе с фотопленкой и другими вещами, боящимися воды. Хижину накрыли парусиной, которую укрепили прочными растяжками. Когда стало ясно, что столкновения никак не избежать, мы подняли палубный настил и секачами перерубили крепления гуар. Мы основательно помучились, вытягивая доски, они густо обросли морскими уточками.
Зато без них плот сидел не так глубоко, мог легче перевалить через риф. Без гуар, с убранным парусом плот совсем развернулся боком и превратился в игрушку ветра и волн.
Привязав самый длинный конец к самодельному якорю, мы закрепили его за колено мачты, опирающееся на левый борт. Когда бросим якорь, «Кон-Тики» войдет в прибой кормой вперед. Сделали мы его из пустых канистр, набитых израсходованными батареями и прочим тяжелым утилем, и кусков мангрового дерева.
Приказ номер первый (и последний) гласил: «Держаться за плот!» Что бы ни случилось, надо было оставаться на плоту, пусть девять могучих бревен принимают на себя удары рифа. С нас довольно предстоящего поединка с валами. Прыгнешь за борт — окажешься во власти прибоя, и пойдет тебя швырять на острые зубья. Резиновую лодку круглые волны опрокинут, и если мы в нее влезем, она с таким грузом будет разорвана в клочья о риф. А бревна рано или поздно вынесет на берег, и нас вместе с ними, если сумеем удержаться на плоту.
Я велел также всем обуться, впервые за сто суток, а также приготовить спасательные жилеты. Правда, от жилетов мы не ждали особой пользы, ведь, если свалишься за борт, тебя разобьет о кораллы раньше, чем ты утонешь.
Время еще позволяло взять свои паспорта и поделить оставшиеся доллары. Вообще мы не могли еще пожаловаться на нехватку времени.
Потянулись напряженные часы. Нас неумолимо несло боком все ближе и ближе к рифу. На борту царило подчеркнутое спокойствие, мы молча передвигались по палубе, каждый был занят своим делом. Серьезное выражение лиц говорило, что никто не обманывается насчет того, что нам предстоит. А отсутствие нервозности свидетельствовало, что все успели проникнуться доверием к плоту. Если он одолел океан, то как-нибудь сумеет доставить нас живыми на берег.
В хижине громоздились картонки с провиантом и прочий груз. Торстейн с трудом втиснулся в радиоуголок и включил передатчик. 8 тысяч километров отделяло нас от нашей базы в Кальяо и военно-морского училища, с которым мы все время держали связь; еще больше было до коротковолновиков в США. Но вышло так, что накануне нам удалось связаться с опытным радиолюбителем на острове Раротонга в архипелаге Кука, и вразрез с обычным порядком был назначен дополнительный сеанс на утро. И вот теперь, когда волны несли нас к рифу, Торстейн взялся за ключ и начал вызывать Раротонгу.
В 8.15 в вахтенном журнале «Кон-Тики» появилась запись:
«Медленно приближаемся к суше. Право по борту можно простым глазом различить отдельные деревья на берегу».
8.45:
«Ветер опять переменился не в нашу пользу, у нас нет надежды обойти риф. Никакой нервозности на борту, идут торопливые приготовления. На рифе перед нами виднеется что-то похожее на остов разбитого парусника, но, может быть, это просто куча плавника».
9.45:
«Ветер несет нас к предпоследнему острову за рифом. Ясно видим весь коралловый риф, белый с красными пятнами кольцевой барьер, чуть выдающийся над водой и окаймляющий все острова. Вдоль всего рифа взлетают в воздух бурлящие волны прибоя. Сейчас Бенгт подает сытный горячий завтрак — последний перед великим испытанием! Да, это разбитое судно лежит там, на рифе. Мы подошли уже так близко, что различаем контуры других островов за прикрытой рифом блестящей гладью лагуны».
Глухой рокот прибоя надвигался все ближе, весь риф гудел, и казалось, это звучит неистовая барабанная дробь, предвещая волнующий финиш «Кон-Тики».
9.50:
«Подошли очень близко. Дрейфуем вдоль рифа. Осталось всего несколько сот метров. Торстейн держит связь с радистом на Раротонге. У нас все готово. Пора убирать вахтенный журнал. Настроение у всех бодрое, нам будет нелегко, но мы справимся!»
Спустя несколько минут якорь пошел в воду и лег на грунт, после чего «Кон-Тики» развернулся кормой к прибою. Так мы продержались несколько драгоценных минут, пока Торстейн лихорадочно стучал ключом. Раротонга отозвалась. Прибой громыхал, волны дыбились. На палубе кипела работа, и Торстейн наконец передал свое сообщение. Он предупредил, что нас несет на риф Рароиа. И попросил Раротонгу каждый час слушать на этой же частоте. Если мы будем молчать больше тридцати шести часов, пусть известит норвежское посольство в Вашингтоне. Торстейн закончил словами: «О. К. 50 yards left. Here we go. Good bye». («Вас понял. Осталось 50 ярдов. Связь кончаем. До свидания».) Потом он выключил станцию, Кнют спрятал бумаги, и оба живо выбрались на палубу. Якорь уже не держал.
Все сильнее ярились волны, разделенные глубокими ложбинами, плот бросало вверх и вниз, вверх и вниз, с каждым разом выше и выше.
Опять прозвучала команда:
— Держаться, не думать о грузе, только держаться!
Бушующие каскады были так близко, что мы уже не слышали ровного гула. Теперь до нас доносился раздельный грохот всякий раз, когда ближайший вал обрушивался на риф.
Все стояли наготове, и каждый держался за ту растяжку, которая ему казалась надежнее. Лишь Эрик в последнюю минуту полез в хижину, у него остался невыполненным один пункт программы — он еще не нашел своих ботинок!
На корме никого не было, ведь удар должен был прийтись на нее. К тому же толстые штаги, соединявшие топ мачты с кормой, нельзя было считать надежными. Если мачта рухнет, они повиснут над рифом. Герман, Бенгт и Торстейн влезли на ящики перед хижиной; Герман взялся за растяжки, идущие от конька крыши, остальные двое уцепились за фалы, спадающие с топа мачты. Мы с Кнютом избрали топштаг: если и мачту, и хижину смоет за борт, рассуждали мы, штаг, ведущий к носу, все равно ляжет на плот, ведь волны теперь накатывались с носа.
Убедившись, что плот захвачен прибоем, мы обрубили якорный конец — и началось. Могучий вал вырос под нами и поднял «Кон-Тики» вверх. Настала решающая минута, мы шли верхом на гребне с такой скоростью, что разболтанный плот трещал по всем швам. От волнения кровь бурлила в жилах. Помню, стремясь дать выход своим чувствам, я не придумал ничего лучшего, как взмахнуть рукой и изо всех сил закричать «ура». Мои друзья несомненно решили, что я свихнулся, но отозвались улыбкой.
Ух как лихо мы неслись вперед. Пробил час боевого крещения «Кон-Тики», все будет хорошо!
Но победный восторг вскоре поумерился. Позади нас зеленой стеклянной горой вздыбилась новая волна, мы покатились вниз, а она нависла над нами; я увидел высоко вверху ее гребень и в ту же секунду ощутил сильнейший толчок, меня поглотила вода. Волна напирала с неимоверной силой, я весь напрягся, а в голове была одна мысль: держаться, держаться. Скорее руки и ноги оторвутся, чем мозг даст им команду отпустить, зная, чем это кончится. Но вот водяная гора перевалила через меня, свирепая хватка ослабла. Бешеный вал с оглушительным ревом покатился дальше, и я увидел рядом с собой сжавшегося в комочек Кнюта. Сзади огромная волна казалась серой и почти плоской, она прошла над крышей, схлынула, и я увидел прильнувшую к крыше тройку.
Плот еще не дошел до рифа.
Я поспешил покрепче зацепиться руками и ногами за штаг. Кнют отпустил трос и прыжком очутился на ящиках: там хижина принимала часть напора на себя. Ребята прокричали мне что-то ободряющее, в ту же секунду на нас пошла новая зеленая гора. Выкрикнув предупреждение, я сжался и весь напрягся. И снова кругом ад кромешный, снова «Кон-Тики» исчез под водой. Могучий океан всей грудью навалился на маленького человека. Вторая волна схлынула, за ней точно так же прошла третья.
Вдруг я услышал торжествующий голос Кнюта, который теперь висел на веревочном трапе:
— А плот-то не поддается!
Да, три волны смогли только чуть наклонить двойную мачту и хижину. Мы снова ощутили свое превосходство над стихиями, и воодушевление прибавило нам сил.
Тут вырос новый вал, выше всех прежних, я опять крикнул ребятам: «Берегись!» — постарался залезть по выше и покрепче ухватился за штаг. И вот уже меня поглотила высоченная зеленая стена, метров на восемь, по оценке моих товарищей, и от того места, где я исчез в воде, до бурлящего гребня было не меньше 5 метров. Затем вал захлестнул их тоже, и каждый думал лишь, об одном: держаться, держаться, держаться…
Должно быть, тут-то мы и наскочили на риф. Я чувствовал только, как штаг провисает, поддаваясь толчкам, но откуда идут толчки, сверху или снизу, мне было не разобрать.
Поединок с волной длился всего несколько секунд, но он требовал усилий, на которые человек обычно не способен. Видно, в нашем организме есть не только мышечная сила. Я решил: если мне суждено умереть, умру в этой позе, обвязавшись узлом вокруг штага. Грохочущий вал прокатился дальше, ушел, и нам открылось страшное зрелище. «Кон-Тики» преобразился, как по волшебству. Судна, с которым мы свыклись за много недель плавания в океане, не было больше, наш уютный мирок в два счета превратился в развалину.
Я видел на борту лишь одного человека. Он лежал ничком поперек крыши, раскинув руки в стороны, а хижина сложилась, будто карточный домик, в сторону заднего правого угла. В безжизненной фигуре я узнал Германа. Больше никого… Твердая, как железо, мачта с правого борта переломилась, словно спичка, при падении верхняя часть ее врезалась в крышу хижины, и теперь все мачтовое устройство завалилось вправо. На корме развернуло колоду с уключиной, поперечина треснула, весло разлетелось вдребезги. Толстенные сосновые доски носового бортика волна сокрушила, будто фанеру, палуба была сорвана и вместе с ящиками, канистрами, брезентом и другим грузом прилипла, словно мокрая бумага, к передней стене хижины. Всюду торчали обломки бамбука, концы рваных канатов — словом, полный хаос.
Я похолодел от страха. Какой толк, что я удержался. Стоит потерять на финише хотя бы одного человека, и все будет испорчено, а после последнего удара видно пока одного лишь Германа. В эту минуту возле борта показалась скрюченная фигура Торстейна. Цепляясь за штаги, будто обезьяна, он выбрался на бревна и влез на груду обломков перед хижиной. Тут и Герман, продолжая лежать, повернул голову и изобразил ободряющую улыбку. Я крикнул: «Где остальные?» — и услышал спокойный голос Бенгта: «Все на плоту». Они лежали, держась за канаты, за баррикадой, которую образовал сорванный валом палубный настил.
Все это произошло за те секунды, когда «Кон-Тики» вместе с волной отступал от шипящего рифа — навстречу новой волне. В последний раз я что было мочи рявкнул: «Держись!» — и сам показал пример. Держась за штаги, я на две-три бесконечно долгих секунды канул в ревущую стремнину. Все, больше сил нет. Я увидел, что концы бревен бодают крутой уступ в коралловой гряде и никак не могут перевалить через нее. Затем нас снова потащило назад. Я видел также своих товарищей, распластавшихся поперек крыши, но никто из нас уже не улыбался. Из-за бамбуковой плетенки донесся бесстрастный голос:
— Так не пойдет!
И мной тоже овладело отчаяние. Верхушка мачты все ниже склонялась над водой у правого борта, а вместе с ослабевшим штагом и я повис над морем. Еще волна. Когда она прошла, я ощущал смертельную усталость и думал только о том, как бы перебраться на бревна и залечь за баррикадой. Вода схлынула, отступила, и я впервые увидел обнажившийся красный узловатый риф под нами. А Торстейн стоял, пригнувшись, на блестящих влажных кораллах и держал свисающие с мачты концы. Кнют было подался к корме, но я крикнул, что надо оставаться на плоту, и Торстейн, которого смыло за борт, кошачьим ISO прыжком вернулся на бревна.
Еще две или три волны навалились на нас, но уже не так неистово. Смутно помню, как набегала и отступала пенящаяся вода, и как я все ниже опускался к красному рифу, через который волны тащили плот. Потом до нас стали долетать только брызги да пена, и я перелез на плот, где ребята уже собрались на конце бревен, дальше других забравшихся на риф.
Вдруг Кнют присел и, держа лежавший наготове линь, прыгнул на край рифа. Пока волна откатывалась, он пробежал вброд метров тридцать и спокойно остановился. Очередная волна, шипя, ринулась следом, выдохлась и широким потоком скатилась обратно с плоской поверхности рифа.
В это время из сплющенной хижины выбрался Эрик — обутый. Сидели бы мы вместе с ним, отделались бы куда легче. Хижину не смыло, она просто легла под парусиной, и Эрик удобно лежал среди груза, слыша грохот прибоя и видя, как прогибаются упавшие бамбуковые стены. Бенгт получил легкое сотрясение мозга, когда сломалась мачта, но сумел забраться в хижину к Эрику. Нам бы всем там укрыться, да кто же знал, что бамбуковая плетенка, найтовы и бальса так крепко будут держаться друг за друга и устоят против напора воды.
Эрик стоял наготове на корме, и как только волна отступила, тоже прыгнул на риф. За ним последовал Герман, потом Бенгт. Каждая волна заталкивала бревна подальше на коралловую гряду, и, когда очередь дошла до нас с Торстейном, плот уже так далеко забрался на риф, что не было причин покидать его. И мы все принялись спасать груз.
Коварный уступ, по которому плот взбирался на риф, остался метрах в двадцати позади нас. Это оттуда одна за другой катили разбившиеся волны. Коралловые полипы потрудились, соорудили такой высокий барьер, что только гребни волн переваливали через него в изобилующую рыбой лагуну. Здесь начинался подлинный мир кораллов, начинались сказочные формы и краски.
Далеко на рифе ребята обнаружили полузатопленную резиновую лодку. Вылив воду, они подтащили ее обратно к разбитому плоту и нагрузили самым драгоценным снаряжением, в дополнение к радиостанции, провианту и флягам с пресной водой. Все это мы отбуксировали подальше от прибоя и сложили на торчащей над рифом здоровенной глыбе. Потом пошли за новой партией груза. Лучше не мешкать, а то начнутся приливы да отливы, кто его знает, что нас тогда ждет.
В мелкой воде на рифе лежало что-то блестящее и сверкало в солнечных лучах. Мы пошли туда и с удивлением увидели две пустых консервных банки. Неожиданная находка, а еще больше нас поразило, что банки были совсем новые, недавно вскрытые, с надписью «Ананас» и другим текстом, совпадающим с надписью на военных пайках, которые мы получили на испытание от квартирмейстера. Оказалось, это наши банки, выброшенные за борт во время последнего завтрака на «Кон-Тики». Они ненамного опередили нас.
Узловатая, зазубренная поверхность кораллового рифа была испещрена промоинами, и вода стояла где по колено, где по грудь. Кораллы, водоросли, морские анемоны придавали рифу вид цветника с окаменевшими мхами, кактусами и красными, желтыми и белыми цветками. Все краски спектра были представлены здесь кораллами и водорослями, моллюсками и червями, юркими рыбами невиданной расцветки. В самых глубоких промоинах к нам в кристально чистой воде подкрадывались небольшие, с метр, акулы. Впрочем, довольно было шлепнуть ладонью по воде, чтобы они бросились наутек.
Там, где потерпел крушение «Кон-Тики», кругом были одни только лужицы да коралловые плиты, а тихая голубая лагуна начиналась дальше. Наступил час отлива, и все новые кораллы появлялись из воды вокруг нас, а неустанно ревущий прибой как бы спустился этажом ниже. Мы могли лишь гадать, что тут будет твориться в разгар прилива. Надо было уходить.
Риф тянулся на север и на юг, будто наполовину врытый в землю крепостной вал. Далеко на юге лежал длинный, густо поросший пальмами остров. А к северу от нас, в каких-нибудь 600–700 метрах, был другой, совсем крохотный островок. На фоне неба топорщились пальмовые кроны, а к прикрытой рифом мирной лагуне сбегали белые, как снег, песчаные берега, и островок напоминал корзину с пышным букетом или рай в миниатюре.
Его мы и выбрали.
Герман стоял рядом со мной, вся его бородатая физиономия сияла. Не говоря ни слова, он со счастливой улыбкой протянул мне руку.
«Кон-Тики» все еще лежал на краю рифа, где его обдавали пенистые струи. Развалина, но развалина заслуженная. Волны сокрушили настил и надстройку, но девять бальсовых бревен из киведского леса в Эквадоре уцелели. Они спасли нам жизнь. Море смыло часть груза, однако то, что мы убрали в каюту, было в полкой сохранности. Мы забрали с плота все, что представляло какую-то ценность для нас, и перенесли на
здоровенную глыбу подальше от воды.
Прыгая с бревен на риф, я поймал себя на том, что мне недостает лоцманов, которые обычно сновали перед носом плота. Могучие бревна лежали на кораллах, где воды было от силы на 20 сантиметров, и под носом извивались коричневые черви. Лоцманы исчезли. Корифены исчезли. Вместо них среди бревен мелькали любопытные рыбы, плоские, яркие, как павлин, с хвостом в виде шлейфа. Мы пришли в новый мир. Юханнеса не было в его норке. Знать, нашел себе здесь другое убежище.
Я еще раз окинул взглядом разбитый плот и заметил крохотную пальмочку в сплющенной корзине. Она поднималась на полметра из глазка в кокосовом орехе, свесив вниз два корешка. Держа в руке орех, я пошел вброд к островку. Неподалеку от меня весело шагал Кнют, зажав под мышкой модель «Кон-Тики», в которую он вложил немало труда. Мы обогнали нашего несравненного завхоза Бенгта. Согнувшись в три погибели, с шишкой на лбу, купая бороду в воде, он толкал перед собой ящик, который убегал от него всякий раз, когда через риф в лагуну вливались свежие струи. Бенгт гордо приоткрыл крышку — это был наш кухонный ящик, с примусом и кастрюлями, в полной сохранности.
Никогда мне не забыть, как мы шли через риф к райскому островку. Дойдя до солнечного пляжа, я сбросил ботинки, и пальцы ног погрузились в сухой горячий песок. Вид следов, нарушивших нетронутую песчаную полоску перед пальмами, доставлял мне наслаждение. Я продолжал идти к центру островка, и зеленые кроны сомкнулись над моей головой. На пальмах висели несозревшие кокосовые орехи, пышный кустарник был осыпан белоснежными цветами, которые источали гладкое, пьянящее благоухание. Возле самых моих плеч безбоязненно парили две морских ласточки — белые и легкие, словно два облачка. Маленькие ящерички разбегались во все стороны, но главными обитателями острова были здоровенные алые раки-отшельники, которые бродили повсюду, спрятав нежное брюшко в краденые раковины величиной с яйцо.
В приливе чувств я опустился на колени и погрузил руки в горячий песок.
Плавание окончено, и все живы. Нас прибило к необитаемому полинезийскому островку. И что за острое! Подошел Торстейн, сбросил с плеч мешок и растянулся навзничь на песке, любуясь пальмовыми кронами и бесшумно парящими в воздухе невесомыми белыми птицами. Вот уже вся наша шестерка распласталась на земле. Неугомонный Герман влез на небольшую пальму и сорвал гроздь здоровенных зеленых орехов. Срубив секачами мягкие макушки, мы стали жадно глотать самый чудесный и самый освежающий напиток в мире — сладкое, холодное молоко незрелого кокосового ореха. А с рифа доносился ровный рокот барабанов, бессменный караул охранял подступы к раю.
— Чистилище оказалось сыроватым, — подвел итог Бенгт. — Но царство небесное я себе примерно так и представлял.
Мы сладко потягивались и улыбались летящим на запад пассатным облачкам. Мы больше не плыли покорно за ними, всё — лежим на неподвижном, твердом островке. В Полинезии…
Лежим, отдыхаем, а вдоль всего горизонта взад и вперед катится тяжелый поезд — прибой.
Бенгт был прав: мы попали в царство небесное.
Глава 8
В гостях у полинезийцев
Робинзонада. — Боимся, что нас спасут. — Все в порядке, «Кон-Тики»!.. — Следы других кораблекрушений. — Необитаемые острова. — Схватка с морским угрем. — Нас находят. — Привидение на рифе. — Посол к вождю. — Вождь навещает нас. — «Кон-Тики» — старый знакомец! — Потоп. — Плот-вездеход. — Вчетвером на острове. — Раройцы забирают нас. — Встреча в деревне. — Предки из страны восходящего солнца. — Праздник. — Лечение по радио. — Мы получаем королевские имена. — Еще одно кораблекрушение. — «Тамара» спасает «Маоаэ». — Курс на Таити. — Свидание на пристани. — Королевская жизнь. — Шесть венков
Островок был необитаемый. Его размеры — от силы 200 метров в поперечнике — позволили нам быстро исследовать пальмовую рощу и все пляжи. Высота над лагуной нигде не превышала 2 метров.
В пальмовых кронах у нас над головой висели большие гроздья зеленых орехов — природных термосов, защищающих от тропического солнца холодное кокосовое молоко; в ближайшие недели нам не грозила смерть от жажды. Кроме того, на пальмах были также спелые орехи, остров кишел раками-отшельниками, а лагуна — всевозможной рыбой. Словом, полное благополучие.
На северном берегу мы нашли занесенный песком старый, некрашеный деревянный крест. Отсюда была видна кромка рифа с разбитым кораблем, мимо которого мы прошли, прежде чем сами потерпели крушение. Еще дальше на север голубели метелки пальм следующего островка. А ближайшим нашим соседом был зеленый остров на юге.
На нем тоже не было видно никаких признаков жизни, да нас пока это и не волновало.
Появился прихрамывающий Робинзон Хессельберг, в громадной соломенной шляпе и с целой охапкой шевелящихся раков-отшельников. Кнют подпалил хворост, и вот уже мы уписываем вареных раков, запивая их кокосовым молоком и какао.
— Ну что, ребята, каково быть на суше? — улыбаясь, осведомился Кнют.
Из всей шестерки ему одному довелось раньше побывать на берегу. Тут же Кнюта качнуло, и он вылил полкастрюли горячей воды на ноги Бенгта. После ста одних суток на плоту все мы в первый день не очень твердо стояли на ногах и то и дело машинально пружинили коленями, хотя никаких волн, естественно, не было.
Когда Бенгт начал раздавать посуду, Эрик хитро ухмыльнулся. Я сразу вспомнил, как я после завтрака по привычке наклонился через борт и принялся тщательно отмывать свою миску, а Эрик, поглядев на риф, отложил свой прибор и сказал: «Что-то сегодня неохота посуду мыть». Теперь его миска, извлеченная из кухонного ящика, блестела не хуже моей.
Закусив и хорошенько отдохнув, мы занялись отсыревшей радиоаппаратурой. Торстейну и Кнюту нужно было спешить выйти в эфир, пока радиолюбитель из Раротонги не передал всему свету печальную весть о нашей гибели.
Большая часть аппаратуры уже лежала на берегу, но тут какой-то ящик на рифе привлек внимание Бенгта, он ухватился за него — и подпрыгнул в воздух. Ударило током — значит, ящик из комплекта радиостанции! Радисты принялись разбирать, переключать и опять собирать, а мы тем временем устраивали лагерь.
Забрав с плота тяжелый промокший парус, мы вытащили его на берег и растянули между двумя пальмами над площадкой, обращенной к лагуне. Колья сделали из выброшенных волнами бамбуковых жердей. Цветущий кустарник, насыщавший воздух упоительным ароматом, образовал три стены, а с четвертой стороны открывался вид на зеркальную гладь лагуны. Чудесное место. Посмеиваясь от удовольствия, мы отбросили в сторону торчащие из песка ветки коралла и сделали себе постели из пальмовых листьев. До темноты у нас было готово уютное гнездышко, и сверху над нами висела большая бородатая физиономия доброго старого Кон-Тики. Он уже не пыжился, раздуваемый восточным ветром, а недвижимо смотрел на звезды над Полинезией.
Кругом на кустах лежали мокрые флаги и спальные мешки, на песке сушилось прочее имущество. Еще один день на этом солнечном острове, и все отлично просушится. Радистам тоже пришлось сдаться до следующего дня, чтобы солнце могло как следует прогреть аппаратуру. Мы сдернули с кустов спальные мешки и улеглись, споря, чей мешок суше. Победил Бенгт, его мешок не хлюпал, когда владелец ворочался.
Проснувшись наутро вместе с солнцем, мы увидели, что парус провис под тяжестью кристально чистой дождевой воды. Бенгт собрал драгоценную влагу, потом отправился к лагуне и принялся вылавливать причудливых рыб, которых заманивал в канавы в песке.
Герман утром жаловался на возобновившуюся боль в шее и в спине — память об ушибе, полученном в Лиме, а к Эрику вернулся его радикулит. Вообще же встреча с рифом прошла для нас на диво благополучно, мы отделались мелкими царапинами, если не считать Бенгта, который получил легкое сотрясение мозга, когда обломок мачты ударил его по лбу. Правда, сам я выглядел довольно своеобразно, руки и ноги сплошь в синяках после объятий со штагом.
Во всяком случае никто не устоял против соблазна искупаться перед завтраком в прозрачной внутренней лагуне. Кстати, лагуна была огромная. Вдали от берега пассат морщил ее синюю поверхность, а еще дальше с трудом различались голубеющие островки, обозначающие изгиб кольцевого рифа. Но на подветренной стороне нашего островка пассат тихо шелестел в метелках пальмовых крон, заставляя их покачиваться, а зеркало лагуны повторяло каждое движение. Горько-соленая вода была настолько чиста и прозрачна, что мы, плывя в 3 метрах над коралловым дном с пестрым рыбьим населением, боялись. задеть его и порезаться. Да, то был подлинно сказочный мир. Температура воды — в самый раз, воздух — сухой и горячий от солнца. Но долго купаться мы не могли, Раротонга ждала вестей.
На коралловых плитах в лучах тропического солнца сушились катушки и прочие части, Торстейн и Кнют орудовали паяльником и отверткой. Шли часы, и мы все больше волновались. Бросив остальные дела, окружили радистов: может быть, сумеем чем-нибудь помочь? До десяти вечера мы должны выйти в эфир, не то, как истекут условленные тридцать шесть часов, радиолюбитель на Раротонге начнет вызывать спасателей.
Полдень, вечер, вот и солнце зашло. Только бы наш корреспондент набрался терпения. Семь часов, восемь, девять… Наши нервы были на пределе. Передатчик молчал, но приемник типа NC-173 начал оживать, в нижней части шкалы звучала слабая музыка. Любительский диапазон еще был нем, однако звук подбирался к нему все ближе.
Было похоже, что какая-то из катушек постепенно подсыхает с одного конца. А передатчик упорно хранил безмолвие, искры говорили о замыканиях в схеме.
Осталось меньше часа. Отчаявшись наладить основной передатчик, мы снова взялись за портативную военную рацию. Ее тоже за день испробовали не раз и не два, но без толку. Может быть, теперь просохла. Аккумуляторы все до одного были испорчены, мы получали ток от маленького ручного генератора. Крутить было тяжеловато, и мы четверо, неквалифицированная рабочая сила, сменялись на этой шарманке.
Тридцать шестой час истекал. Помню, кто-то шепотом отсчитывал — семь минут, пять… Потом никто уже не глядел на часы. Передатчик словно воды в рот набрал, зато приемник потрескивал все ближе к нужной частоте. Вдруг «задышала» волна нашего приятеля на Раротонге, мы разобрали, что у него идет разговор с Таити. Нам удалось записать отрывок его послания:
— …Ни одного самолета по эту сторону Самоа. Я абсолютно уверен…
И опять все стихло. Нет, это невыносимо. Что там происходит? Неужели выслали самолеты и спасательные отряды? Наверно, в эфире сейчас тесно от радиограмм.
Двое радистов лихорадочно трудились. Пот катил с них градом, не хуже, чем с нас, «шарманщиков». Мало-помалу в антенну передатчика пошел ток, и Торстейн ликующе показал на стрелку прибора, которая медленно ползла вверх, когда он нажимал ключ. Вот оно!
Мы крутили, как сумасшедшие, а Торстейн вызывал Раротонгу. Не отвечает. Еще раз. Передатчик наконец ожил, а Раротонга нас не слышит! Мы стали взывать к Галу и Фрэнку в Лос-Анджелесе, к военно-морскому училищу в Лиме — никто нас не слышал.
Тогда Торстейн выбил CQ, иначе говоря, обратился ко всем, кто в это время слушал на пашей волне.
Это помогло. Чей-то слабый голос в эфире неторопливо вызвал нас. Мы поспешили откликнуться, дескать, слышим.
И снова неторопливо:
— Меня зовут Пауль, живу в Колорадо, как звать тебя, где живешь?
Значит, радиолюбитель. Мы крутили, а Торстейн отбил ключом:
— Здесь «Кон-Тики», нас прибило к необитаемому острову в Тихом океане.
Но Пауль нам не поверил. Решил, что его разыгрывает какой-нибудь коротковолновик с соседней улицы, и не стал даже отвечать. Мы рвали на себе волосы от отчаяния. Сидим под звездами на безлюдном острове, а нам не хотят верить!
Торстейн не унимался, опять взял ключ и принялся передавать: «Все в порядке», «Все в порядке», «Все в порядке». Надо же как-то остановить всю эту махину, пока спасатели не вышли в океан на поиски.
И вдруг в приемнике чуть слышно:
— Что же ты расшумелся, если все в порядке?
И все, опять в эфире тишина.
Хоть бейся головой о пальмы, пока все орехи не свалятся. Один бог ведает, что бы мы откололи, если бы нас вдруг не услышали сразу и Раротонга, и старина Гал. Гарольд клялся, что, поймав наконец позывные LI2B, от радости пустил слезу. Тотчас дали отбой тревоге. И вот мы снова наедине с собой на своем островке. Вся шестерка повалилась в изнеможении на постели из пальмовых листьев.
На следующий день мы только отдыхали и наслаждались жизнью. Кто купался, кто ловил на рифе невиданных тварей, а самые энергичные благоустраивали лагерь. На мысе, против которого выбросило на риф наш «Кон-Тики», мы на опушке рощи вырыли ямку, выстлали ее листьями и посадили проросший орех из Перу. Рядом выложили из кораллов пирамидку, и вместе они указывали на точку, где застрял плот.
Правда, за ночь «Кон-Тики» еще подвинулся, теперь он лежал в лужах между коралловыми глыбами, далеко от края рифа.
После горячих песочных ванн Эрик и Герман почувствовали себя превосходно и захотели совершить поход вдоль рифа на юг, в расчете попасть на большой остров. Я предупредил их, чтобы остерегались не столько акул, сколько мурен, и они сунули за пояс длинные ножи. В коралловых рифах обитает свирепый угорь с длинными ядовитыми зубами, которые способны отхватить ногу человеку. Угорь нападает молниеносно, и полинезийцы, не робеющие перед акулой, страшно его боятся.
Большую часть пути Эрик с Германом шли вброд, но кое-где риф прорезали глубокие желоба, их надо было пересекать вплавь. Друзья благополучно добрались до острова. Он тянулся на юг под прикрытием рифа — длинный, узкий, между солнечными пляжами зажата полоска пальмовой рощи. Эрик и Герман дошли до южной оконечности. Белопенный риф простирался дальше, к другим островам. Ребята нашли на берегу остатки большого корабля, расколовшегося на две части. Это был старый испанский четырехмачтовый парусник, который вез куда-то железнодорожные рельсы. Ржавые рельсы были раскиданы по всему рифу. На обратном пути наши разведчики осмотрели другой берег, но и тут на песке не было ничьих следов.
Возвращаясь по рифу, они то и дело спугивали экзотических рыб и пытались их поймать. А в одном месте друзья сами вдруг подверглись атаке. В прозрачной воде они увидели идущих на них восемь здоровенных мурен и живо выбрались на большую коралловую глыбу. Скользкие гадины извивались вокруг глыбы, огромные, толщиной в ногу, с маленькой головой, злыми змеиными глазками и острыми, как шило, зубами в дюйм длиной. Пустив в ход ножи, ребята сумели отрубить голову одной мурене и ранить другую. Кровь тотчас привлекла молодых синих акул, и пока они расправлялись с искалеченными муренами, Герман и Эрик спрыгнули с глыбы и улизнули.
В тот же день, идя вброд по рифу возле нашего островка, я вдруг почувствовал, как кто-то схватил мертвой хваткой мою ногу. Это был спрут. Не очень большой, всего около метра, но до чего же противно было ощущать холодное прикосновение щупалец и глядеть в злые глазки на багровом мешке с изогнутым клювом. Я изо всех сил дернул ногой, но спрут не отпускал. Видно, его привлек бинт у меня на ноге. Рывками я направился к берегу, волоча за собой отвратительную тварь. Лишь когда я достиг суши, он выпустил меня и медленно отступил на мелководье, вытянув щупальца и глядя на берег — дескать, только сунься. Я обстрелял его обломками коралла, и он поспешил исчезнуть.
Все наши приключения на рифе были всего лишь приправой к райской жизни на островке. Но ведь нельзя же оставаться здесь навсегда, пора было подумать и о том, как вернуться в цивилизованный мир. За неделю «Конники» пробрался уже на середину рифа, где и осел на сухом месте. Пробиваясь в лагуну, могучие бревна сокрушили на своем пути немало кораллов, но теперь плот прочно застрял, и сколько мы его ни тянули, ни толкали, все было напрасно. Нам бы затащить его в лагуну, а там можно починить мачту и снасти, чтобы пересечь по ветру внутреннюю лагуну и посмотреть, что делается на той стороне. Если есть здесь обитаемые острова, то их надо искать у западного горизонта, где барьерный риф смотрит под ветер.
Шли дни.
А однажды утром примчался один из наших и сказал, что на лагуне показался белый парус. Мы забрались на пальмы и в самом деле увидели крохотную точку, удивительно белую на опалово-синем фоне воды. Точно, там кто-то плывет под парусом. Было видно, как он идет галсами. Потом показался второй парус.
Время шло, и паруса приближались. Они держали курс на наш остров. Мы подняли на пальме французский флаг и размахивали норвежским, привязав его к длинному шесту. Вот уже один парус приблизился настолько, что можно разглядеть лодку — это был полинезийский аутригер с усовершенствованным парусным вооружением. С лодки на нас смотрели два смуглых человека. Мы помахали им. Они замахали в ответ, и аутригер врезался в песок у берега.
— Иа ора на, — приветствовали мы по-полинезийски.
— Иа ора на, — дружно ответили островитяне, один из них прыгнул в воду и пошел к нам, увлекая за собой лодку.
Тела коричневые, а одежда европейская. Правда, оба были босиком, зато в самодельных соломенных шляпах от солнца. Они вышли на берег как-то неуверенно, но, когда мы с улыбкой поздоровались с ними за руку, они тоже обнажили сверкающие зубы в улыбке, которая была красноречивее всяких слов.
Наше полинезийское приветствие ввело их в заблуждение точно так же, как были обмануты мы, когда житель Ангатау встретил нас возгласом «гуд найт». И они успели произнести целую речь, прежде чем до них дошло, что мы по-полинезийски ни в зуб ногой. Тогда они смолкли и, дружелюбно улыбаясь, показали на вторую лодку, которая приближалась к острову.
В ней сидело трое, они вышли на берег, поздоровались, и оказалось, что один из них кое-как изъясняется по-французски. Мы узнали, что на одном из островов за лагуной есть деревня и ее жители несколько дней назад ночью заметили наш костер. Но так как в рифе Рароиа есть лишь один проход и этот проход находится как раз напротив деревни, никто не может незамеченным попасть на острова. И старики, понятное дело, решили, что люди непричастны к этому свету над рифом на востоке, дескать, там завелась нечистая сила. Естественно, проверять эту догадку никому не захотелось. А тут еще волны принесли из-за лагуны доску с какими-то письменами. Два раройца, которые побывали на Таити и там научились грамоте, разобрали черные письмена и прочли слово Тики. После этого не приходилось сомневаться, что на рифе водятся призраки, ведь Тики — об этом каждый знал — был древним родоначальником их племени. Но потом из-за лагуны приплыл хлеб в герметической упаковке, какао, сигареты, даже ящик со старым башмаком. Сразу всем стало ясно, что в восточной части рифа произошло кораблекрушение, и вождь отправил две лодки спасать уцелевших, которые жгли костры на острове.
Поощряемый своими товарищами, островитянин спросил нас, почему на выловленной ими доске было написано Тики. Мы объяснили, что все наше снаряжение помечено «Кон-Тики», потому что так называется судно, на котором мы приплыли.
Наши новые друзья немало удивились, услышав, что вся команда спаслась и что лежащая на рифе сплющенная развалина и есть наше судно. Они хотели тут же переправить нас в деревню. Мы поблагодарили и отказались, мол, останемся здесь, пока не стащим «Кон-Тики» с рифа. Полинезийцы с ужасом посмотрели на разбитый плот: неужели мы рассчитываем, что он еще поплывет! И толмач с жаром сказал, что мы должны последовать за ними — так велел вождь, они просто не смеют возвращаться без нас.
И мы решили, что один из команды поедет посланником от нас к вождю, а потом вернется и расскажет нам про тот остров. Нам не хотелось оставлять плот на рифе, и нельзя было бросать наше имущество. Бенгт отправился с раройцами. Аутригеры столкнули с мели, и ветер быстро увлек их на запад.
На следующий день на горизонте появилась целая стая белых парусов. Не иначе раройцы мобилизовали все плавучее средства, чтобы перевезти нас.
Эскадра зигзагами приближалась к острову, и вскоре мы разглядели на первой лодке среди смуглых фигур нашего Бенгта, который махал нам шляпой. Он крикнул, что привез самого вождя, и мы выстроились в шеренгу на берегу для встречи.
Бенгт важно представил нас вождю. Тот сказал, что его имя Тепиураиарии Териифаатау, но можно говорить просто Тека. Мы предпочли звать его Текой.
Вождь Тека был высокий стройный полинезиец с умнейшими глазами. Человек знатный, он происходил из старого королевского рода на Таити и сам правил островами Рароиа и Такуме. В школе на Таити он научился говорить по-французски, читать и писать. Он знал, что столица Норвегии — Христиания, и спросил, не знаком ли я с Бингом Кросби. Потом Тека рассказал, что за последние десять лет на Рароиа заходило только три иностранных судна, зато несколько раз в год приходит шхуна с Таити, она привозит различные потребительские товары в обмен на копру. Раройцы давно уже ждут ее, она может появиться со дня на день.
Бенгт доложил, что на Рароиа нет ни школ, ни радио, ни белых людей, но сто двадцать полинезийцев, составляющих население деревни, приняли все меры, чтобы нам было у них хорошо, и готовят нам роскошный прием.
Первым делом вождь попросил показать ему судно, которое доставило нас в сохранности на риф. Сопровождаемые свитой, мы зашагали вброд к «Кон-Тики». Вдруг наши новые друзья остановились и громко что-то закричали. С этого места было ясно видно бревна нашего плота, и один из раройцев воскликнул:
— Какой же это корабль, это паэ-паэ!
— Паэ-паэ! — подхватили все остальные.
Они галопом пересекли риф и вскарабкались на «Кон-Тики». Словно восхищенные дети, облазили весь плот, ощупывая бревна, циновки, снасти. Вождь был взволнован не меньше других. Вернувшись к нам, он повторил, испытующе глядя на нас:
— «Тики» не корабль, это паэ-паэ!
Паэ-паэ означает по-полинезийски «плот» и «помост», а на острове Пасхи этим словом называют также местные лодки. Вождь рассказал, что сейчас паэ-паэ нет, но старики помнят посвященные им древние предания. Могучие бальсовые бревна привели в шумный восторг раройцев, но снасти вызвали у них презрительную гримасу. Мол, такие канаты долго не выдержат действия солнца и морской воды. С гордостью показали они нам снасти на своих аутригерах, сделанные из кокосового волокна: по пяти лет служат.
Возвратившись на островок, мы нарекли его именем «фенуа Кон-Тики» — остров Кон-Тики. Это название все могли выговорить, а вот наши короткие скандинавские имена оказались для раройцев крепким орешком. И они страшно обрадовались, когда я сказал, что меня можно звать Тераи Матеата — так меня нарек вождь Таити, когда я был там в первый раз.
Раройцы принесли из лодок кур, яйца, хлебные плоды; другие в это время били острогами рыбу в лагуне. И вот уже около лагерного костра пир горой. Мы рассказывали про наши приключения в океане, а историю о встрече с китовой акулой нам пришлось повторять снова и снова.
И каждый раз, когда дело доходило до того, как Эрик вонзил ей в череп гарпун, они дружно ахали. Раройцы легко опознавали рыб по нашим зарисовкам и сразу говорили нам их полинезийские названия. Только китовая акула и Gempylus оказались им совершенно незнакомыми.
Вечером мы включили радио, чем доставили великую радость всей компании. Особенно им пришлась по вкусу церковная музыка. Но вот мы неожиданно для себя поймали настоящую полинезийскую мелодию, ее передавала какая-то американская станция. И самые жизнерадостные из наших новых друзей начали извиваться, подняв руки над головой, а затем и остальные принялись отплясывать хюлу-хюлу. Когда спустилась ночь, все устроились вокруг костра на берегу. Прошедший день был для раройцев таким же событием, как для нас.
Проснувшись на следующее утро, мы увидели, что они уже жарят только что наловленную рыбу, а для утоления жажды стояло шесть кокосовых орехов со срезанными макушками.
В этот день риф ревел грознее обычного, ветер прибавил, и на рифе за разбитым плотом высоко в воздух взлетали брызги.
— Сегодня «Тики» придет в лагуну, — сказал вождь. — Начинается прилив.
Около одиннадцати часов вода устремилась мимо нас, заполняя лагуну, словно большой чан. Море наступало по всей окружности острова. Потом начался настоящий потоп. Вал шел за валом, подминая под себя риф. Мощный поток вдоль обеих сторон острова переносил здоровенные глыбы коралла, смывал широкие отмели, таявшие, как сахар, и намывал другие. Поплыли обломки, а там и весь «Кон-Тики» зашевелился. Мы поспешили отнести наше имущество подальше от берега, чтобы прилив не смыл.
Скоро на рифе над водой остались торчать лишь самые высокие бугры, а пляжи плоского островка совсем затопило, и волны уже лизали траву. Жуткое зрелище. Казалось, весь океан ополчился против нас. «Кон-Тики» развернулся кругом и поплыл, но потом опять застрял на кораллах.
Раройцы бросились в воду. Где вплавь, где вброд, перебираясь с отмели на отмель, они добрались до плота. Кнют и Эрик следовали за ними. На плоту лежал наготове конец, и как только «Кон-Тики», опрокинув последнюю глыбу на своем пути, снялся с рифа, наши помощники попрыгали в воду и попытались притормозить. Они не знали нашего «Кон-Тики», не ведали силу порыва, неудержимо влекущего его на запад. Плот поволок их за собой, с ходу миновал последний участок рифа и вошел в лагуну. Очутившись на более спокойной воде, он как бы растерялся и стал прикидывать, какие возможности ему открылись. Прежде чем он успел направиться к выходу из лагуны, раройцы уже обмотали конец вокруг пальмы. И «Кон-Тики», связанный, что называется, по рукам и по ногам, остался в лагуне. Наше судно-вездеход одолело баррикаду и проникло во внутренние воды Рароиа.
Под воинственные крики, твердя зажигательное «ке-ке-те-хуру-хуру», мы общими силами подтянули «Кон-Тики» к берегу его тезки. Прилив больше чем на метр превзошел обычную отметку, и мы уже решили, что весь остров исчезнет под водой, но тут потоп прекратился.
Волны в лагуне курчавились барашками, и утлые, черпающие воду челны не могли взять много груза. А раройцы спешили домой, и Бенгт с Германом отправились вместе с ними, чтобы оказать врачебную помощь мальчику, который лежал при смерти в деревне. У него был карбункул на голове, а в нашей аптечке нашелся пенициллин.
Весь следующий день мы провели вчетвером на своем острове Кон-Тики. Восточный ветер так разгулялся, что полинезийцы не могли идти через испещренную мелями и острыми кораллами лагуну. И опять был очень сильный прилив.
Наутро ветер улегся. Нырнув под «Кон-Тики», мы убедились, что бревна целы, хотя риф и снял с них стружку толщиной в дюйм-два. Канаты так глубоко вгрызлись в дерево, что лишь в четырех местах их перерезало кораллами. Мы принялись наводить на борту порядок. Выпрямили сложившуюся гармошкой каюту, починили мачту, и наше гордое судно приобрело более достойный вид.
Попозже вдали опять показались паруса, раройцы пришли за нами и оставшимся грузом. Герман и Бенгт рассказали, что в деревне готовится большое торжество. Когда мы туда приплывем, нужно оставаться в лодках, пока сам вождь не подаст нам знак.
Свежий ветер увлек нас через лагуну, ширина которой здесь была около 10 километров. С печалью смотрели мы, как машут нам, прощаясь, пальмы острова Кон-Тики. И вот уже они затерялись вдали, среди цепочки островков вдоль восточного барьера. А впереди вырастали другие острова, покрупнее. Мы увидели мол перед одним из них, а между пальмами вился дымок над крышами хижин.
Но деревня будто вымерла, не видно ни души. Что они затеяли? Наконец мы разглядели на берегу, возле кораллового мола, фигуры двух людей: один — длинный и тощий, другой — плечистый и толстый, как бочка. Причалив к берегу, мы поздоровались с ними. Это были вождь Тека и его заместитель Тупухоэ, радушная улыбка которого тотчас покорила нас. Тека был дипломат и мудрец, а Тупухоэ — истинное дитя природы, на редкость жизнерадостный, крепкий и веселый. Могучее сложение, гордая осанка — именно таким и представляешь себе настоящего полинезийского вождя. Он и был вождем первоначально, потом постепенно выдвинулся Тека, который умел говорить по-французски и знал счет и грамоту, так что он мог постоять за интересы деревни, когда с Таити приходила шхуна за копрой.
Тека объяснил, что нам надлежит строем пройти к деревенскому дому собраний. И как только все высадились на берег, мы важно зашагали в деревню, Герман — впереди с привязанным к гарпунному древку флагом, за ним оба вождя и я между ними.
Сразу бросалось в глаза, что раройцы торгуют с Таити — в деревне было вдоволь и досок, и гофрированной жести. Рядом с живописными старинными хижинами из корявых жердей и пальмовых листьев стояли сколоченные из досок домишки. Новая вместительная постройка поодаль оказалась тем самым домом собраний, в котором мы должны были разместиться. Следом за нашим знаменосцем мы вошли внутрь через маленькую заднюю дверь и вышли наружу на широкое крыльцо перед фасадом. И на площадке перед домом увидели все население деревни — старых и малых, женщин и мужчин. У них был чрезвычайно серьезный вид, даже наши веселые приятели с острова Кон-Тики не подавали виду, что узнают нас.
Как только мы выстроились на крыльце, раройцы дружно грянули… «Марсельезу»! Запевалой был вождь, который знал слова, и в общем получилось здорово, хотя некоторым старушкам было трудно поспевать. Чувствовалось, что они немало порепетировали. Возле крыльца подняли французский и норвежский флаги, на этом официальный прием закончился, и вождь Тека отошел в сторону, дальше роль церемониймейстера взял на себя толстяк Тупухоэ. Он подал знак, и толпа опять запела, но на этот раз куда стройнее, потому что и слова, и музыку раройцы сочинили сами, а уж что-что — родную хюлу они петь умели. Трогательно простая мелодия была такой волнующей, что мы слушали, как завороженные, глядя на великий океан. Несколько человек запевали, остальные хором подхватывали припев. Музыкальная тема слегка варьировалась, но текст повторялся: «Здравствуйте, Теки Тераи Матеата с товарищами, прибывшие из-за океана на паэ-паэ к нам на Рароиа, здравствуйте, и да продлится ваше пребывание у нас, и пусть у нас будут общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе, даже когда вы уедете в дальние страны. Здравствуйте».
Мы уговорили их спеть еще раз. Мало-помалу скованность прошла, и раройцы заметно ожили. Тупухоэ попросил меня рассказать людям, почему мы пересекли океан на паэ-паэ, дескать, это всем хочется знать. Можно говорить по-французски, Тека переведет.
Хотя мои слушатели не получили образования, они все отлично понимали. Я рассказал, что мне уже пришлось побывать среди их соплеменников на полинезийских островах и в тот раз я услышал об их первом вожде, Тики, который привел сюда, на острова, их предков из неведомо где лежащей таинственной страны. А между тем в далекой стране Перу, объяснил я, некогда правил великий вождь по имени Тики. Народ называл его Кон-Тики, или Солнце-Тики, потому что он вел свое происхождение от Солнца. Тики покинул свою родину на больших паэ-паэ, потому-то мы шестеро и решили, что он и есть тот самый Тики, который давным-давно приплыл на эти острова. А так как никто не верил, что паэ-паэ мог пересечь океан, мы сами вышли из Перу на паэ-паэ, и вот мы здесь, значит, это все-таки возможно!
Как только Тека перевел мой короткий доклад, Тупухоэ сорвался с места, выскочил вперед и с жаром что-то начал говорить по-полинезийски, размахивая руками и указывая то на небо, то на нас, причем он все время твердил имя Тики. Я ничего не мог разобрать в этой скороговорке, но толпа жадно глотала каждое слово, явно захваченная его речью. Тека даже слегка растерялся, когда дело дошло до перевода.
По словам Тупухоэ, его отец, и дед, и родители деда рассказывали о Тики, что он был их первый вождь, а теперь живет на небе. Но потом пришли белые и заявили, что предания предков ложь. Мол, никакого Тики никогда не было. И на небе его не может быть, там-де живет Иегова, а Тики языческий бог, в него верить больше нельзя. Но вот сегодня из-за океана сюда приплыли мы шестеро и первыми среди белых признали, что их предки говорили правду. Тики жил, существовал на самом деле, а потом умер и попал на небо.
Я испугался, как бы из-за меня все труды миссионеров не пошли насмарку, и поспешил объяснить, что Тики, конечно, существовал, это точно, и умер в свое время, но где он сегодня, на небе или в аду, о том ведает один Иегова, потому что он и впрямь живет на небе, а Тики был смертным человеком, хотя и могущественным вождем, вроде Теки и Тупухоэ, может быть, даже еще могущественнее.
Раройцы с радостью и удовольствием выслушали мои слова; судя по одобрительному гулу и кивкам, такое объяснение их явно устраивало. Тики в самом деле существовал — это самое главное. Если он попал в ад, заключил Тупухоэ, тем хуже для него, зато у ныне живущих больше надежд свидеться с ним!
Три старика протиснулись вперед, чтобы поздороваться с нами за руку. Сразу было ясно, что это они донесли до наших дней предания о Тики. И точно, вождь отметил одного из них, который знал множество старинных сказаний и исторических песен. Я спросил старика, нет ли в преданиях хотя бы намека, с какой стороны приплыл Тики.
Нет, никто из них не помнил ничего такого. Впрочем, поразмыслив как следует, самый старый заметил, что Тики привез с собой одного своего близкого родственника по имени Мауи, а в песне о Мауи говорится, что он прибыл на острова из Пура, то есть из края, где восходит солнце.
Но если Мауи приплыл из Пура, продолжал старец, то и Тики, очевидно, был оттуда, ну а наша шестерка уж точно прибыла на паэ-паэ из Пура.
Я сказал раройцам, что на уединенном острове Мангарева, лежащем ближе к острову Пасхи, люди никогда не строили лодок, а вплоть до наших дней пользовались большими паэ-паэ. Это было новостью для стариков, зато они знали, что их предки тоже ходили на больших паэ-паэ, но они со временем вышли из употребления, осталось только название да легенды о паэ-паэ. Давным-давно, добавил старейший, паэ-паэ называли еще ронго-ронго, но теперь это слово забыто. А в древних сказаниях упоминаются ронго-ронго.
Интересное слово! Ибо Ронго (на некоторых островах произносится «Лоно») — имя одного из самых славных родоначальников полинезийцев. Предания подчеркивают, что он был белым и светловолосым. Когда капитан Кук впервые прибыл на Гавайи, островитяне встретили его с распростертыми объятиями, решив, что это не кто иной, как их белый сородич Ронго после долгого отсутствия вернулся из родины предков на таком большом парусном корабле. А на Пасхе словом ронго-ронго называют загадочные письмена, секрет которых был утерян, когда умерли последние «длинноухие», владевшие этой письменностью.
Старики могли без конца говорить о Тики и ронго-ронго, а молодых интересовала китовая акула и наше плавание через океан. Но нас ждало угощение, к тому же Теке надоело быть переводчиком.
Все жители деревни подходили по очереди поздороваться с нами. Мужчины чуть не выдергивали нам руку из плеча, бормоча «иа-ора-на», девушки выходили с лукавинкой во взгляде и смущенной улыбкой, старухи тараторили, хихикали и с любопытством разглядывали наши бороды и кожу. И все относились к нам так дружелюбно, что вавилонская смесь языков не могла служить помехой. Скажут нам что-нибудь непонятное по-полинезийски, мы отвечаем по-норвежски и вместе хохочем. Раньше всего мы запомнили слово «нравится», а так как при этом достаточно было показать на то, что вам нравилось, и вы тотчас получали желаемое, все было чрезвычайно просто. Если же, произнося «нравится», сморщиться — это означало «не нравится». Этим запасом слов вполне можно было обойтись.
Как только мы познакомились со всеми ста двадцатью семью жителями деревни, для обоих вождей и нашей шестерки был накрыт длинный стол, и девушки начали подавать всякие лакомые блюда. Пока одни накрывали, другие принесли венки — большие повесили нам на шею, маленькие надели на голову. Цветы упоительно благоухали и приятно освежали кожу. К вот начался пир по случаю встречи, пир, который кончился, лишь когда мы покинули остров. От одного вида такого угощения у нас слюнки потекли. Стол ломился под тяжестью жареных поросят, цыплят, уток, свежих омаров, полинезийских рыбных блюд, хлебных плодов, папайи и кокосового молока. Мы набросились на угощение, а раройцы для нашего увеселения пели песни, и девушки танцевали вокруг стола.
Ребята чувствовали себя отлично, и, наверно, у нас был потешный вид, когда мы, увенчанные цветами, тряся длинными бородами, расправлялись с кушаньями. Вожди не меньше нашего наслаждались жизнью.
После трапезы началось роскошное представление. Раройцы решили показать нам все свои танцы. Нас и вождей рассадили в первом ряду «партера», затем вышли два гитариста и, присев на корточках, забренчали настоящие полинезийские мелодии. В кольце зрителей, которые пели, тоже сидя на корточках, появились, вращая бедрами, танцоры в два ряда — женщины в шуршащих юбках из пальмовых листьев и мужчины. Запевала веселая пылкая толстуха, у которой была только одна рука: вторую отхватила акула. Поначалу танцоры нервничали, держались как-то принужденно, но, убедившись, что гостям с паэ-паэ по душе старинные полинезийские пляски, повели себя проще. В ряды танцоров встало несколько человек постарше, они превосходно владели ритмом и искусно исполняли танцы, несомненно ставшие редкостью. И чем ниже склонялось солнце, тем более темпераментной становилась пляска и росло ликование зрителей. Нас уже не воспринимали как чужих, мы стали для них своими и веселились со всеми заодно. Программе не было конца, один захватывающий номер сменялся другим. Вот группа молодых мужчин села в плотный круг у наших ног. По знаку Тупу-хоэ они принялись отбивать такт ладонями по земле. Сперва медленно, потом все быстрее и стройнее, и вдруг к ним присоединился барабанщик, который колотил двумя палками по выдолбленной сухой колоде, извлекая из нее резкий, сильный звук. Наконец ритм достиг нужного накала, и зазвучала песня, а затем в кругу внезапно появилась девушка с венком на шее и цветком за ухом. Босые ступни и согнутые колени задавали ритм, бедра вращались, и руки извивались над головой — словом, настоящий полинезийский танец. Она великолепно танцевала, и все принялись отбивать такт кулаками.
Еще одна девушка вбежала в круг, за ней третья. Они двигались поразительно гибко, в безупречном ритме, скользя, будто тени, друг около друга. Глухие удары о землю, звонкая барабанная дробь и песенное сопровождение наращивали темп, и танец становился все стремительнее. Зрители старательно подпевали и хлопали в лад.
Древняя Полинезия ожила перед нами. Мерцали звезды, мерно качались пальмы. Долгую теплую ночь наполняло благоухание цветов и пение цикад. Тупухоэ, сияя всем лицом, хлопнул меня по плечу.
— Маитаи? — спросил он.
— Э, маитаи, — ответил я.
— Маитаи? — повторил он, обращаясь к остальным.
— Маитаи, — дружно отозвались они, и никто не морщился.
— Маитаи, — кивнул Тупухоэ, показывая на себя: ему тоже нравился праздник.
Даже Тека был доволен. И он сказал нам, что впервые белые видят пляски жителей Рароиа. Все быстрее, быстрее мелькали барабанные палочки и хлопающие ладони, от них не отставали песня и танец. Одна из танцовщиц остановилась перед Германом и, продолжая плясать, протянула к нему извивающиеся руки. Герман усмехнулся в бороду, не зная, как реагировать.
— Принимай вызов, — прошептал я, — ты ведь хорошо танцуешь.
И к неописуемому восторгу толпы Герман вошел в круг, слегка присел и начал извиваться, как того требует хюла. Бурное ликование! Скоро Бенгт и Торстейн тоже пошли плясать. Не жалея пота, они старались не отстать от бешеного ритма. Но вот стук барабана перерос в сплошной гул, три солистки, трепеща, как осиновый лист, опустились на землю, и тотчас барабан смолк.
Выступление моих друзей вызвало всеобщий восторг, и настроение публики поднялось еще выше.
Следующим был исполнен танец птиц — один из древнейших ритуалов Рароиа. Мужчины и женщины двигались в два ряда, изображая две стаи птиц. Дирижер танца, который носил звание вождя птиц, исполнял замысловатые движения, но в самом танце не участвовал. Когда номер кончился, Тупухоэ объяснил, что он был исполнен в честь плота и будет теперь повторен, но уже со мной в роли дирижера. Я успел подметить, что главной задачей дирижера было издавать дикие вопли и скакать вприсядку, вращая бедрами и размахивая руками над головой, а потому, надвинув на лоб венок, смело вышел на сцену. Глядя на мои коленца, старина Тупухоэ от хохота чуть не упал со скамейки. Музыкальное сопровождение было не ахти какое, так как хор и оркестр хохотали не меньше вождя.
После этого все пошли танцевать, и стар и мал. Барабанщик со своим ансамблем снова заиграли вихревую хюлу-хюлу. Первыми в круг вошли девушки и задали бешеный ритм, затем стали по очереди приглашать нас; остальные сами, без приглашения, присоединялись к танцу, часто-часто подпрыгивая и извиваясь.
Один Эрик сидел, как вкопанный. Сырость и ветер на плоту вызвали к жизни его старый радикулит, и теперь он важно восседал на скамейке, дымя трубкой, будто старый шкипер. Тщетно девушки пытались заманить его в круг. В широченных штанах из овчины, которые выручали его ночью в холодном течении Гумбольдта, голый по пояс и с окладистой бородой он был вылитый Робинзон Крузо. Юные красавицы и так и этак его улещивали — все напрасно. Увенчанный цветами Эрик знай себе с серьезным видом попыхивал трубкой.
Но тут в круг вышла рослая мускулистая матрона. Она кое-как изобразила несколько па хюлы и решительно подошла к Эрику. Он испуганно воззрился на нее, но амазонка с обольстительной улыбкой схватила его за руку и сдернула со скамейки. Чудесные штаны Эрика были надеты мехом внутрь, и сзади из дыры выглядывал белый клок, вроде заячьего хвоста. Держа в одной руке трубку, а другой прижимая больное место, Эрик нехотя побрел за дамой. Когда он запрыгал под музыку, ему пришлось отпустить штаны, чтобы поймать спадающий с головы венок, однако тут же он опять схватился за штаны: они поехали вниз под собственной тяжестью. Ковыляющая перед ним толстуха представляла собой не менее потешное зрелище, и мы хохотали, как сумасшедшие. И вот уже все бросили танцевать, хохочут, так что пальмы трясутся. Только Эрик с партнершей-тяжеловесом продолжали грациозно подскакивать, пока хохот
не сморил хор и оркестр.
Праздник продолжался, и только на рассвете нам дали передышку, но сперва пришлось еще раз пожать руку каждому из ста двадцати семи жителей поселка. Это повторялось каждое утро и каждый вечер, сколько мы жили на острове.
В деревне удалось наскрести для нас шесть кроватей, которые расставили в ряд в доме собраний, и мы уснули на них, будто гномы из сказки, с висящими в изголовье венками.
На следующий день шестилетнему мальчугану, у которого был карбункул на голове, стало совсем плохо. Температура поднялась почти до сорока двух, и опухоль на макушке, в кулак величиной, беспощадно нарывала. Еще несколько нарывов поменьше было у него на пальцах ног.
Тека сказал, что эта болезнь сгубила у них уже немало детей, и если среди нас нет врача, дни мальчугана сочтены. У нас был с собой пенициллин в таблетках, но мы не знали, сколько можно дать ребенку. Если малыш умрет во время лечения, это может плохо кончиться для нас.
Кнют и Торстейн вытащили радиостанцию и натянули между самыми высокими пальмами направленную антенну. Вечером они снова связались с нашими заочными друзьями в Лос-Анджелесе — Галом и Фрэнком. Фрэнк позвал врача, и мы отстучали ключом симптомы болезни, а также что есть в нашей аптечке. Фрэнк передал нам ответ врача, и мы среди ночи отправились в хижину к маленькому Хаумате, который метался в жару, окруженный причитающими раройцами: там, наверное, полдеревни собралось.
Герман и Кнют занялись врачеванием, на долю остальных выпала нелегкая обязанность сдерживать натиск родичей. Мать мальчугана пришла в ужас, когда мы явились с ножом в руках и потребовали кипятку. Обрив больного наголо, мы вскрыли нарыв. Гной бил фонтаном, и мы едва поспевали выгонять из хижины прорвавшихся жителей. Да, невеселая история. Очистив и продезинфицировав гнойник, мы обмотали голову мальчугана бинтами и начали курс пенициллина. Двое суток он получал таблетки через каждые четыре часа. Температура упорно держалась, и мы продолжали выкачивать гной, а вечером брали радиоконсультацию у врача в Лос-Анджелесе. Наконец температура резко упала, вместо гноя пошла сукровица, и мальчик сразу повеселел, только поспевай показывать ему картинки из странного мира белых людей, с автомобилями, коровами и многоэтажными домами.
Через неделю Хаумата уже играл на берегу с другими детьми, правда, с забинтованной головой, но и повязку мы скоро сняли.
После такого успеха к нам повалили больные. У всех болели зубы и живот, да и нарывов хватало. Мы направляли пациентов к доктору Кнюту и доктору Герману, которые прописывали диету и щедрой рукой раздавали пилюли и мази. Кое-кто поправился, и никому не стало хуже, а когда аптечка опустела, мы принялись успешно пользовать страдающих истерией старух овсянкой и густым какао.
Прошло несколько дней, и празднества вылились в новое торжество. Нам предстояло пройти посвящение в граждан Рароиа и получить полинезийские имена. Даже мое второе имя, Тераи Матеата, не годилось. Пусть меня так зовут на Таити, но не здесь.
Посреди площади поставили шесть скамеечек для нас, и раройцы собрались заблаговременно, чтобы занять места получше. Тека с важным видом сидел вместе со всеми. Он, конечно, вождь, но, когда дело касалось древних ритуалов, бразды правления переходили к Тупухоэ.
Молчаливые и серьезные, все терпеливо ждали. И вот, опираясь на суковатую палку, торжественно, не спеша идет плечистый, тучный Тупухоэ. Это был другой, серьезный Тупухоэ. Словно погруженный в глубокую думу, он подошел и остановился перед нами — прирожденный вождь, великолепный оратор и артист.
Указывая своей палкой поочередно на запевал, барабанщиков и дирижеров танца, Тупухоэ негромко и сдержанно отдал им краткие распоряжения. Потом опять повернул к нам выразительное смуглое лицо и вдруг широко раскрыл свои глазища, так что огромные белки засверкали вперегонки с зубами. Поднял палку и начал сыпать старинными заклинаниями, причем его понимали только старики, потому что он говорил на древнем, забытом наречии.
Затем Тупухоэ рассказал (Тека переводил), что первого короля, который поселился на этом острове, звали Тикароа, и Тикароа правил всем атоллом, сколько он тянется с севера на юг и с востока на запад, а также до самого неба.
Под звуки старинной песни о короле Тикароа Тупухоэ положил мне ка грудь свою могучую длань и возвестил, что нарекает меня именем Вароа Тикароа — Дух Тикароа.
Когда смолкла песня, наступила очередь Германа и Бенгта. Их тоже коснулась смуглая ручища вождя, и один получил имя Тупухоэ-Итетахуа, а второй — Топакино. Так звали двух древних героев, которые вышли на бой с морским чудовищем у входа в лагуну Рароиа и убили его.
Барабанщик выбил бешеную дробь, и вперед выскочили два крепыша в набедренных повязках, с длинными копьями в каждой руке. Начался марш на месте, они поднимали колени до самой груди и угрожающе потрясали копьями, вращая головой из стороны в сторону. Новый всплеск барабана, танцоры высоко подпрыгнули, и начался удивительно совершенный по ритму воинственный танец, настоящий балет. Танец, изображавший схватку героев с морским чудовищем, длился недолго. Новая песня, новый ритуал, и Торстейн получил имя Мароаке в честь одного из древних королей деревни. Эрика и Кнюта окрестили Тане-Матарау и Тефаунуи — так звали двух знаменитых героев-мореплавателей. Сопровождавший их крещение длинный рассказ исполнялся речитативом в головокружительном темпе. Эта бешеная скороговорка призвана была одновременно поразить и позабавить слушателей.
И вот ритуал окончен, снова среди полинезийцев Рароиа появились белые вожди. Вышли в два ряда танцоры и танцовщицы в лубяных юбках и с лубяными коронами на голове. Приплясывая, они приблизились к нам и надели на нас свои короны. Вокруг пояса нам обвязали шуршащие юбки, и праздник продолжался.
Среди ночи обвешанные венками радисты связались с коротковолновиком на Раротонга и приняли от него послание Для нас с Таити. Губернатор Французской Океании тепло Приветствовал нашу шестерку.
По команде из Парижа он поручил правительственной шхуне «Тамара» забрать нас и доставить на Таити, так что нам не надо было ждать, когда появится торговая шхуна. Таити — центр французских колоний в Тихом океане, через него шло все сообщение с внешним миром. Только там могли мы попасть на рейсовый теплоход, чтобы вернуться к себе на родину.
Праздник на Рароиа шел своим чередом. Но вот однажды ночью с моря донеслись странные звуки, и наблюдатели доложили, что у входа в лагуну остановилось судно. Мы бегом пересекли пальмовую рощу и выскочили к морю с подветренной стороны острова. Отсюда открывался вид на запад, где прибой был куда слабее, чем с той стороны, откуда мы пришли на плоту.
У самого входа в лагуну светились судовые огни. Ночь была ясная, звездная, и мы разглядели контуры широкой двухмачтовой шхуны. Может, это и есть шхуна губернатора? Но почему она не заходит?
Островитяне о чем-то взволнованно говорили. Наконец и мы рассмотрели, в чем дело: судно накренилось, грозя совсем опрокинуться на бок. Напоролось на притаившийся под водой риф.
Торстейн посигналил фонарем:
— Как называется судно?
— «Маоаэ», — передали в ответ.
Так звали торговую шхуну, которая скупала копру на островах. Теперь она направлялась на Рароиа. Капитан и его команда были полинезийцы и знали наперечет все рифы, но в темноте их подвело коварное течение. Хорошо еще, что сторона подветренная и море спокойное. Впрочем, выходящих из лагуны струй следовало остерегаться. «Маоаэ» кренилась все сильнее, и команда перешла в спасательную лодку. Привязав к верхушкам мачт крепкие канаты, они отвезли концы на берег и обмотали вокруг пальм, не давая шхуне опрокинуться. Потом с помощью других тросов впрягли лодку в судно, чтобы попробовать, как начнется прилив, стащить «Маоаэ» с рифа. Тем временем раройцы спустили на воду все аутригеры и принялись спасать груз. На борту было 90 тонн драгоценной копры. Партию за партией они перевезли все мешки на сушу.
Прилив приподнял «Маоаэ», но недостаточно — судно начало биться о кораллы, и появилась пробоина в днище. И когда рассвело, стало видно, что положение только ухудшилось. Команда оказалась бессильной, разве стащишь с рифа 150-тонную шхуну, располагая только спасательной лодкой и аутригерами. Беда… Если будет и дальше так биться, весь корпус развалится. А как разгуляется море, подхватит шхуну прибой и разнесет вдребезги о барьерный риф.
И радио нет. Правда, у нас был передатчик, но пока с Таити придет спасательное судно, «Маоаэ» уже превратится в развалину. И тем не менее вторично за месяц добыча ускользнула от рифа Рароиа.
В полдень на западном горизонте показалась «Тамара». Ее выслали за нами, и команда изрядно удивилась, увидев вместо плота беспомощно бьющуюся на рифе шхуну.
На «Тамаре» находился французский администратор архипелагов Туамоту и Тубуаи, мсье Фредерик Анн, которому губернатор поручил встретить нас. На борту было еще два француза — кинооператор и радист; капитан и вся команда были полинезийцы. Мсье Анн родился на Таити и хорошо знал морское дело. Он принял на себя командование «Тамарой», на радость капитану, который был только рад избавиться от ответственности в столь опасных водах. Держась в сторонке от лабиринта подводных камней и коварных течений, мсье Анн подал толстые тросы на «Маоаэ» и начал маневрировать. От него требовалось немалое искусство, потому что приливно-отливные течения грозили затащить на риф обе шхуны.
В прилив «Маоаэ» снялась с рифа, и «Тамара» отвела ее на глубину. Но сквозь пробоины в днище хлестала вода, и пришлось поспешно буксировать «Маоаэ» в лагуну, где было помельче. Трое суток шхуна стояла у деревни, грозя вот-вот затонуть. Помпы работали день и ночь, и лучшие ловцы жемчуга из местных, вооружившись свинцовыми заплатами и гвоздями, заделали самые большие щели, так что «Маоаэ» могла в сопровождении «Тамары» своим ходом добраться до верфи на Таити.
После того как «Маоаэ» подготовили к переходу, мсье Анн провел «Тамару» между отмелями через лагуну к острову Кон-Тики. Взяв плот на буксир, он пошел к выходу из Раройской лагуны. «Маоаэ» двинулась следом, чтобы команда, если в пути откроется сильная течь, могла перейти на «Тамару».
До чего же грустно было расставаться с Рароиа. Островитяне, стар и мал, пришли на мол, от которого отчалила шлюпка, и пели полюбившиеся нам песни.
Среди толпы выделялась могучая фигура Тупухоэ, который держал за руку маленького Хаумату. Мальчик плакал, да и по щекам могущественного вождя катились слезы. Наверное, не было на берегу человека, который бы не прослезился, но они продолжали петь и играть, и мы слушали, пока все звуки не потонули в реве прибоя на барьерном рифе.
Раройцы проводили песней шестерых друзей, мы оставили на берегу сто двадцать семь верных товарищей. Молча выстроившись у фальшборта, мы смотрели на остров, пока мол не растворился среди пальм, а пальмы не ушли за горизонт. Но еще долго в ушах звучала необычная музыка.
«…И пусть у нас будут общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе, даже когда вы уедете в дальние страны. Здравствуйте…»
Через четыре дня из моря вдали вынырнул Таити. Но не гирлянду зеленых метелок увидели мы на этот раз, а суровые, дикие скалы и рвущуюся к нему голубую вершину с венком из косматых облаков.
Когда мы приблизились, на синих склонах проступили зеленые пятна. Пышная тропическая растительность скатывалась вниз по ржаво-красным обрывам и глинистым косогорам в опускающиеся к морю глубокие ущелья и долины. И уж когда осталось совсем немного до берега, мы разглядели стройные пальмы, они густо росли в долинах и вдоль всего побережья, за золотистой полоской пляжа. Таити обязан своим рождением вулканам. Но они потухли, и коралловые полипы оградили остров барьерным рифом, не давая океану разрушить его.
Рано утром мы через проход в рифе вошли в гавань Папеэте. Сквозь листву могучих деревьев и пальмовые кроны проглядывали шпили церквей и красные черепичные крыши. Папеэте — столица Таити и единственный город во всей Французской Океании. Город радости, резиденция властей и узел всего транспорта в восточной части Тихого океана.
На пристани сплошной живописной стеной стоял народ. На Таити все новости распространяются с быстротой ветра, и каждому хотелось посмотреть на паэ-паэ, который пришел в Полинезию из Америки.
«Кон-Тики» отвели на почетное место возле набережной, и бургомистр Папеэте произнес приветственную речь, а совсем юная полинезийка преподнесла нам огромный венок из диких цветов от Полинезийского Общества. Потом девушки повесили благоухающие белые венки на шею каждому из нас. Добро пожаловать на Таити, жемчужину Полинезии!
Я искал взглядом моего крестного отца Терииероо, предводителя семнадцати вождей Таити. Вот он! Высокий, тучный, такой же живой, как прежде, Терииероо вышел вперед и, широко улыбаясь, крикнул: «Тераи Матеата!» Он постарел, но сохранил величественную осанку.
— Долго ты заставил себя ждать, — улыбнулся вождь. — Зато приехал с добром. Поистине твой паэ-паэ доставил на Таити голубое небо (тераи матеата), ведь теперь мы знаем, откуда пришли наши предки.
Состоялся прием у губернатора, потом был праздничный обед в муниципалитете, а затем на нас посыпались приглашения со всех концов гостеприимного острова.
В памятной мне долине Папено вождь Терииероо устроил большой праздник, как в старые добрые времена. И так как Рароиа — одно, а Таити — совсем другое, опять состоялись крестины, мои товарищи получили имена таитянских вождей.
Мы жили беспечно под синим небом с белыми облаками. Купались в лагуне, лазали по горам и танцевали хюлу на траве под пальмами. Дни складывались в недели, а недели грозили сложиться в месяцы, прежде чем придет судно, которое доставит нас домой, где каждого ждали дела.
И вдруг из Норвегии сообщили, что Ларс Кристенсен велел пароходу «Тур I» по пути с Самоа зайти на Таити, чтобы переправить членов экспедиции в Америку.
Рано утром 4000-тонное норвежское судно вошло в гавань Папеэте, и французский военный корабль отбуксировал «Кон-Тики» к борту его соотечественника-великана, который опустил громадную железную руку и поднял меньшого брата на палубу. Над побережьем раскатились мощные гудки пароходной сирены. Толпы людей, коричневых и белых, заполнили набережную Папеэте и хлынули на борт парохода с прощальными подарками и цветами. Стоя у поручней, мы вытягивали шею, словно жирафы, силясь высвободить подбородок из венков.
— Если хотите вернуться на Таити, — крикнул вождь Терииероо, когда прозвучал последний гудок, — бросьте в лагуну венок, как только отчалите!
Отданы швартовы, зарокотала машина, винт принялся перемешивать зеленую воду, и мы боком, медленно отошли от пристани.
И вот уже красные крыши пропали за пальмами, пальмы растворились в синеве горного склона, а гора беззвучно канула в Тихий океан.
В синем море плескались волны. Но теперь мы не могли до них дотянуться. В голубом небе плыли белые пассатные облака. Но нам было не по пути с ними. Мы шли наперекор стихиям. Возвращались к двадцатому столетию, и до него еще было далеко-далеко.
Мы стояли на палубе, все живы-здоровы, а в лагуне Таити тихие волны снова и снова прибивали к отлогому берегу шесть белых венков.
Фотоматериалы
В Нью-Йоркском Клубе исследователей. Тур Хейердал второй справа
 Бальса сплавляется по реке к морю
Бальса сплавляется по реке к морю
 Девять бревен в порту Кальяо
Девять бревен в порту Кальяо
 Скоро плот будет готов
Скоро плот будет готов
 На парусе — голова древнего бога Кон-Тики
На парусе — голова древнего бога Кон-Тики
 Мы увидели китовую акулу
Мы увидели китовую акулу
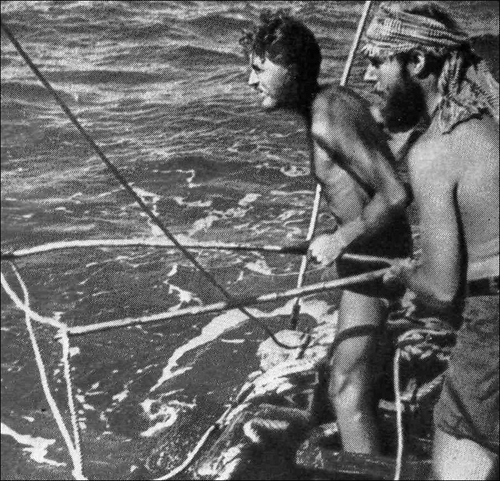 Вот такие тунцы нам попадались!
Вот такие тунцы нам попадались!
 Хессельберг часто брал в руки гитару
Хессельберг часто брал в руки гитару
 Акул мы вытаскивали из воды за хвост
Акул мы вытаскивали из воды за хвост
 Рекордный трофей
Рекордный трофей
 На руле
На руле
 Бенгт Даниэльссон (сидит первый слева) считал наш рейс лучшим отпуском в своей жизни
Бенгт Даниэльссон (сидит первый слева) считал наш рейс лучшим отпуском в своей жизни
 С мачты виднее
С мачты виднее
 В открытом океане
В открытом океане
 «Кон-Тики» на рифе
«Кон-Тики» на рифе
 Подходим к полинезийским островам
Подходим к полинезийским островам
 До острова рукой подать
До острова рукой подать
 Эти орехи мы привезли с собой из Южной Америки
Эти орехи мы привезли с собой из Южной Америки
 Последние метры
Последние метры


Тур Хейердал
Экспедиция “Тигрис”
Тур Хейердал
Перевод с английского Л. Л. Жданова
М.: Физкультура и спорт, 1981
Сканирование, OCR, вычитка - Владислав Володин
К советскому читателю
Парни с севера и юга, востока и запада шли вместе со мной на борту камышовой ладьи «Тигрис». Кое-кто из них уже ходил со мной через океан на примитивных лодках-плотах и помог показать, что даже в стесненных и трудных условиях можно не только мирно сосуществовать, но и по-братски сотрудничать. К тому же участники плавания обзавелись новыми друзьями не только на суше, но и на море. Из моей книги вам будет понятно, почему мне хочется передать свои наилучшие личные пожелания и приветствия моим многочисленным советским читателям: я надеюсь, что среди них окажутся многие из тех, кто так или иначе оказывал нашей команде дружескую помощь во время строительства ладьи в Иране, при спуске на воду и когда мы встретились с первыми серьезнейшими трудностями в море. Всем им мы говорим искреннее «спасибо».
За здоровье всех нас на борту «Тигриса» отвечал представитель Советского Союза Юрий Александрович Сенкевич, который до того был экспедиционным врачом во время обоих плаваний «Ра» через Атлантику. Юрий согласится со мной, что важнее всех прекрасных лекарств, которые он на всякий случай захватил с собой, для нашего здоровья было то, что мы сами привезли из дома: отменная физическая форма. Самая лучшая профилактика от болезней — физические упражнения в виде напряженного физического труда, разумного спорта и гимнастики. От тела, в котором легкие и кровеносная система стимулируются активной работой мышц, и мозгу польза.
Если кто-то из членов экспедиции не выдержит физического или психического напряжения, это может обернуться плохо для всех остальных. Экспедиционный врач нужен на случай болезни или травм, но даже современная космическая медицина не преподаст нам лучшего урока, чем тот, который содержится в знаменитом древнем изречении:
в здоровом теле — здоровый дух.
Тур Хейердал
Глава I. В поисках начал
Начало... Начало всех начал...
Это отсюда все пошло.
Здесь начиналась письменная история. Здесь родилась мифология. Здесь помещались истоки трех из числа самых могучих религий в истории человечества. Около двух миллиардов христиан, иудеев и мусульман во всех концах света узнают из своих священных книг, что именно это место выбрал их бог, чтобы даровать жизнь человечеству.
Две большие неторопливые реки сливаются здесь воедино, и место их встречи обозначено на всех картах мира. Однако на вид знаменитое слияние Тигра и Евфрата ничем не примечательно. Безмолвны, как сами реки, узкие шеренги финиковых пальм вдоль берегов. Солнце и луна хранят свои секреты, исправно навещая древний пустынный ландшафт и озаряя бликами дня и ночи тихие струи. Изредка проплывает лодка с людьми, забрасывающими рыболовные сети.
Здесь, полагает большинство человечества, находилась колыбель гомо сапиенс, находился утерянный рай.
Миновав последнюю зеленую полоску суши, разделяющую их, Тигр и Евфрат приветствуют друг друга плавными завихрениями и, соединясь, словно супруги, образуют великую реку Шатт-эль-Араб, которая тут же пропадает из виду за изгибом берега в пальмовой оторочке. На самом мысу между двумя потоками некогда была построена — а потом почти заброшена — маленькая гостиница. Три номера для постояльцев, широкий холл и еще более широкая терраса с видом на восход за рекой Тигр — вот и все здание. Но какое впечатляющее название начертано большими буквами над входом: ГОСТИНИЦА «САДЫ ЭДЕМА».
Впрочем, столь импозантное имя как будто оправданно, если принимать за истину то, что написано на висящей неподалеку доске. В нескольких десятках шагов от гостиницы, за лужайкой, достаточно широкой, чтобы на ней можно было строить небольшое судно, над рекой Тигр склонились два-три неказистых зеленых деревца. На земле между ними лежит толстая колода — остаток упавшего дерева неизвестной породы, однако удостоенный почестей в виде горящих свечей. Незатейливое святилище торжественно обнесено оградой. Иногда сюда приходят посидеть и предаться раздумьям старики из близлежащего городка Эль-Курны. Доска с текстом на английском языке, а также каменная плита с арабской вязью извещают редких прохожих, что здесь обитали Адам и Ева. И что будто бы сюда ходил молиться пророк Авраам. В самом деле, если верить Библии, то Авраам родился в Уре, а до Ура отсюда несколько часов езды.
Разумеется, на давно истлевших ветвях старого дерева не висели никакие яблоки. И вряд ли Авраам приходил поклониться сему отрадному уголку природы — ведь за последние тысячелетия уровень земли в здешних местах поднялся примерно на шесть метров, так что и течение рек изменилось. Тем не менее место встречи двух рек и весь этот край заслуживают почтительного раздумья. Здесь завязалось что-то важное для вас, для меня, для большинства людей земного шара.
Внеся свои вещи в гостиницу «Сады Эдема», я вышел на террасу посмотреть, как по воде расходятся бесшумные круги — следы охотящейся рыбы. В это время солнце за моей спиной, уйдя за горизонт, растянуло в небе красный занавес, и подкрашенное кровью зеркало реки Тигр отразило черные силуэты финиковых пальм на другом берегу. Сказочная атмосфера... А как же иначе! Ведь я прибыл на родину «Тысячи и одной ночи», «Волшебной лампы Аладдина», ковров-самолетов и Синдбада-Морехода. На этих берегах жили Али-Баба и сорок разбойников. Ниже по течению эти струи омывают остров Синдбад, названный в честь величайшего сочинителя морских небылиц, героя арабских сказок. А начинается Тигр на склонах подпирающих небо гор Араратских, к которым, по иудейским преданиям, пристал со своим ковчегом знаменитейший судостроитель всех времен Ной. Недалеко от берегов Тигра скромные дощечки и поныне указывают путь к освященным веками городам-призракам, вроде Вавилона и Ниневии, чьи библейские стены упорно тянутся к небесам, стряхивая с себя пыль и кирпичную крошку. Реактивные лайнеры скользят над вечным городом Багдадом, где современные краны и здания запрудили пространство среди минаретов и золотых куполов.
Люди разных племен и постройки разных эпох естественно сочетаются в арабской республике, расположенной между Западом и Востоком и знакомой нам под названием «Ирак». Месопотамия — Страна между реками — выразительно наименовали завоеватели-греки этот край, но еще до того он сменил много имен, которые древний мир произносил с трепетом, благоговением и восхищением. Наиболее известные среди них — Шумер, затем Вавилония и Ассирия. Со времен пророка Мухаммеда здесь пролегают восточные рубежи арабского мира.
Где некогда зеленели тучные пастбища и орошаемые нивы, через бесплодную пустыню протянулись нефтепроводы с горючим, позволяющим исполнить любые желания не хуже лампы Аладдина. Над оскудевшей землей символами чередующихся цивилизаций возвышаются храмовые пирамиды, минареты и нефтяные вышки. Неподалеку от старого русла Евфрата, южнее Багдада, на полпути от столицы до Садов Эдема, дорога минует огромную бесформенную груду битого кирпича. Установленный на этой груде указатель вызывает в памяти классическую легенду о первой попытке человека строить выше, чем ему предначертано. Указатель гласит: ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ.
Дорога устремляется дальше в сторону полуденного солнца. Через безбрежную, бесплодную равнину с такими колоритными арабскими городишками, что кажется: вон там Синдбад сидит на приступке, а вон там среди люда на рыночной площади толкается Али-Баба, вы из былых владений могущественной Вавилонии попадаете в приморье, откуда все пошло, попадаете в Южный Ирак, известный в древности под именем Шумера.
Ровная, голая пустыня доходит до самого залива. Лишь в зоне паводка, где сливаются неторопливо два потока, простерлись обширные зеленые болота, кишащие птицей и рыбой. Здесь, посреди зарослей камыша и тростника, с незапамятных времен сохранилась совершенно уникальная община. Наверно, в жилах болотных жителей больше шумерской крови, чем у любого другого арабского племени. И кажется, что реки, берущие начало в Араратских горах, пройдя долгий путь через опаленные солнцем пределы бывшей Месопотамии, изливают через край свою радость от встречи с непокоренными временем болотными арабами. Словно изо всех потомков Ноя только эти люди были наделены даром вечной жизни, меж тем как одно за другим рушились кругом сменяющие друг друга могущественные государства.
Пустыня, осаждающая со всех сторон весеннюю зелень болот, поглотила древний народ шумеров. Мерцающие волны сухого песка захлестнули воздвигнутые в честь забытых ныне богов огромные храмовые пирамиды, погребли заброшенные города, правители которых обратились в прах. Некогда благодатная земля ныне стала миром безмолвия, безжизненным, как Северный полюс на холсте в картинной галерее. От края до края тянутся, будто заснеженные трещины во льдах, выемки оросительных систем и судоходных каналов. И ни капли воды в них, ни одного зеленого побега.
Перед вами кладбище целой цивилизации, древнейшего предка нашей собственной культуры. Если вам дороги наши истоки, вы не пройдете безучастно мимо того, что открыли под здешними песками детективы от археологии. Ибо в этом сокровенном мире смерти и праха слово человеческое продолжает призрачную жизнь, готовое вновь заговорить, как только его исторгнут из объятий песков. Среди раскопанных дворцов и жилищ ученые обнаружили подлинные библиотеки — десятки тысяч глиняных плиток с выдавленными на них знаками древнейшей известной нам письменности. Первоначальное шумерское письмо было идеографическим, но идеограммы вскоре уступили место более простым для начертания клиновидным знакам.
В гробницах и храмах археологи находили также изумительнейшие изделия из золота и серебра, выполненные с таким вкусом и свидетельствующие о таком высоком уровне цивилизации, что в наши дни есть простодушные люди, допускающие, что исчезнувшие творцы этих предметов были пришельцами из космоса. Научные отчеты археологов крайне редко доходят до широких читательских кругов, зато двери издательств и телевидения были широко открыты для тех, кто шел туда со своими сочинениями о гостях из космоса, которые будто бы строили пирамиды и насаждали цивилизацию среди варварских аборигенов нашей планеты. Фантастические истории такого рода распространяются по всем странам с молниеносной скоростью, и это в наш век, когда земляне уже высаживались на Луне. Эти истории призваны утолить растущую жажду современного человека познать неизвестное: кто мы, от кого происходим, с чего все началось? Ученые бессильны противостоять глобальной лавине инопланетных решений этих общечеловеческих вопросов. Их серьезные и убедительные научные возражения не доходят до ушей широкой публики. Оттого и продолжают свое шествие развлекательные гипотезы о космических кораблях.
Что могли бы поведать нам первые шумеры, сумей мы воскресить их из мертвых? Ведь это они, если верить сочинителям, встречали цивилизованных пришельцев, а то и сами произошли от инопланетян.
Да только нет необходимости воскрешать шумеров, чтобы выслушать их свидетельские показания. Они не были лишены дара речи. До нас дошли их письменные свидетельства. Глиняные плитки запечатлели рассказ о том, откуда и как они явились. Корабли были, но не космические, а морские. Они пришли в залив под парусами, и древнейшие произведения шумерского искусства показывают нам, как выглядели суда, доставившие этих людей к берегам страны в междуречье, где они основали цивилизацию, влияние которой в последующие тысячелетия так или иначе сказалось во всех уголках нашей планеты.
Правда, письменные показания шумеров как будто заменяют одну загадку другой. Что это за страна Дильмун на востоке, откуда прибыли, по их словам, шумерские мореплаватели?
В поисках недостающего фрагмента огромной головоломки я вновь и вновь приезжал в Ирак, чтобы воочию ознакомиться с подлинными древними свидетельствами и почерпнуть практической мудрости у нынешних обитателей болотного края. Суть головоломки заключается в том, что начало истории неизвестно. На нынешнем уровне наших знаний все начинается с того, что откуда-то приплыли мореходы, представители развитой цивилизации. Но какое же это начало! Это продолжение — продолжение чего-то теряющегося во мгле. Может быть, начало все еще таится под слоем песка, как таилась шумерская цивилизация, которая оставалась неведомой для науки, пока ее не открыли в прошлом веке при раскопках в Южном Ираке? Или оно было погребено вулканическим извержением, как это случилось с великой средиземноморской цивилизацией на острове Санторин, о которой ничего не подозревали, пока не наткнулись на нее под пятнадцатиметровым пластом пепла? А может быть, ее поглотили покрывающие две трети нашей беспокойной планеты воды океана, как говорится в столь живучей легенде об Атлантиде?
Если верить шумерам (а кому, как не им, знать об этом?), их купцы-мореплаватели не раз возвращались в Дильмун. Выходит, в то время их родина не была погребена под вулканическим пеплом и не ушла под воду. И находилась она в пределах досягаемости для шумерских судов, выходивших из шумерских портов. Один из недостающих фрагментов великой головоломки как раз в том и заключается, что никто не знает, как далеко могли ходить шумерские суда. Их мореходные качества были забыты, как были забыты сами древние судостроители и мореплаватели, и на поверхности моря не осталось никаких следов. Тот, кто занимается практическим исследованием древнейших судов, идет по непроторенным путям. Непроторенные пути приводили меня на уединенные острова Полинезии, к озерам в Андах и Центральной Африке, к берегам и рекам разных континентов. Наконец они привели меня на территорию бывшего Шумера, где в наши дни обитают болотные арабы. Здесь начались мои поиски истоков человеческой истории до известной нам точки отсчета. И здесь же началось путешествие, которое увело меня и моих товарищей далеко от дней и маршрутов действительных космонавтов. Мы возвратились в те давние дни и ночи, когда наша планета была неизмеримо больше. Когда она была так велика, что за горизонтом в любой стороне таились неизвестные, неожиданные, непривычные миры. Миры с немыслимыми растениями и животными. Люди, постройки, обычаи настолько отличные от всего известного, будто они возникли и развились на другой планете, под другим солнцем. В прошлом такие миры существовали бок о бок, разделенные барьерами глухих дебрей, но связанные вольными просторами морей. Морские пути между ними были освоены до того, как будущие шумеры поселились в Шумере. Глиняные плитки повествуют о ходивших в заморские страны царях и купцах, перечисляют длинный ряд товаров, которые ввозились или вывозились в иноземные порты. Сохранились рассказы о кораблекрушениях и других бедствиях на море. Ведь опасности — неизбежный спутник морских предприятий, пусть даже в строительство судна вложен опыт целого народа и команда знает свое дело. Читаешь плитки, и драма оживает...
— Все наверх!
Сколько раз тревожные, отчаянные возгласы тонули в рокоте прибоя или в реве яростного океана, вознамерившегося поглотить крохотное суденышко, борющееся с внезапным штормом...
— Все наверх!
Я проснулся и понял, что призыв обращен ко мне. Ко мне и к моим товарищам, которые спали рядом со мной в тесной бамбуковой рубке. Грохот наполнял ночную тьму. Вот она, явь. Меня подбрасывало так сильно, что во сне мне чудилось, будто я еду в машине с квадратными колесами. На самом деле я судорожно цеплялся за бамбуковую стойку, прижимаясь к необычному ложу, и лицо мое орошали струйки воды.
Аварийное положение! Надо выходить.
— Выходи! — крикнул я, отбрасывая пятками спальный мешок. Кто-то с фонариком в руках уже карабкался по моим ногам к узкому выходу.
Одеваться некогда. Обвязался страховочным концом — и пошел. Сейчас каждый человек нужен. Это не дурной сон, а суровая явь. Среди ночи нас неожиданно настиг шторм. Ветер и качка не давали выпрямиться в рост. Дождь и соленые брызги хлестали кожу. Мы передвигались вслепую от штага к штагу, цеплялись за бамбуковую стенку, нащупывая фонариками парус и снасти, на которые легла непосильная нагрузка.
— Всем привязаться! — скомандовал я.
Буйная волна подбросила наше суденышко, и оно подпрыгнуло, будто антилопа. Стихии разбушевались. Жутко было слушать, как ревут волны и жалобно скрипит дерево. Ветер свистел в снастях и в щелях бамбуковой рубки. Керосиновые фонари потухли, и лишь один болтался на кончике мачты обезумевшим светлячком, бессильный хоть сколько-нибудь осветить палубу.
— Пусть Норман зарифит парус!
Это Юрий, держа рулевое весло, кричит взобравшемуся на рубку Карло. Команды, вопросы, сердитые возгласы на многих языках пропадали в гуле и рокоте, не доходя до ушей того, кому предназначались. Вот откуда-то донесся тревожный голос нашего штурмана Нормана. Впрочем, мы все и без слов понимали, что снасти под угрозой.
Мачта — вот наша ахиллесова пята. Парус, хоть бы и лопнул, можно починить. А двуногая мачта опирается на деревянные колодки, которые закреплены найтовами за камышовые связки. Стоит порваться веревкам или камышу, и все наши снасти вместе с парусом и мачтой унесет ветром.
Мы дружно повисли на вантах и штагах, чтобы прижать оба шпора к колодкам и спустить обезумевший грот. Внезапно над головой у нас словно прозвучал выстрел, затем жуткий треск. Судно накренилось, наклонились снасти, за которые мы держались, и я поспешил включить свой фонарик, пытаясь рассмотреть, что произошло там наверху.
Толстая стеньга разлетелась в щепки. Основной обломок болтался перед гротом, грозя распороть остроконечным изломом парус, который бился и метался на ветру, будто воздушный змей, заставляя судно все сильнее крениться на правый борт. Стремительная волна поймала угол паруса и отказывалась его выпустить. Все свободные члены команды объединили свои усилия, чтобы вырвать парусину из хватки океана. Мы приготовились к самому худшему. Обычное судно в таком положении должно было либо вот-вот опрокинуться, либо дать течь.
Но наше судно не было обычным в глазах современного мореплавателя. На таких судах некогда ходили древние шумеры. Нынешние ученые пришли к выводу, что эта конструкция годилась только для рек.
Пользуясь тем, что океан не отпускает наш грот, волна за волной с ревом обрушивались на неуправляемую ладью. Да, тут всякое может произойти, но в любом случае мы получим ответ на один из вопросов, во имя которых затеян эксперимент: каковы мореходные качества такого судна доевропейского типа? Мы для того и вышли в море, чтобы учиться, на собственной шкуре познать, какие лишения, радости и практические проблемы подстерегали шумеров. Вспомнился сухой и теплый клочок суши среди прочно вросших в землю финиковых пальм в Садах Эдема. Стал бы я выходить в плавание, если бы знал наперед, что нас ожидает? Думаю, да, стал бы. Думаю, все мы отдавали себе отчет в том, что, выходя в море на совершенно незнакомом судне, чьи качества неизвестны, надо быть готовыми к трудностям, и к лишениям.
В третий раз вышел я в океан на камышовом судне, но впервые плавание было задумано не как пассивный дрейф по воле стихий. На этот раз мы не могли рассчитывать на то, что некий морской конвейер автоматически доставит нас к месту назначения. Тем не менее опыт плаваний на папирусной ладье египетского типа был для нас большим подспорьем. Судя по всему, древнейшие конструкции шумеров и египтян восходили к общим образцам. Недаром ученые заметили, что старейшая идеограмма для понятия «корабль» в Шумере совпадает со знаком египетских иероглифов, обозначающим понятие «морской»
[24]. Она изображает серповидное камышовое судно с поперечными найтовами, причем камыш топорщится пучками на носу и на корме. Может быть, первые писцы в обеих странах восприняли элементы некогда общей письменности? Или — еще проще — оба народа унаследовали один тип судна?
Художники эпохи фараонов изобразили папирусные ладьи Древнего Египта настолько подробно, что я смог полностью воспроизвести всю конструкцию, включая такелаж и рулевое устройство, когда строил «Ра I» и «Ра II» для испытания в открытом океане. На месопотамских изображениях таких деталей нет, хотя на хранящейся в Британском музее каменной стеле из царского дворца в Ниневии показана рельефом реалистическая картина боя между ассирийцами и вавилонянами на камышовых судах. И суда были достаточно большие: двойные ряды ассирийских воинов, ворвавшись на палубу, расправляются с противником, выбрасывая мужчин и женщин за борт к рыбам и крабам. Ниневийские рельефы убедительно свидетельствуют о том, что камышовые суда Двуречья строились так же, как папирусные на Ниле.
Преобладающий мотив миниатюрных изображений на цилиндрических печатях Месопотамии — камышовые суда, на которых плавали легендарные герои, освоители новых земель. Эти суда во всем основном тождественны тем, что изображены более подробно в искусстве Ниневии и Египта.
Правда, есть одно существенное отличие. Египетские строители пользовались папирусом. В прошлом папирус рос в изобилии на берегах Нила от истоков до самой дельты. У шумеров не было папируса. Вместо этого болота Месопотамии поставляли им стебли высокого пресноводного камыша
[25], который здесь называют берди.
После двух экспериментов с ладьями египетского типа в 1969 и 1970 годах я убедился, что правильно построенное папирусное судно могло пересечь океан. Ладья «Ра I», связанная мастерами из центральноафриканского племени будума, проплыла почти через всю Атлантику, когда начали рваться найтовы. Год спустя на связанной южноамериканскими индейцами племени аймара ладье «Ра II» мы прошли до конца путь от Африки до Америки. Но
берди заметно отличается от папируса как по внешнему виду, так и по структуре. И что главное, наука утверждала, будто бы
берди жадно впитывает воду. Правда, в наше время только один ученый, финн Армас Салонен, серьезно занимался судами Древней Месопотамии.
В его скрупулезном исследовании разных судов Двуречья почти ничего не сказано про
элеп урбати — камышовые ладьи, есть только ссылка на господствующее убеждение, что они быстро пропитывались водой «и после употребления их, несомненно, приходилось вытаскивать на берег для просушки»
[26].
То же самое говорят и остальные, весьма немногочисленные, источники по этому предмету. Стало быть, шумерские камышовые суда могли ходить только по рекам.
Но как согласовать современный вердикт с древними текстами и изображениями? Именно этот вопрос и привел меня в гостиницу «Сады Эдема». Я приехал на земли Древнего Шумера, чтобы попытаться разрешить теоретическое противоречие практическим экспериментом. Проверить, как долго сохраняет плавучесть ладья из
берди, и попробовать пройти описанными на глиняных плитках маршрутами в Дильмун, Макан, Мелухху и другие таинственные и давно забытые страны.
К древу Адама меня привела чистая случайность. Среди болот и на речных берегах я искал надежное и удобное место для строительства и спуска на воду камышовой ладьи. Ближе к Аравийскому заливу все пригодные участки были заняты современными городами и промышленными предприятиями; выше по течению — свои препятствия: топи, трясины, фиговые плантации, крутые обрывы. И тут представители иракского Министерства информации показали мне свободную лужайку возле Адамова древа и любезно предложили разместить членов экспедиции в гостинице «Сады Эдема». В нескольких минутах хода от гостиницы начинались обширные камышовые заросли, и река позволяла чуть ли не от самой террасы спуститься в открытое море. Лучшего решения не могла бы предложить мне даже лампа Аладдина.
Меня настоятельно предупреждали, что Ирак сейчас не самая подходящая страна для такого дела, как экспедиция. Дескать, республика еще бурлит после недавно обретенной независимости от Великобритании. Два действующих багдадских отеля были переполнены представителями делового мира и инженерами изо всех промышленных стран Востока и Запада. Чувствовалось общее стремление вернуть зрелые плоды современной цивилизации на выжженную солнцем землю, где некогда проросли первые семена. Если прежде артериями страны были оросительные каналы, то в нынешнем Ираке эту роль играют нефтепроводы.
Молодая республика и впрямь переживала пору бурного развития, в которой будущему придавалось куда больше значения, чем прошлому. Тем не менее видные ученые при Национальном музее в Багдаде великолепно понимали, что основательное знание прошлого помогает лучше планировать будущее. Может ли человек судить, куда он идет, не видя своих следов и не зная, откуда пришел? Нет ничего абсолютно нового под луной, и если мы не настроены учиться на собственных ошибках, есть смысл почерпнуть урок из ошибок других.
Доктор Фуад Сафар собрал своих сотрудников и коллег в Национальном музее с его прекрасной библиотекой, и вместе мы обсудили мой проект.
Промазывали ли шумеры свои камышовые суда битумом для плавучести и водонепроницаемости? К их услугам были естественные выходы асфальта под Уром и выше по течению Евфрата, и они
обмазывали им сосуды и кровли.
На полках музея лежали также покрытые слоем асфальта пятитысячелетние модели камышовых лодок.
А может быть, учитывая большой вес асфальта, они промазывали крупные суда акульим жиром, как это в наши дни делают со своими дощатыми лодками многие рыбаки в заливе? На одной древней плитке записан рассказ о знаменитом герое, который, построив большой камышовый корабль, смешал шесть частей дегтя, три части асфальта и три части масла. Может быть, эта смесь предназначалась для обмазки корпуса?
Где находилась страна предков Дильмун, куда так часто ходили шумерские купцы-мореплаватели? Большинство ученых полагают, что речь идет об острове Бахрейн, где в ходе недавних раскопок обнаружены настоящие города, храмы и могильники, причем некоторые находки превосходят древностью шумерские. Но Бахрейн лежит далеко в Аравийском заливе, так, может быть, вернее искать Дильмун на небольшом острове Файлака, расположенном вблизи от шумерских берегов?
После совещания я вышел из музея обогащенный сведениями, но и порядком озадаченный. Так чем же пропитать свою камышовую ладью? И пропитывать ли вообще? Неделями штудируя музейные экспонаты и многочисленные тома с переводом клинописных текстов на плитках, я исписал не один блокнот фактами и гипотезами. Одно не вызывало сомнения: древние шумеры были судостроителями и мореплавателями. Их цивилизация базировалась на ввозе меди, леса и другого сырья, и держава в устье двух рек была обязана своим могуществом тому, что такие города, как Ур и Урук, были крупными портами и центрами оживленнейшей торговли. Но по соседству не было меди или другой основы для подобной торговли; стало быть, шумерские моряки ходили в далекие страны.
Только моделирование могло дать ответ. Я решил осуществить свой замысел, и работники музея сумели убедить ведающее ими министерство, что реконструкция древнего судна — дело вполне целесообразное. После чего мне разрешили заготовить камыш на болотах, беспошлинно ввезти необходимое снаряжение и собрать в Ираке команду из представителей разных наций, причем мы будем считаться гостями страны вплоть до старта экспедиции.
Не теряя времени, я поспешил вернуться в болотный край. Национальный музей выделил мне переводчика.
...Выйдя из гостиницы «Сады Эдема», мы пересекли город Эль-Курна, через который проходит не ведающая отдыха автомагистраль. Какие там верблюды — тут даже велосипеда не увидишь! Огромные фургоны, автоцистерны и военные грузовики катили сплошной чередой вдоль 650-километрового шоссе, соединяющего Багдад с портами на берегу залива. Сразу за шоссе начинаются болота, на много километров простирается совершенно особенный, ни на что не похожий мир. Более пятнадцати тысяч квадратных километров занимает болотный край.
У первого протока нас поджидали два высоких араба в широких халатах; у каждого было в руках по длинному шесту, а один придерживал босой ступней длинную черную лодку. Поприветствовав нас, они знаком предложили нам занять места в их суденышке. Это была обычная
машхуф — длинная, стройная плоскодонка стандартного типа, какие строят себе все болотные арабы в наши дни. Раньше лодки вязали из местного камыша, теперь собирают из привозных досок и покрывают, подобно камышовым прототипам, слоем черного асфальта. Нос и корма загнуты высоко вверх, как у ходивших здесь пять тысяч лет назад шумерских конструкций.
Я сел на подушку, лежащую на дне валкого суденышка. Стройные арабы, стоя в разных концах лодки, принялись ловко работать шестами, плавно и неторопливо отталкиваясь ими от грунта. Вода была мелкая, кристально чистая, я видел водоросли, рыб, на поверхности качались длинные гирлянды вороньей лапы. Бесшумно удаляясь от зеленой дернины, мы очутились между двумя высокими стенами из тростника и камыша. Окружив нас со всех сторон, водные растения замкнули за лодкой зеленую дверь, и мы покинули шумную, беспокойную планету наших дней — словно отправились в прошлое со скоростью космического корабля. Право же, у меня было такое чувство, будто с каждым толчком шеста в руках молчаливого болотного жителя я углубляюсь в былые времена и ждет нас там не чреватая опасностями дикость, а культура столь же далекая от варварства, как наша собственная, но вместе с тем удивительно простая и бесхитростная. Мой переводчик из Министерства информации не бывал здесь раньше, и первая встреча с плавучими селениями восхитила его не меньше, чем меня.
Когда я пять лет назад впервые приехал в Ирак, чувствовалось, что багдадским властям не очень по душе мой интерес к этому району. Не потому, что его обитателей считали опасными, — просто они не поспевали за современным развитием страны. Соседи несколько пренебрежительно называли болотных арабов
маданами — буйволятниками, противопоставляя их верблюжатникам, или, вернее, автомобилистам (ведь верблюды теперь тоже вышли из моды...).
Водоемы в краю болот слишком глубоки, чтобы применять колесный транспорт, и слишком мелки для обычных судов. Трясины непроходимы для копей и верблюдов, да любой чужак и пешком тотчас заблудится в камышовой чаще. Только сами
маданы безошибочно ориентируются в лабиринте мелких протоков среди болотных джунглей, потому им предоставили жить своей жизнью, не гнаться за прогрессом. Однако восторженные рассказы английских исследователей Уилфреда Тесиджера, Гевина Янга и немногих других, включая меня, проникших в дебри болотного края, повлияли на позицию Багдада. В этот раз мне даже охотно разрешили пользоваться кинокамерой и привлечь сколько угодно
маданов к строительству камышового судна на лужайке рядом с гостиницей.
Лишь редкие столбики дыма выдавали присутствие людей в царстве болот. Нигде не видно никаких следов деятельности человека. Пока не подъедешь вплотную к поселению, и не приметишь его. Ни бугорка тебе, ни камня, с которого можно было бы окинуть взглядом местность поверх высоких камышей над пружинистой, как матрац, трясиной. Гусей, уток и прочих водоплавающих всевозможного рода и цвета такое обилие, словно человек еще не изобрел огнестрельного оружия. Высоко в небе парит орел, гнездящийся где-то на окрестных берегах, а среди зарослей, особенно в перелетную пору, качаются на стеблях зимородки и полчища щеголяющих ярким оперением мелких пичуг. Точно часовые, стоят в камышах длинноногие белые цапли и красноклювые аисты; упитанные пеликаны вычерпывают рыбу своими огромными клювами-ведрами.
Повезет — приметите косматого черного кабана, тяжелыми прыжками прокладывающего себе путь в гуще упругих стеблей. А уже возле самых селений увидите неторопливо бредущего по воде или взбирающегося на дернину огромного буйвола. Могучая черная спина великана лоснится на солнце, точно влажная кожа тюленя. При виде нас буйволы останавливались и провожали гостей добродушными коровьими глазами, терпеливо сгоняя мух со спины взмахами широких ушей и тонкого хвоста и спокойно дожевывая свисающий изо рта зеленый побег.
Но вот и селение вдруг перед вами. Какое откровение! Какое совершенное согласие с природой! Сводчатые камышовые дома сливаются с окружающей средой, как сливаются птичьи гнезда в камышах. Есть совсем маленькие домики, почти шалаши, однако преобладают просторные постройки. Издали их не видно по той простой причине, что вы приближаетесь к ним вдоль сплошной зеленой завесы. Самые высокие дома хочется сравнить с ангаром: степы и крыша образуют правильный свод, вход в жилище — с открытого торца. Иногда оба торца открыты, и получается подобие туннеля. Здешние строители обходятся совсем без железа и дерева. Каркас из камышовых дуг кроют циновками, привязывая их тростниковым волокном.
Совершенство конструкции и красота линий поразительны; каждое жилище напоминает маленький храм с роскошным золотисто-серым куполом на фоне вечно голубого небосвода пустынь. И в таком же голубом водном зеркале купается их опрокинутое отражение...
Это — подлинная шумерская архитектура. В таких домах обитал трудолюбивый народ, даровавший нашим предкам искусство письма. В городах стены выкладывали из долговечного кирпича, но в болотном краю строили камышовые жилища. Мы видим их реалистичные изображения пятитысячелетней давности на камне и на шумерских печатях; и так же точно контуры современных лодок повторяют обводы маленьких жертвенных моделей из серебра или из камыша с асфальтовой обмазкой, которые находят в шумерских храмах археологи. Обе конструкции доказали, что они как нельзя лучше приспособлены к здешней среде и к местным нуждам.
Когда мы выпрыгнули из лодки на сушу, она закачалась у нас под ногами, словно гамак. От неожиданности мой спутник, чтобы не упасть, схватил меня за руку. Несколько шагов к туннелеподобному дому — и опора под ногами стала толще и надежнее. В знак приветствия мужчина средних лет пожал мне руку двумя руками, потом поднес ладонь к сердцу:
— Салям алейкум! (Мир с вами!)
Я возвратился к друзьям... Пять лет назад я познакомился здесь со старым арабом, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Сейчас меня встретил его сын.
— Друг, как поживаешь? Как твоя семья?
— Слава богу. А ты? Твои дети? Твой отец?
— Отец жив, слава богу. Только он теперь в больнице в Басре. Ему ведь больше ста лет.
Я огорчился. В каком-то смысле я именно из-за этого старца вернулся в болотный край. В прохладной тени камышового туннеля показался другой старик с длинной седой бородой, и мы, как того требует арабский обычай, дружно продолжали осведомляться о здоровье всех родичей, воздавая хвалу Аллаху за его великодушие к нашим домочадцам. Сбросив обувь, мы опустились на чистые ковры и погрузились, опять же по обычаю, в учтивое молчание. Хозяева сидели поджав ноги, прикрытые полами широких халатов; гостям подложили цветастые подушки, чтобы можно было удобно прислониться к мягкой камышовой стене.
Я с удовольствием обозревал знакомое просторное помещение; дом для гостей принадлежал тому самому столетнему арабу, которого увезли в больницу. Потолок высокий — шестом не достать. Плотная обшивка из плетеных циновок покоилась на изогнутых дугой параллельных ребрах — семи камышовых бунтах толще человеческого туловища. Мне вспомнилась библейская притча про Иону во чреве кита; только в этом случае в оба конца открывались широкие пасти с двойным видом на чистейшее лазурное небо, голубую воду, зеленый камыш и несколько бахромчатых финиковых пальм.
Финиковые пальмы — редкость в краю
маданов. Большинство селений стоит на искусственных островах из вековых наслоений гниющего камыша и буйволового навоза. Острова, как правило, плавучие, на грунт ложатся только в засушливый сезон. Ежегодно сверху настилают свежий камыш взамен истлевших нижних слоев. Чтобы медленно текущие струи не размывали кромку, ее защищают сплошным забором из воткнутых в илистое дно стеблей камыша. Острова с домами то поднимаются, то опускаются вместе с водой, а разделяющие их протоки позволяют осуществлять сообщение внутри поселка на узких лодках — совсем как в Венеции.
Пройдя пешком три-четыре шага, болотный араб, как правило, должен садиться в лодку. Некоторые острова настолько малы, что вместе с жилым строением или с хлевом для буйволов напоминают плавучий дом или Ноев ковчег, окаймленный узенькой пешеходной дорожкой. Обитающие на озерах в сердце болотного края семьи
маданов вместе со своими утками, курами, буйволами и лодками качаются вверх-вниз на пружинистых камышовых коврах, и по утрам, когда открываются плетеные калитки сводчатых камышовых хлевов, буйволы погружаются в воду и плывут, разгоняя уток, к своим пастбищам.
Наш хозяин, закутанный в халат, помешал угли маленького костра на глиняном пятачке посреди пола. Из изящного чайника по маленьким стаканам в серебряных подстаканниках разлили чай, и наших ноздрей коснулся ароматный пар. Один за другим тихо входили арабы в длинных одеяниях, оставляющих открытыми только румяные лица, приветствовали нас и рассаживались в тени у камышовых колонн.
—
Берди полагается срезать в августе.
Старик нарушил молчание словами, которые мне снова и снова повторяли в краю болотных арабов.
— Почему? — чуть не в сотый раз спросил я, хотя давно уже знал ответ.
Камыш, заготовленный в любом другом месяце, впитывает воду и теряет плавучесть. Только августовский
берди долго держится на воде. Кто говорил — год, кто — два, три, даже четыре года. Но почему все-таки именно августовский? А кто его знает, отвечали мне чаще всего, так уж заведено.
— В августе внутри стебля есть что-то такое, что не пускает воду, — продолжал старик. — Вот тогда и полагается заготавливать камыш, потом мы сушим его две-три недели, прежде чем пускать в дело.
Впервые мне сказали об этом на берегу Шатт-эль-Араба, в селении Кармат-Али, расположенном между краем болот и Аравийским заливом. Приехав в Ирак после двух экспериментов с папирусным судном египетского типа, я тогда был поражен зрелищем полудюжины огромных камышовых плотов, причаленных к берегу и напоминающих плавучие пирсы. Один из них я измерил: тридцать четыре метра в длину, пять в ширину и три в толщину. Его осадка составляла около метра. Болотный араб по имени Матуг, обитавший в тростниковом шалаше на этом плоту, угостил меня чаем. Глиняный пятачок очага предохранял плот от загорания; стебли сухого камыша служили топливом. На мой вопрос, давно ли он живет на плоту, Матуг ответил, что поселился на этом
гаре всего два месяца назад. Один месяц ушел на то, чтобы сплавить его сюда из Сбэба в болотном краю. И на сколько же возросла осадка за все это время? Нисколько не возросла. Матуг заготовил камыш в августе. Сюда он приплыл, чтобы продать свой
гаре маленькой фабрике, которая прессует из камыша изолирующие плиты для современных домов.
Два месяца! Наша папирусная «Ра» уже через месяц пропиталась водой настолько, что палуба оказалась вровень с морем и волны захлестывали лежащий на ней груз. Матуг добавил, что в прошлом году он девять месяцев просидел на
гаре, пока фабрика смогла принять его товар.
Мысль о непотопляемых
гаре не давала мне покоя. Папирус для «Ра I» и «Ра II» срезали в декабре — с таким расчетом, чтобы ладьи были готовы к отплытию весной. Почему же опытные лодочные мастера из племени
будума на озере Чад не сказали мне, что мы неправильно выбрали время для заготовки строительного материала? И почему эфиопские монахи, которые заготавливали для меня папирус на озере Тана, уверяли, что месяц не играет никакой роли? Очень просто: африканские лодки на Чаде и Тане просто не успевали намокнуть, они находились в воде от силы день-другой, после чего их вытаскивали на берег, тогда как иракские
маданы всю жизнь проводили на островах из камыша.
Словом, в первый же мой приезд в Ирак я тотчас понял, что у болотных арабов можно почерпнуть знания, которых не даст мне никакой институт и никакая ученая книга. На полицейской машине я добрался до Эль-Курны, где встречаются Тигр и Евфрат; здесь по разбитому проселку местный шериф довез меня до переправы, за которой находится крупное селение Мадина, построенное на отложенном Евфратом прочном песчаном грунте в глубине болотного края, в двадцати пяти километрах от шоссе. Шейх Мадины пригласил меня к себе и угостил незабываемым завтраком. Кофе, чай, молоко, йогурт, яйца, телятина, цыплята, рыба, инжир, финики, арабские лепешки, белый хлеб, печенья, компоты... С великим трудом добрел я до берега и втиснулся в узкую
машхуф, которая должна была повезти меня еще дальше, в Умм-эль-Шуэх. Достойные жители Мадины были рады поделиться со мной всем, чем они располагали, однако у них не было самого главного, зачем я приехал: сведений о камышовых судах. Все они были знакомы с
гаре, какие я сам видел ниже по течению, но ведь
гаре всего-навсего уложенные крест-накрест снопы
берди для доставки на фабрику. Что до лодок, то они знали только разновидности деревянной
машхуф: тарада, матаур и
заима, которые обмазывают асфальтом, а также более широкую
балям, предназначенную для перевозки камыша и циновок. Камышовые суда остались в прошлом, и только самые древние старцы могли мне что-то поведать о них.
Вот шейх Мадины и посоветовал мне отправиться в Умм-эль-Шуэх, к старейшему из местных жителей (ему уже перевалило за сто лет) — вождю Хаги Суэлему.
Я не очень-то надеялся на память человека столь преклонного возраста, и картина, увиденная мной, когда расступился камышовый занавес и лодка бесшумно пристала К плавучему острову, не прибавила мне оптимизма. Отражаясь вверх ногами в водном зеркале, у входа в свой камышовый ангар сидел облаченный в белый халат седобородый старец, этакое воплощение Мафусаила. Но вот он поднялся, приветствуя гостя, устремил на меня живые дружелюбные глаза и сразу стал высоким и сильным. Соплеменники, которые один за другим входили в его дом и рассаживались вдоль стен, с явным почтением смотрели на старого Хаги, вместе со мной внимательно и одобрительно слушая его исполненные юмора мудрые речи. Вскоре у тлеющего очага появился поднос с чайным прибором; тут же пеклась поставленная на ребро, распластанная наподобие огромной бабочки рыбина. Белая и сочная под хрустящей корочкой, да еще завернутая в свежую, с пылу, с жару лепешку, рыба оказалась такой вкусной, что я уплетал за обе щеки, словно и не было завтрака у шейха. Хозяин заботливо следил за тем, чтобы мой сосед отбирал самые лакомые куски и потчевал меня ими, словно какого-нибудь царственного отпрыска. Согласно обычаю, до и после еды служитель подавал каждому полотенце и мыло и сливал на руки горячую воду над тазиком.
Хаги извинился за скромную трапезу (как будто не видел, с каким аппетитом я ел!) и обещал приготовить настоящее угощение, если я приеду снова. Конечно, приеду! Мне доводилось жить среди так называемых примитивных народов Полинезии, Америки и Африки, но болотных арабов нельзя было даже условно назвать примитивными. Цивилизованные люди, только их цивилизация отлична от нашей. Они обходятся без кнопочного сервиса; к пище и к радостям жизни идут кратчайшим путем. Их культура доказала свою добротность и жизнеспособность, продолжая существовать, меж тем как рушились, пройдя полосу развития и расцвета, ассирийская, персидская, греческая и римская цивилизации. Этой многовековой стабильности сопутствует то, чего нет у нас: уважение к предкам и уверенность в будущем. Нам кажется, что наша цивилизация превосходит все остальные; во всяком случае, мы рассчитываем, что так будет завтра на основе достижений, накопленных многими поколениями. А что же на деле? Мы совершенствуем, строим, изобретаем, но чем больше новых благ, тем больше проблем, и в наши дни они достигают непредвиденных масштабов. Стрессы, молодежная преступность, гонка вооружений, загрязнение воздуха, почвы, воды, истощение ресурсов, инфляция, политический террор, перенаселенность, растущая пропасть между перекормленными и недоедающими. Наиболее развитые страны начинают понимать, что будущим поколениям грозят серьезнейшие неприятности, если все эти проблемы не будут решены в кратчайший срок. Наша цивилизация еще не может служить примером стабильности, хотя мы напридумали столько благ и вещей, без которых не можем обходиться, что с жалостью смотрим на людей, не воспринявших наш образ жизни, единственно правильный и достойный в наших глазах.
— Мы не бедны, — произнес старик Хаги, словно читая мои мысли. — Наша гордость — вот наше достояние, и ни один из болотных арабов не голодает.
Ему довелось однажды попасть в Багдад — так он не чаял, как поскорее вернуться домой, в благословенный Аллахом тихий, надежный болотный край. Город он представлял себе как рассадник алчности, соперничества, зависти и воровства. В болотном краю воровства не знают. Слава богу, у каждого есть все необходимое, и никто не трясется над своим достоянием. Есть вдоволь корма для буйволов, вдоволь рыбы и дичи; понадобилась мука и чай — отвез в Мадину лодку арбузов или камышовых циновок. Здешние женщины — мудрый старец даже поднял руку — прекрасны, у него самого четыре жены. Сидящие вдоль стен одобрительным смехом приветствовали его слова.
Женщины болотного края и впрямь были хороши собой. Вероятно, поэтому им не разрешалось есть вместе с нами, даже подавать нам чай. Закутанные с головы до босых ног в черные одеяния, они скользили, будто тени, среди камышовых перегородок, задавая корм курам или готовя лепешки, которые пекли на внутренних стенках открытых вверху цилиндрических глиняных печей. Профиль лица такой же изящной чеканки, как у мужчин. Белые зубы, живые глаза блестят, будто звезды (если успел их приметить, прежде чем робкая смуглянка поспешно отвернулась или закрыла лицо краем платка). Шестом и веслами женщины владели не менее искусно, чем мужчины. Я видел женщин, которые в одиночку управлялись с груженной циновками огромной
балям, гоня при этом куда-то стадо плывущих буйволов.
Но только маленькие девочки или старухи могли позволить себе вместе с мальчишками и взрослыми мужчинами улыбаться и махать нам, когда наша лодка скользила мимо жилья.
Поражало обилие рыжеволосых, особенно среди самых юных. Мне даже казалось, что рыжих девочек чуть ли не столько же, сколько черноволосых. Столько рыжих, сколько я увидел в селении
маданов Хуваир, старинном центре строительства лодок, мне не встречалось ни в одном европейском городе. Такое обилие не объяснишь чужеродной примесью, тем более что у болотных арабов по-прежнему действует неписаный закон, по которому нецеломудрие и неверность караются смертью. Иноземные солдаты времен британского господства, как мне объяснил Хаги, редко отваживались заходить в болотный край для того, чтобы встретиться с арабской женщиной.
Хаги отлично сознавал, что мы, горожане, не выживем без привычных элементов нашей культуры, вроде электричества и автомашин. Однако он сильно сомневался, что его соплеменники станут счастливее, если к ним в болота протянут электрические провода и привезут кирпич для домов. Счастливые люди улыбаются, говорил он. На улицах Багдада ему не привелось увидеть ни одной улыбки.
— В городе слишком много народу, — объяснил я. — Каждому встречному улыбаться просто невозможно.
Но Хаги ходил по таким улицам, где было мало народу. Там — то же самое.
Мне нечего было возразить. Ведь не случайно болотные арабы неизменно выходили, чтобы улыбнуться и помахать нам, когда наша лодка проплывала мимо их жилищ, а ребятишки, весело крича и смеясь, подбегали к самой воде. Здесь стоит тебе чуть улыбнуться, как окружающие отзываются радостным смехом. В городе я не наблюдал такого ни в центре, ни на окраине. Выходит, прав старина Хаги. Болотные арабы — не бедняки.
Взять хоть его самого. Разве этот полный собственного достоинства человек — бедняк? По внешности и манерам старца вполне можно было посчитать его могущественным владельцем нефтяных промыслов, или бывшим государственным деятелем, или ушедшим на покой учителем. Впрочем, в своем длинном облачении он больше всего напоминал мудрого пророка или патриарха из Библии, столь же не подвластного времени, как шумерский камышовый дом, в котором мы сейчас беседовали.
Слушая речи Хаги, я ловил себя на том, что сравниваю его с Моисеем или Авраамом.
Хаги помнил камышовые лодки. В дни его юности были в ходу три разновидности. Две — с полым корпусом, наподобие долбленок или сосудов, обмазанные снаружи и внутри асфальтом. Речь шла о красавице
джиллаби и о
гуффа; обе эти конструкции я и сам видел выше по течению Евфрата, к северу от Вавилона. Стройная
джиллаби напоминает обводами
машхуф, тогда как
гуффа — совсем круглая, вроде огромной автомобильной шины, и такая устойчивая, что она ничуть не накренилась, когда я сел на край.
У болотных арабов я впервые после камышовых лодок озера Титикака увидел образцы такой же искусной работы со стеблями водных растений. Широкие гладкие дуги из камыша, надежно подпирающие высокий потолок дома Хаги, поражали своим совершенством. Расставленные с одинаковым интервалом, словно отлитые в одной форме; внизу — толще человеческого туловища, медленно сужающиеся кверху. Показав на одну из опор, Хаги пояснил, что третий род виденных им в юности судов делали примерно из таких связок камыша, только они сужались в обоих концах. Много соединенных вместе связок образовали компактное суденышко с изогнутыми кверху, заостренными носом и кормой. Корпус вязали из
берди; кассаб годится лишь для шалашей на палубе. У
берди губчатая сердцевина, а
кассаб — полый, ломкий, легко пропитывается водой. Велев мальчику принести по стеблю каждого вида, Хаги показал мне, что мягкий нижний конец
берди можно есть. В самом деле, хрустящий стебель отличался приятным вкусом, как и молодые стебли папируса.
Чтобы лодка из
берди долго держалась на воде, продолжал Хаги, стебли надо связывать очень туго. Двое мужчин изо всех сил затягивают веревочную петлю, тогда связка получается твердая, как бревно. Я еще раз потрогал опоры его дома: верно, пальцем не сомнешь, твердые, как дерево. Я спросил о пропитке, но Хаги никогда не слышал, чтобы такие лодки обмазывали асфальтом или еще каким-нибудь веществом.
Мне довелось однажды видеть фотографию камышовой лодки такого типа, который описал Хаги. Она была напечатана в газете «Дейли Скетч» 3 марта 1916 года, во время первой мировой войны. Выцветшая подпись гласила: «Такие лодки постоянно видят наши люди в Месопотамии». Ее вполне можно было бы принять за лодку с острова Пасхи или озера Титикака, если бы в ней не сидел араб.
Спасибо крепкой памяти Хаги, не то я опоздал бы на полвека с приездом на земли бывшего Шумера. Хаги перебросил мост в прошлое. Глядя на него, я все время вспоминал про Авраама. Кстати, Хаги вполне мог быть прямым потомком библейского патриарха: все арабы, как и все иудеи, считают Авраама своим родоначальником, и ведь Хаги жил по соседству с Уром, где родился Авраам. Человек, занятый поиском начал в этих библейских краях, не может пройти мимо Авраама: мало того, что иудеи и арабы числят его своим предком, — ему мы обязаны одним из первых описаний того, как месопотамцы в древности строили свои суда.
Некоторые современные ученые видят в Аврааме историческое лицо, жившее в Двуречье около 1800 года до нашей эры. По Ветхому завету, он родился в Уре, который покинул вместе с отцом, когда тот со всем своим племенем и скотом от рубежей болотного края двинулся на север, в ассирийский город Харран. Позже Авраам из Харрана направился дальше, в страны Средиземноморья. Уроженец Ура дошел до самого Египта, прежде чем окончательно решил осесть в земле обетованной. Рассказ о его странствиях — документальное свидетельство древнейших связей по суше между Двуречьем и долиной Нила. Хотя нам может показаться, что Двуречье и Египет были для древнего человека двумя совершенно обособленными мирами, на самом деле это не так. Недаром Авраам заявлял, что его потомкам были обещаны все земли от реки египетской до великой реки Евфрат
[27].
С той далекой поры река Евфрат и зеленые болота со всем, что на них произрастает, отступили километров на десять от величественных развалин Ура, но исполинская шумерская храмовая пирамида по сей день вздымается из праха к небесной синеве поразительным памятником дерзаний и бренности рода человеческого. Грандиозная ступенчатая пирамида снова и снова перестраивалась чередовавшимися культурами, и возраст ее уже исчислялся веками, когда Авраам мальчиком играл у ее основания и купался в реке, которая задолго до его рождения сделала Ур крупным портом. В шумной гавани Авраам встречал купцов из дальних стран, а в тени могучего храма писцы и мудрые старцы передавали подрастающим поколениям свои познания о прошлом и наставления о том, как обеспечить себе счастье в загробной жизни. Видимо, от них он и почерпнул те сведения о пространной истории своих предков, начиная от древнейших времен, которые передал потомкам и которые были запечатлены в Ветхом завете. Надо думать, Авраам видел хранимые жрецами лодочные модели из серебра и обмазанного асфальтом камыша — жертвоприношения осмотрительных мореплавателей. И даже если он сам не ступал на палубу корабля, ему, конечно же, были хорошо знакомы различные суда, швартовавшиеся у местных пристаней и берегов.
Сидя вместе с Хаги в камышовом доме и слушая его рассказ о том, как строили
джиллаби, как обшивали каркас камышом, который затем конопатили битумом, я мысленно видел перед собой миниатюрный вариант знаменитого судна, описанного в Ветхом завете. Ноев ковчег... При этих словах многие с улыбкой вспомнят слышанную в детстве наивную историю про пузатый плавучий дом и добродушного бородатого старца, гонящего вверх по трапу попарно слонов, верблюдов, жирафов, обезьян, львов, тигров, других зверей и всевозможных птиц. Когда я мальчишкой выстраивал игрушечных деревянных зверей на трапе деревянного ковчега, мне в голову не приходило, что из старого предания можно извлечь какие-то сведения, и уж никак я не мог предвидеть, что сам окажусь на родине этого предания и буду штудировать ученые труды, докапываясь до его корней.
Судя по всему, иудейская версия истории про Ноя и потоп, известная нам по Ветхому завету, долго передавалась из уст в уста, прежде чем ее за несколько веков до нашей эры записали древнееврейскими буквами. И не исключено, что патриарх Авраам владел грамотой, — ведь он вырос в городе, где письмо в том или ином виде было известно больше тысячи лет. Как бы то ни было, легенда о Ное родилась в давний период истории человечества, до того, как цивилизация из Ближнего Востока распространилась на Европу.
Ковчег в Ветхом завете не европейское, а месопотамское судно. Есть причины предполагать, что общее для иудейской и мусульманской религий предание о потопе было принесено в Средиземноморье выходцем из Ура, Авраамом. Его племя прошло в своих странствиях через Ассирийское царство на севере Двуречья и, скорее всего, задержалось там на какой-то срок. Тогдашние ассирийцы тоже хорошо знали историю о потопе, погубившем большую часть человечества. В огромном архиве ассирийского царя Ашшурбанипала, насчитывающем десятки тысяч плиток, есть, в частности, впервые прочитанный в 1872 году подробный рассказ о всемирном потопе. Сходство этого рассказа с иудейской версией настолько велико, что они, несомненно, восходят к общему источнику. Поскольку ассирийцы унаследовали свою письменность и мифологию от шумеров, а иудеи, по их утверждениям, вышли из бывшей шумерской столицы Ур, естественно искать этот общий источник в Шумере.
В ассирийском тексте имя старца, построившего корабль для спасения человечества, не Ной, как в иудейской версии, а Ут-напиштим; однако оба имени, скорее всего, аллегорические. Далее, у ассирийцев вместо единого иудейского бога Яхве видим бога моря Энки. По ассирийской версии, историю о всемирном потопе рассказал одному из их предков в Дильмуне сам венценосный кораблестроитель Ут-напиштим. Будто бы бог морей проникся к нему расположением и открыл тайный заговор других богов, задумавших утопить весь род людской. Тот же бог морей научил Ут-напиштима построить большой корабль и взять на борт родных и приближенных, а также свой скот. Царь послушался совета и построил корабль:
«На седьмой день корабль был готов. И чтобы облегчить спуск на воду, были разложены катки вверху и внизу на две трети... Нагрузил я его всем своим достоянием, нагрузил его всем своим серебром, нагрузил его всем своим златом, нагрузил его всем своим племенем. Взял на борт всю семью и слуг моих, и скот, и степных зверей, и всех мастеров я взял... Кормчему судна Пузур-Амурри вверил я корабль вместе с грузом».
Шесть дней и семь ночей заливала землю вода, и на седьмой день корабль пристал к вершине горы в Верхнем Курдистане — в том самом краю, где Ной, в предании иудеев, пристает к горе Арарат. В ассирийском тексте с корабля выпускают сперва голубя, потом ласточку, и обе птицы возвращаются; лишь после того, как не возвратился выпущенный ворон, царь понял, что воды спадают, можно без опаски сходить на сушу вместе с племенем своим и скотом. Покинув корабль, люди принесли жертву богам, и те обещали никогда больше не карать все человечество за грехи нескольких людей. Любопытно, что в ассирийском тексте спасшимся от потопа боги повелевают поселиться «при устье рек, в отдаленье». Для жителей Ассирии это означало устье Тигра и Евфрата, где находилась некогда страна шумеров. Другими словами, по ассирийской версии, возродившееся человечество сначала заселило берег Аравийского залива и болотный край в Южном Ираке.
Тем интереснее узнать, что говорили по этому поводу сами шумеры. Их версия была обнаружена археологами Пенсильванского университета. В Ниппуре, к северо-западу от слияния двух рек, раскапывая огромный шумерский зиккурат — столь характерную для древних городов Двуречья ориентированную по солнцу ступенчатую пирамиду с храмом на макушке, — они натолкнулись на обширную библиотеку. У подножия пирамиды лежало 35 тысяч плиток с письменами, и на одной из плиток удалось прочесть исконное шумерское предание о всемирном потопе.
В отличие от более поздних ассирийской и иудейской версий, у шумеров спасенные после потопа не высаживаются на какой-то горе внутри страны, а сперва заселяют находящийся за морем на востоке Дильмун, откуда боги затем приводят их на новое место жительства в устье двух рек.
Ясное указание на то, что ассирийский текст представляет собой вариант более древнего шумерского оригинала, специалисты видят в том, что в обоих случаях спасителем рода людского изображен шумерский бог морей Энки. В роли избранника, которого бог учит построить большой корабль для своего спасения, у шумеров также выступает благочестивый, богобоязненный, кроткий правитель некоего царства, но зовут его Зиусудра. К сожалению, часть плитки с описанием того, как Зиусудра строил свой корабль, не уцелела; во всяком случае, судно было достаточно большим, чтобы вместить не только людей, но и скот. После того как все взошли на борт, воды семь дней и ночей заливали землю, «и могучие волны бросали огромный корабль», пока Уту, шумерский бог солнца, наконец не явил свой лик и не осветил небо и землю. Тут Зиусудра распахнул окно и простерся ниц перед богом. Затем он поспешил принести в жертву быка и овцу; очевидно, Зиусудра, в отличие от Ноя, захватил с собой больше одной пары животных. Правда, зато он не брал на борт диких зверей. Как видим, в ходе тысячелетий исконная версия о спасшихся людях, которые везли на судне только домашний скот, видоизменилась, и Ной выступает уже в роли спасителя диких животных.
Самое важное для меня во всех трех вариантах — большие корабли. В каждом случае говорится о домашних животных, о том, что до потопа существовали города и царства, но нигде не сказано, чтобы человек и его скот спаслись от воды на какой-то высокой пирамиде или башне.
Пять тысяч лет назад из рук писцов вышли древнейшие известные нам фрагменты письменной истории. Истории, которая начинается с того, что после великой катастрофы люди и скот высаживаются с большого корабля в Дильмуне, откуда, опять-таки морским путем, прибывают в Ур в Двуречье. Досадно, что не сохранилась часть древнешумерской плитки с описанием строительства корабля, но поскольку Зиусудра и Ут-напиштим суть два имени одного и того же венценосного кораблестроителя, мы можем в своих умозаключениях опираться на ассирийскую версию. В древнейшем известном нам героическом эпосе ассирийский поэт отправляет своего героя, царя Гильгамеша, на корабле в страну предков Дильмун, где, как уже говорилось, царственный долгожитель Ут-напиштим рассказывает ему свой вариант истории о потопе. Назвав себя сыном царя Убар-Тату, правившего в Шуруппаке до всемирной катастрофы, Ут-напиштим затем в поэтической форме воспроизводит слова бога морей, который повелел ему строить корабль:
«Камышовый дом, камышовый дом. Стена, стена. Слушай, камышовый дом! Слушай, стена! Шуруппакиец, сын Убар-Тату. Разрушь свой дом и построй корабль!»
[28]
Естественно, разрушив камышовый дом, можно было построить только камышовый корабль. Это согласуется и с иудейской версией, где Ною предписывается: «Сделай себе ковчег с ребрами кипарисовыми, покрой его камышом и осмоли внутри и снаружи»
[29].
В ассирийском эпосе также есть намек на то, что венценосный кораблестроитель обмазывал свой корабль. Сам Ут-напиштим говорит, что, разрушив камышовые чертоги: «Шесть
саров смолы влил я в горячий котел, три
сара асфальта добавил. Три
сара масла принесли работники, не считая одного
сара, который хранился в трюме, и двух
саров, которые припас кормчий».
Принципы строительства, описанные в предании о Ное, те же, только в гораздо меньшем масштабе, о каких говорил мне Хаги, рассказывая про
джиллаби. Недалеко от Вавилона я сам видел
джиллаби с шестью пассажирами. Естественно, размеры древних царских судов должны были соответствовать прочим сооружениям эпохи деспотических держав. В ассирийском эпосе величина корабля Ут-напиштима выражена словом «ику», подразумевающим меру, равную площади основания Вавилонской башни
[30]. Вряд ли следует понимать это буквально, хотя вообще-то было легче собрать конструкцию таких размеров из длинных связок камыша, в изобилии произрастающего на болотах, чем из мелких кирпичей, каждый из которых надо было формовать и обжигать в гончарной печи.
Иудеи более умеренны: длина Ноева ковчега — триста локтей, ширина — пятьдесят локтей и высота — тридцать локтей (соответственно сто пятьдесят, двадцать пять и пятнадцать метров). Иначе говоря, ковчег был всего в четыре раза длиннее камышового
гаре, наскоро сооруженного Матугом.
Думается, к разряду гипербол можно отнести также утверждение ассирийцев, будто на корабле Ут-напиштима было девять внутренних отсеков и шесть палуб. Иудеи и тут скромнее: у описываемого ими ковчега три палубы — верхняя, средняя и нижняя.
Несомненно, ассирийцы, а также иудеи, когда жили в Двуречье, видели большие корабли. Иначе откуда у них могло взяться представление о многопалубных судах? Вообще, нам отнюдь не следует недооценивать способности шумеров сооружать большие конструкции из камыша, если учесть, что из сырцового и обожженного кирпича они воздвигали подлинные горы, и, не сохранись месопотамские зиккураты до наших дней, изумляя нас так же, как изумляют египетские пирамиды, мы, конечно же, сочли бы невозможным строительство таких масштабов пять тысяч лет назад. Высокое развитие кораблестроения на Ближнем Востоке в древности не должно казаться нам невероятным теперь, когда открыт поразительный корабль фараона Хеопса, намного превосходящий размерами норманские ладьи, хотя он был построен за тысячу лет до того, как иудеи дошли до Египта, и если бы Авраам и Сарра увидели этот корабль в его тайнике у подножия пирамиды, он был бы в их глазах таким же памятником старины, как в наши дни ладьи викингов в глазах туристов, посещающих Норвегию.
Обширные раскопки на острове Бахрейн в Аравийском заливе, проведенные датчанами, дали новый материал исследователям первоначального предания о всемирном потопе. Найденные здесь города, по мнению специалистов, — первое конкретное подтверждение того, что Бахрейн и есть упоминаемый в документах шумерских купцов Дильмун, страна, где предки шумеров обосновались после потопа. Подводя итоги пятнадцатилетних работ на Бахрейне, видный датский археолог П. В. Глоб
[31] поддерживает распространенное толкование шумерской версии. Как известно, Леонард Вулли, раскапывая Ур, обнаружил под резиденцией шумерских правителей трех-четырехметровый однородный слой ила, ниже которого находились развалины более древнего города, затопленного во время катастрофического наводнения, когда вся Нижняя Месопотамия была покрыта восьмиметровым слоем воды. Понятно, немногим спасшимся тогда казалось, что погиб весь мир, и память людская сохранила воспоминание о потопе, запечатленное впоследствии на шумерских глиняных плитках. Глоб полагает, что некоторые горожане сумели спастись, взобравшись на стены самых высоких построек. Но почему именно построек, спрашивал я себя, если речь шла о портовом городе с множеством камышовых судов?
...Я посмотрел налево, направо. Как далеко от дома Хаги увели меня мои размышления! Камышовый дом, камышовый дом. Стены, стены. Слов нет, Хаги мог бы соорудить неплохое судно, разобрав большой дом, в котором мы сидели. Да и зачем разбирать? Перевернул постройку — вот тебе и готовый корпус ладьи с крепкими ребрами, останется лишь заделать оба конца и обмазать камыш внутри и снаружи смолой или асфальтом.
Разумеется, никто не собирался рушить дом Хаги. Вернувшись пять лет спустя в те же места, я с радостью убедился, что он целехонек. Правда, мне недоставало старца, в котором я видел живое воплощение Авраама, но сыновья его никуда не делись и приняли меня по-царски. Библейская обстановка — потомки Фарры, родителя Авраама, оставались верны древним традициям.
Ша-лан, старший сын Хаги, и другие мужчины, собравшиеся в его доме, заметно оживились, услышав, что я вернулся, чтобы найти в болотном краю желающих помочь мне заготовить
берди и построить судно наподобие тех, про которые пять лет назад рассказывал старик Хаги. Мне требовалось двадцать человек. Ша-лан поспешил заверить меня, что лично подберет подходящих людей, все будет в порядке. Посовещавшись, присутствующие решили, что на роль бригадира лучше всех подойдет Гатаэ — он мастер строить дома и уж наверно знает, как делают конусовидные связки.
Кто-то сходил на
машхуф за Гатаэ, и я увидел пожилого араба с располагающей внешностью и веселой искоркой в глазах. В просторном клетчатом халате он стоял в лодке, высокий и стройный, будто мачта. Гордая осанка и острая седая бородка напомнили мне моего покойного английского издателя, сэра Стенли Анвина. С первой минуты у нас с Гатаэ установился такой контакт, словно мы всю жизнь были друзьями. Мои слова о том, что я собираюсь построить камышовое судно и выйти в море, он воспринял как нечто вполне естественное и сразу же поинтересовался, сколько камыша нам понадобится.
Я смерил шагами пол. «Ра I» была около пятнадцати метров в длину, «Ра II» — неполных двенадцать. На этот раз я задумал набрать команду побольше, а потому и судно должно быть крупнее — метров восемнадцать в длину, примерно такое же, как
дом, в котором мы находились. Но Хаги говорил, что губчатые стебли нужно сильно сжать; стало быть, объем заготовленного камыша должен превышать конечный объем ладьи.
— Думаю, стоит заготовить
берди вдвое больше, чем вместилось бы в этом доме от пола до потолка, — сказал я.
Все подняли глаза на изогнувшийся высоко над нами камышовый свод. Гатаэ оставался невозмутимым. Какие связки мне понадобятся, такие он и сделает.
Мы условились, что в сентябре двадцать человек во главе с Гатаэ соберутся у Адамова древа и приступят к строительству, но перед тем я еще приеду в августе и прослежу, чтобы
маданы из деревни Эль-Гассар, расположенной ближе к строительной площадке, заготовили камыш и как следует высушили его. Власти провели грунтовую дорогу от этой деревни до самых болот, чтобы камыш можно было грузить прямо с
машхуф на машины, которые доставляли сырье на новую бумажную фабрику на реке Тигр.
Однако наш камыш отнюдь не предназначался для бумажной фабрики. Мы не собирались делать корабль из папье-маше. Нам нужны были хорошо просушенные на солнце, целые и крепкие стебли. Возвращусь в Ирак — сразу же договорюсь и о том, чтобы их после сушки привезли на мыс, у которого встречаются две реки, на лужайку у гостиницы «Сады Эдема».
Глава II. В Садах Эдема
Август. Я снова в болотном краю. Август — самый жаркий месяц в Южном Ираке. Ртутный столбик колеблется между 40 и 50 градусами в тени, но на открытой местности, где мы заготавливали камыш, тени не было и в помине. Вооруженные большими кривыми ножами, болотные арабы врубались в камышовую чащу с таким рвением, словно перед ними был враг, которого требовалось обезглавить или, вернее, обезножить. Под натиском
маданов падали шеренги длинных зеленых стеблей. Я только наблюдал с лодки за этой битвой, но и то совершенно изнемог от зноя. В конце концов, положившись на заверения не слишком сильного в английском языке местного переводчика, что в здешних водах нет шистосом, я, не раздеваясь, прыгнул за борт и присоединился к стоящим по пояс в воде
маданам. На озере Чад и на Ниле я научился остерегаться крохотных личинок, которые развиваются в теле камышовых улиток: легко проникая под кожу человека, они затем размножаются в его внутренних органах. Наслаждаясь прохладой неторопливого потока, я вдруг заметил плывущую в мою сторону красивую улитку. Поймал ее рукой и нерешительно показал энергично рубящему камыш переводчику.
— Это? — сказал он. — Это же только домик шистосомы.
Одним прыжком я вернулся на борт водонепроницаемой
машхуф: лучше буду обливаться потом под безоблачным небом.
Лодка за лодкой — я давно потерял им счет, — управляемые жителями и жительницами Эль-Гассара, отвозили горы зеленого
берди на берег для сушки. Кажется, моя ладья размерами нисколько не уступит Ноеву ковчегу...
Но до начала строительства мне надо было по делам экспедиции на несколько недель возвратиться в Европу. Организовать что-нибудь, сидя в гостинице «Сады Эдема», было невозможно. В Багдаде я, не выходя из гостиничного номера, брал телефонную трубку цвета слоновой кости и в несколько минут связывался с Осло, Сиднеем, Токио. А в моем Эдеме древний телефонный аппарат надо было заводить ручкой наподобие старинного «форда». Вот уже вроде бы Лондон ответил, и ты пытаешься с помощью гостиничного персонала разобрать, что тебе оттуда говорят, как вдруг выясняется, что еле слышный писклявый голос в трубке принадлежит телефонисту на расположенной через улицу станции, который силится втолковать тебе, что линия на Басру повреждена, сегодня ничего не выйдет. Наконец из Басры прибыл английский инженер с утешительной вестью, что столичные власти поручили ему проложить новую линию, в следующем году будет готова. Приятная новость. Для тех, кто будет жить в «Садах Эдема» после нашего отъезда.
Нефтяной бум, позволивший наладить бурное строительство и массовый ввоз всевозможных изделий из-за границы, привел также к тому, что все импортные товары раскупались тотчас по прибытии в страну. Портовые устройства не поспевали обслуживать огромную флотилию танкеров и сухогрузов, направляющихся в устье Шатт-эль-Араба. Корабли со всех концов света по два, три, даже четыре месяца дожидались в бухте своей очереди подняться вверх по реке и стать на разгрузку. Все товары, от индейского леса и бамбука до датского масла и мороженых цыплят из США, исчезали с портовых складов и оптовых баз с такой скоростью, что ухватить что-нибудь для себя не было никакой возможности. А специально заказывать — рискуешь, что судно с твоим заказом надолго застрянет в заливе. Я видел только один выход: ехать в Гамбург, собрать там все необходимое для экспедиции и отправить с автофургоном по суше в Ирак.
Друзья в ФРГ помогли мне в три дня закупить нужное снаряжение. Канатный завод, отложив выполнение заказов на нейлоновые тросы, изготовил километры пеньковых веревок разной толщины для наших бунтов и снастей. Потомственный мастер-кораблестроитель старой школы выстругал из ясеня две десятиметровые ноги нашей мачты и вытесал вручную два 7,5-метровых рулевых весла и двенадцать гребных весел с удлиненным веретеном, чтобы его можно было укорачивать по мере того, как будет расти осадка камышовой ладьи. Такой же потомственный и добросовестный мастер сшил из египетской хлопчатобумажной ткани два прямых паруса, сужающихся книзу, как это было заведено в доевропейские времена; один из парусов, побольше площадью и потоньше, предназначался только для хорошей погоды.
Список нужных нам вещей включал также бамбук для надстроек. Сборник дождевой воды. Флаги и сигнальные огни. Керосиновые фонари для освещения; примуса, кастрюли и сковороды для камбуза. Рыболовные снасти. Маленькую надувную лодку с шестисильным подвесным мотором для киносъемок на море. И наконец мы закупили провиант и разные предметы повседневного обихода, включая канистры, позволяющие взять трехмесячный запас питьевой воды на одиннадцать человек, с расчетом на дальнейшее пополнение.
В прежних экспедициях я уже пробовал обходиться продуктами, какими располагали древние мореплаватели; на «Ра» брал лишь такой провиант, который можно было держать в корзинах и керамических сосудах, а воду наливал в бурдюки и кувшины. Мы благополучно пересекли Атлантику, не испытав никаких проблем с едой. Повторять этот эксперимент не было никакой надобности. Да мы и так на камышовом судне, без электричества для холодильника, были ограничены в выборе продуктов. Свежее мясо, фрукты и овощи не сохранились бы на борту, да и большинство консервов вряд ли выдержало бы температуры, которые ожидали нас до старта и во время плавания. Тем не менее у меня набралась не одна тонна провианта и снаряжения. Заручившись нужными бумагами в Иракском посольстве в Бонне, мы нагрузили двенадцатиметровый автофургон, которому предстоял двухнедельный рейс от Гамбурга до самой гостиницы «Сады Эдема» в Южном Ираке.
Из Гамбурга я вылетел в Лондон на встречу с представителями организованного Би-би-си международного консорциума телевизионных компаний. После долгого обмена мнениями и редактирования машинописных проектов был подписан контракт на тридцати одной странице, обязывающий шесть телевизионных компаний Англии, Франции, ФРГ, Японии, Швеции и США финансировать экспедицию на камышовом судне путем закупки четырех еще не снятых одночасовых телефильмов об еще не состоявшейся экспедиции. Составление контракта осложнялось еще и тем, что я мог лишь сказать, откуда мы выйдем, а куда придем и сколько будем плыть — на эти вопросы как раз и должна была ответить экспедиция. Мы нашли выход, записав, что плавание продлится до тех пор, пока судно будет поддаваться управлению или хотя бы держаться на воде. Американские представители в консорциуме — Национальное географическое общество со своими телепродюсерами — настаивали на том, чтобы мы взяли с собой их оператора с правом свободно фиксировать на пленке все, что будет делаться и говориться на борту, — только снимать и записывать, даже если судно начнет тонуть.
Я согласился. Все поставили свои подписи.
Вместе с представителем Би-би-си я, кроме того, — без особой охоты — съездил в Саутгемптон: при тамошнем университете по моим чертежам изготовили 1,8-метровую модель камышовой ладьи, чтобы испытать ее в аэродинамической трубе и в заливе и снять испытания на пленку. Смотреть, как здоровенная модель с корпусом, составленным из двух пластиковых веретен, покачиваясь на волнах, выполняет команды специалистов из университета, было одно удовольствие. Нажмут кнопки радиоуправления — рулевые весла поворачиваются, и суденышко становится боком к волне. А когда увеличили общую рабочую площадь весел, оно даже пошло галсами навстречу волнам.
Эксперимент показал: чем больше площадь паруса и спущенных в воду весел, тем лучше судно лавирует. Окончательные результаты испытания в аэродинамической трубе мне обещали прислать потом по почте. Правда, во всем этом было одно небольшое «но». Модель была из пластика, а не из камыша. Никто не знал наперед, какой будет осадка камышового судна на старте и с какой скоростью она будет расти по мере уменьшения плавучести. К тому же модель изготовили с опозданием, и наши сроки уже не позволяли изменять размеры парусов и весел, когда будут получены данные об испытании в трубе.
Недалеко от Саутгемптона расположено чудесное поместье Броудфилд, владение лорда Луиса Маунтбеттена, графа Бирманского и адмирала британского флота. Я был приглашен туда на ленч. Общий интерес к морским путям и другим средствам сближения народов сделал меня и несгибаемого старого военного моряка друзьями, и с его легкой руки я стал вице-президентом Всемирных колледжей; сам он весьма активно выполнял обязанности президента. У члена королевской семьи и бывшего вице-короля Индии лорда Маунтбеттена были друзья и контакты во всех концах света; в Атлантический колледж в Уэльсе, который я незадолго перед тем посетил, ему удалось даже привлечь китайских студентов. Всемирные колледжи помогают развивать прочные связи между юношами и девушками разных стран. Большое место в программе уделено лодочному спорту и спасанию на водах, и я давно обещал лорду Маунтбеттену вспомнить о выпускниках этих учебных заведений, если задумаю какой-нибудь новый морской эксперимент. Теперь я выполнил свое обещание. Для запланированного плавания мне была нужна многонациональная команда. На «Ра I» и «Ра II» тогдашний Генеральный секретарь ООН У Тан разрешил мне поднять флаг Организации Объединенных Наций, и сменивший его Курт Вальдхайм любезно распространил это разрешение на предстоящую экспедицию. Я известил правление Всемирных колледжей, что предпочтение будет отдано участникам моих экспериментов на папирусных судах, однако найдется место и для бывших студентов Колледжей. И теперь все ректоры разослали выпускникам циркулярный запрос, приложив к нему подготовленный консорциумом Би-би-си информационный материал. Предполагалось по полученным в ответ заявлениям составить для меня рекомендательный список.
Я был рад снова очутиться в Броудфилде. Окна светлой столовой выходили в парк с могучими старыми деревьями, а из травы выглядывал молоденький саженец, который я, по заведенному здесь обычаю, посадил в прошлый приезд.
— Тур, ты мне поверишь, если я скажу, что по твоей милости у меня неприятности в международном масштабе? — сурово поглядел на меня лорд Маунтбеттен.
Мы сидели втроем за столом; третьим был адъютант. Только что дворецкий в форменной одежде подал дыню.
— Конечно, поверю, — ответил я и засмеялся: дескать, какие еще там неприятности!
— Ты навлек на меня гнев шаха, — строго продолжал хозяин.
Я снова засмеялся, уплетая холодную дыню.
— Как же, как же!
Лорд Маунтбеттен оторвался от еды:
— Как прикажешь убедить тебя, что это не шутка?
Он отдал распоряжение адъютанту, и тот принес письмо на бланке Верховного суда в Тегеране. В пространном послании выражался решительный протест по поводу формулировок в циркуляре Всемирных колледжей относительно задуманной мной экспедиции. Иранский посол в Великобритании лично звонил лорду Маунтбеттену еще до прибытия этого письма, сразу после того, как по радио и телевидению была передана информация Би-би-си о том, что я собираюсь спуститься по реке Шатт-эль-Араб в «Аравийский залив». Как может международное учебное заведение, возглавляемое адмиралом флота, пользоваться фиктивным географическим термином?! Или в этом проявляется растущая тенденция подольщаться к арабам? Единственно верное наименование данной акватории — «Персидский залив», и автор этого названия не кто иной, как Британское адмиралтейство.
Я почувствовал себя очень неловко. Поистине, непредвиденная закавыка для мореплавателя, замыслившего испытать древнее камышовое судно в современном мире. Я объяснил лорду, что с самого начала писал «Персидский залив», как меня учили в школе, но багдадские власти поправили меня и разъяснили, что из Ирака я могу попасть по воде только в «Аравийский залив».
Лорд Маунтбеттен выразил мне свое сочувствие и предложил вовсе не упоминать эту акваторию.
Мне никак не хотелось обижать кого-либо, но не мог же я спускаться по реке в никуда. Обратился в норвежское Министерство иностранных дел и выяснил, что там принято говорить «Персидский залив», когда дело касается иранских портов, и «Аравийский залив», когда речь идет о порте арабской страны. Но ведь мне предстоит выходить в открытое море, за порт не зацепишься! Я связался со службой информации ООН.
— Вопрос затруднительный, — ответили мне. — У нас вот как раз намечено совещание представителей всех стран, которые граничат с этим вашим заливом, по поводу загрязнения их территориальных вод, и мы сами бьемся над названием!
Показательный случай, красноречивое предостережение, что двадцатый век при всех его радарах и маяках не гарантирует от столкновения с «подводными рифами»...
Я рассчитывал, что Всемирные колледжи предложат мне кандидатов из самых что ни на есть экзотических стран, и был слегка разочарован, когда увидел, что список возглавляют два молодых скандинава — норвежец, студент медицинского факультета, и датчанин, который готовился стать математиком. Правда, у норвежца было то преимущество, что он служил в инженерных войсках и разбирался в тросах и строительстве мостов. Весьма кстати, если учесть, что вся моя ладья будет держаться на веревках, даже мачты и рубки будут крепиться без единого гвоздя. Но раньше всего предстояло соорудить из реек и жердей стапели в виде помоста, чтобы легче было связывать камыш и спускать на воду готовую конструкцию. Я позвонил в Норвегию, и будущий член экипажа, вооруженный спортивной сумкой и фотоаппаратом, присоединился ко мне в Риме, откуда мы вместе вылетели в Багдад. Моего молодого соотечественника звали Ханс Петер Бён, но он предпочитал короткое Эйч Пи
(НР — начальные буквы английских слов, означающих «лошадиная сила»).
Из Багдада мы за семь часов добрались до гостиницы «Сады Эдема» — с опозданием на сутки, поскольку днем раньше по графику предполагалось прибытие автофургона из Гамбурга и я хотел встретить его, чтобы принять провиант и сразу переправить в помещение, подальше от палящего солнца.
На крыльце гостиницы нам встретился молодой европеец с красным от солнечных ожогов лицом. Странное дело: он нес куда-то копченую колбасу — точь-в-точь такую, какую я закупил в Гамбурге. Подойдя к реке, он бросил колбасу в воду. Ослепленный струями пота, он не сразу приметил пас. Я остановил его, представился и спросил, чем это он занят.
— Беда! — воскликнул он. — Все продукты испорчены! Машина покатила обратно в Гамбург без меня, а я таскай тут один все это!
Одним прыжком Эйч Пи перемахнул через перила и мгновение спустя вынырнул из реки, держа в руках, словно младенца, здоровенный батон колбасы. Последний батон — остальные унесло течением, а молодой немец уже волок из кладовки копченый окорок и короб с норвежскими рыбными консервами, намереваясь отправить их следом за колбасой.
Кажется, мы подоспели в самый раз! Немца словно завели ключиком, пришлось чуть не силой усадить его на бухту троса и потребовать, чтобы он объяснил нам смысл потрясающей идеи: везти продукты из Гамбурга в Ирак для того, чтобы выбросить их в реку Тигр.
— Таможня, — вымолвил он. — Таможня.
Лишь после того, как Али, обходительный парень из персонала «Садов Эдема», сбегал за банкой холодного пива, немец смог вразумительно поведать свою поразительную историю. Гамбургское транспортное агентство поручило ему сопровождать груз, проследить, чтобы у водителей не было никаких осложнений с таможней, и обеспечить быструю выгрузку товара в нашу темную кладовку в гостинице. Уже в Европе стояла жаркая погода, а фургон был без холодильника, и по настоянию сопровождающего водители гнали вовсю, стараясь опередить двухнедельный график доставки. В этом они преуспели с лихвой. На юге Турции их обстреляли из засады курды. Развив предельную скорость, с пулевыми пробоинами в фургоне, немцы догнали автомобильный караван, который тоже мчался во весь опор в сторону Ирака. Второпях они не догадались обратиться в пограничную таможню, где лежало специальное распоряжение из Багдада оформить их груз. Продолжая мчаться на юг при нарастающей жаре, они проехали Багдад, миновали «Сады Эдема» и остановились только в перегруженном порту Басры, где никто не был предупрежден об их прибытии. Спросив дорогу у полицейского, они в конце концов очутились на таможенном дворе. Все места в тени были заняты. Температура воздуха достигала плюс сорока пяти, внутри фургона — семидесяти градусов. На третий день ожидания вся троица была еле жива. Даже заказанный мной толстый бамбук начал трескаться от жары, и они чувствовали себя так, будто сидели на углях. Наконец какой-то добрый человек, владеющий английским языком, помог им связаться по телефону с министерством в Багдаде. Все разъяснилось, груз был оформлен, водители и сопровождающий вырвались из заточения.
Слушая рассказ молодого страдальца, мы время от времени подпрыгивали от звука выстрелов: это продолжал трескаться бамбук...
Бедняги. Неудивительно, что водители поспешили отправиться в обратный путь, предоставив расхлебывать кашу сопровождающему, а тот решил, что простейший выход — отправить наш провиант в реку. Первым под воду ушел сыр: 40 кг отборного норвежского чеддера, 24 кг эдамского сыра и разные прочие сорта, рассчитанные на умеренную температуру. Дальше последовали прохудившиеся банки с жидким мылом и растаявшим маслом, различные виды копченого мяса. Немец только что утопил 20 кг особой польской салями, когда наше появление прервало его кипучую деятельность.
Эйч Пи соскреб ножом светлый налет на кожице спасенной им колбасы, отрезал кружок и съел с явным удовольствием. После чего снова прыгнул в реку. Увы, на сей раз не клюнуло. А колбаса была бесподобная. Пока шло строительство, мы и наши гости налегали на спасенный батон салями, и все соглашались, что в жизни не ели бутербродов вкуснее.
Зато консервные банки даже нас напугали. Они приняли шаровидную форму наподобие пушечных ядер — типичный признак того, что содержимое протухло. Я отобрал по одной банке каждого вида, сложил в мешок и отправил самолетом из Багдада в Гамбург, чтобы их проверили там в лаборатории, прежде чем мы решимся списать драгоценное продовольствие. А через несколько дней все пушечные ядра приняли цилиндрическую форму: просто банки раздулись от сильной жары. Мы с состраданием думали о бедняге сопровождающем, который сидел на медленно разбухающей горе провианта.
Но потери надо было возмещать, и нехватка времени вынуждала меня теперь прибегнуть к воздушному транспорту. Грузоотправители обещали направить мой новый заказ в аэропорт Багдада и сообщить номер накладной и час прибытия Министерству информации, которое обязалось проследить за тем, чтобы груз был доставлен без промедления на машине в «Сады Эдема». И вот наступил назначенный день, такой же знойный, как предыдущие, а груза нет как нет. Гамбург подтвердил, что провиант отправлен, Багдад сообщил, что провиант не прибыл. Неделю я томился неизвестностью, наконец мне пришла в голову безумная мысль послать человека на все ту же заколдованную таможню в Басре. Три дня спустя посланец вернулся и торжествующе доложил, что упорные розыски увенчались успехом: пропавший груз нашелся.
Мы с Эйч Пи занимали два из трех просторных спальных номеров, которыми располагала гостиница, и к нашим услугам был весь ее персонал, чудесные люди. Особенно пришлись нам по душе Али и Мухаммед, немного объяснявшиеся по-английски. Вдвоем мы воздавали должное отменным арабским блюдам в большом зале ресторана — таком большом, что мы даже прикидывали, не наладить ли изготовление связок камыша в помещении, если жара и в следующем месяце не спадет.
Едва над пустыней за Тигром показывался багряный лик солнца, как мы поднимались, чтобы насладиться утренней прохладой и освежающим душем. В первый день едва я лег в ванную и пустил холодную воду, как из сточного отверстия вверху внезапно высунулись два длинных коричневых усика, на меня уставились два бездумных глаза, и в воду свалился здоровенный таракан. За ним последовал второй, третий, четвертый... На счете двадцать два я остановился и, теснимый усатой армадой, пулей выскочил из ванны. Попытался загнать тараканов в нижний сток — куда там! Слишком велики... Пришлось вылавливать их стаканом и топить в уборной. Я разбудил Эйч Пи и спросил, не желает ли он освежиться в холодной ванне. Через несколько минут из-за стены до моего слуха донесся дикий вопль.
— Представляешь себе, на что я нарвался? — спросил Эйч Пи, когда мы сели за стол на лужайке, где нас ожидал плотный завтрак — яйца и бутерброды с сыром.
— Представляю, — ответил я. — Сколько штук?
Нам предстояло немало потрудиться, чтобы подготовить строительную площадку и разместить всех людей, привлеченных мной к экспедиционным делам: болотных арабов, южноамериканских индейцев, бомбейских кормчих
дау, членов будущего экипажа со всех материков. Разумеется, трех гостиничных номеров было мало, по еще две комнаты можно было оборудовать на втором этаже, а матрасы и раскладушки можно примостить где угодно.
Вместе с Эйч Пи я принялся готовить площадку для стапелей. Мне подумалось, что есть смысл вырыть параллельно две широкие и глубокие траншеи, чтобы лодочные мастера могли проходить под корпусом, когда придет время связывать вместе толстой веревкой оба бунта. Шестеро рабочих из Эль-Курны принялись орудовать кирками и лопатами и вскоре наткнулись на большие прямоугольные желтые шумерские кирпичи, которые они преспокойно складывали в корзины и несли на голове на свалку. Как только я увидел это, моя археологическая совесть заставила меня приостановить работы в Садах Эдема. Но тут Эйч Пи нагнулся и подобрал среди обломков крохотную живую черепашку, а я увидел среди древних кирпичей горлышко пивной бутылки.
Стало очевидно, что другие давно перепахали весь участок, сглаживая неровности, когда начиналось строительство гостиницы.
Работа возобновилась, однако на третий день, когда наши землекопы заметно углубились в грунт, откуда ни возьмись явилась группа суровых мужчин в европейских костюмах и принялась измерять наши траншеи. Один из землекопов подошел и сказал что-то по-арабски моему молодому переводчику Каису, который вместе со мной сидел в тени пальмы, с недоумением следя за происходящим.
— Они говорят, чтобы мы копали на два метра ближе к дороге, — перевел мне Каис.
— Ну уж нет, — возразил я. — Нам надо держаться возможно ближе к реке.
Рабочий снова взялся за лопату, но вскоре опять подошел к нам.
— Они говорят, наша разметка не согласуется с расположением гостиницы!
— Ерунда! — воскликнул я. — Они ничего не смыслят. Вы копаете как раз там, где надо.
Рабочий вернулся к траншее, однако работа не возобновилась, а началась бурная жестикуляция. Я подошел, чтобы успокоить спорщиков и устранить возникшее недоразумение. Добродушный носатый коротыш представился сам и представил своих товарищей на хорошем английском языке, после чего двумя руками учтиво подтолкнул меня туда, где он считал нужным рыть траншею.
— Конечно, разница небольшая, — согласился я, — но все-таки чем ближе к берегу, тем легче будет произвести спуск на воду.
— Спуск на воду? — Он воззрился на меня, как на беглеца из сумасшедшего дома.
— Ну, конечно, — рассмеялся я. — Не оставлять же судно на берегу.
— Судно? — Он разинул рот и вытаращил глаза. — Какое еще судно?
Настала моя очередь заподозрить, что у этого коротыша не все дома.
— Назовите его стогом сена, если вам угодно, — сказал я, — но я предпочитаю говорить о судне.
Он отступил на два шага, глядя на меня с крайним недоумением.
— Вы потешаетесь надо мной. Простите, сударь, но я выполняю распоряжение Министерства информации!
— Это самое министерство разрешило мне строить здесь судно, — ответил я, чувствуя, что здесь произошла какая-то путаница.
Коротыш явно был очень расстроен:
— Умоляю вас, сударь, я нанял каменщиков и плотников. Нам завтра приступать к работе. Мы будем расширять гостиницу, надо добавить двадцать пять номеров.
Судя по всему, мы общались с двумя разными отделами одного и того же министерства. Надо было как-то распутывать этот узел.
— Если вы сейчас построите на этом месте дом, я потом не смогу строить судно, — сказал я. — Но если я сейчас построю судно, мы уплывем, и через два месяца вы сможете приступить к своему строительству.
Он устремил на меня взгляд, полный отчаяния, потом показал на макушку стоявшей поблизости финиковой пальмы.
— Видите эту пальму? Я буду болтаться на ней с веревкой на шее, если не выполню свое задание!
Я рассмеялся, он тоже. Было очевидно, что мой конкурент капитулирует. Мистер Рэмзи (как его звали) приехал со всем своим багажом, и я не стал возражать, когда отзывчивый директор гостиницы предложил ему занять свободную койку в своей комнате. В итоге экспедиция, можно сказать, без всяких усилий с моей стороны пополнилась местным консультантом, чья помощь нам очень и очень пригодилась.
В эти же дни явился с чемоданом еще один весьма учтивый и обходительный пожилой господин — мистер Шакер эль-Тарки, направленный в мое распоряжение Багдадским музеем в качестве гида и офицера связи. Это было как раз в тот момент, когда потерялась вторая партия провианта, и, пользуясь тем, что у меня оказалось сразу два переводчика, я попросил Шакера съездить в его родную Басру и разыскать пропавший груз. Только он уехал, как до меня дозвонились из Багдада: до министерства дошло, что у меня появился лишний переводчик, и Каиса теперь вызывали обратно в столицу.
Каису давно надоело «это захолустье», и он поспешил укатить в тот же вечер. И когда на другое утро ко мне в номер постучал отряд рабочих и водителей, говоривших только по-арабски, я оказался совсем без переводчиков. Даже Али и Мухаммед куда-то запропастились. Между тем на дороге перед гостиницей выстроился караван грузовиков с полными кузовами сухого золотистого
берди, и прибывшие ждали моих распоряжений. Я поспешил открыть железные ворота в Сады Эдема, где рабочие копали траншеи, и грузовики один за другим стали протискиваться между кирпичными столбами.
В жизни я не видел столько грузовиков, трейлеров и бульдозеров. Правительство закупало их тысячами, и, получив распоряжение Багдада помочь мне с доставкой
берди из района Эль-Гассара, мэр Эль-Курны отрядил целый автобатальон, чтобы управиться с заданием в один день. В разгар этой челночной операции на тесной лужайке около гостиницы скапливалось подчас до девяти машин, водителям которых не терпелось поскорее сбросить груз. Они загораживали путь друг другу, катили прямо по сгруженным ранее ломким стеблям, я бегал от машины к машине, водители зло перебранивались между собой по-арабски и весело улыбались мне, с легким сердцем пропуская мимо ушей мои команды на различных, одинаково непонятных для них европейских языках. Ковыляя по стеблям и размахивая руками, я к вечеру совершенно вымотался. Наконец, уже на закате, я остался один в обществе протекающей мимо Адамова древа безмолвной реки. Кирпичные столбы основательно пострадали от грузовиков, и вся лужайка представляла собой сплошное нагромождение камыша. Ступить негде — не то что строить ладью.
Только закончилась заброска просушенного на солнце
берди, как на другое утро появился, словно из сундука иллюзиониста, Гатаэ со своей бригадой. С таким умом, как у него, языковые проблемы не могли служить неодолимым препятствием. Мухаммед, как мог, переводил мои указания, и болотные арабы поразительно быстро и ловко связали из камыша тугой бунт восемнадцатиметровой длины. Но вот неожиданность: толстый бунт — одному человеку никак не обхватить — оказался настолько тяжелым, что, по расчетам Гатаэ, понадобилось бы человек восемьдесят, чтобы поднять его и перенести на стапели. Стало очевидно, что для корпуса надо заготовить связки потоньше и числом побольше.
Когда вернулся Шакер, успешно выполнив свое задание, мы отвели целиком два дня на то, чтобы уложить
берди поблизости от строительной площадки в штабели высотой примерно в рост человека и с таким просветом, чтобы между ними можно было свободно пройти. Поврежденные стебли свалили на берегу; часть унесли старухи на топливо, а остальные в два счета превратились в целую флотилию речных плотов с экипажем из резвящихся мальчишек и девчонок.
Добыть в Ираке материал для стапелей оказалось не так-то просто. Древнейшие изображения и плитки с письменами свидетельствуют о том, что первоначально страна шумеров была лесистой, однако леса постепенно свели, и лесоматериалы, как это следует из клинописных перечней грузов, стали одной из важнейших статей импорта. В наши дни стоимость привозных балок и досок так высока, что мы были счастливы, обнаружив на подходах к порту Басры небольшой лесосклад, где продавались длинные шесты и рейки, заготовленные в горных лесах на севере страны. Нам нужны были сотни реек, и мы постарались выбрать наименее кривые и сучковатые. Поднаторевший в строительстве военных переправ Эйч Пи сумел из этого материала соорудить для сборки корпуса крепкие стапели под стать габаритам и форме будущего судна. Сложнее оказалось раздобыть доски для сходней, по которым должны были подниматься строители. В готовом виде корпус должен был состоять из двух прочно связанных вместе бунтов, достигающих трехметровой толщины посередине. Нос и корма, сужаясь, поднимались метров на шесть — попробуй, дотянись без лесов!
Видно, лампа Аладдина все еще работала на нас, потому что в самую нужную минуту два грузовика привезли и сбросили у ворот старые доски и планки. До европейцев, занятых на разных стройках по берегам реки, доходили странные слухи о нашей затее. Будто бы мы заготовили тонны камыша и воздвигаем на лужайке у гостиницы строительные леса, намереваясь строить бумажную фабрику! Между тем выше по течению и впрямь сооружалась бумажная фабрика с участием немецких специалистов, и однажды к нам явилась оттуда небольшая делегация. Мы объяснили, что строим камышовую ладью и в составе команды будет их соотечественник. А ниже по течению, южнее Басры, только что закончили строительство цементного завода датчане. Навестив нас, они услышали, что со мной пойдет в плавание их земляк.
В итоге мы получили горы досок и планок, которые в нынешнем Ираке, как и во времена шумеров, ценились на вес золота.
Архитектурное совершенство и элегантные линии деревянной конструкции Эйч Пи, право же, позволяли называть ее шедевром. Но едва мы приготовились пустить в дело аккуратно сложенный поблизости
берди, как появились одетые в европейские костюмы арабы с мерными лентами в руках и принялись деловито расхаживать между штабелями камыша.
Чувствуя, что пахнет новыми осложнениями, я подошел и деликатно справился, в чем дело. Ничего особенного, сэр, просто здесь намечено заложить фонтан.
Берди придется убрать отсюда, перенести в другое место, потому что этот участок предназначен для фонтана.
— Фонтан? — переспросил я. — Неужели нельзя подождать с фонтаном, пока мы не построим ладью?
Нет, фонтан никак не мог подождать.
— Но ведь вон там, между деревьями через дорогу, есть большой бездействующий фонтан! — сказал я. — Почему бы вам его не наладить?
Я показал на сто лет не видевшую воды, заброшенную конструкцию с ржавыми трубами в полусотне метров от нашей ограды.
Нет, фонтан непременно нужен здесь. Нам великодушно дали неделю сроку на то, чтобы освободить середину лужайки от камыша. Наш тучный и могущественный друг мэр Эль-Курны приветливо разъяснил, что это очень важный фонтан.
Мы потратили еще день на то, чтобы перенести ломкие стебли подальше от стапелей и поближе к Адамову древу, расчищая участок для фонтана. Затем из Эль-Курны пришли с кирками и лопатами два преклонного возраста труженика и принялись копать круглую ямину шириной с небольшой плавательный бассейн. Углубившись в грунт на полметра, они исчезли, и все то время, что мы пребывали в Садах Эдема, больше тут ничего не происходило. Но как не пожалеть наших собственных рабочих, подносчиков камыша, которые должны были с грузом на голове ковылять через яму по пути от Адамова древа к стапелям!
Календарь напомнил мне, что совсем близок день, когда из Южной Америки прибудут индейцы племени аймара, чтобы собирать судно из связок, подготовленных арабами. Только индейцы умеют строить серповидные суда, которые не опрокидываются и не теряют своей формы под ударами океанских воли. Болотные арабы по-прежнему мастерски делают всякие вещи из камыша, но вот искусство конструировать суда из камышовых связок здесь забыто, как забыто оно в Египте и в других центрах древней цивилизации, за одним существенным исключением: тонкое умение строить корабли из стеблей полностью сохранилось в окрестностях развалин самой величественной из древнейших культур Южной Америки — культуры Тиауанако. На высокогорном озере Титикака в Андах индейцы племен аймара, кечуа и уру в наши дни строят суда, подобные древним ладьям Египта и Двуречья. Когда испанцы, открыв Америку для Европы, дошли до этих мест, обитавшие в районе озера индейцы рассказали им, что впервые такие ладьи появились здесь во времена предков, с приходом чужеземцев, которые, обосновавшись в Тиауанако, соорудили исполинский храм в виде ступенчатой пирамиды и воздвигли огромные каменные изваяния, однако потом враждебные племена вытеснили этих пришельцев в приморье, и они ушли в Тихий океан.
По словам индейцев, во главе чужеземного народа стоял священный правитель Кон-Тики, он же Виракоча, что на языке кечуа означает «морская пена». Кон-Тики называл Солнце своим родоначальником; он повелел, чтобы его предков изображали в керамике и на каменных рельефах человеческими существами с птичьей головой и крыльями. Однако сам Кон-Тики и его рослая свита были самые настоящие люди, такие же светлокожие и бородатые, как испанцы, только одеты по-другому, в перехваченных поясом длинных просторных облачениях, на ногах — сандалии.
Обнаружив древние каменные скульптуры и золотые статуэтки, изображающие Кон-Тики-Виракочу именно таким, каким его описывали индейцы, испанские завоеватели решили, что некий апостол из Священной Земли до них пересек Атлантику; ведь такую точно историю им рассказали, когда они впервые высадились в Мексике. Среди ступенчатых священных пирамид и огромных каменных статуй ацтеки приветствовали Кортеса в Мексике так же, как инки приветствовали Писарро в Перу. И поведали европейцам, что задолго до них через Атлантику приплыли светлокожие бородатые люди в длинных одеяниях и научили предков ацтеков и майя воздвигать пирамиды и поклоняться солнцу; они же принесли с собой иероглифическое письмо и другие достижения цивилизации, оставшиеся неизвестными первобытным индейским племенам к северу от Мексики и к югу от Андской области в Южной Америке. Зато в пределах пояса жарких дождевых лесов Центральной Америки повсеместно обнаружены развалины — следы забытой цивилизации, приписываемые местными индейцами бородатым светлокожим чужеземцам, чей предводитель называл себя потомком Солнца. В каждой из стран этой области он был известен под другим именем. Ацтеки называли его Кецалькоатль, майя — Кукулькан, инки — Виракоча. Первое время испанцы совсем запутались, настолько, что в Мексике их монахи признали в Кецалькоатле Святого Фому, а в Перу учредили орден Святого Варфоломея, воздавая почести большой статуе бородатого Кон-Тики-Виракочи в Кане к северу от озера Титикака.
По преданию, на маленьком острове среди названного озера, известном теперь как остров Солнца, светлокожий правитель и его бородатые спутники сочетались браком с местными женщинами. Затем они, плавая на камышовых лодках, насаждали цивилизацию среди индейцев племени уру и воздвигли величественный культовый и культурный центр Тиауанако.
С тех самых пор искусство вязки камышовых лодок сохраняется среди местных жителей, располагающих для строительства только камнем, камышом и глиной. Индейцы племени уру, которые ранее были подвластны все здешние земли вплоть до берегов Тихого океана, не только вяжут лодки из камыша — они живут в камышовых домах на плавучих камышовых островах, совсем как болотные арабы Южного Ирака.
В Африку я привозил с Титикаки четверых индейцев племени аймара. Руководствуясь опытом, приобретенным на штормовом внутреннем море в горах, они связали мне папирусную ладью «Ра II», которая вынесла все испытания и в полной сохранности пересекла Атлантический океан. Но когда ладью затем доставили в музей Кон-Тики в Осло и набухшие от воды связки начали просыхать, гордое суденышко поникло, точно пальто без вешалки, и ни ученые, ни местные мастера не могли вернуть былую осанку серповидной конструкции. Древняя техника вязки была настолько хитроумной, что наши наблюдения в период строительства не помогли; пришлось руководству музея приглашать все тех же индейцев с переводчиком в Осло, чтобы они восстановили ладью. Зная, что никто не сравнится с ними в искусстве камышового судостроения, я теперь решил просить их, чтобы они снова пересекли Атлантику, на сей раз курсом на Ирак.
Хотелось бы начать плавание и выйти из Аравийского залива до начала зимних дождей; стало быть, индейцам следовало приступить к работе возможно скорее после просушки срезанного в августе камыша. Но в сентябре в болотном краю еще стоит сильная жара, а индейцы племени аймара привыкли к прохладному разреженному воздуху, живя на своем озере на высоте 3,5 тысячи метров, в окружении снежных вершин. Столь резкая перемена климата могла оказаться пагубной. Надо было повременить с их приездом, пока не спадет зной, к тому же позаботиться о постепенной акклиматизации. Вот как мы поступили: с голого островка на озере Титикака переводчик проводил индейцев в боливийские дождевые леса в истоках Амазонки, там они две недели отдыхали, привыкая к теплому воздуху, после чего вместе с моим мексиканским другом Германом Карраско, будущим участником экспедиции, вылетели из Ла-Паса в Багдад.
Министерство информации Ирака любезно предложило установить кондиционер в предназначенном для них номере на втором этаже гостиницы. С окна на первом этаже сняли аппарат, похожий на клетку для канарейки, и перенесли наверх. И начались мои мытарства. Целыми днями кондиционер висел, не подавая никаких признаков жизни, словно и впрямь речь шла о заброшенной клетке, потом вдруг принимался рычать, как будто в нем поселились лютые тигры, или же рокотал и дергался, точно вертолет, тщетно пытающийся оторваться от земли. Наконец, в тот самый день, когда прибыли индейцы, случилось чудо: из страховидного ящика в пустую комнату вырвался леденящий ветер.
К этому времени тихий приют на берегу реки успел превратиться если не в сумасшедший дом, то, во всяком случае, в нечто вроде перенаселенного морского курорта. Первыми в гостиницу ввалилась обвешанная со всех сторон камерами и треногами пятерка арабов-телевизионщиков из Багдада, которые тотчас принялись целиться в нас своими объективами из-за каждого угла. Их устраивал только номер Шакера, и он перешел в комнату к директору и инженеру. Не успели они разобрать свои вещи, как другая пятерка, операторы Би-би-си, оккупировала вестибюль и заставила все лестницы и коридоры несметным количеством ящиков, сумок и жестяных коробок, пока их арабские коллеги не согласились любезно освободить бывший номер Шакера и занять комнату на втором этаже рядом с «вертолетной базой», забронированной мной для индейцев. Следующим прибыл учтивый, безупречно владеющий английским языком, тихий молодой араб — Рашад Назир Салим, студент-искусствовед из Багдада. По рекомендации Норвежского консульства он должен был представлять Ирак в составе моей команды. На первый взгляд столь утонченная натура не очень-то подходила для опасного морского предприятия, но я все же вселил Рашада к Эйч Пи. Дальше один за другим стали появляться какие-то потные, усталые субъекты, мечтающие о холодном пиве, ванне и кровати после семичасовой тряски на багдадском такси под палящим солнцем. Немецкий журналист. Фоторепортер из США. Газетчик из Багдада. Шведский журналист. Два норвежских репортера. Еще один немец. Потом я сбился со счета. Кроткий директор гостиницы всех привечал и несколько человек разместил в кладовой на матрацах между горами постельного белья, которое грозило обрушиться на постояльцев от громкого храпа.
Казалось, стены гостиницы «Сады Эдема» оттопыриваются от напора изнутри, а ведь еще не приехали главные действующие лица. Кроме индейцев из Южной Америки ожидались трое индийских кормчих из Бомбея, не говоря уже о членах экспедиции, уроженцах Азии, Европы и Америки. В отчаянии я связался по телефону с Багдадом; из министерства ответили, что страна по-прежнему закрыта для туристов и журналистов, однако власти, верные своему слову, впускают всякого, кто ссылается на меня. Мне пообещали впредь руководствоваться составленным мною списком, но предупредили, что из Багдада уже едут в Эль-Курну еще репортеры...
Было условлено, что через знойную равнину индейцев провезут к нам ночью. В жаркий полдень перед битком набитой гостиницей остановилась многоместная легковая машина, из которой выбралась пятерка коренастых
коротышей в тяжелых шерстяных пончо и вязаных шапочках с наушниками. Они молча обняли меня — так у аймара принято приветствовать вождей, и так они в Осло обнимали норвежского короля, — поздоровались с остальными за руку и поднялись следом за мной на второй этаж. Каждый нес в руке маленькую сумку, и я знал, что в сумке лежит озерный голыш и деревянный крючок: единственный инструмент, которым они пользовались, работая с камышом и веревками. Войдя в номер, вся пятерка замерла перед благодатным ящиком, рычавшим голосом белого медведя. Пока они наслаждались прохладой, я рассматривал сияющие радостной улыбкой знакомые лица. Паулино Эстебан и братья Хуан, Хосе и Деметрио Лимачи — индейцы племени аймара с острова Сурики на Титикаке; пятым был их боливийский переводчик Луис Себальос Миранда, сотрудник Музея Тиауанако в Ла-Пасе.
Стоические лодочные мастера не проявили никаких эмоций при виде нескончаемых штабелей камыша в Садах Эдема. Но перед Адамовым древом они почтительно остановились и обнажили черноволосые головы. После чего снова обратились лицом к
берди. Взяли несколько стеблей, разломали на мелкие куски и невозмутимо вынесли приговор: для строительства судна не годится. Наши местные друзья, болотные арабы во главе с Гатаэ, окружив нас любопытствующим кольцом, смотрели на заморских коротышей, как на пришельцев с другой планеты. С удивлением услышали они, что племя этих лодочных мастеров называется аймара, но еще больше изумили их мои слова, что соседи аймара зовут себя уру и живут на плавучих островах, совсем как здешние арабы. Названия-то какие знакомые: Амара — один из соседних городов, и до развалин Ура не так уж далеко!
Гатаэ попросил меня объяснить индейцам, что сейчас камыш и впрямь ломкий, как бумага, но стоит его намочить, и он будет тугим и гибким, не хуже каната. Известное дело, сказали индейцы, такими же свойствами обладает камыш
тотора на озере Титикака. Да только все равно
берди не годится. Взять
тотору — у нее сплошной ровный стебель, как и у папируса, из которого они вязали для меня «Ра II» в Африке. Папирус даже толще и лучше, чем
тотора. А тут стебель расходится, как у травы, на тонкие листовые пластины, неизвестно, как и подступиться.
И индейцы поспешно ретировались в свою прохладную комнату с рокочущим ящиком. Как бы не надумали возвращаться домой!
И ведь они правы: разница большая. Нам предстоял совершенно новый эксперимент. Только сладковатый запах да рыхлая сердцевина сближает все три материала. У
тоторы и папируса сердцевина плотно обтянута тонкой водонепроницаемой кожицей; от корня до зонтиковидного соцветия наверху тянется прямой трехгранный стебель. А у
берди кожица и сердцевина свернуты в несколько слоев, как у луковицы; овальный в основании стебель раскрывается кверху длинными острыми листовыми пластинами. Правда, глянцевитая кожица такая же водонепроницаемая, как у папируса, но у
берди есть то преимущество, что нет нужды обрезать верхушку, так что вода может просочиться только с нижнего конца, тогда как обрезанные внизу и вверху стебли папируса и
тоторы впитывают воду с обоих концов.
Под вечер, когда поунялась жара, индейцы спустились из своей комнаты, чтобы еще раз взглянуть на камыш. У сеньора Себальоса уже был опыт посредничества, и с его помощью мы с Гатаэ сумели убедить титикакских мастеров, что от них требуется только проследить за сборкой корпуса из готовых элементов, а болотные арабы сами подготовят по их указаниям связки нужной величины.
Едва ли не самыми радостными за весь экспедиционный период были для меня эти дни, когда на моих глазах между индейцами и болотными арабами, как только они вместе взялись за работу, сразу возникла дружба и взаимное уважение. Сеньор Себальос и четверо титикакцев с явным удивлением и одобрением смотрели, как арабы, отбирая лучшие стебли, туго-натуго связывают их в такие ровные и плотные пучки, что получается нисколько не хуже пучков из отборной
тоторы. Наши аймара пришли к выводу, что иракские арабы в работе с камышом явно превосходят марокканских — недаром они прямые потомки Адама!
Первый день индейцы обращались со своими пожеланиями к сеньору Себальосу на языке аймара, он переводил мне на испанский, я — мистеру Шакеру на английский, а уже Шакер объяснял арабам, что от них требуется. Однако эта громоздкая система функционировала недолго. Выйдя на другое утро из гостиницы, я увидел, что индейцы в пончо и вязаных шапках и арабы в бурнусах и халатах сидят на корточках вокруг длинного мата, который плели вместе. Они переговаривались, кивали, улыбались, передавали друг другу веревки, стебли и прочие вещи — словом, царило полное взаимопонимание, как будто те и другие вдруг овладели в совершенстве эсперанто. Я постоял под пальмой, не веря своим глазам, потом подошел ближе и прислушался... На каком это языке они так свободно объясняются? Мой слух не улавливал ни одного знакомого слова. Дождавшись Себальоса и Шакера, я выяснил, что индейцы говорят на языке аймара, а арабы — на своем арабском. Между этими двумя языками столько же сходства, сколько между китайским и английским, но наших мастеров объединяли житейский опыт, камыш и живой ум.
Гости с озера Титикака объявили, что с такими отличными ребятами, как болотные арабы, они готовы построить судно любых размеров. А Гатаэ, сияя от удовольствия, сказал, что его землякам в жизни не доводилось работать с такими приятными и знающими людьми, как эти южноамериканские джентльмены. Прошел еще один день, и я увидел, что степенный рослый Гатаэ щеголяет в коротком коричневом пончо и вязаной шапочке, а Себальос и его коренастая бригада облачились в белые халаты и чалму — привидения, да и только, смеху не оберешься! Индейцы непрестанно путались в полах длинных одеяний; Гатаэ без конца чесался, томясь от жары. Мы постарались добыть в Басре соломенные шляпы для индейцев, но на другой же день они опять напялили свои шерстяные шапочки с длинными наушниками.
В день первого знакомства индейцы без всяких переводчиков научили арабов плести особые маты, которыми предстояло туго обтянуть два главных бунта — две половины корпуса нашей ладьи. Гладкие маты длиной во весь корпус были сплетены так, что стебли смотрели в одну сторону и ни один кончик не торчал наружу. Это важно и для обтекаемости, и для большей водонепроницаемости. Когда было изготовлено несколько таких матов длиной восемнадцать метров и шириной около метра, три десятка рабочих осторожно один за другим отнесли их и уложили на стапели. Теперь эти огромные «колбасные шкурки» предстояло набить начинкой из плотных связок. Я подсчитал, что на корпус уйдет тридцать восемь связок шестидесятисантиметровой толщины; просветы между ними заполним тонкими пучками. Арабы и индейцы работали так споро, что в день вместо одной, как предполагалось, поспевали делать по три большие связки. Каждая из них длиной намного превосходила собственную длину корпуса — ведь концы должны были загибаться кверху, образуя подобие серпа.
Немало поломали мы голову над другим вопросом: применять или не применять асфальт? Ученые напирали на то, что найденные в Уре модели шумерских судов густо обмазаны асфальтом. Духовные лица напоминали мне, что Моисей был найден в обмазанной смолой корзине на реке Нил, а Ной спас своих пассажиров, промазав таким же способом камышовую обшивку своего корабля. Но Гатаэ. как и старик Хаги до него, уверял меня, что бунты и без того будут отлично держаться на воде. Мы изготовили на пробу две одинаковые связки 3,5-метровой длины и отвезли одну из них в деревню лодочных мастеров Хуваир, к рыжеволосому голубоглазому арабу, который славился своим умением промазывать
машхуф. Просто диво, до чего быстро и искусно он работал, обходясь теми же приемами и таким же инструментом — деревянной лопаточкой и скалкой, — какими пользовались его братья по ремеслу пять тысяч лет назад! Асфальт для промазки добывался в природном месторождении выше по течению Тигра.
Мастер смазал нашу связку по всем правилам, и мы установили, что к ее собственному, не такому уж значительному, весу прибавилось около шестидесяти килограммов черного битума. После этого обе экспериментальные связки — с защитным покрытием и без него — погрузили рядом друг с другом в реку, придавив кирпичами и железным ломом. Им предстояло лежать на дне около полутора месяцев, пока не будет готова ладья.
Одновременно с этим экспериментом Эйч Пи произвел свой собственный опыт. Срезав верхушку у нескольких прозрачных пластиковых бутылок, он наполнил одни пресной, другие соленой водой, засунул в них торчком обрезанные куски
берди и поставил в моей комнате. Некоторые стебли он туго связал вместе бечевкой. Тростинки плавали так хорошо, что даже целый трехметровый стебель стоял в воде прямо, не касаясь дна. Нельзя, однако, сказать, чтобы результат опыта внес какую-то ясность. На третий-четвертый день кое-какие стебли начали вылезать из бутылок, видимо потому, что разбухло основание. Эйч Пи сразу воодушевился и предположил, что под конец плавания мы будем парить над океаном не хуже дирижабля. Правда, через несколько недель тростинки все же малость погрузились; только те, что стояли в соленой воде, остались на прежнем уровне.
Более сложная проблема с водой возникла на суше, как только индейцы начали собирать корпус ладьи.
—
Маку маи! (Нет воды!)
Первые арабские слова, которые я заучил. В ответ с крыши гостиницы раздавался радостный голос нашего арабского друга, инженера Рэмзи:
—
Аку маи! (Есть вода!)
Без воды хрупкие, как спичка, стебли
берди ломались при сгибе. А зеленый
берди и вовсе не годился для строительства, потому-то камыш сперва высушивали на солнце, потом смачивали сверху, чтобы он стал гибким и можно было делать из него маты и связки. Находящиеся выше по течению Тигра Багдад и другие большие города настолько загрязняли реку, что мы боялись испортить высушенный камыш этой водой. Первые дни мы все же пользовались ею, но затем мистер Рэмзи нашел выход. По его распоряжению из Басры доставили две цистерны и установили с великими трудностями на крыше гостиницы. Насос накачивал в них очищенную питьевую воду из Эль-Курны, и теперь сеньор Себальос мог с утра до вечера спрыскивать стебли и связки. Однако те же цистерны питали гостиничный водопровод, а потому работающая с полной нагрузкой кухня и перенаселенные номера соперничали с тонким резиновым шлангом в руках Себальоса.
—
Маку маи! — отчаянно кричали мы, когда у нас под ногами начинали хрустеть сухие стебли.
—
Аку маи! — доносилось минутой позже с крыши, где орудовал разводным ключом коротышка-инженер.
Сразу после этого радостного известия нередко можно было услышать яростный вопль какого-нибудь журналиста или телерепортера, который в это самое время стоял, весь в мыле, под бастующим душем. Я так боялся потерять мистера Рэмзи, что однажды утром, когда он задумал на денек укатить в Басру, буквально вытащил его из машины.
Перед нашим въездом в «Сады Эдема» Министерство информации великодушно предложило вообще закрыть гостиницу для всех, кроме членов моей экспедиции. Я не согласился, зная, что просторный зал ресторана и терасса с видом на реку — любимое место здешнего люда. По вечерам и в дни мусульманских праздников приходили сюда мэр и другие деятели из Эль-Курны, собиралось множество учителей из болотного края, чтобы выпить холодного иракского пива или чашку чая. А для туристов страна и без того была закрыта, но я забыл про десятки тысяч иностранцев, работающих в Ираке по межправительственным соглашениям на промышленных объектах в районе Багдада и Басры, на нефтяных промыслах. Стоило местному телевидению показать, что в Садах Эдема работают южноамериканские индейцы, как на нашу лужайку повалили' толпы гостей. Русские, японцы, немцы, поляки шли в гостиницу освежиться холодным пивом; Али и Мухаммед выключали воду в уборных, а Рэмзи переключал ее на наш шланг, и начинался нескончаемый внутренний конфликт.
—
Маку маи! Аку маи! Аку маи!
В такой вот сумятице под знойным солнцем рождалась наша ладья. Тридцать рабочих взваливали на плечи очередную восемнадцатиметровую связку, и длинное шествие наподобие китайского фестивального дракона извивалось между пальмами и штабелями камыша. Поднимут связку на ажурные стапели и запаковывают в огромный плетеный чулок.
Жара пошла на убыль. С прибытия индейцев в начале октября прошло три недели, и могучий корпус ладьи из двух параллельных бунтов был в основном готов. В широкий просвет между двумя бунтами незримым хребтом должен был лечь третий — главный секрет хитроумной конструкции необычного судна.
И с каждым днем все сильнее ощущалась нужда в трех специалистах по
дау, которые давным-давно должны были прибыть из Бомбея. Без них нельзя было начать изготовление специфического паруса из припасенного мной материала.
Дау ходят в здешних водах с незапамятных времен, и паруса их напоминают поставленный наклонно египетский парус. Речь идет, несомненно, о переходной форме между древнейшим доисторическим типом и современным латинским парусом. Было очень важно располагать такой конструкцией для нашего эксперимента, однако гамбургский мастер не знал, как ее шить.
Я проехал по берегам реки вплоть до Аравийского залива, побывал даже в Кувейте в поисках кормчих, которые, во-первых, помогли бы нам оснастить ладью, во-вторых, провели бы нас через частокол рифов и танкеров в открытый океан. Увы, все владельцы
дау давно срубили мачты и поставили моторы, поскольку горючее в странах по берегам залива сравнялось в цене с ветром. Всюду мне отвечали одно и то же: в наши дни только индийские и пакистанские
дау ходят под парусом.
Двадцать лет назад и Шатт-эль-Араб, и Тигр белели парусами открытых
дау, доставлявших в Басру финики с плантаций. Теперь эти гордые парусные суденышки увидишь только на фабричном знаке, украшающем коробки с иракскими финиками.
Когда я впервые приехал в Ирак, индийские парусные
дау совершали регулярные рейсы между Бомбеем и Басрой, однако это сообщение временно остановили, борясь с контрабандой. Индийский консул в Басре обещал мне раздобыть трех кормчих
дау через профсоюз моряков в Бомбее, но не успел довести дело до конца, как его отозвали из Ирака. Я решил было сам отправиться в Бомбей и подобрать нужных людей, но куча неотложных дел не позволяла оставлять строительство. В конце концов представители Би-би-си вызвались найти для меня специалистов по
дау через Бомбейское агентство по найму моряков. Мне требовалось три человека, досконально знающих условия плавания в Аравийском заливе, и чтобы по меньшей мере один из них объяснялся по-английски.
Из Лондона телеграфировали, что три человека наняты и вылетели из Бомбея. Прошло две недели, а индийских кормчих нет как нет. Новая телеграмма сообщила, что они застряли в Нью-Дели в ожидании иракской визы.
Пока Би-би-си и Бомбейское агентство разыскивали пропавших, начали прибывать основные члены экипажа. Они должны были помочь со спуском ладьи на воду и монтажом надстроек. Пока Эйч Пи вылетел в Норвегию, чтобы передохнуть и охладиться перед стартом, роль моей правой руки на верфи взял на себя Детлеф Зоицек, молодой капитан торгового флота, с которым я познакомился в ФРГ. После него прибыли три опытных мореплавателя, ходившие вместе со мной на «Ра I» и «Ра II»: штурман экспедиции Норман Бейкер из США, врач Юрий Сенкевич из Советского Союза и итальянский альпинист Карло Маури. Еще через несколько дней мы встретили остальных новичков: специалиста по подводным съемкам Тору Судзуки из Японии; моего друга вечного бродягу Германа Карраско, который успел возвратиться в Мексику после того, как доставил индейцев из Боливии в Ирак; молодого датчанина из Всемирных колледжей Асбьёрна Дамхюса и совсем незнакомого мне американца Норриса Брока — кинооператора, прикомандированного к нам Национальным географическим обществом США в качестве, так сказать, независимого наблюдателя. Все как один — отличный, крепкий народ.
Во второй день ноября, когда мы, сидя в ресторане за большим общим столом, смаковали превосходный ужин, вошел Али и сообщил, что нашлись пропавшие индийские кормчие, стоят все трое со своими вещами в гостиничной конторе. Бросив еду, мы радостно поспешили в контору, чтобы приветствовать своих долгожданных товарищей по первому этапу намечаемого плавания. Наконец-то! Смуглые, самые настоящие кормчие из Индии! Я воспринял их как давних знакомцев и представил своим друзьям: Салеман Тайяб Чангда, Ибрахим Харун Содха, Абдул Алим Васта. Помыли руки с дороги — и в ресторан. Мы приставили еще один столик, и новоприбывшие вместе с нами принялись воздавать должное аппетитным блюдам, подаваемым Али и Мухаммедом. Преодолев начальное смущение, индийцы обрадовались такому дружескому приему. Положили себе по половине жареного цыпленка и стали открывать пиво банку за банкой. Салеман, говоривший по-английски, переводил для своих товарищей.
К языкам аймара, арабскому, японскому, русскому и целому набору западноевропейских теперь добавился индийский, и кто-то предложил, чтобы мы бросили всю эту затею с камышовой ладьей, а вместо этого занялись восстановлением Вавилонской башни, благо до нее недалеко. Отстроим башню заново и откроем наверху школу эсперанто. Наша интернациональная компания веселилась от души, и Мухаммед еле поспевал приносить полные банки пива и выносить на террасу пустые. Куда он их там девает? Проследовав за ним, я увидел, что он выбрасывает пустые банки в реку.
— Мухаммед, — сказал я, — вы тут, как я погляжу, весь мусор отправляете в Тигр. И куда же, по-твоему, доплывут эти банки?
Он весело улыбнулся:
— В Америку?
Трое новоприбывших устали с дороги, к тому же успело стемнеть, и мы решили перенести на завтра их знакомство с нашим судном. Все гостиничные номера и даже вестибюль с прилегающим к нему баром были заполнены кроватями и матрацами, и пришлось уложить индийскую троицу на раскладушках, втиснутых между горами стреляющего бамбука и бухтами канатов в нашей кладовке.
На другой день я разбудил их чуть свет. Прямо в пижамах они поднялись вместе со мной по лестнице на плоскую крышу гостиницы. Здесь открывался великолепный вид на реку и на лужайку. В бледном свете занимающегося дня наша серповидная ладья смотрелась изумительно — словно золотистый месяц на время приземлился на берегу Тигра, чтобы вскоре снова тронуться в путь. Под руководством индейцев в последние дни была завершена самая трудная часть всей работы: две огромные половины корпуса соединены в одно целое. Оба бунта из множества связок, туго обтянутых камышовой оплеткой, сохраняли круглое сечение, а разделявший их просвет, из-за которого каждая половина казалась отдельным челном, теперь заполнила тонкая связка, своего рода позвоночный столб всей конструкции, соединенный с двумя бунтами от носа до кормы непрерывной спиралью из полудюймовой пеньковой веревки длиной в несколько сот метров. Спиральными витками центровую связку скрепили сперва с одним, потом с другим бунтом. Затягивали веревку общими усилиями всех рабочих, с применением блоков и талей, и боковые бунты, постепенно сближаясь, стиснули среднюю связку так крепко, что она совсем скрылась между ними. Получилось нечто вроде катамарана из двух спаянных вместе корпусов.
Трое невыспавшихся кормчих из Индии долго смотрели с крыши на красавец корабль, которому недоставало только надстроек и рангоута с такелажем. Казалось, они не находят слов, чтобы выразить свой восторг. Наконец Салеман медленно вымолвил:
— А где же мотор?
— Мотор? — удивился я. — Никакого мотора не будет!
— А как же лодка пойдет? — полюбопытствовал Салеман.
— Под парусом, разумеется. Разве вы не ходите на
дау под парусом? — спросил я, глядя на смуглую тройку, созерцавшую мою ладью.
— Мы ходим на
дау, — спокойно подтвердил Салеман. — Но наши
дау — моторные.
Ни один из них не умел плавать под парусом! Вот так так... Ладно, хоть будут лоцманами, помогут провести ладью через Аравийский залив. Сколько раз доводилось им ходить от Бомбея до Басры?
До Басры? Салеман поглядел на Ибрахима, Ибрахим — на Абдула. Никто из них не ходил до Басры.
Ну что тут поделаешь! Придется отсылать их обратно в Бомбей. Индийцы с видимым облегчением восприняли мое решение; глаза их выражали явный ужас, когда они напоследок еще раз посмотрели с крыши на камышовое суденышко.
Однако прежде, чем отправить всю троицу в обратный (увы, не такой уж дешевый!) путь, меня осенило, что Салеман с его английским языком еще может нам пригодиться. В Басре мы видели стоящие на якоре большие индийские
дау, да только все наши попытки наладить контакт с их праздными экипажами ни к чему не приводили, потому что эти люди не знали арабского языка, не говоря уже о европейских. Может быть, кто-нибудь из них знаком с парусным делом, тогда Салеман послужит переводчиком.
В тот день вечером члены экспедиции были приглашены в Басру на званый обед, устроенный в нашу честь ректором университета, а наш штурман Норман Бейкер вызвался еще до обеда съездить вместе с индийцами в гавань Басры, чтобы там потолковать с их соотечественниками. Советское Генеральное консульство предоставило Юрию замечательную новую русскую машину, и Шакер сказал, что отвезет Нормана, а мы отправились в университет на микробусе.
Долго мы ждали Нормана и его четверых спутников в университете, наконец сели за стол без них. Одно арабское пряное блюдо сменяло другое; внезапно озабоченный официант ввел в зал какого-то странного человека, смахивающего на привидение. На сплошном белом фоне — два красных пятна: ухо и нос, притом красные от ссадин. Это был Норман. Весь обмотанный бинтами, он остановился в дверях, ожидая, когда его представят хозяевам.
— Что случилось?! — в ужасе воскликнул я.
— Машина перевернулась, три оборота успела сделать, — пробурчал Норман.
— А где индийцы?
— В больнице, на обследовании.
— А Шакер?
— Шакер в полиции. Он ведь сидел за рулем.
— А что с новой машиной советского генерального консула?
— Машина вдребезги, лежит там на обочине колесами кверху.
Норман отделался ушибами; бинты на лице не помешали ему дать работу челюстям и доказать, что его знаменитый аппетит нисколько не пострадал. Однако злополучные индийцы, явившись немного погодя, есть отказались. У одного была повреждена нога, у другого голова, у третьего спина, и все трое умоляли меня об одном: с первым же самолетом отправить их домой в Индию. Что я и сделал, как только связался по телефону с Багдадом. Они вылетели из Ирака курсом на Индию, но в пути где-то потерялись и в Бомбейское агентство по найму больше не показывались.
Но как же нам все-таки быть? Близится зима, уже — на месяц раньше обычного — прошел небольшой дождь, через несколько дней надо спускать ладью на воду, а Норман, положившись на отчет Саутгемптонского университета об испытании пластиковой модели, настаивал на том, что нужен парус большей площади и нужны рулевые весла пошире тех, которые мне изготовили в Гамбурге. У нас были припасены полотнища для парусов, какими вооружают
дау, да только некому их шить, и Норман предложил отставить эту идею, а полотнища пустить на увеличение готового паруса.
— Элементарное дело, — сказал он и взял на прицел лучший из наших двух парусов.
Речь шла о прочном, обшитом ликтросом парусе из толстых полотнищ площадью шестьдесят квадратных метров, с кренгельсами, в которые продергивают снасти для лавирования. Второй, подсобный, парус предназначался для ускорения хода при умеренных попутных ветрах, когда можно не бояться опрокидывания. Его тоже сшили из египетского хлопчатобумажного полотна, но намного тоньше; площадь — целых восемьдесят квадратных метров.
Нам удалось найти в Хуваире старых парусных мастеров, и Норман распорол посередине наш лучший парус, чтобы вставить дополнительное полотнище, сохранив в неприкосновенности ликтросы и кренгельсы. Куски распоротого паруса и запасную парусину расстелили на полу столовой, и мастера полдня колдовали над ними, после чего объявили, что у них ничего не получается — нынешний инструмент уже не тот. «Очень жаль, — ответил я, — тогда восстановите парус, как был».
Увы, сколько ни трудились арабские мастера вместе с Норманом и Эйч Пи, который к этому времени вернулся из Норвегии, привезя с собой специальные иглы и рукавицы, им никак не удавалось вернуть первоначальный вид распоротому парусу. А тут начались дожди, время не позволяло отправлять его для реставрации обратно в Гамбург. Хочешь не хочешь выходи в плавание под рассчитанным на попутные ветры тонким парусом. К счастью для нас, зимой в Аравийском заливе преобладают дующие со стороны Ирака северные ветры. Стало быть, мы можем рассчитывать на устойчивый попутный ветер до самого острова Бахрейн, а там, заверяли нас все, мы найдем сколько угодно парусных мастеров и кормчих, которые ходят на парусных
дау и заменят нам уехавших индийцев.
Несколько больше преуспел Норман в своих планах расширить лопасти рулевых весел. Тут к нам неожиданно пришел на помощь настоящий плотник-профессионал.
Надо сказать, что в эти дни мы жили наподобие зверей в зоопарке. Ежедневно сотни людей, работающих на промышленных объектах, приезжали на автобусах, чтобы поглазеть из-за железной ограды на диковинное судно на берегу Тигра. Если не считать арабов, преобладали русские, немцы из ГДР и ФРГ, поляки, японцы, американцы и скандинавы. Непременным зрителем был Иозеф Чиллих, бригадир плотников западногерманской фирмы «Поленски унд Цёльнер», которая строила близ Амары огромный комбинат для производства бумаги из камыша. Как-то незаметно получилось, что каждую пятницу Чиллих уже трудился вместе с нами. Его умелые руки помогли Норману нарастить досками лопасти рулевых весел, используя клей и деревянные штифты. Но при таких огромных лопастях понадобилось также увеличить веретена. Искусно применяя деревянные накладки, решили и эту задачу; правда, при этом веретена стали в сечении овальными вместо круглых. Творцы этих причудливых деревянных монстров горячо защищали свою необычную продукцию: дескать, ничего, что сечение овальное, ведь весла будут вращаться не в сплошном кольце, а в открытых уключинах. Так или иначе, делать веретена тоньше нельзя было, не уменьшив соответственно площадь лопастей, а это, подчеркивал Норман, свело бы на нет результаты саутгемптонских тестов. И ведь он был прав: для чего было затевать испытания, если пренебрегать их итогами!
К тому же на нас в это время обрушились куда более неотложные заботы. Норман, моя правая рука по всем вопросам рангоута и такелажа, свалился в постель с температурой сорок с хвостиком; второй штурман, Детлеф, тоже заболел; за ним Эйч Пи и остальные члены экипажа. Только мы с Карло остались на ногах, да Юрий, превозмогая недомогание, бегал от кровати к кровати со специальной аптечкой, разработанной для советских космонавтов. Болезнь не миновала и телеоператоров, и мы не на шутку встревожились. В арабских странах разразилась эпидемия холеры, и она добралась до деревень ниже по реке. Правда, в районе Эль-Курны не был зарегистрирован ни один случай.
И вот в такое время, когда чуть ли не все мои люди были прикованы к постели, хлынули дожди. Настоящие ливни. Совсем как в мифе о Ное. Болотные арабы забились в свои камышовые дома, ожидая, что вот-вот их островки оторвутся от грунта и поплывут. Суглинок в Садах Эдема превратился в липкую грязь. С помощью двух-трех человек я старался накрыть ладью камышом, чтобы защитить ее от воды. С ужасом смотрел я, как набухающие бунты начинают распирать стойки наших замечательных стапелей. Вес корпуса возрос, наверно, не на одну тонну, и стапели грозили развалиться. Мы срочно принялись вколачивать клинья в грунт, укрепляя покосившиеся стойки, а Мухаммед сбегал в Эль-Курну и принес зеленую пластиковую пленку, которой мы накрыли все суденышко. Если не считать этот малопривлекательный материал, наша ладья с двускатной крышей, по которой барабанил дождь, окруженная множеством расплывающихся луж, стала совсем похожа на Ноев ковчег. Мы волновались: как-то выдержат деревянные стапели растущую нагрузку? Выдержали! Тучи ушли, солнце снова озарило Сады Эдема, мы убрали безобразную пленку, и вот уже наш Ноев ковчег опять такой же сухой, как если бы его прибило к горам Араратским.
Пришла пора решать, промазывать или нет золотистую ладью черным асфальтом. Подняв со дна реки две испытуемые связки, мы с ужасом увидели, что они явно отсырели, прежней плавучести нет и в помине. На берегу распилили их примерно посередине и убедились, что они промокли насквозь. Асфальт потрескался. Стало быть, от него никакого проку, только лишний вес добавил.
Я глядел на Гатаэ и его ребят, которые безмолвно созерцали мокрые связки. Их замешательство было равно моему разочарованию. По мнению Гатаэ, единственное объяснение такого исхода заключалось в том, что мы утопили связки на дно, вместо того чтобы оставить их плавать на поверхности. Однако на мои слова о том, что под действием многотонного груза и высокой волны у нашего судна тоже будет заметная осадка, ему не нашлось, что возразить. Он понуро удалился вместе со своей приунывшей бригадой, и я остался наедине с анатомированными связками. Стебли
берди в бутылках с питьевой водой в моей комнате вели себя иначе, не говоря уже о тех, что стояли в соленой воде. Может быть, загрязнение Тигра повинно в том, что камыш в реке загнил? Ведь был у меня в Каире такой же точно случай, когда институт папируса испытывал стебли в застойной воде в ванне!
Мы убрали с глаз долой промокшие связки, чтобы не нагоняли тоску, и сосредоточились на подготовке к спуску на воду, пока за одиночными ливнями не последовали затяжные дожди. С того дня, когда я выбирал место для строительства, уровень реки заметно понизился. Тигр питается в основном за счет осадков в Турции, к тому же в Ираке часть его воды идет на орошение, так что летом и осенью, когда на Армянском нагорье не выпадает снег, река заметно усыхает. Но это нас не очень беспокоило. Главным препятствием была прочная, высокая бетонная стена, которую по приказу местных властей успели воздвигнуть на всем отрезке от гостиничной террасы до Адамова древа и дальше за тот короткий срок, что я был в Европе по делам экспедиции. Мэр заверил меня, что стена — не проблема. Где скажем, там и сделают пролом, как только понадобится.
Наша ладья из тугих камышовых бунтов весила примерно тридцать три тонны. Для спуска ее на воду надо было протянуть слип через пролом в новой стене до самой реки. Деревянные стапели, на которых происходила сборка корпуса, останутся на берегу, но днище ладьи лежало на салазках. На них судно съедет в реку и всплывет, а салазки лягут на грунт. Полозьями салазок служили двутавровые стальные балки, скользящие по выемкам в положенных на бок рельсах такого же сечения. Теперь эти рельсы, играющие роль слипа, предстояло нарастить метров на сорок.
Но начинать надо было со стены, а чтобы ломать ее, требовалось разрешение речников. Я живо представил себе, как бумаги ходят вверх и вниз по реке до самого начала дождевого сезона... Нет, лучше идти напрямик. Мы обратились к двум тучным подрядчикам, которые так поспешно воздвигли стену, и предложили им приличное вознаграждение, чтобы они разрушили ее, а потом восстановили.
Наше предложение было принято, и мы дважды ударили по рукам, условившись, что пролом будет готов в полдень накануне спуска на воду. Не уложатся в срок — получат только половину вознаграждения. Они охотно приняли и это условие. В назначенный срок пришли и попросили одолжить наши кирки. Час спустя я увидел, как оба трудяги не спеша удаляются восвояси. Прибежал Шакер и сообщил, что они пошли на попятный: мол, стена слишком твердая. Я догнал их и сказал, что кому же ломать стену, как не им, которые ее построили? Верно, построили, согласились они, а вот ломать не получается — инструмент не тот. Всего доброго.
Тогда я сам вооружился киркомотыгой и атаковал арабскую стену, но только высек из нее искры. Оставалось воздать хвалу датскому цементному заводу; это его продукция позволила замешать бетон, превосходящий твердостью горную породу.
С воспаленными от температуры глазами Норман вскочил с кровати. Отставной коммандер американских ВМС, в гражданской жизни он был строительным подрядчиком в Нью-Йорке. Вдвоем с Шакером они отправились в деревенскую кузницу, где им выковали кувалду и железные клинья. Тотчас из гостиницы выбрались изможденные лихорадкой члены экипажа и принялись поочередно махать тяжелой кувалдой. Английские и арабские телеоператоры тоже включились в операцию «Иерихон», и стена рухнула, открыв нам просвет нужной ширины.
Путь к реке был свободен. Река впадала в длинный залив, ведущий в Индийский океан — океан, с которым мне еще не доводилось мериться силами. На горизонте вновь собирались дождевые тучи, но в Садах Эдема уже распахнулись настежь ворота в неизведанные приключения, и Ноев ковчег был готов к отплытию.
Глава III. Начинаются затруднения
Время! Флаги подняты.
— Все готово?
— Готово!
— Добро! Поехали!
Хотя мы никого не приглашали, Сады Эдема наводнили зрители, которым не меньше нашего было интересно посмотреть, как камышовый корабль ляжет на воду. Словно мы находились в огромном театре, и в зале стоял гул от множества голосов. Нестройный гомон сменился внезапной тишиной, когда мы налегли на ручки лебедок, которые одолжили, чтобы тащить к Тигру тяжелую ладью.
Тысячи ликующих голосов нарушили тишину, как только камышовый исполин тронулся с места и величественно двинулся по железным рельсам. Рывок за рывком, медленнее черепахи, приближался он к проему в стене, за которым струился поток.
Каждому хотелось видеть получше, и люди набились в мирном Адамовом саду так плотно, что яблоку негде упасть. Иракские полицейские, призванные охранять высоких гостей из Багдада, трудились в поте лица, чтобы сановников, членов экспедиции и рабочих не столкнули под степенно подвигающуюся шумерскую диковину. Реку тоже заполнили арабы и чужестранцы на
машхуф, балям, полицейских катерах и моторных лодках.
С великим облегчением смотрел я, как исполин, покинув наши самодельные деревянные стапели, ложится на протянутые до самой воды стальные рельсы, сваренные вместе одним из наших доброжелателей, инженером с бумажного комбината.
На лебединой шее ладьи цвета спелой пшеницы алели кровавые метины: след крестильного обряда. Надо сказать, что этому обряду предшествовала небольшая дискуссия. Болотные арабы доставили к строительной площадке шесть упитанных барашков для жертвоприношения, с тем чтобы я смочил ладони кровью и приложил к носу новорожденного корабля. Я не согласился. «Кон-Тики» крестился молоком южноамериканского кокосового ореха, «Ра I» и «Ра II» крестили молоком берберской козы. Но тут предложи я крестить судно молоком буйволицы, арабы восприняли бы это как оскорбление. Они признавали только действующий со времен Авраама местный обычай заклания животных. Любое новое сооружение, будь то дом или судно, здесь полагалось метить кровью. И теперь они наотрез отказывались пускать ладью на реку без надлежащего жертвоприношения. Если я не хочу совершить обряд, они сделают это сами, твердо заявил Гатаэ. Даже наш просвещенный багдадский друг Рашад сказал, что не пойдет с нами в плавание, если не будет выполнен принятый ритуал.
Мы пришли к компромиссному решению. Сперва болотные арабы совершат свой обряд, потом состоится крещение судна на мой лад.
Спуск на воду был назначен на И ноября. Утром я застал Гатаэ возле корабля. Он стоял в белоснежном бурнусе и метил золотистый нос ладьи отпечатками смоченной в крови последнего барашка правой ладони, а вся его бригада, сидя на земле, весело уписывала жареную баранину, ничуть не скрывая, что для них это самая важная часть ритуала.
К полудню прибыли сановники из Багдада. Они привезли ножницы и белую шелковую ленту, и ответственный представитель Министерства информации привычной рукой перерезал ленту перед носом ладьи. Затем наступила наша очередь. Крестить судно должна была очаровательная внучка Гатаэ. И вот дед ведет за руку одетую в яркое платьице юную черноволосую леди, с трудом удерживающую арабскую бутыль из тыквы, только что наполненную водой из реки, именем которой мы решили наречь судно. Блестя глазенками, маленькая Секне окропила камышовый нос ладьи, но заученную формулу забыла, и стоявшие рядом расслышали только, как она пролепетала «Дигле» — так болотные арабы произносят название реки Тигр. Тут уже сам Гатаэ, продолжая держать внучку за руку, взял инициативу на себя и громко возвестил на арабском языке:
— Да спустится сей корабль на воду с дозволения Всевышнего и благословения Пророка, и пусть он зовется
Дигле — «Тигрис!»
Не успел он договорить, как с юга донеслись глухие раскаты грома. Все повернулись в ту сторону, кто с удивлением, кто с благоговением, точно звуки эти выражали одобрение могущественнейшего из месопотамских богов — бога Солнца, мечущего гром и молнии своим жезлом. От горизонта надвигались черные тучи. Даже наименее суеверные среди нас слегка оторопели, услышав глас громовержца в такую минуту.
Сломался винт в одной из лебедок, его пришлось заменять куском гвоздя, поэтому мы потратили целый час на то, чтобы протащить новонареченного «Тигриса» через пролом в стене до критической точки, где пологий откос сменялся крутым уступом. Сколько мы ни пытались заровнять этот уступ глиной, течение упорно подмывало снизу нашу насыпь, и когда «Тигрис» наполовину повис в воздухе над перегибом, все затаили дыхание. Выдержат ли восемнадцатиметровые бунты камыша и тонкие стальные салазки такую нагрузку?
К нашему облегчению, исполин благополучно перевалил через край уступа и заскользил вниз под напором своих тридцати трех тонн. С громким всплеском он врезался в реку, и тысячная толпа вложила свой восторг в ликующие крики, когда широкая носовая часть ладьи поднялась на воде с легкостью надувной резиновой утки. Лишь корма еще продолжала лежать на суше.
Вот это плавучесть, вот это сила! Я подбежал ближе, чтобы удостовериться, что рабочие крепко держат веревки, не дадут течению унести корпус судна, на котором еще нет ни надстроек, ни рангоута. Однако в ту самую минуту, когда нос корабля возвысился над водой, корма вдруг круто остановилась. Раздался оглушительный треск ломающегося дерева, и я увидел, как стальные балки под широким корпусом изгибаются, будто лапша. Дородный исполин медленно опустился брюхом на берег, словно непокорный бегемот, не желающий входить в воду, и восторги аплодирующих зрителей сменились дружным сетованием и криками отчаяния.
Лежит — и ни с места... Нос спущен на воду, омывается струями Тигра, а окруженная зрителями корма прочно застряла на суше в Садах Эдема. Какие-нибудь метры отделяли ее от воды, и целая армия добровольцев ринулась вперед, чтобы столкнуть ладью на реку. Куда там! Лишь немногие доставали плечом до изогнутой вверх кормы, а ноги тех, кто пробовал упереться в борты, утопали в рыхлой земле и в иле.
Вооружившись лопатами, мы стали подкапываться под ладью, чтобы выявить повреждения и попытаться пропустить воду под кормой. Вариация на тему о пророке и горе: если корабль не идет к реке, пусть река придет к кораблю!
Сановники учтиво попрощались и отбыли под охраной полиции. Вечерело, заморосил дождик, и толпа начала расходиться. Хуже всего было то, что индейцам пришлось накануне вылететь к себе в Боливию, чтобы не просрочить обратные билеты. А ремонтировать без мастеров с Титикаки, если окажется, что бунты и веревки повреждены, нам будет очень непросто... Какие беды натворили обломки стальных и деревянных балок? Чтобы выяснить это, надо было обнажить широкое днище двойного корпуса. Ночь принесла с собой неожиданно холодный ветер. Пришлось бежать за теплой одеждой. Великолепные молнии расписывали ослепительными трещинами черное ночное небо.
Мы работали поочередно немногими наличными лопатами. Английские телеоператоры установили светильники на крыше гостиницы, чтобы нам было виднее, и молодой член их бригады, Дэвид, рассказал мне по секрету, что ему приснился нехороший сон, будто целое стадо овец поднялось на борт камышовой ладьи и принялось ее пожирать в отместку за убийство своих сородичей. Однако Гатаэ и его товарищи рассуждали иначе: шести барашков мало для такого большого судна, надо было принести в жертву быка!
Только я выслушал эти мрачные комментарии, как рокот мотора и яркий свет фар могучего советского грузовика заставили нас отложить в сторону лопаты. Неожиданный гость перевалил через обломки дерева и покореженное железо в проеме стены и занял исходную позицию, словно намереваясь загнать всех нас в реку. Два плечистых русских водителя выскочили из кабины, и с помощью Юрия мы объяснили им, что пока наша ладья не окунулась в воду, бунты хрупкие, как хрустящий хлебец. Общими усилиями мы пристроили перед высоким капотом толстые камышовые кранцы, нарастив их взятыми со стапелей деревянными балками, чтобы тяжелый грузовик не ушел в воду вместе с кораблем. И не успели мы оглянуться, как без лишних церемоний начался необычный спуск на воду. «Тигрис» стронулся с места и медленно погрузился в кашу разрытого нами ила. Течение унесло щепки и ил, но ладью мы удержали на канатах и пришвартовали к плавучей пристани, которую заблаговременно соорудили из камышовых связок возле гостиничной террасы. В свете фар было видно, что вместе с судном погрузились в воду погнутые рельсы и салазки. Русские водители простились и уехали. Нам оставалось дожидаться утра, чтобы определить характер повреждений. «Тигрис» лежал на воде как-то неровно, вроде бы с левым носовым креном.
Едва рассвело, как мы все уже были на месте. Наша новая ладья выглядела замечательно. Больше и внушительнее, чем любая из обеих «Ра». Борты вздымались высоко над мутной гладью реки, и на них не было видно ни одной ссадины. Однако наши опасения насчет крена подтвердились. При всем искусстве наших мастеров и совершенстве обводов судна в носовой части осадка была чуть больше. Но этот изъян вполне можно было исправить при размещении груза. Кто-то высказал предположение, что крен был вызван быстрым намоканием камыша — ведь нос лег на воду на несколько часов раньше, чем корма. Мы отнесли эту мрачную догадку к разряду нехороших шуток.
Другое дело, что сломанные салазки могли распороть бунты в носовой части.
Детлеф и Герман надели защитные очки и нырнули под днище «Тигриса». Прошла целая вечность. Наконец они вышли на берег и доложили: видимость из-за мути нулевая, но ощупью им удалось определить, что в носовой части под бунтами висели поломанные салазки. Не удивительно, что ладья кренилась. Они нащупали также толстый камышовый амортизатор, проложенный между салазками и корпусом, отделили его ножом, после чего стальные и деревянные обломки ушли на дно, и нос ладьи сразу выровнялся. Продолжая обследовать днище, Герман и Детлеф убедились, что все витки веревочной спирали невредимы. «Тигрис» нисколько не пострадал. Тысячи хрупких стеблей вместе выиграли поединок с современной сталью — они остались на поверхности, а согнутые балки утонули.
Две связки, распиленные нами после проверки, показали, что теперь загрязнение рек гораздо более опасный враг для камыша, чем сталь, поэтому нам не терпелось поскорее уйти в чистые соленые воды. Однако еще две недели ушли на то, чтобы оснастить и загрузить корабль. Наши арабские помощники собрали на лужайке перед гостиницей две рубки, накрыв бамбуковый каркас красиво переплетенными на местный лад лоснящимися стеблями зеленого болотного тростника
кассаб. Низкий сводчатый потолок не позволял выпрямиться в рост — только сидеть. Одна рубка была побольше, три на четыре метра; в ней, потеснившись, могло улечься восемь человек. Вторая, наполовину меньшей площади, была предназначена для трех человек и съемочной аппаратуры.
Готовые рубки перенесли на ладью и привязали к доскам, укрепленным с равными промежутками поперек бунтов корпуса. Главная рубка встала на корме; в обращенных к бортам длинных стенах были небольшие дверные проемы. Рубку поменьше установили впереди; ее дверной проем, площадью в один квадратный метр, смотрел на срединную палубу и главную рубку. Обе рубки накрыли платформами с низкой оградой из бамбука; получилось что-то вроде террас. При некотором воображении в мире рыбы и волн участок камышовой палубы между двумя золотисто-зелеными хижинами мог сойти за маленькую деревенскую площадь. Ему предстояло быть нашим дневным обиталищем, а рубкам отводилась роль спален и укрытия при ненастной погоде.
Здесь же, на срединной палубе, высилась мачта с живописным парусом. Как и на всех камышовых парусниках Старого и Нового Света, рея подвешивалась на двойной мачте, широко расставленные ноги которой опирались на главные бунты. Вдоль центральной линии, где соприкасаются бунты, для мачты нет опоры. Десятиметровые ясеневые бревна стояли на привязанных к бунтам широких деревянных башмаках, соединенных с бревнами посредством деревянных книц из согнутых под прямым углом суков: маленькая, но важная деталь, заимствованная с древнеегипетских фресок и моделей. В месте соединения бревен вверху, согласно тем же образцам, было просверлено отверстие для фала, поднимающего рею. Скрепляющие бревна перекладины одновременно служили удобным трапом.
Вся наша жизнь — если не подкачает камыш! — не один месяц должна была вращаться вокруг этого трапа. В просвете между ним и передней рубкой мы укрепили поперек палубы длинный стол и две лавки из связанных веревками, гладко обструганных досок. Позади трапа, в нише метровой глубины, образованной продолжением стен и крыши главной рубки, приютился камбуз с четырьмя примусами и всей нашей посудой.
В последний день мы приняли на борт тонны провианта и питьевой воды. Этот груз был размещен под столом, под лавками, вдоль стен обеих рубок и в протянувшейся от носа до кормы глубокой борозде между двумя бунтами. Одежду и личное имущество, а также кинопленку и другие уязвимые предметы мы уложили в обмазанные асфальтом коробки, которые в то же время играли роль общих нар в главной рубке.
Для полной готовности оставалось только установить наклонно по бокам кормы два огромных рулевых весла. С пристроенного к задней стене главной рубки деревянного мостика шириной и высотой в один метр рулевым открывался над крышей обзор вперед, правда несколько ограниченный парусом. Крепкие найтовы соединили рулевые весла с палубой и с перилами мостика, а румпель у верхней оконечности веретена позволял вращать весло вокруг оси.
Полный порядок, можно выходить в плавание!
— Отдать швартовы! Парус поднять!
С каким восторгом и облегчением выкрикнул я заветные команды, махая рукой полчищам зрителей, которые опять заполонили Сады Эдема! Только интуиция могла привести их сюда в этот час. После промашки со спуском на воду мы никого не извещали о времени старта, просто говорили, что отчалим, когда все будет готово.
— Парус поднять! — снова крикнул я что было мочи.
Сейчас все решали секунды. Швартовы отданы, мы во власти течения, а парус, от которого зависит управление рулем, еще не поднят. И никакой реакции на мою команду, если не считать тревожные голоса сотен арабов на берегу. Что-то неразборчиво крича, они показывали куда-то вверх. Я поднял голову и на топе мачты, куда должна была вознестись рея, увидел дорогого мексиканского друга Германа. Болтаясь там чуть ли не вниз головой, он запечатлевал великие минуты своей неразлучной кинокамерой. Весьма подвижный, несмотря на грузное телосложение, Герман живо скатился вниз, услышав нечленораздельный вопль, означающий в переводе на более благопристойную речь следующее: «Дорогой Герман, пожалуйста, спускайся возможно быстрее и освободи место для паруса, иначе нам не миновать нового столкновения с берегом и тебя сбросит на землю».
Вмиг Герман и парус поменялись местами. Течение напирало вовсю, но парус наполнился ветром, и мы овладели ситуацией. Норман следил за парусом, Детлеф, скрытый передней рубкой, ждал команды поднятыми опустить
гуару — деревянный шверт, мы с Карло стояли на мостике у рулевых весел. Я смотрел, как уходит назад берег Садов Эдема вместе с гостиницей, и душа моя радовалась. Замечательный уголок, но нам давно пора выходить в океан. Прощай, Адамово древо! Прощайте, Али, Мухаммед, Гатаэ, Каис, Шакер, Рэмзи и все наши остальные иракские друзья! Уже не видно лиц, только лес махающих рук, но среди соленых волн мы часто будем вас вспоминать.
Ладья набирала скорость. Курсом на противоположный берег Тигра. Мы с Карло повернули громоздкие рулевые весла, и я крикнул Детлефу, чтобы опустил носовую
гуару. Ладья превосходно слушалась руля, мы миновали оконечность мыса, где встречаются две реки, и вошли в Шатт-эль-Араб. Позади на зеленой лужайке с кучкой деревьев и пальм осталась гостиница «Сады Эдема», справа от нее поблескивали воды Тигра, а слева показался Евфрат с мостом, через который проходило шоссе на Басру и который не позволил нам строить ладью в краю наших друзей, болотных арабов: мачта «Тигриса» не прошла бы под ним.
— Ур-ра, плывем!
Ликующий голос Нормана свидетельствовал о том, что он бодр и весел, оправился наконец от злой лихорадки. Наши больные только что одолели хворь, но всем не терпелось скорее тронуться в путь, и глаза их горели решимостью и радостным возбуждением. Да и как не радоваться, глядя, как наш парус ловит ветер и гордо выпячивает грудь, что твой петух! Мы впервые видели полностью развернутое полотнище коричневатой египетской парусины, на котором иракский студент-искусствовед Рашад изобразил огромное красное солнце, встающее из-за месопотамской пирамиды кирпичного цвета.
Видно, окаймляющие реку финиковые пальмы просемафорили весть о нашем движении, потому что вдоль берегов выстроились шеренги провожающих. Они кричали и махали нам руками, а впереди из камышовых и кирпичных построек высыпали все новые и новые зрители. Мальчишки и мужчины бежали вдогонку за «Тигрисом», но он легко уходил от них, быстро скользя мимо голых пустошей и пальмовых плантаций. Казалось, весь край осведомлен о нашем предприятии; некоторые люди выкрикивали даже наши имена. У команды было превосходное настроение. За несколько дней мы минуем города и промышленные предприятия в нижнем течении реки и достигнем залива. Нам придали моторную
балям с десятью арабами, которые хорошо знали фарватер и должны были провести камышовую ладью среди множества судов и иных современных препятствий на последнем отрезке Шатт-эль-Араба. Но вот
балям исчезла впереди за крутым поворотом вправо, и в ту же секунду я заметил, что наш «Тигрис» вышел из подчинения.
Карло — альпинист, и, подобно мне, ему еще не доводилось плавать по рекам. Отстав от лоцманов, которые беспечно мчались впереди, и не зная здешних берегов и мелей, мы решили держаться середины реки. Но в этом месте поток упирался в крутую излучину, притягивавшую течение словно магнитом. Сколько мы ни крутили рулевые весла, как ни маневрировали парусом и
гуарой, нас упорно несло боком прямо на берег. Описывая дугу вместе с рекой, мы неуклонно приближались к зеленому дерну. Новые толпы восторженных мальчишек и мужчин поджидали нас здесь, чтобы затеять гонки с «Тигрисом», однако восторг сменился тревогой, и послышались испуганные крики, когда зрители увидели, что камышовый корабль чересчур близко подходит к берегу.
У вершины дуги скорость течения была особенно велика, и нас так прижало, что широкая лопасть левого рулевого весла начала пахать ил. Команда трудилась вовсю. Кто не отталкивался от берега шестами бросились помогать Юрию и Карло, чтобы поднять здоровенное весло, на которое легла почти сорокатонная нагрузка: вес судна с грузом. Но весло оказалось слишком тяжелым, к тому же в двух местах его крепко держали найтовы. И хотя веретено равнялось толщиной телеграфному столбу, мы приготовились вот-вот услышать оглушительный треск ломаемого дерева.
До берега оставалось рукой подать, и арабы на бегу пытались оттолкнуть «Тигрис», меж тем как лопасть рулевого весла вспарывала грунт ниже травы. Но ладья плыла так быстро, что наши добровольные помощники не могли как следует упереться в борт. Что от их рук, что от наших шестов было одинаково мало проку. Не одну сотню метров шли мы так вдоль излучины — наподобие мощного самоходного плуга, оборачивая жирный пласт, какому позавидовал бы любой крестьянин. И каждую секунду ждали, что сейчас сломается весло.. Однако Норман и помогавший ему опытный плотник поработали на славу. Весло не поддавалось, зато начал прогибаться мостик, к которому оно было привязано. Под устрашающий треск дерева и скрип веревок вся конструкция перекосилась. Мы с Карло приготовились соскочить на палубу, как только лопнут найтовы и мостик, а с ним, глядишь, и вся корма начнет разваливаться. Тем временем лоцманы на моторной
балям повернули обратно, и несколько человек из ее команды соскочили на берег, чтобы помочь своим бегущим соотечественникам отталкивать «Тигриса». Но их усилия уже не понадобились — Норман сумел повернуть сложившийся парус, и мы понеслись прочь от левого берега, словно птица, взлетающая с борозды картофельного поля.
Не успели мы облегченно вздохнуть на шатком мостике, как увидели, что с другой стороны к нам стремительно приближается частокол серых пальмовых стволов. Еще немного, и мы очутились бы под сенью бахромчатых листьев, но быстрый маневр парусом и веслами снова направил нас к голому берегу, который мы только что пахали. Вместе с моторной
балям мы мотались от одного берега к другому, будто пьяные гуляки, но как ни старались лоцманы вклиниться со своим суденышком между нами и сушей, чтобы сыграть роль амортизатора, почему-то они всякий раз оказывались не с той стороны. А затем
балям внезапно развернулась и удалилась вверх по течению. Два часа лоцманы где-то пропадали, наконец вернулись, и мы услышали, что они разыскивали четверых членов команды, которые присоединились к нашим добровольным помощникам на краю излучины.
За это время мы успели освоиться с обстановкой и с нашим новым судном, одинаково бдительно следили за незримой силой, увлекающей «Тигриса» к внешней дуге излучины, и за коварными мелями у внутренней дуги. А вскоре излучины кончились, и Шатт-эль-Араб стал подобен гладкой автостраде. Редкие дома. Никакого движения. Мы шутя обогнали одинокого араба, который шел под потрепанным парусом вниз по течению на связанном наспех камышовом плоту. Здоровенные, непомерно тяжелые рулевые весла «Тигриса» били кувалдами по бортам, и с каждым ударом мостик скрипел и вздрагивал так, что мы хватались за самую прочную часть всей конструкции — крышу рубки.
Следуя за
балям, мы миновали стадо черных буйволов на отмелях у Бейт Вафи — большого селения, где живописные камышовые постройки заметно контрастировали с не менее живописными глинобитными хижинами и домами из самодельного кирпича. В этом районе, как и во времена Авраама, в ходу огромные печи для обжига кирпича. Они высятся над равниной, словно пирамиды, и когда над ними клубится дым от горящего камыша и тростника, их вполне можно принять за конусы действующих вулканов.
Морской прилив дает себя знать за полтораста с лишним километров от залива. Поднимающаяся вода закупоривает устье Шатт-эль-Араба, и река начинает течь в обратную сторону. Под вечер водная гладь вокруг нас уподобилась озеру, и мы попросили лоцманов, пока река не двинулась вспять, показать надежное место для якорной стоянки на ночь. Они посоветовали остановиться у западного берега вблизи деревни Эш-Шафи. Мы подошли туда, свернули парус и отдали два малых якоря. Зная, что якоря не удержат ладью, когда течение переменится, наши опытные сопровождающие воткнули шесты в илистое дно вокруг «Тигриса» — так принято защищать плавучие острова в болотном краю, чтобы их не сносило.
Вечер выдался чудесный. Первый вечер на борту «Тигриса»... Глядя, как багровое солнце скрывается за курящимися печами, мы чувствовали себя так, будто очутились в Шумере. Да мы и в самом деле приплыли в Шумер. С заходом солнца подул прохладный ветер, и вскоре мы заметили, что течение действительно повернуло вспять. Ребята зажгли керосиновые фонари и уставились на реку, словно ожидая, что выброшенные Мухаммедом банки сейчас приплывут обратно из Америки.
За хлопотами на реке мы после старта успели сжевать лишь по нескольку крекеров. Теперь Карло раскочегарил примус, мы заняли места на лавках вокруг стола, извлекли миски и вилки из личных мешочков и приготовились воздать должное итальянским макаронам. Эксквизито! Бониссимо! Вундербар! Хорошо! Дейлиг! На Карло сыпалась заслуженная многоязычная похвала. Ребята устали и проголодались. И впервые за много дней у нас появилась возможность перевести дух.
Последние дни царило какое-то безумие. Ни забор, ни сторожа не могли сдержать толпы любопытных. Мы попытались огородить веревкой участок перед плавучей пристанью, чтобы можно было плотничать и без помех проходить на ладью. Куда там! Каждый раз надо было проталкиваться сквозь толпу, встречая решительный отпор со стороны радушно улыбающихся зрителей. Отовсюду к нам тянулись руки с карандашами и клочками бумаги. Людям явно было невдомек, что автографам будет грош цена, если нам не дадут закончить строительство и экспедиция сорвется. Арабов наши каракули на первых порах не занимали; к тому же большинство из них все равно читало только арабскую вязь. Но глядя, как русские и японцы домогаются наших росписей, местные жители тоже решили проявить инициативу, пока мы не уплыли. Одного из индейцев буквально силой оторвали от работы, чтобы он изготовил модель камышовой ладьи для немецкого журналиста. С трех русских плотников, вызвавшихся помочь нам с установкой мостика, тоже требовали автографов. Мы расписывались налево и направо. Наиболее шустрые совали нам сразу по дюжине открыток, чтобы порадовать родных и знакомых. Пока не распишешься, не дадут шагу шагнуть. Мы писали на обрывках бумаги и на кусках
берди, на пачках из-под сигарет и блокнотах, на газетах, семейных фотографиях, открытках с видами Варшавы и Будапешта, с портретом Ленина, на паспортах, бумажниках, американских долларах, иракских динарах и спичечных коробках. И смех, и горе! Когда мы поднялись на палубу, чтобы отчалить, те, у кого не нашлось ничего бумажного, словно обезумели. Только я стал в надлежащую позу и приготовился произнести несколько прощальных слов, как молодой араб с борцовским торсом взобрался к нам на борт и рванул рубаху на груди, чтобы я расписался у него прямо на теле. Не успели его оттащить в сторону, как другой молодой араб повис на моей руке и принялся вертеть у меня перед носом каким-то клочком, не давая мне говорить. Я выхватил самописку, чтобы отделаться от него, но он только еще больше разбушевался. Не нужен ему мой автограф — он принес счет за пиво, выпитое кем-то из команды уже после того, как мы рассчитались с гостиницей. Я полез в карман за деньгами, стараясь в то же время изрекать что-нибудь вразумительное в возникшие передо мной микрофоны и слыша свой усиленный динамиками голос. Кто-то шепотом уведомил меня, что единственным человеком, кого я, поднимаясь на борт, обошел рукопожатием, был прежний министр информации. Словом, царила такая сумятица и такая смесь языков, какой здесь не знали с времен Вавилонской башни. Надо было отчаливать. С беспорядочно наваленным на палубе грузом можно разобраться и потом, когда останемся одни и будем спокойно идти вниз по тихой реке...
Но только теперь, когда мы стали на якорь и огородились шестами вдали от Садов Эдема, у нас появилась возможность толком отдохнуть и по достоинству оценить потешные стороны двух недель, прошедших от спуска на воду до старта. Только теперь мог я, удобно прислонясь спиною к мачте, с чашкой арабского чая в руке, присмотреться поближе к пестрой братии, которую собрал для предстоящего приключения.
Так... Ну, он-то здесь случайно — русский плотник, который еще крепил последнюю перекладину к мостику, когда мы отдали швартовы. Славный малый. Юрий перевел, что Дмитрий Кайгородов охотно дойдет с нами до Басры, где находится его место работы. Никто не возражал. Кстати, поможет нам подремонтировать мостик. А пока что плотник забрался в спальный мешок, первоначально предназначавшийся для индийского кормчего, и улегся спать на крыше рубки.
Рулевые весла не требовали присмотра, и мы впервые могли без помех посидеть вместе в полном составе, все одиннадцать, пока ребята один за другим не начнут заползать в уютные рубки, чтобы как следует выспаться.
За столом на палубе сидели и хорошо знакомые, и совсем новые для меня люди. Возраст, считая и мой, — от двадцати до шестидесяти трех лет. И не менее широкий спектр национальностей и характеров.
Вот мой старый друг Норман Бейкер из США. Жилистый крепыш. Ни капли жира, сплошные мышцы. В зимнем пальто — субтильный на вид, в плавках — богатырь. Впервые наши пути скрестились на Таити двадцать лет назад; он пришел туда под парусом с Гавайских островов, я — на экспедиционном судне с острова Пасхи. Ему под пятьдесят. Офицер запаса американских ВМС, а в своей гражданской жизни — строительный подрядчик в Нью-Йорке. На «Ра I» и «Ра II» был моим старшим помощником. С Норманом на борту я чувствовал себя подлинным Ноем: подвижный, как обезьяна, сильный, как тигр, упрямый, как носорог, обладает волчьим аппетитом и в шторм ревет, как слон.
Рядом с ним — наш дюжий русский медведь, Юрий Сенкевич, сорок лет. Сложен, как борец, миролюбив, как епископ, специалист по космической медицине, а со времени нашей последней встречи он еще стал популярным ведущим Московского телевидения. В обеих экспедициях «Ра» Юрий выполнял обязанности судового врача; постепенно стал завзятым путешественником и ведет еженедельную программу «Клуб кинопутешествий», которую смотрят больше ста миллионов советских телезрителей. Любитель пошутить и посмеяться. Уверяет, что это вошло у него в привычку с тех пор, как он летел в Каир, чтобы участвовать в экспедиции «Ра I», и для храбрости глотнул водки. Ибо в моем письме на имя президента Академии наук СССР я просил подобрать советского врача, наделенного чувством юмора.
Карло Маури из Италии, ему тоже под пятьдесят. Участник обоих трансатлантических плаваний на папирусе. Голубоглазый блондин, что твой северный викинг, а благодаря окладистой бороде его скорее, чем меня, можно было посчитать Ноем. Карло — один из самых прославленных итальянских альпинистов, лазил вверх-вниз по самым крутым и высоким скалам на всех континентах; в ряду моих знакомых никто не висел столько на веревках и не связал столько надежных узлов, сколько он. Человек южного темперамента, Карло мгновенно из кроткого агнца превращается в рыкающего льва, а через минуту, глядишь, уже взялся за перо и воспарил на крылатом Пегасе. Умеет обходиться без еды и без комфорта, но не может жить без веревки в руках. Карло была поручена роль экспедиционного фотографа, и ему же предстояло изощряться в изобретении хитроумнейших найтовов и узлов всякий раз, когда рубке, или книце, или стойке рулевого мостика взбредет на ум исполнить твист.
Детлефа Зойцека из ФРГ я прежде совсем не знал. Двадцать шесть лет — один из самых молодых капитанов западногерманского торгового флота, а сверх того ярый спортсмен, инструктор альпинизма в Берхтесгадене. Мне его рекомендовали немецкие друзья, которых я просил подыскать достойного представителя послегитлеровского общества. Приверженец философского натурализма и высоких идеалов, сторонник мира, противник войны, противник насилия и расизма. Сам без нужды рта не раскроет, но умеет внимательно слушать и от души посмеяться над доброй шуткой.
Герман Карраско, пятьдесят пять лет, промышленник и кинолюбитель из Мексики, следил за тем, чтобы мы не скучали. Вот уж про кого нельзя было сказать: какое тело — такая душа! Казалось, этому тучному усачу самое подходящее занятие — сидеть себе под кактусом, надев на голову сомбреро. Пальцем в небо! Лозунг его личной киноколлекции гласит: «Весь мир — моя арена». Сидит в нем этакий живчик, который заставляет Германа несколько раз в год бросать свои каучуковые фабрики в Мехико и странствовать по свету. Это он, нырнув под полярный лед, снимал мексиканского исследователя Рамона Браво, когда его тяпнул за ногу белый медведь. Шрам около глаза — памятка о том, как он свалился с дерева в джунглях Калимантана, снимая орангутангов. Герман сталкивался с акулами в Полинезии и в Красном море; его любительская кинокамера повидала все страны мира, и особенно много кадров снято в КНР. Он мечтал пройти с нами на «Ра», да не вышло, и тогда мы так и не познакомились. Зато теперь я знал его хорошо. Мы шагали вместе по жгучим пескам Нубийской пустыни, снимая наскальные изображения судов додинастической эпохи, и шлепали под проливным дождем на лесистых берегах Мексиканского залива, наводя объектив кинокамеры на пирамиды ольмеков и майя и на статуи доколумбовой поры, изображающие бородатых людей. В Гватемале он жил через дверь от меня в гостинице «Европа», когда страшное землетрясение 1976 года разрушило ее, засыпав нас обломками и убив тех, кто занимал соседний номер, и еще двадцать тысяч человек.
Особенно поразил меня Герман, когда я пришел к нему в контору посмотреть его личный музей. Форсировав шумный цех по щиколотку в каучуковой пыли, я поднялся по железной лестнице, пересек активно действующий просторный секретариат и очутился в роскошном кабинете. Здесь за столом с разноцветной батареей телефонных аппаратов сидел мой товарищ по странствиям, и со всех сторон на меня смотрели дорогие картины, скульптуры и резные изделия разных стран и эпох. Следующая лестница привела нас в бар, где моему взору неожиданно предстали оскаленные звериные головы, огромные портреты китайских лидеров, настоящая итальянская гондола, самолетные винты и фонтан в виде кораллового рифа из разнообразных раковин; нажмешь кнопку — вокруг рифа плывут по кругу выполненные в натуральную величину макеты акул и аквалангиста. Старинный телескоп смотрел через отверстие в стене на церковные часы на другом конце Мехико, а поднимешь голову — половина потолка оклеена денежными ассигнациями изо всех стран мира, другая половина — всяческими этикетками от спичечных коробок. «Бар» занимал три комнаты, наполненные всевозможными диковинами, и от обилия впечатлений у меня закружилась голова, когда хозяин наконец предложил занять места в гондоле и выпить текилы. А ведь это было только начало!
Не успел я ввинтиться вниз по лестнице обратно в кабинет Германа, как он нажал кнопку в стене за рабочим столом, пониже огромной картины, на которой три упитанных ангела парили в синем небе, словно розовые воздушные шары. Ангелы повернулись вместе с куском стены, и открылось квадратное отверстие наподобие двери в подводной лодке. Я протиснулся в этот лаз, выпрямился и на миг зажмурился, ослепленный ярким светом и образцами мексиканского искусства доколумбовой поры. Действительно музей! Четыре большие комнаты, сплошь уставленные витринами и полками. В строго научном порядке размещены снабженные ярлыками экспонаты: изделия майя, ацтеков, толтеков, микстеков, ольмеков... Дивная керамика всех видов, цветов и размеров. Полчища скульптур от маленьких керамических фигурок до больших каменных статуй. Храмовые рельефы. В особой сокровищнице — золотые поделки, миниатюрная резьба и часть подлинного кодекса с древними письменами. Мне доводилось видеть немало личных музеев, но такого я еще никогда не встречал. Правда, вскоре эти вещи перестали быть личной собственностью Германа: правительственный указ объявил все изделия мексиканского искусства доколумбовых времен государственным достоянием. Четыре студента и один профессор несколько месяцев каталогизировали десятки тысяч экспонатов его коллекции. Но хранителем назначили самого же Германа, и она по-прежнему пребывает в четырех комнатах за картиной с ангелами.
Вот какой человек сидел теперь с нами на борту камышовой ладьи. А рядом с ним — еще один новый знакомый, японец Тору Судзуки, специалист по подводным съемкам; возраст — сорок с хвостиком. О Тору мне было известно лишь то, что он не один год снимал жизнь подводного мира на Большом Барьерном рифе, а в последнее время держал японский ресторанчик где-то в Австралии. Я включил его в состав экспедиции, полагаясь исключительно на рекомендацию своих японских друзей. Японцы — люди гордые, умеющие владеть собой, и я мог не опасаться, что мне подсунут какого-нибудь склочника. Немногословный, улыбчивый атлет и безотказный работяга, Тору прекрасно владел английским. Лучшего выбора я и сам не мог бы сделать.
В этой пестрой компании два скандинава казались близнецами. Оба предложены Валлийским колледжем. Асбьёрн Дамхюс, Дания, двадцать один год. Ханс-Петтер Бён, Норвегия, двадцать два года. Типичные потомки викнигов. Могу представить себе, что парни вроде Асбьёрна были среди датчан, которые покорили многие области средневековой Англии и умыкали осчастливленных их вниманием дам, а Эйч Пи вполне мог бы сидеть на верхушке мачты и кричать «земля!», когда ладья Лейфа Эйрикссона подошла к Винланду. Эти друзья постоянно что-нибудь затевали, вместе придумывали самые невероятные розыгрыши. Богатые на выдумку, с техникой на «ты» и настоящие умельцы. Среди бурных волн они чувствовали себя так же непринужденно, как дома в ванне, и обоим не терпелось испытать настоящие приключения, прежде чем снова браться за университетские учебники.
Самый молодой — Рашад Назир Салим: двадцать лет, иракский студент, будущий искусствовед. Худощавый, по крепкий; мозговитый и жадный до знаний, но без твердо устоявшихся взглядов. Страстный арабский патриот, но добродушный и ни капельки не агрессивный. Прибыв с рекомендательным письмом в гостиницу «Сады Эдема», он на безупречном английском языке застенчиво рассказал, что отец прежде был дипломатом в Европе и возил его с собой, но затем дипломат превратился в одного из самых известных живописцев Багдада, и Рашад мечтал пойти по его стопам.
На полголовы выше всех сидящих за столом — одиннадцатый член экипажа, Норрис Брок, США. Профессиональный кинооператор; возраст — сорок лет. Высокий, худой и на диво подвижный. С ним я тоже не был знаком. И не я его выбирал. Вплоть до нашей первой встречи он был для меня лишь обязательным параграфом в контракте с консорциумом, который одолжил мне средства на экспедицию. Норрис мало говорил, зато все видел. Он был вездесущ со своим неразлучным «младенцем» — специализированной синхронной кинокамерой с длинным микрофоном наверху, похожим на детскую бутылочку. Он нянчил свою камеру, взобравшись на макушку мачты; с нею же, нажав спуск, прыгал в воду с крыши главной рубки. Пока я не узнал поближе Норриса и его таланты, я предполагал, что Национальное географическое общество США выбрало его за рост. Ему ведь было предписано снимать нас, даже если мы станем тонуть. Что ж, его голова еще будет торчать над водой, когда мы все успеем захлебнуться... Поначалу трудно было привыкнуть к тому, что камера Норриса всюду сует свой нос, следя за всем, что мы делаем и говорим, и ребята не раз подходили и спрашивали меня, что за человек этот долговязый оператор. А я и сам не знал, что он за человек. Слышал, что годом раньше Норрис Брок с таким же заданием участвовал в экспедиции на двойном каноэ из стекловолокна, которое прошло маршрутом древних полинезийцев от Гавайских островов до Таити. Другие операторы снимали с сопровождающего парусно-моторного кеча, но долговязый Норрис всю дорогу ютился вместе с экипажем каноэ, обеспечивая крупный план. Плавание прошло без особых происшествий, если не считать бурного психологического конфликта между полинезийской командой и чужеземными руководителями эксперимента. Никто не скрывал, что от Норриса ждут кадры, отражающие еще более бурные стычки среди смешанной команды «Тигриса». Вышеупомянутый психологический конфликт стал главным стержнем готового фильма о смелом переходе на двойном каноэ, и поскольку паруса и волны могут занимать зрителя от силы несколько минут, нашему одиннадцатому члену экспедиции, конечно же, было велено не прозевать минуту, когда мы схватимся на кулаках.
Я объяснял ребятам, как снова и снова твердил участникам предыдущих океанских плаваний на малых судах, что существует так называемый «экспедиционит», что для людей, подолгу обитающих в тесной рубке, он опаснее любого урагана и мы непременно увидим его акулью пасть, если не будем настороже и не сумеем себя сдерживать, как бы ни хотелось наорать на соседа за то, что он забыл в твоей постели рыболовный крючок или справляет нужду с наветренной стороны.
Ребята слушали меня внимательно, и я даже начал подумывать что вездесущий «младенец» Норриса может оказаться самым эффективным и желанным для руководителя средством против «экспедиционита». А впрочем... Ведь этого самого «сосунка» американец таскал с собой в полинезийской экспедиции и привез такие кадры... Вот и Карло уже ворчит, потому что Норрис знай себе кино снимает, тогда как он, Карло, кроме фотографирования обязан варить макароны и кантовать груз.
Улучив минуту, когда мы с Норрисом очутились с глазу на глаз, я сказал ему, что он, конечно, вправе вести себя на борту как пассажир. Но для него же будет лучше не чувствовать себя посторонним, а наравне со всеми нести рулевую вахту, дежурить на камбузе и выполнять прочие повседневные дела. Надо снимать — в любую минуту подменим. Норрис ответил, что и сам хотел просить меня об этом. Хотел стать членом нашего товарищества. И он стал им.
Три дня стояли мы на якоре у камышей, ремонтируя и укрепляя мостик крепкими узлами и дополнительными перекладинами. Двое ребят побывали на берегу и купили толстые буйволовые кожи; кусками этих кож мы защитили бунты в тех местах, где об них терлись весла и якорные канаты. Кроме того, мы приступили к сооружению двух маленьких забортных уборных по обе стороны кормы, обшивая их приобретенными у болотных арабов плетеными матами
чола.
Мы любовались восходом солнца и огромной южной луной, но по ночам дул холодный северный ветер, пришлось даже завесить парусиной с наветренной стороны тростниковую стену, сквозь щели которой вполне можно было наблюдать звезды. Дневная температура воздуха понизилась до семнадцати градусов.
Вечером третьего дня мы подняли парус и пошли дальше вниз по реке. Норман пожертвовал одним гребным веслом и вместе с русским плотником попытался нарастить овальные веретена рулевых весел, сделать их круглыми в местах соприкосновения с уключинами. Не вышло. Тогда они попробовали стесать мешающие горбы. Все равно рулевые весла заедало, и эти два чудовища по-прежнему грозили развалить мостик при поворотах, когда на лопасти ложилась большая нагрузка. Мы с Юрием и Карло принялись критиковать усовершенствования Нормана, Норман защищался, но дискуссия сразу прекратилась, едва мы увидели торчащую над передней рубкой голову Норриса и услышали, что в самой рубке словно младенец икает: там заработал рекордер, включаемый дистанционно крохотным устройством, которое лежало в заднем кармане нашего кинооператора. Решили снести рулевые весла на берег, как только где-нибудь причалим, и постараться вернуть им первоначальные очертания.
Ладья развила хороший ход, около трех узлов, и с заходом солнца мы собрались при свете керосинового фонаря за столом, где нас ждал приготовленный Рашадом арабский плов с изюмом и луком. Внезапно рулевые крикнули с мостика, что на реке впереди полыхает пламя. Мы взобрались кто на стол, кто на рубки, а Норрис в два счета очутился на верхушке мачты. И правда, справа три длинных языка пламени, вырываясь из высоких газовых труб, стелились в темноте над рекой. Оберегая от огня свою камышовую ладью, мы прижались к другому берегу. Картина была живописная и драматическая. Могучее пламя так и норовило дотянуться до «Тигриса», озаряя ярким светом парус, рубки и наши лица. Даже пальмы на левом берегу были освещены. Миновав эту опасность, мы вскоре приметили на том же правом берегу свободную бетонную пристань.
Балям с нашими лоцманами причалила первой и сыграла роль привального бруса для «Тигриса».
Норман вдруг опять свалился на два дня с высокой температурой. Да и Юрий признался мне по секрету, что у него сильно колет в груди.
С восходом солнца мы рассмотрели огромный промышленный комплекс, которому принадлежала пристань. Работающие на комплексе европейские инженеры включили подъемный кран и помогли нам перенести на берег наши исполинские рулевые весла. Мы уменьшили на одну треть площадь лопастей, а Дмитрий обтесал своим русским топором веретена, намного облегчив их и вернув им почти круглую форму. Радушные инженеры из Швейцарии и ФРГ накормили нас и завтраком, и обедом. Они руководили строительством большого бумажного комбината, первая очередь которого уже вступила в действие. Вместе с другим комбинатом, строящимся выше по реке, это предприятие было призвано обеспечить бумагой безлесный Ирак. Бумажную массу делали из заготовленного на болотах тростника и камыша. Особенно подходил для этого
кассаб, и его сплавляли по реке до комбината в виде огромных плотов —
гаре. На обширной площадке рядом с комбинатом лежали тысячи тонн камыша, ожидающего превращения в бумажную массу.
В этой связи нас подстерегала новая, кошмарная проблема, с какой шумерам никогда не приходилось сталкиваться. Мы уже обратили внимание на то, что на этом участке Шатт-эль-Араб особенно загрязнен, но только вечером, спустившись к причалу после веселой пирушки, увидели плывущие по черной воде белые хлопья. В свете карманных фонариков вокруг нашей золотистой ладьи вообще не было видно воды — сплошное безе с мазками желтого крема. Стоя на холодном ночном ветру, мы чувствовали себя словно перенесенными в ледяные просторы Арктики. Казалось, из мрака медленно выплывают покрытые снегом большие льдины, сбиваясь в пак вокруг «Тигриса».
Кто-то из ребят побежал вверх по берегу и обнаружил, что белые хлопья устремляются в реку сплошным потоком по канаве, берущей начало у фабричных построек. Один из инженеров объяснил, что по ночам промывают старую мельницу. Новая мельница, которую сейчас монтируют, не будет загрязнять реку, а старая вот загрязняет... Химикалии из бумажного комбината! Корпус «Тигриса» наполовину погружен в густое месиво отходов предприятия, превращающего камыш в бумагу!
Мы попробовали разгонять бело-желтую кашу гребными веслами — куда там! Коварные хлопья тотчас затягивали снова черные клочки чистой воды. И уйти от них нельзя: тяжелые рулевые весла лежали на берегу, реконструированные лопасти только-только начали покрывать свежим слоем асфальта.
Наутро вся команда была готова поклясться, что осадка «Тигриса» заметно увеличилась. Норман не сомневался, что камыш пострадал от химии. И как мы ни старались поскорее установить на место рулевые весла и поднять парус, отчалить удалось лишь около полудня. Идя вниз по реке, мы и на другой день обгоняли плывущие тем же курсом пышные хлопья.
Слава богу, круглые веретена рулевых весел вращались на прокладке из буйволовой кожи куда легче. Вот только ветер стих. Начисто пропал. Правда, река продолжала течь. Не спеша. Кругом простирался чудесный, ничем — кроме белых хлопьев — не оскверненный ландшафт. Финиковые пальмы... Буйволы... Гуси, утки, заросли тростника
кассаб... Деревушки на берегах, весело приплясывающие ребятишки. Кто бежал вдогонку за нами, кто карабкался на пальмы. Лающие псы... Женщины в выглядывающих из-под длинной черной накидки ярких платьях. Одни пасли овец, другие несли на голове воду в бутылочных тыквах или алюминиевой посуде. Гончарные сосуды вышли из употребления. Две-три лодки с рыбаками... И все. Мир, тишина. Багровый закат за пальмами. Потом река остановилась. И мы бросили якорь, не дожидаясь, когда она потечет вспять.
На другой день впереди, как по мановению волшебного жезла, вновь явилась современная цивилизация. Проходя остров Синдбад, пришлось просить наших лоцманов, чтобы провели «Тигриса» на буксире между огромными устоями нового моста, который уже соединил другую сторону острова с берегом. Я побывал здесь до того, как мы начали строить свое судно, и разговаривал с немецкими инженерами. Сооружение исполинского моста шло стремительными темпами, еще месяц — и он будет готов. Тогда уже под его низкими пролетами никакая камышовая ладья с шумерской мачтой не сможет пройти из Тигра или Евфрата к морю.
Множество людей облепили устои и заполнили пристани оживленной гавани Басры. Мы шли на буксире в сопровождении полицейских катеров. Грузовые пароходы приветствовали нас сиренами и колоколами. Иракские военные суда салютовали флагом, и вдоль их бортов были выстроены матросы. Со всех сторон — гудки, свистки; Юрий схватил наш бронзовый горн, вскочил на крышу рубки и принялся трубить в ответ, а остальные ребята висели на перекладинах двуногой мачты, махая руками и крича. Я тоже не удержался от радостного крика, когда Карло показал мне на норвежский пароход из моего маленького родного города Ларвика.
В разгар этой суматохи к нам вдруг подошла моторная лодка, и на борт «Тигриса» поднялся Питер Кларк — связной от Би-би-си в Лондоне. Он перекусил и вернулся на берег с советским катером, который пришел за Дмитрием.
На душе было весело. И страшно. А вдруг мы не сможем пойти дальше реки? Вдруг кислоты в отходах бумажного комбината повредили камыш?
Шумная гавань осталась позади. Все, кроме рулевых, спустились на палубу. Веселье весельем, но и поесть не худо бы! Асбьёрн подал на стол гуляш по-датски.
Лоцманы задержались в Басре, чтобы заправиться горючим, и мы продолжали идти на юг без них, сопровождаемые случайными попутчиками на маленьких лодках. Снова потянулся красивейший плодородный край. Тут и там среди густых пальмовых рощ, в окружении великолепных террасированных садов разместились симпатичные виллы; из-за широких листьев банана и финиковых пальм выглядывали глинобитные лачуги живописных деревушек. Но то и дело мелькали новехонькие пристани и дороги, принадлежащие строящимся на берегу предприятиям.
Около двух часов дня мы поравнялись с иранской границей. Дальше только западная акватория реки принадлежала Ираку, а берег, у которого стояли на якоре суда, относился к Ирану. Здесь паше появление не вызвало никакой реакции, но когда нас догнала
балям, ее команда с ужасом обнаружила, что мы идем чересчур близко к срединной линии. Во время моего предыдущего визита в Ирак несколько лет назад отношения между соседями были крайне напряженными, на грани войны, теперь же они хорошо ладили, если не считать, что Ирак недавно взял верх над Ираном на футбольном поле. Что же до нас, то я не был уверен в благосклонности шаха после столь бурных протестов его Верховного Суда и Посольства по поводу того, что мы назвали залив Аравийским, а не Персидским. До залива осталось совсем немного.
Как же все-таки называть его, чтобы не задеть ничьих чувств? Персия давно предпочла именоваться Ираном, а Месопотамия стала Ираком, — так почему вдруг такие страсти вокруг залива? Мы идем по пути шумеров, а ведь они тоже как-то называли залив до арабов и британских ВМС! И я решил в нашем внутреннем обиходе именовать его Шумерским.
Впрочем, до залива еще надо было дойти. Лоцманы так боялись нарушить срединную линию, что все время прижимались к иракскому берегу. Временами мне даже казалось, что рулевые весла задевают дно. Судя по всему, наши проводники на
балям и сами-то еще никогда не спускались по реке дальше Басры.
С приходом ночи они решили остановиться. Показали нам место для стоянки перед излучиной, где у иранского берега стояли два парохода — один под южнокорейским, другой под либерийским флагом, — и предложили отдать якорь. Мы послушались. Детлеф бросил якорь в воду, но канат почему-то не хотел разматываться. Он выдернул якорь обратно и увидел на лапах ил. Я попробовал повернуть правое рулевое весло — туго идет, будто ложка в холодном сливочном масле... И левое весло тоже. Рашад крикнул лоцманам, что мы попали на мелководье. Они прокричали в ответ, что здесь самое глубокое место. Мы бросили им конец и попросили отбуксировать нас в сторону. Они включили мотор — не тут-то было. При глубине чуть больше метра ил начал засасывать «Тигриса» не хуже болотной трясины. Попытались отталкиваться шестами — уходят в вязкий грунт, не сразу и вытащишь.
Лоцманы объявили, что надо ждать прилива. А когда он начнется, наперед сказать невозможно. В разные дни прилив начинается в разное время, во всяком случае, не в те часы, что выше по реке. Мы наклонились вплотную над мутной водой. Не двигается. Самый разгар прилива! А затем вода стала медленно отступать к заливу. Мы трудились как бешеные, но без успеха. То ли «Тигрис»
уходил все глубже в густой кисель, то ли нас все больше обволакивало илом. Плохи наши дела! Во главе с Юрием и Карло мы совместными усилиями сумели поднять и укрепить рулевые весла вровень с днищем.
Взошла луна, а мы торчим на том же месте, и на душе нехорошее чувство, будто нас неумолимо тянут вглубь липкой бездны руки незримого осьминога... Мимо «Тигриса» вверх по реке проходили в ночи ярко освещенные суда. Их-то вели настоящие лоцманы, знающие, что следует держаться подальше от нашего берега.
При свете луны Детлеф и Тору отважились подойти к иранской стороне, чтобы спросить команду либерийского судна, не могут ли они стащить нас лебедкой с мели. Последовал вежливый отказ: команда опасалась иранской полиции, поскольку мы застряли в Ираке. Тогда наши посланники подгребли к южнокорейскому судну. Корейцы соглашались подать трос до середины реки, но не дальше. И ведь нам все равно надо было ждать очередного прилива, иначе мы рисковали, что их лебедка разорвет на части наши бунты. На вопрос, когда теперь ожидается прилив, либерийцы и корейцы ответили совсем по-разному, так что наши ребята вернулись из Ирана ни с чем.
Положение что пи час становилось все хуже. Мы приготовились к тому, что прибывающий речной ил совершенно поглотит камышовые бунты.
Поздно ночью вода перестала отступать. В лунном свете казалось, что дно реки у нашего берега почти обсохло. Никаких событий не предвиделось, и мы один за другим легли спать, оставив вахтенного на крыше рубки.
В половине третьего я проснулся от шума воды, словно где-то открыли кран. Высунулся из рубки, вахтенный посветил фонариком, и я увидел, что шоколадного цвета вода устремилась вверх по реке, с бульканьем омывая торчащую у меня перед носом лопасть левого рулевого весла. Казалось, мы мчимся вниз по мутной стремнине. На самом деле «Тигрис» стоял на том же месте, а от залива с поразительной скоростью наступал приливной поток. Теперь-то уж точно ладью либо совсем занесет илом, либо сорвет с грунта! Мы снова спустили на воду шлюпку, Детлеф с Асбьёрном отвезли оба якоря на самое глубокое место, а остальные члены команды дружно впряглись в канаты, пытаясь снять «Тигриса» с мели.
Шел десятый час нашего плена, когда совместные усилия приливного потока и наших мускулов сдвинули ладью с мертвой точки. В половине четвертого нос «Тигриса» начал постепенно отворачивать от берега. Продолжая выбирать якорные канаты, мы криками разбудили лоцманов на
балям. Я предпочел бы тут же и отпустить их восвояси, но где-то за очередным поворотом находился крупный иранский город Абадан, и без буксировки нам вряд ли удалось бы пройти между танкерами и нефтеочистительными установками. В пять утра мы смогли вернуть рулевые весла в рабочее положение и поднять парус к звездному небу. Убывающий лунный диск был окаймлен широким ярким ореолом.
За первой же большой излучиной мы увидели очертания Абадана на фоне утренней зари. Высоченные дымовые трубы, радиобашни, скопище могучих танкеров. Подул слабый лобовой ветер, и все еще давало себя знать встречное приливное течение, а потому мы убрали парус и попросили наших лоцманов провести нас возможно скорее через воды, грязнее которых нам в жизни не доводилось встречать. Из своего рода Эдема на Тигре наше золотистое суденышко вдруг было низвергнуто в современный ад. Жидкую среду между огромными пароходами и портовыми сооружениями нельзя было назвать ни морской, ни речной водой — это было черное мазутное месиво, усеянное всяким хламом. Более свободные участки поверхности переливались всеми цветами радуги в пронизывающих индустриальную мглу лучах утреннего солнца. Шумеры пришли бы в ужас, если бы увидели среду обитания, с которой современный человек связывает понятие о прогрессе. По черной от нефти и мазута нижней половине зеленых стеблей
берди у иракского берега без труда можно было определить высшую точку прилива. Остро пахло нефтью. Нам было стыдно глядеть на свое гордое суденышко, испачканное выше ватерлинии жирной черной грязью от мелких волн, поднятых неторопливо следующими мимо пароходами. И хотя мы опасались, что сильная тяга может повредить бунты, Рашад передал лоцманам на
балям, чтобы включили полный ход. Надо было поскорее выходить в залив.
Стоило нам миновать город, как вода, к нашему удивлению, стала заметно чище, словно черное месиво колыхалось на одном и том же месте; впрочем, мы не сомневались, что оно настигнет нас, если мы не проскочим устье до начала отлива. Вода из черной стала бурой. Снова показались финиковые пальмы — жиденькие рощицы среди безотрадно голого ландшафта. Есть куда наступать индустрии...
Во второй половине дня над пустующей гладкой равниной на иракской стороне выросли постройки. Фао. Последний город в устье Шатт-эль-Араба. Однако было бы неправильно сказать, что здесь конец реки. Во время отлива она лоснящимся морским змеем извивается дальше среди затопляемых трясин и обсыхающих отмелей, ныряя в глубину там, где исчезают последние признаки суши. Нам не терпелось добраться туда. Туда, где солоноватая вода сменится соленой, где чайки ждут, чтобы сопровождать нас на вольный простор открытого моря.
Глава IV. Затруднения продолжаются
Река кончилась. И суша кончилась. Мы рассчитались в Фао с нашими провожатыми, и
балям прошла обратно вверх по течению. Оставив за спиной безликую линию заиленных прибрежных низменностей Ирана и Ирака, мы вошли в соленые воды и подняли парус над нашей плавучей корзиной с овощами. Пучки камыша и плетеный тростник весело покачивались на волнах, и вместе с ними качались в мешках и коробах красные помидоры, зеленый салат, желтые цитрусы, картофель и морковь. Скоропортящихся свежих продуктов было взято немного — ведь им лежать на залитой солнцем палубе нашей лодки-плота. В несколько дней одиннадцать голодных мужчин управятся с ними, а чего не съедят — обрастет плесенью, как обрастет зелеными водорослями подводная часть камышовых бунтов.
В Фао, на рубеже песчаных равнин и прибрежной низины, мы простояли ровно столько, сколько понадобилось, чтобы наполнить свое чрево и загрузить ладью плодами земли.
Сверх перечисленного выше запасли вдоволь лука, чеснока, изюма, различных местных орехов, зерна и крупы, не боящихся долгого храпения.
Из порта Фао в открытое море ведет расчищенный среди обширных отмелей приливно-отливной зоны длинный и узкий канал, по которому лоцманы проводят вдоль пронумерованных буев большие корабли. Нас провел этим путем иракский буксир. Ил, ил, кругом сплошной ил... Непрерывно пополняемые отложения мельчайших наносных частиц с Армянского нагорья и приречных равнин Ирака. На рассвете вместе с отливом мы неспешно спустились по каналу.
За светящимся буем Хафка, где кончилась буксировка, нас встретили первые отлогие волны залива. В утренней мгле над открытым морем взошло румяное солнце. Мы предвкушали небывалое плавание.
Выходя из канала в залив, я чувствовал, что опять преступаю некое научное табу. Ведь было принято считать, что суда вроде «Тигриса» дальше не ходили. Мы достигли рубежа, начертанного компетентными учеными для месопотамских судов из камыша
берди. Нас учили, что просторы залива стали доступны шумерам лишь после того, как они изобрели деревянные корабли. Учебники и преподаватели повторяли мнение какого-то давно забытого авторитета, будто жители Двуречья, как и древние египтяне, начали с того, что плавали по рекам на судах из связок камыша или папируса, однако за пределы устьев не могли выходить, пока на смену древнейшей конструкции не пришли первые суда с дощатой обшивкой.
И вот теперь мы занесли руку на общепринятую точку отсчета. В истории мореходства и культурных контактов через моря точкой отсчета служил момент перехода от компактных конструкций из бунтов к полому корпусу. Почиталось само собой разумеющимся, что до этого перехода все культуры и цивилизации развивались независимо друг от друга.
Я знал, когда мы подняли парус, выйдя из Шатт-эль-Араба, что представители разных отраслей науки воспримут мою экспедицию как вотум недоверия прочно утвердившимся воззрениям. Допустим. Но ведь я вел честную игру! Сторонникам старой доктрины представлялся случай убедиться, что правы они, а не я. Правда, при всем моем уважении к коллегам в области антропологических наук никуда не денешься от того факта, что ни один из них не видел своими глазами корабли из камыша
берди и не мог сослаться на кого-либо, кто их видел. В этом мы с ними были равны, и надо признать, что мне стало слегка не по себе, когда наши две экспериментальные связки промокли насквозь в водах Тигра.
Хуже того, ладья тоже впитывала воду. И я сразу почуял недоброе, когда Юрий во время стоянки в Фао отозвал меня в сторонку для разговора с глазу на глаз. Плечистый русский ветеран папирусных плаваний смотрел на меня так, словно собирался предложить серьезную операцию. Он показал на ватерлинию «Тигриса»: заметил ли я, что осадка увеличилась?
Да, я заметил. И склонен был согласиться с Норманом, что кислоты или какие-то другие химикалии в сбросах бумажной мельницы могли нарушить покров наружных связок и облегчить воде доступ внутрь стеблей. Но когда камыш в этих связках набухнет сколько позволяют тугие веревочные витки, он, скорее всего, не даст воде проникать дальше.
Юрий молча поглядел на меня. Потом спокойно произнес:
— Мы с Карло считаем, что надо выгрузить все, без чего можно обойтись. Пусть лучше достанется жителям Фао, чем выбрасывать за борт в заливе.
Я присмотрелся к выражению его лица. Оробел? Не больше моего. Я знал, что подразумевает Юрий. Наша вера в водонепроницаемость
берди, заготовленного в августе, опиралась только на слова болотных арабов. Поглощение воды папирусом начало уменьшать грузоподъемность двенадцатиметровой «Ра II», как только мы миновали Канарские острова. Тогда — по сути дела, еще до того, как мы пошли через Атлантику, — мы были вынуждены отправить за борт у берегов Африки все запасные деревянные части, а также излишки провианта и воды, иначе наш перегруженный кораблик грозил затонуть. Серьезное лицо Юрия напомнило мне тяжелые минуты, которые нам довелось пережить вместе на ушедших глубоко в воду папирусных бунтах. Минуты, когда мы сидели по пояс в соленой воде Атлантики и волны накрывали нас с головой. А на «Ра I» нам пришлось и того хуже. Конечно, папирус «Ра II» впитал много воды, и ракушки росли прямо на палубе, по все же мы дошли до Америки, не потеряв ни одного стебля. На «Ра I» положение было более серьезным. Избиваемая волнами бамбуковая рубка перетерла веревки основной конструкции, и корпус разошелся вдоль на две части, так что мы смотрели прямо в бездонную пучину между нашими ступнями. Минуты радости и торжества чередовались с минутами ужаса. Много дней и ночей мы со страхом глядели, как смерть то размыкает, то смыкает свои челюсти под нами, и неизвестно, что принесет следующая секунда.
— Ты прав, Юрий, — согласился я вдруг. — Выгрузим на берег все, без чего можно обойтись.
И вот уже мы вместе с Норманом и Карло составляем список. Компрессор для зарядки Германова акваланга, конечно же, лишний груз. И запасные баллоны ни к чему. Осмотреть бунты снизу или освободить застрявший в камнях якорь на коротком тросе можно и без акваланга, если мы к тому времени израсходуем сжатый воздух, а глубже погружаться нет необходимости. Остальные ребята, не ходившие на подобных судах, недоумевали, какая муха укусила четверку ветеранов. Герман возражал. Он купил дорогостоящее сооружение в моих же интересах, чтобы вместе с Тору снимать под водой акул и прочих рыб, которые будут сопровождать бесшумно скользящую по волнам камышовую ладью.
Неубедительные возражения Германа остались без последствий. Мы не обязаны заниматься съемками с применением сжатого воздуха. Если уж на то пошло, искусственное освещение тоже не понадобится. И вместе с компрессором на берег отправились тяжеленные аккумуляторы и подводные светильники Германа, груда мексиканских сувениров и предметы личного обихода, которые в таком плавании были ни к чему. Все эти вещи заколотили в ящики и отправили по его домашнему адресу. Такой же чистке подвергся каждый из остальных. Впрочем, ревизоры были достаточно снисходительными, да и сами ревизуемые не брали с собой почти ничего лишнего. Главное разорение началось, когда Юрий взялся за деревянные запасные части. Я чувствовал себя так, словно он меня раздевает догола. Все мы четверо знали, что дерево — наиболее уязвимое звено камышового судна. Рангоут, мостик, но особенно — веретена рулевых весел. Где камыш под нагрузкой гнется, дерево ломается. Тугие, как толстая резина, связки камыша практически невозможно сломать. Иное дело — дерево. Оно не выдерживает поединка со стихиями.
А потому я, как и на «Ра II», взял на борт балки, рангоутное дерево, бруски твердой древесины для сращивания сломанных частей. Теперь Юрий, к удивлению и без того озадаченных новичков, предложил оставить все это. Наши друзья на
балям с великой охотой приняли драгоценный дар, под весом которого их суденышко чуть не ушло под воду.
Мне с трудом удалось отстоять длинные гребные весла общим числом двенадцать штук. А также несколько брусков для аварийного ремонта.
Лучше сразу восстановить душевное равновесие, если кто-то уже сейчас начинает тревожиться. И ведь я сам не свободен от беспокойства.
Восемнадцатиметровый «Тигрис» был в полтора раза длиннее, чем «Ра II». Зато в команде одиннадцать человек вместо восьми. И запас воды и провианта рассчитан не на два месяца, как это было на «Ра I» и «Ра II», а на куда более долгий срок. А мнению ученых, как уже говорилось, мы могли противопоставить только слова болотных арабов. Если не считать, что вместо папируса взят камыш
берди, вся разница между новой экспедицией и двумя предыдущими сводится к тому, что материал заготовлен в августе, а не в декабре.
Нельзя сказать, чтобы осадка «Тигриса» заметно уменьшилась оттого, что мы сняли несколько сот килограммов груза. Впрочем, надводный борт все равно казался невероятно высоким. Нельзя запросто нагнуться и выловить проплывающую мимо щепку или помыть руки в море; последнее обстоятельство даже раздражало тех из нас, кто в прежних плаваниях привык совершать утренний туалет не прибегая к помощи брезентового ведра.
Тяжелая рея поднялась к топу двуногой мачты, парус расправился, и в нем словно отразилось румяное утреннее светило. Изображенное на парусине красное солнце поднималось из-за ступенчатой пирамиды. Настоящее парило в небе над мглистым морем.
Большие ожидания... Мы рассчитывали на сильный ветер со стороны оставшегося за кормой Ирака. На просторах залива южнее приливпо-отливных низменностей для ветра нет помех. Так где же он?
Странно. Второй день декабря. Обычно всю зиму в заливе господствует устойчивый северный ветер. У нас задумано, если ладья будет держаться на воде, выйти из залива в океан. Желательно с заходом на лежащий чуть ли не прямо на нашем пути Бахрейн. Поскольку шумеры ввозили лес для строительства деревянных судов, ученые полагали, что зимой они с попутными ветрами покидали родные берега, а с грузом возвращались летом, когда ветер менял направление на обратное.
Однако в последние годы погода явно изменила своим привычкам. Как будто стихии решили, что век парусного мореплавания все равно кончился. В самом деле, зимние дожди застигли нас в Садах Эдема на месяц раньше положенного срока. В Фао мы услышали от арабов, что последние два года ветры точно с ума посходили. И вот пожалуйста — словно мы вдруг застряли в экваториальной штилевой полосе.
Оставалось приноравливать курс ладьи к недолгим порывам слабых ветров. Вот где нам пригодился бы какой-нибудь современный Синдбад! Пока мы спускались по реке, я все не терял надежды найти опытного парусника, который согласился бы пойти с нами. Какого-нибудь старожила, знающего мели и течения у здешних берегов. Но такие знатоки исчезли вместе с ветром. Перед выходом из устья мы увидели напоследок у иранского берега целую флотилию ярко раскрашенных старых
дау. И на всех них мачта уступила место мотору.
Да, мир шумеров изменился — что на суше, что на море. Пески поглотили шумерские поля и города, засыпали судоходные каналы. Наносы ила нарастили берега, преобразив их очертания. И морские просторы перестали быть ареной для различных парусно-гребных судов. Моторы. Машины. Не завися больше от ветров и рифов, арабы, а также соседи и гости арабов спокойно плавали на своих суденышках среди нефтяных эстакад вдоль побережья, смело пересекали сеть современных торговых путей. Некогда безмятежные воды у берегов Двуречья стали отнюдь не подходящей областью для новичков, пытающихся освоить управление камышовой ладьей.
Нам надо было следить за тем, чтобы не оказаться на дороге у других судов. Надо было поскорей выбираться с огромной акватории, отделяющей Аравийский полуостров от остальной Азии. Будем прижиматься к аравийскому берегу, насколько позволят рифы и мели. В этой полосе мы сможем маневрировать, не опасаясь встречи с непрерывным потоком больших пароходов.
Наши штурманы внимательно изучили карты в поисках наилучшего маршрута подальше от судоходных линий, островов и нефтяных эстакад. Норман предложил курс 135°. Детлефу больше нравился курс 149°. В это время чей-то голос с мачты посоветовал нам сперва как следует осмотреться. Мы послушались. Утренний туман еще не рассеялся, но в бинокль можно было рассмотреть стоящие на якоре суда. Со всех сторон суда! Ведя биноклем слева направо, я насчитал четыре десятка пароходов, потом уперся взглядом в какое-то страшилище: высоченную нефтяную эстакаду с причаленным к ней танкером — и бросил считать. Повсюду впереди торчали мачты; некоторые из них медленно уползали во мглу.
Какой курс ни выбери, нас везде подстерегало беспорядочное скопление больших судов; одни стояли на якоре, другие двигались тихим ходом. Приблизившись, мы увидели, что преобладают сухогрузы. Мало того, что тут происходила загрузка танкеров нефтью, здесь находилась также известная якорная стоянка для многочисленных судов, ожидающих своей очереди идти вверх по реке и разгружаться в портах Ирана и Ирака, вплоть до Басры.
Из мглы возник высокий нос японского танкера. Могучий корпус проплыл совсем рядом с нашей кормой. Я стоял на одном рулевом весле, Юрий — на другом. Из-за слабого ветра ладья плохо слушалась руля, и нам приходилось трудиться вовсю, чтобы не столкнуться даже с неподвижно стоящими судами.
Норман и Детлеф пришли к согласию, что сейчас лучше всего ориентироваться на буй под номером 23. Поглядев в ту сторону, я еле-еле рассмотрел красное пятно в тумане за скоплением кораблей.
Постепенно мы начали разбираться в окружающем хаосе. Танкерный фарватер и заправочная станция теперь были справа от нас. Слева стояли только сухогрузы. Ветер был такой слабенький, что нам понадобилось целых два часа, чтобы миновать пароходы. До большого красного буя оставалось метров сто, и я хорошо видел выведенный черной краской номер «23». Мы решили выждать у этого буя, когда подует ветер посильнее. Вон он, совсем близко. Кстати, минуту назад он был еще ближе... Ветер стих. Нас относило течением. Относило туда, откуда мы пришли. Отлив сменился приливом, и течение стало разворачивать сухогрузы на их длинных якорных цепях. Раньше мы видели левый борт, теперь они повернулись к нам правым бортом. Нос и якорные цепи смотрели в противоположную сторону от берега.
Парус совсем не работал. Было яснее ясного, что приливное течение увлекает нас обратно к устью Шатт-эль-Араба, которое сейчас качает воду вверх по реке. В это время мы заметили, что примерно в миле от нас с одного из сухогрузов спускают на воду какой-то оранжевый предмет. Он стал приближаться к нам, и я рассмотрел необычную спасательную шлюпку. Она скользила по воде бесшумно, словно призрачное видение. Без мотора, без паруса, даже без весел. Мы впервые видели такую шлюпку. Она была набита битком дюжими мужчинами; большинство — голые по пояс, голова обвязала платком. Сидя вдоль бортов лицом к лицу, они равномерно вращали длинный коленчатый вал, явно соединенный с винтом. Никакого горючего. Лишь отменно согласованные движения работающих рук. Словно некое морское животное ползло по воде, перебирая множеством ног. Ритмично нагибались и выпрямлялись обнаженные торсы. Впереди высунулась чья-то голова:
— Юрий! Юрий Александрович Сенкевич!
Это были русские. Они знали Юрия.
Крепкие рукопожатия. Карло живо подал на шлюпку трос, и Юрий попросил своих соотечественников закрепить конец на буе, до которого теперь было около трехсот метров. Они тотчас сели по местам и принялись дружно крутить рукоятку, направляясь к бую. Тащить нас им было не под силу — только наш швартов. Разматывающийся трос все сильнее тормозил ход шлюпки. Карло поспешно наращивал швартов, пока не кончились наши запасы троса. К его великой досаде, последний кусок вырвался из рук и скользнул за борт. Мы стали махать русским, чтобы возвращались с нашим швартовом. Они лишь приветственно махали нам в ответ и продолжали изо всех сил крутить привод винта. Вконец измотанные, дотащили длиннющий швартов до цели и надежно закрепили на буе 23. После чего начали сигналить нам знаками, чтобы мы выбирали слабину. А нас уже порядочно отнесло от улизнувшего конца. Так далеко, что мы больше не различали номер буя.
Замешательство русских длилось недолго. Впрочем, нам в эти минуты было не до них и не до потерянного троса — «Тигрис» мог вот-вот сесть на мель. Мы поспешили приготовить оба малых якоря. Правда, наши якорные тросы коротковаты, но авось один, а то и оба якоря все же зацепятся за грунт раньше, чем нас прибьет к мелям. Да только что это за грунт — рыхлый ил, принесенный рекой! У пароходов длинные якорные цепи, в любом месте залива достанут до крепкого грунта. Хорошо еще, что между нами и берегом не было ни скал, ни рифов.
Смотрите! Стоя на крыше рубки, Норрис показывал на большой черный сухогруз, который покинул стоянку и шел прямо на нас, направляемый оранжевой шлюпкой.
И вот уже нам подают конец непокорного швартова. Другой конец был закреплен на шлюпке, а шлюпку повел за собой на буксире пароход, возвращаясь к месту якорных стоянок. Руководил операцией коренастый крепыш в шортах, который стоял на носу оранжевого суденышка. Широко улыбаясь, он попросил разрешения посетить нашу ладью. С легкостью кенгуру прыгнул на камышовую палубу и представился: капитан Игорь Усаковский. Средних лет, румяный, веселый моряк, командир 17000-тонного советского сухогруза «Славск», приписанного к Одессе. Ощутив под ногами упругие связки, наш гость пришел в восторг, точно мальчуган, оседлавший деревянную лошадку. Проверил прочность двуногой мачты и тростниковой стены, постоял на рулевом мостике, полежал на полу в рубке, посидел на дощатых скамейках. А спустя несколько минут вся наша команда уже сидела за двумя длинными столами в кают-компании командного состава на «Славске», уписывая русский борщ и любуясь ожидающими своей очереди блюдами, а также двумя статными блондинками, которые их приносили. Водка, вино, советское шампанское. Свиная отбивная, пирожки с мясом, капустно-морковный салат, сыр, масло, свежий русский хлеб. Капитан Игорь встал и произнес тост, потом встал я, по очереди вставали все ребята с «Тигриса». Наш хозяин был большой оратор, юморист и едок. Пить он тоже умел. Родился в Грузии, куда судьба занесла его отца, польского революционера. В начале обеда он величал меня «капитан», потом я стал «отец».
— Будь здоров, отец мой, — говорил он всякий раз, поднимая бокал.
Когда же я стал подсчитывать, действительно ли гожусь ему в отцы, он пояснил, что не в возрасте суть, а в опыте.
— В таком случае вернее называть меня внуком, — возразил я.
И правда, кто я такой? Сухопутный краб, который пристрастился дрейфовать на доисторических плотах, проверяя, сколько они могли продержаться на воде. То ли дело капитан Игорь — настоящий морской волк! Начал молодым парнем на китобойце в полярных водах. Позже, став капитаном, избороздил все моря.
Вечер закончился в просторном салоне, где собрались все сорок человек команды и офицерского состава. В ночном воздухе далеко разносилась режущая ухо громкая музыка с ближайшего соседа «Славска» — греческого сухогруза. Нелегко давалось долгое ожидание сотням томящихся бездельем моряков, которые застряли в этой плавучей железной деревне. Некоторые суда стояли здесь уже больше месяца. Капитан «Славска» рассчитывал, что еще неделю-другую придется ждать своей очереди идти вверх по реке до Басры.
В приподнятом настроении возвращались мы сквозь ночной туман к «Тигрису», крутя ручной привод. Моторная шлюпка «Славска» лежала на палубе: ремонт.
До восхода солнца оставался еще не один час, когда мы забрались в спальные мешки, но я проснулся затемно, ощутив прохладное веяние, которое проникало сквозь тростниковую стену. Ветер. Я разбудил остальных. Ветер! Протирая глаза, мы побрели к парусу и рулевым веслам. Протирая глаза, обнаружили, что ветер — хуже не придумаешь. Сила есть, да направление не то: юго-восточный. Прямо противоположный обычному для этого времени года. У нас задумано идти на остров Бахрейн, а ветер как раз оттуда.
Все против нас. Тем не менее лучше сделать попытку, чем торчать на одном месте. «Славск» отвел ладью за пределы рейдовой акватории, и мы снова подняли единственный наличный парус. Тонкая парусина, рассчитанная на попутный ветер. Парус для лавировки, с кренгельсами и ликтросом, по-прежнему лежал на крыше рубки, распоротый на части. Полнейший идиотизм! Чтобы ставить его, надо было сперва дойти до Бахрейна и найти опытного мастера, знающего, как сшивать такие полотнища. Ладно хоть у тонкого паруса площадь больше — прибавит нам скорости!
Со времени спуска на воду прошло три недели, а осадка нашей ладьи была совсем незначительной, если сравнивать с обеими «Ра». И под широким легким парусом мы стали быстро удаляться от рейдовой акватории и танкерного фарватера. Ветер усилился. Заодно он еще больше отклонился к югу. При нашем парусном вооружении оставалось лишь идти перпендикулярно к ветру, курсом 240—250°. Любая попытка править круче к ветру привела бы только к сильному сносу.
Волны курчавились белыми барашками; суда и суша скрылись из виду. «Тигрис» шел в сторону острова Файлака у берегов Кувейта. Ход был приличный, и курс нас вполне устраивал. Так и так нам надо отклониться на запад, сторонясь оживленных торговых путей в средней части залива. Пойдем пока поближе к берегам Саудовской Аравии, а когда ветер переменится и подует, как положено, с севера, мы при таком ходе за четыре дня доберемся до Бахрейна.
Однако ветер не желал вести себя как положено. Он все сильнее дул с юга, и мы с нарастающей скоростью шли на запад. Поднятая свежим ветром частая волна с глубокими ложбинами вызывала сильную бортовую качку. Чтобы устоять на мостике, надо было широко расставлять ноги. Кое-кого укачало. Асбьёрн, болезненно улыбаясь, извинился и полез в носовую рубку, чтобы лечь. Длинные колена двойной мачты начали подпрыгивать с громким стуком. Карло затянул потуже крепления, притягивающие их к башмакам.
Нам встретилось несколько дельфинов; других признаков жизни мы не наблюдали. «Тигрис» продолжал идти западным курсом в сторону Кувейта. Если южный ветер — не на один день, придется бросить якорь где-нибудь у Фай-лаки и ждать перемены погоды. Возможно, так поступали древние мореплаватели. Им недоставало многих современных удобств, но времени у них было вдосталь.
При таком направлении ветра следовало искать укрытия у северного берега Файлаки. Однако навигационная карта не сулила нам ни гаваней, ни подходящих стоянок. В широкой полосе, отделяющей с севера остров от материка, вообще не было обозначено никаких деталей. Картографы ограничились пометкой, что этот район не пригоден для судоходства из-за сплошных мелей. Правда, плоское днище, тугие бунты и умеренная осадка ладьи позволяли нам рисковать там, где другим риск был противопоказан. Норман обратился за справкой к изданной годом раньше в Лондоне «Лоции Персидского залива» и прочел вслух:
«...Эти берега редко посещаются европейцами. Обширные области здесь вовсе не заселены, и выходить из городов на материке без вооруженной охраны, судя по всему, рискованно».
Ветер еще прибавил. Наша скорость возросла. День подошел к концу, и солнце погрузилось в изрезанное волнами море впереди нас. В той самой стороне, где находился остров Файлака с его мелями.
В наши планы не входило забираться так далеко на запад. Мы нацеливались на остров Бахрейн, лежащий по пути к выходу из залива, а вместо этого теперь держали курс на Файлаку. Словно судьба вознамерилась подшутить над нами. В трудах специалистов по древнейшей истории шумеров эти два острова выступали в роли соперников. Лично я был не против того, чтобы взглянуть на Файлаку до того, как мы покинем залив. Мы плыли в исконно шумерских водах, а этот остров лежал ближе всех к древним шумерским портам. На совещании в Багдадском музее иракские ученые не один раз упоминали его. Видный исследователь Фуад Сафар склонялся к тому, что Файлака и есть упоминаемый на шумерских глиняных плитках
Дильмун. Бахрейн, считал он, расположен слишком далеко.
Но стремительно приближаясь на «Тигрисе» к Файлаке, мы уже вечером первого дня спрашивали себя: не слишком ли он близко расположен? Большинство ученых помещают легендарный Дильмун на Бахрейне, потому-то мне так и хотелось туда попасть.
Одно не вызывало сомнения: в темноте прямо по нашему курсу таился бесплодный клочок суши, способный поведать немало интересного о деятельности древнейших мореплавателей. Песчаники низкого островка длиной семь миль и шириной три мили, говорил я своим спутникам, сохранили множество следов доисторической активности покорителей моря.
Сам Александр Великий наименовал остров «Икария», когда около 325 года до нашей эры здесь проходили греческие парусники, построенные в далекой долине Инда. Голая ныне земля тогда была еще лесистой, а местоположение острова делало его удобной базой для эллинов при захвате территорий по берегам залива. Хотя поблизости располагалась на материке огромная страна, названная ими Месопотамией, они воздвигли крепость и храм Артемиды на крохотном островке. Древние греки, как это было заведено у европейцев и восемнадцать-двадцать веков спустя, почитали себя открывателями, приходя в страну с другими богами и другой культурой. И только недавние раскопки показали, что, когда Александр Великий более двух тысяч лет назад приплыл на Файлаку, остров еще за две с лишним тысячи лет до него был освоен шумерами.
Эллины, давшие имя стране между реками-близнецами и островам в заливе, никогда не слышали про Шумер. Шумеру как государству пришел конец после разрушения Ура около 2050 года до нашей эры. И люди его вместе с их языком и культурой были забыты, пока засыпанные песком развалины и клинописные анналы не были раскопаны и расшифрованы в прошлом веке учеными, которые возродили к жизни шумеров.
Но лишь в последние десятилетия археологи начали раскопки на Файлаке и обнаружили, что здесь побывали также жители континента. И не только шумеры. До них на острове высаживались аккадцы, а после — вавилоняне. Правда, отложения речного ила у иракских берегов приблизили к ним Файлаку на добрую сотню миль со времен шумеров, по остров был вполне доступен и для основателей первых цивилизаций Двуречья.
Впервые я прочел про Файлаку в книге археолога Джеффри Бибби. Англичанин по рождению, он рассказывает, как ему и его датским коллегам удалось найти множество черепков и печатей, раскапывая развалины и мусорные кучи на маленьком острове. Древние печати для клеймения товаров были особенно характерными приметами, вроде отпечатков пальцев. Изображенные на них символы и мотивы позволяли привязать каждую печать к определенной эпохе и определенной области окружающего остров мира.
Большинство находок отличалось от того, что было известно по близлежащей Месопотамии. И ничто не связывало их с материковым Кувейтом, который вообще чрезвычайно беден археологическими памятниками. Зато очень многие файлакские предметы принадлежали забытой цивилизации, процветавшей на Бахрейне около четырех тысяч лет назад. Видимо, две доисторические островные культуры, разделенные дистанцией около 250 миль, поддерживали тесные морские контакты.
Бибби руководил датской археологической экспедицией на Бахрейне. Здесь были обнаружены неизвестные раньше портовые города и храмы, способные поспорить древностью с египетскими и шумерскими. Данные раскопок убедили Бибби и большинство других ученых, что Бахрейн, а не Файлака — Дильмун шумерских источников. Но Джеффри Бибби пошел дальше, предположив, что под Дильмуном могла подразумеваться обширная морская империя, включавшая и Бахрейн, и Файлаку.
Самой замечательной среди находок на Файлаке оказалась круглая печать, явно изготовленная в далекой Индской долине
[32]. Тонкая, плоская, с высокой шишечкой и с надписью, сделанной не расшифрованными до сих пор письменами древней индской культуры. Очевидно, тот, кто доставил печать на остров, соприкасался с представителями великой цивилизации, которая во времена шумеров процветала на берегах реки Инд и в приморье нынешнего Пакистана и Индии. Внезапно возникнув около 2500 года до нашей эры на вполне зрелой стадии, с великолепными городами Мохенджо-Даро и Хараппа, могущественная цивилизация у берегов Индийского океана столь же внезапно и необъяснимо погибла около 1500 года до нашей эры.
Хотя Александр Великий строил свои суда в долине Инда, он пришел туда слишком поздно, чтобы доставить индскую печать на Файлаку. Во времена Александра индская письменность, как и сами города Мохенджо-Даро и Хараппа, была погребена под землей и забыта; лопата археолога открыла ее вновь всего лишь полвека назад. Выходит, между 2500 и 1500 годами до нашей эры остров Файлака поддерживал связи не только с Бахрейном, но и с развитым государством за пределами залива. Люди, умеющие читать и писать, создатели собственной письменности, бороздили здешние воды задолго до того, как из стран Ближнего Востока грамота распространилась в Грецию и другие страны Европы.
Мои товарищи на «Тигрисе» знали, что незадолго до нашего старта я побывал в Кувейте, надеясь посетить Файлаку. Сейчас, когда встреча с островом представлялась нам неизбежной, они с живым интересом слушали мой рассказ. Правда, мне в тот раз не удалось попасть на Файлаку, хотя всего три часа хода на катере отделяют его от столицы Кувейта. На северо-западном берегу острова, обращенном к Кувейту, есть даже маленькая гавань, тогда как подходы ко всем остальным берегам, включая восточный, куда мы теперь приближались, закрыты рифами и мелями. Однако прежде, чем дело дошло до катера, я познакомился с начальником управления музеев и древних памятников Кувейта Ибрагимом эль-Багли, который свел меня с куратором древностей Имраном Абдо, специалистом по археологии Файлаки. И оказалось, что дальше ехать не надо. То, за чем я приехал, уже вывезли с острова. Абдо сходил за ключами и открыл для меня музейные витрины.
Совершенно верно. Вот они — бесценные печати с выгравированными на них сценами из шумерской и вавилонской мифологии! Такими печатями клеймили товар купцы, посещавшие Файлаку во времена дописьменной истории. Я приметил мотив, который для меня был куда важнее легендарных встреч между шумерскими полубогами и царями. Корабль! Серповидный корабль с мачтой и с поперечной штриховкой на корпусе, изображающей крепления камышовой конструкции вроде нашей.
Я увлеченно продолжал разглядывать древнюю печать. Абдо, голубоглазый палестинец, три десятка лет занимающийся исследованием местных древностей, смотрел на меня с удивлением. Разве я не знал, что Файлака был одним из древнейших центров мореходства? На острове найдены свидетельства весьма давних связей не только с близлежащими Двуречьем и Бахрейном и не только с далекой долиной Инда, но даже с Древним Египтом.
Он извлек из своей археологической сокровищницы какой-то обломок. Обыкновенный камень, но явно часть изделия, потому что одна грань была отшлифована до блеска.
— Египетский гранит, — торжествующе произнес Имран Абдо. — Раскопан на Файлаке пять лет назад американской экспедицией из университета Джонса Гопкинса.
Мы вместе любовались камнем, который в наших глазах был дороже золота. Золото могло попасть на Файлаку откуда угодно. А такой вот гранит добывали только в далекой долине Нила. Эллины не возили гранит из Египта на Файлаку. Я еще не насмотрелся на драгоценный экспонат, а Имран Абдо уже развернул куски обработанного алебастра.
— Поглядите, — сказал он. — Алебастр кремового цвета. Как в Египте. А не белый, как в Анатолии.
Затем он с великой осторожностью открыл коробочку, в которой лежало скульптурное изображение жука длиной с большой палец. Скарабей! Самый настоящий египетский скарабей! Украшен местными символами, но наносил их человек, явно испытавший египетское влияние.
На Файлаке археологи нашли также высокий стройный сосуд древнеегипетского типа. Он отдаленно напоминал сосуды, в которых лежали знаменитые свитки Мертвого моря, по заметно отличался от известных нам изделий Двуречья.
Все эти предметы служили важным доводом, подтверждающим гипотезы о дальних плаваниях, однако меня особенно занимали печати. Осмотрев всю коллекцию, мы с Абдо отобрали пять файлакских печатей с четким изображением судов. Пять серповидных камышовых кораблей с мачтами. На одном из них сидящий на корме человек держал в руках пропущенный через верхушку мачты фал от большого плетеного паруса. На другой печати два человека, стоя по обе стороны мачты, удерживали над головой нижнюю шкаторину зарифленного паруса. Все пять печатей с кораблями датировались приблизительно 2500 годом до нашей эры.
Я рассказывал команде «Тигриса» о посещении кувейтского музея, а наша собственная камышовая ладья быстро шла по направлению к Файлаке.
Темная ночь. Блики от фонарей на внимательных лицах вокруг стола, который полетел бы за борт вместе с нами, не будь он прочно привязан к палубе. Каждый из нас закрепил свой страховочный конец за колено мачты или за штаг, чтобы не кануть в ночное море, если судно внезапно накроет шальная волна с левого борта.
— Герман! — крикнул я через стол моему мексиканскому другу, который хуже других членов команды понимал английский язык. — Ты уяснил себе, что я увидел на файлакских печатях?
— Корабли.
— Верно, корабли. Притом в точности похожие на те, что мы с тобой видели на изображениях в каньонах Верхнего Египта. До того похожие, что их можно приравнять к отпечаткам пальцев.
Я продолжал свой рассказ.
Услышав от меня, что мы строим в Ираке такой же камышовый корабль, собираясь испытать его в заливе, Абдо нисколько не удивился. Файлакские рыбаки, сказал он, вплоть до недавней поры пользовались лодками древнего типа, последнюю из них ему даже удалось приобрести для музея. Они во всем похожи на лодки, какие были в употреблении в Ираке несколько лет назад. Только связки для них делали из черешков пальмовых листьев, поскольку на Файлаке не было камыша.
— Что ты там толкуешь про отпечатки пальцев? — Из носовой рубки рядом с нами высунулось улыбающееся лицо Асбьёрна.
Терпение, Асбьёрн, сейчас услышишь...
Мало того, что остроконечные корма и нос кораблей на файлакских печатях загнуты высоко вверх, как у нашего «Тигриса» и у древних камышовых лодок на островах Средиземноморья, — на носу с обеих сторон торчит по длинному кривому рогу. На самых совершенных изображениях видно, что речь идет именно о рогах, на более упрощенных нос просто разветвляется на три части. Я еще раньше приметил эту своеобразную деталь на многочисленных египетских петроглифах и на месопотамских печатях. Когда родилась первая известная нам письменность, тройчатая оконечность загнутого кверху носа послужила прообразом для знака, отвечающего слову «корабль» в древнейшей шумерской иероглифике. И этот же знак, как установили ученые, обозначал у древних египтян понятие «морской». Добавим, что у шумеров одно и то же слово означало «нос корабля» и «рог».
Здесь крылась какая-то связь, и она начала проясняться для меня, когда Имран Абдо показал мне такие же «рога» на файлакских печатях и добавил, что в здешних местах было принято укреплять на носу корабля череп газели — либо настоящий, либо вырезанный из дерева.
Вот мы и подошли к тому, что я приравнивал к отпечаткам пальцев. Три из пяти файлакских печатей отличает весьма необычный способ изображения серповидных кораблей. Изгиб палубы совпадает с вогнутой спиной газели, так что животное и судно сливаются воедино. Гордо поднятая рогатая голова вместе с шеей соответствует высокому носу судна; задранный кверху хвост совпадает с кормой. Мачта опирается на спину газели, так что команда одновременно плывет на корабле и едет верхом. В одном случае, как уже говорилось, два человека по бокам мачты удерживают над головой зарифленный парус.
Плывущие на судне и в то же время едущие верхом на газели люди — общий для упомянутых трех печатей мотив. Возможно, речь идет о символе, передающем волнообразное движение. Как бы то ни было, сочетание корпуса парусного судна с туловищем животного — особенность столь же специфическая и неповторимая, как отпечаток пальца. То есть повториться-то она могла, но только при каком-то общении между проектировщиками судов. Необычное сочетание поразило и заинтриговало меня в первый же раз, когда я увидел его в научном труде о египетских петроглифах. В тексте говорилось, что суда — один из самых распространенных мотивов среди наскальных изображений додинастического периода, обнаруженных в пустыне между Нилом и Красным морем. Оттого я и пригласил Германа вместе со мной посетить высохшие русла —
вади, чтобы поискать в них еще какие-нибудь данные о древнем судоходстве.
Когда глубокие пески и груды камня остановили джип, мы с Германом продолжили путь пешком в сторону Красного моря. Казалось бы, в такой местности нелепо искать какие-либо намеки на судоходство: ни капли воды, ни одного зеленого листика. Животный мир представлен только мухами, змеями и стервятниками. Сухие
вади пересекают бесплодное приморское плато, впадая безводными притоками в Нильскую долину. Крутые склоны и окатанные камни на дне
садисвидетельствуют о том, что в древности здесь протекали глубокие реки. Некогда весь этот край вплоть до Красного моря зеленел травой и деревьями, орошаемый обильными дождями. Картина резко изменилась пять-десять тысяч лет назад, в дофараоновы времена. Ботаники и климатологи продолжают спорить о причине: то ли климат переменился, потому что лес исчез, то ли лес исчез, потому что переменился климат. Доподлинно известно, что Двуречье в древности тоже было покрыто лесами. Шумеры описывают лесистые холмы своей страны
[33]. Фараоны про леса не упоминают. Но археология установила, что задолго до фараонов Египет населяли люди, к голосу которых тоже следует прислушаться.
Немало писалось о том, что пустынные
вади, к которым мы вышли, изобилуют древними наскальными изображениями судов и лесных животных. Мы убедились в этом своими глазами. Многие изображения не публиковались раньше, но репертуар был все тот же: антилопы, водяные козлы и другие длиннорогие копытные, жирафы, львы, крокодилы, страусы. Наряду с животными — охотники с собаками и множество судов. Суда и лодки всевозможных размеров. Одни приводились в движение веслами, другие — парусами. Все суда — хорошо знакомого нам по додинастическому искусству типа: серповидной формы, связанные из камыша. Судя по числу весел — до двадцати и даже до сорока, — некоторые корабли достигали внушительных размеров; в нескольких случаях численность изображенной на палубе команды составляет пятьдесят и больше человек. На многих показаны две рубки — впереди и позади мачты. Иногда на палубе изображен рогатый скот или другие крупные животные, причем они кажутся совсем маленькими на транспортирующих их кораблях.
Осмотрев вместе с Германом Вади Абу-Субейра — широкий пустынный каньон между Асуаном и Красным морем, — я лишний раз убедился, что развитый водный транспорт играл важнейшую роль в области Красного моря задолго до того, как человек одомашнил лошадь и изобрел колесо. В полной ли мере оценена суть того, о чем может поведать доисторическое искусство этого края? Похоже, тот факт, что египетские петроглифы — ценные образцы бесхитростного местного искусства дофараоновой поры, значил для исследователей больше, чем сокрытый в них смысл. Для меня же подлинная их ценность не столько в художественности, сколько в том, что они отражают действительность, окружавшую художников до формирования известной нам цивилизации. Лесные животные и суда. Кроме обитавших в этом краю зверей художники запечатлели на камне древнейшие достижения строительного искусства: большие суда для перевозки грузов и для безопасного передвижения. Суда строили и рисовали задолго до появления колесных экипажей, крепостей и храмов. Большие суда типа плотов позволяли человеку передвигаться, не страшась врагов и диких зверей, в те далекие времена, когда здесь простирались полные опасностей леса, когда не было ни дорог, ни обнесенных стенами городов-государств. Дикие животные и корабли — вот что занимало воображение художника в тысячелетия, предшествующие фараонам.
Сухие долины ведут к Нилу. Однако расстояние, отделяющее наскальные изображения от Красного моря, совсем невелико, а прежде, быть может, было и того короче. К тому же не исключено, что высохшие русла принадлежали рекам, которые из лесов стекали к морю. Поднятия суши, связанные с тектоникой Рифт-Валли, вещь вполне вероятная. Обводы додинастических судов убедительно говорят о том, что они были мореходными. Изящно загнутые вверх корма и нос, как на «Тигрисе», а подчас еще выше, — несомненные признаки конструкции, рассчитанной для моря. Конечно, такие суда годились и для внутреннего плавания (скажем, на том же Ниле), но первоначальные творцы этой модели думали отнюдь не о барже или плоте для перевозки грузов, животных или людей по тихой реке. Они создавали судно, с легкостью газели прыгающее через морские волны, как мы на «Тигрисе» прыгали и скользили через пенящиеся гребни. Динамичное сочетание парусника и газели, символизирующее легкий бег по волнам, — эта композиция выделялась мастерством среди всех виденных мной древних петроглифов на скалах
вади.
Некто знакомый с этой искусной композицией совершил до нас прыжок из области Красного моря на Файлаку. Три печати с мотивом, повторяющим судно-газель египетских петроглифов, — поистине отпечатки пальцев. И вот теперь мы сами приближались к Файлаке.
Я простоял на руле почти всю вторую половину дня, а потому посоветовал теперь свободным от вахты ребятам лечь пораньше, в предвидении опасных вод и бурной ночи. Асбьёрн уже пришел в себя и поочередно с Эйч Пи дежурил на мачте, высматривая огни. На карте был обозначен маяк, указывающий судам путь на Кувейт в обход юго-западной оконечности Файлаки и его отмелей. Высота маяка — 25 метров, дальность видимости — 16 миль. Примерно в миле к северу от маяка помечен опасный риф — с постоянным огнем, если верить карте. Без всяких огней, если верить лоции.
В восемь вечера я лег, но не успел толком заснуть, как Норман просунул голову в рубку и сообщил, что с мачты виден огонь. В том самом месте, где мы рассчитывали его обнаружить. Что ж, значит, есть еще время подремать немного.
Однако через минуту Норман появился снова. Он был заметно встревожен. «Тигрис» быстро идет прямо на скалы. Попытки рулевых провести ладью левее маяка и выйти на фарватер, ведущий к Кувейту, ни к чему не приводят — очень уж сильно нас сносит ветром.
Чтобы не напороться на маяк и скалы справа от него, нам оставалось только спуститься под ветер и курсом 290° идти прямо на Файлаку.
Вот уже и с палубы видно мигание маяка в черной ночи. Три проблеска — и долгий перерыв, плотная стена кромешного мрака. Свет керосиновых фонарей озарял только желтый камыш и бамбук в объятиях черного космоса. Лихо пляшущие искорки светящегося планктона в струе от рулевых весел — не в счет.
Наблюдатель на качающейся мачте докладывал, что не видит никаких огней, кроме быстро приближающихся слева вспышек. Маяк-то мы минуем, но где же риф? Он явно не освещен. Современные суда не ходят по эту сторону маяка.
Асбьёрн простерся на загнутых вверх носовых связках и, высунув вперед голову, чтобы не мешали наши фонари, высматривал подводные камни. Световые сигналы незримой башни проскользнули слева от нас на некотором удалении. Хватит ли этого расстояния, чтобы благополучно обойти неосвещенный риф?
Мы тщетно пытались пронизать взглядом темноту с палубы и с мачты; в это время из рубки выбрался Карло и сказал, что слышит шум прибоя. Все внимательно прислушались. Точно. Теперь и остальные уловили, что к шипению гребней вокруг ладьи примешивается все более громкий, ритмичный аккомпанемент волн, разбивающихся о камни. Рокот доносился откуда-то спереди-слева.
Суша. Скалы. Теперь с левого борта. Хорошо слышно. А что впереди? Для верности мы отвернули еще сильнее вправо и пошли курсом 320°, по-прежнему ничего не видя. Гул прибоя постепенно пропал, заглушенный привычно бурлящими гребнями. А вскоре и этот шум заметно умерился. Заодно прекратилась боковая качка. Видно, что-то заслонило нас от ветра. Скорее всего, оказавшийся с наветренной стороны островок с маяком. Самое подходящее место, чтобы отдать якорь и ждать благоприятного ветра. Впереди только широкие отмели и острые скалы Файлаки. Норман крикнул с мачты, что видит на горизонте рассыпанные по берегу острова тусклые огоньки.
Я скомандовал развернуть судно на сто восемьдесят градусов и спустить парус, чтобы отдать якорь с носа, где широкие полосы буйволовой кожи предохраняли бунты от повреждения тросом. Детлеф с помощниками уже стоял на носу, держа наготове якорь. Ребята ловко управлялись со шкотами, фалами и брасами, и вот уже парус собран на рее, можно бросать малый якорь. Безупречное взаимодействие! Часы показывали 22.30.
Через несколько секунд с носа донеслись какие-то возгласы. Шум волн не позволял разобрать слова. Стоявший на крыше рубки Норман сказал, что мы, похоже, потеряли якорь. То же самое прокричал откуда-то спереди Эйч Пи. Что за неуместные шутки, когда перед нами рифы? Я отказывался поверить услышанному, пока вынырнувший из темноты Детлеф не доложил, что якорный трос лопнул.
— Живо! Второй якорь!
К счастью, на корме у нас лежал в запасе другой якорь, поменьше. Карло и Детлеф уже полным ходом готовили его. Мы проверили и перепроверили все узлы. Я снова и снова твердил:
— Смотрите, чтобы все было в порядке! Больше нам нечем зацепиться за дно!
Пошел за борт второй якорь. «Тигрис» начал выходить из полосы заштиления, образованной незримым островком, ветер нажал на высокую корму и нос, и мы стали набирать скорость. Якорь явно не зацепился за дно. Кто-то негромко предположил, что, может быть, и этот якорь потерян. Остальные молчали. Детлеф подергал трос и решил выбрать слабину. Из черной воды вынырнул оборванный конец. Мы продолжали молча смотреть. Детлеф застыл, не находя слов. Молодой немецкий капитан, привыкший нажатием кнопки выбирать многотонные якорные цепи, стоял с потерянным видом, держа в руке обрывок каната.
Мы лихорадочно соображали, что еще можно привязать к тросу, чтобы остановить снос. И ничего не могли придумать.
Увеличивая скорость, «Тигрис» шел прямо на поджидающую нас непрерывную цепочку скал, и никакие маневры рулевыми веслами не помогали. Мы отчетливо различали тусклые огоньки на невидимом берегу Файлаки. Скоро они выстроились вдоль всего горизонта — ни справа, ни слева не обойти, хотя бы и под парусом.
При дневном свете мы бы видели сушу. Попытались бы высмотреть участок поровнее и править туда. Возможно, среди рифов есть проход, хоть лоция и утверждает, что с этой стороны к берегу подойти нельзя. Но сейчас царила ночь, стрелка часов приближалась к двенадцати. Напоремся на скалы раньше, чем увидим их. Потерпим крушение в полной темноте.
И все же у нас нет причин для паники. Наша конструкция — самая безопасная в таком положении. Веревки и камышовые бунты могут быть растерзаны, но нас они спасут от гибели на камнях. Слава богу, что мы подходим к бурунам не на дощатой лодке. Тогда нам всем пришлось бы худо.
Судя по всему, наше гордое суденышко обречено, разве что удастся отстроить его заново. И это еще до того, как оно получило возможность по-настоящему проявить себя. Что говорить, и для нас, и для ладьи было бы куда лучше, если бы мы хоть что-то видели. Но мы словно одиннадцать слепцов. Попробуй проплыть между рифами или выпрыгнуть на скалу, когда без фонаря собственных рук не видно!
Оставалось только одно: возможно больше затормозить снос. Удастся — может быть, оттянем крушение до рассвета. Да и удар о камни будет слабее.
— Отдать плавучий якорь!
Он висел наготове на краю мостика у моих ног.
Плавучий якорь представляет собой всего-навсего длинный конусообразный мешок из грубой парусины, нехитрое устройство, которое волочится по воде, позволяя дрейфовать кормой или носом к ветру, когда шторм вынуждает убрать паруса. В вершине конуса — отверстие для пропуска воды.
Пошел за борт плавучий якорь, и сразу будто включили мощный тормоз. Настолько мощный, что снос совсем прекратился. Огни на острове перестали смещаться, мигалка маяка — тоже. Никогда еще я не видел, чтобы плавучий якорь работал так здорово. Развернувшись высокой кормой к ветру и частой волне, мы застыли на месте в кромешной мгле. Никто из нас не подозревал, что кругом совсем мелко и парусиновый мешок зацепился за дно. Вместо того чтобы плавать у самой поверхности, он, качаясь в ложбинах между волнами, загребал рыхлый грунт. Наполнился илом, отяжелел и зарылся в густое месиво.
Редкие тусклые огоньки на невидимом берегу, скорее всего, были керосиновыми фонарями вроде наших. А где фонари, там дома или хижины. Мы находились достаточно близко, чтобы с берега могли заметить наши огни, и я несколько раз передал сигнальным фонарем СОС. Ответа не последовало. В черном ночном небе над Файлакой слева можно было рассмотреть едва заметное зарево от огней современного города. Эль-Кувейт, в 30 милях от нас. Над нами выше облаков прогудел самолет.
От консорциума в лице Би-би-си мы получили портативную радиостанцию для передачи репортажей с борта. Зная, что на кувейтской береговой радиостанции, расположенной по ту сторону Файлаки, установлено круглосуточное дежурство, Норман попробовал связаться с ней. Никакого ответа. Нам вообще никто не отзывался.
Мы расписали дежурство на остаток ночи — по два человека на вахту — и спали одетые, подложив под голову спасательный нагрудник вместо подушки. Плавучий якорь умерил нашу тревогу. Отчасти. Норман скатал свой матрац и извлек из ящиков, на которых спал, другую рацию, взятую им на время плавания у своего друга-радиолюбителя, поскольку он не очень-то полагался на аппаратуру, полученную от консорциума. А так как мы с Норманом лежали в рубке ногами друг к другу, пришлось мне примостить свои ноги на его скатке. В два часа ночи кончилась моя вахта, но не успел я толком уснуть, как снова проснулся и вылез на палубу. Мысль о грозящей опасности не давала мне покоя. Мы опять стали время от времени посылать световые сигналы в сторону острова. Три короткие вспышки, три долгие, еще три короткие. СОС. Никакой реакции. К тому же большинство огней на берегу погасло, и я лег, оставив на вахте Тору и Юрия.
Раза два или три я выходил из рубки, чтобы проверить направление ветра и положение маяка, потом снова ложился. Вдруг Юрий позвал меня и сообщил:
— Отвечают!
Пять утра. По-прежнему непроглядная темень. Я выбрался на палубу: точно, кто-то с правильными промежутками посылал в нашу сторону долгие световые сигналы. Яркий источник света включался чуть левее одного из немногих оставшихся тусклых огней. Мощный электрический фонарь. На борту какого-нибудь судна? Нет, явно на берегу, судя по тому, что фонарь неподвижен.
Я снова и снова передавал СОС, и каждый раз получал в ответ букву Т в подтверждение приема. С радостью думали мы о том, что скоро к нам подойдут и проведут «Тигриса» между рифами или отбуксируют в обход острова. Наконец-то есть контакт с людьми.
Около шести утра сигналы с берега прекратились. Мы начали смутно различать контуры Файлаки. Длинный безлесный остров, совсем низкий — наивысшая точка всего 12 метров. Я продолжал передавать: «СОС потеряли якорь нуждаемся буксире СОС». Однако мне больше не отвечали. Мы рассмотрели три малых судна, стоящих на якоре. Вероятно, моторные
дау. Они стояли вместе как раз там, откуда мигал сигнальный фонарь. Судя по всему, нас разделял риф. Одно судно спилось с якоря и осторожно, словно маневрируя по сложному фарватеру, тронулось в путь. В бинокль было видно, что команда наблюдает за нами. Однако, выйдя на открытую воду, судно повернуло в другую сторону и скрылось за островом. На берегу не было видно ни души.
Норман наконец лег спать, устав посылать вслепую в эфир то же, что я передавал сигнальным фонарем. Детлеф отказывался ложиться, словно чувствовал себя виноватым в том, что мы потеряли якоря. Стоя на мостике, он колдовал над маленькой рацией и вдруг услышал слабый голос, твердивший: «Тигрис, Тигрис, Тигрис», после чего следовали какие-то совершенно непонятные слова. Детлеф подозвал Рашада, однако Рашад сразу сказал, что это не арабская речь. Но тут оба отчетливо различили слово «Славск».
— Юрий! Юрий!
В два прыжка Юрий очутился на мостике. Однако «Славск» уже замолчал. Тишина. Поднялся Норман, стал вызывать: «Славск! Славск! Славск!» Внезапно чей-то голос ответил. Капитан Игорь! Да так громко, что мы все услышали. Сияя от гордости и радости в лучах восходящего солнца, Юрий переводил: «Славск» снимается с якоря, Игорь запрашивает наши координаты. Заодно капитан «Славска» предупредил Юрия, что сегодня в этой части залива ожидаются южные ветры скоростью до десяти метров в секунду.
С приходом дня мы рассмотрели на берегу несколько редких лачуг. Ни дымов, ни людей... Вода кругом была не голубая и прозрачная, как вчера, а серовато-зеленая от ила и песка. Со всех сторон плясали на частой волне растрепанные стебли грязно-бурых водорослей. Нас занесло вглубь отмелей Файлаки. Даже камбала вряд ли смогла бы протиснуться под днищем «Тигриса». Весело рассаживаясь вокруг стола, чтобы отдать должное приготовленной Карло воскресной овсянке, мы вдруг обратили внимание на то, что водоросли дружно поплыли в одном направлении, от носа к корме ладьи. Присмотрелись к ближайшему кустику — да нет же, торчит на месте, болтаясь на мутной волне. Это сам «Тигрис» внезапно начал развивать ход под натиском южного ветра.
Новая каверза приливно-отливного течения. Работая согласно с ветром, прилив оторвал от грунта плавучий якорь. Полный тяжелого, как цемент, глинистого ила, парусиновый мешок пополз по вязкому дну. Нас несло прямо на остров, — стало быть, врежемся в риф раньше, чем подоспеет «Славск».
Впрочем, у нас был другой выход. Если мы ничего не предпримем, нас вскоре ждет крушение на известняковых рифах я скалах Файлаки. Если же поставим парус и поработаем рулевыми веслами, можно, принимая ветер справа, идти параллельно берегу. Этот курс приведет нас в тридцатимильную полосу мелей и рифов, отделяющую Файлаку от иракского материка. Я предпочитал второй вариант, и все меня поддержали. Сумеем благополучно пройти между рифами — нас выбросит на описанный в лоции «заболоченный низменный берег», и камышовая ладья не пострадает. От Ирака до Кувейта побережье мало чем отличается от того, что мы видели в устье Шатт-эль-Араба. Единственная проблема — отсутствие на борту оружия. А мы взяли курс на те самые берега, о которых в «Лоции Персидского залива» говорилось, что на них рискованно появляться без вооруженной охраны.
Приливное течение набрало полную силу, ветер тоже прибавил. Мы не стали выбирать плавучий якорь, чтобы не слишком удаляться от места, которое сообщили «Славску». Шли левым бортом к острову, испытывая сильную бортовую качку. Рашада и Асбьёрна совсем укачало. Герман забрался в рубку и уснул. В ложбинах между волна ми было так мелко, что мы видели густые клубы поднятого со дна серого ила.
Все так же ни души на берегу, но в бинокль можно было разглядеть несколько круглых холмиков, — вероятно, доисторические могильники. Если древние мореплаватели причаливали к острову с этой стороны, они в совершенстве владели искусством судовождения, разве что рифы и мели образовались здесь в более поздние времена.
Около полудня на восточном горизонте черной точкой показался «Славск». Через полчаса с парохода спустили моторную шлюпку, и она вприпрыжку направилась к нам по зеленым волнам над отмелью. Корабль бросил якорь на голубой воде в трех милях от нас, у самой кромки мелей. На носу шлюпки, уверенно направляя ее, стоял капитан Игорь. Море обдавало каскадами соленых брызг нашего друга и его товарищей, одетых в оранжевые спасательные нагрудники. Широко улыбаясь, раскинув руки, он вскочил на камышовые бунты и заключил нас в свои объятия.
— Отец мой!
— Дедушка!
Мы убрали парус. Все были счастливы. Стоя в оранжевой шлюпке, парни в оранжевых нагрудниках принялись выбирать плавучий якорь, который спас нас от крушения в ночной темноте. Наполненный до краев сероватым илом, он был тяжелый, как свинец. Как только его освободили от ила, нас стало быстро сносить вместе со шлюпкой. Русские запустили мотор, чтобы вести нас на буксире. Однако ветер напирал на высокие дуги ладьи с такой силой, что мотор не помог и вышло наоборот: «Тигрис» потащил шлюпку за собой. Поначалу это было не так заметно, поскольку мы шли носом к приливному течению. Капитан Игорь и его дюжий старпом втиснулись вместе с нами за стол, на котором стояла солонина с горохом. Мы обедали в радужном настроении, внушая себе, что теперь все будет хорошо. Однако вскоре стало совершенно очевидно, что шлюпка дрейфует вместе с нами вдоль побережья к самым коварным отмелям у восточных и северных подступов к Файлаке. Дома на берегу заметно смещались влево, а высокий маяк на маленьком островке начал уходить за горизонт. Нам приходилось все сильнее напрягать зрение, чтобы рассмотреть «Славск», а затем он и вовсе пропал из виду. Скорость ветра возросла до двенадцати метров в секунду.
Откуда ни возьмись появилась вдруг
дау, на вид немудреная, зато мотор мощный и малая осадка. Мачта давно спилена. Подойдя к нам,
дау стала кружить за пределами слышимости. Хотя на борту суденышка было много людей, они явно опасались приблизиться. Ничего удивительного: не одно поколение прошло с тех пор, как предки местных жителей видели в здешних водах такие диковины, как паша ладья.
Мы накачали воздухом трехместную резиновую лодчонку, которую везли с собой для киносъемок. Асбьёрн сел на весла и вместе с Рашадом отправился на переговоры. Подойдя достаточно близко, Рашад объяснился с робеющими рыбаками на их родном языке, после чего наша двойка вернулась и сообщила, что команда
дау запрашивает триста кувейтских динаров, иначе говоря, тысячу долларов с лишним, за то, чтобы отбуксировать нас к «Славску».
Я был готов поторговаться, по Игорь и слушать не хотел, велел Рашаду грести обратно и предложить шесть бутылок водки и два ящика вина. Ребята опять направились к
дау, однако возвратились с отрицательным ответом: там одни мусульмане, вина не пьют. Тем временем команда
дау уразумела, что с нами приключилось, приблизилась, прошла рядом с ладьей и, не возобновляя переговоров, удалилась курсом на восток. Отойдя почти к самому горизонту, они, насколько мы могли судить, занялись ловлей рыбы.
Было ясно, что на буксировку до скрытого за горизонтом «Славска» рассчитывать нечего, надо снова ставить парус. Пойдем, как прежде, левым бортом к берегу. Пусть русские моряки попробуют развернуть нос ладьи немного к ветру — глядишь, и пробьемся мало-помалу на открытую воду до того, как нас занесет в коварную полосу перед восточной оконечностью Файлаки.
Капитан Игорь захватил с собой переносную рацию; связавшись со «Славском», он выяснил, что сухогруз, имеющий максимальную осадку шесть метров, ожидал нас в точке с глубиной всего четыре метра, но теперь немного отойдет, чтобы следовать вдоль кромки отмели возможно ближе к нам.
Немного погодя Игорю передали, что мы, согласно радиолокатору «Славска», ходко приближаемся к опасному району. Течение нажимало вовсю. В ложбинах между все более высокими волнами клубились облачка донного ила.
Между тем со стороны Кувейта показалась вторая
дау. Если команда первой смахивала на рыбаков, то эти люди выглядели настоящими разбойниками. Они тоже держались поодаль и, когда Рашад отправился к ним просить
помощи, с нас запросили вдвое больше динаров, чем в первый раз, или две тысячи долларов, и ни на грош меньше. Нам прямо дали понять: или мы платим сколько они просят, или им достанется все, когда мы напоремся на рифы. Игорь опять пришел в ярость и наотрез отказался участвовать в сделке с бандитами, требующими выкупа. Его гневная жестикуляция не нуждалась в переводе, и вторая
дау быстро удалилась, прервав переговоры. Напоследок Рашад услышал циничное предостережение: без помощи со стороны всем нам крышка.
Гнев и презрение овладели нами. Уверен, если бы не глубина, капитан Игорь прыгнул бы за борт и сам впрягся бы в буксирный трос. Однако при всей готовности русских поднажать не жалея сил, их мышцы не могли прибавить мощности мотору, а мы на «Тигрисе» еще не раскрыли секрет, как древние мореплаватели в этих водах лавировали против ветра.
Далеко впереди стояли обе
дау; видно, бросили якорь вблизи от коварных рифов и ждали поживу, словно шакалы. Нетрудно было догадаться, что нам угрожает ночью, если сядем на мель. Составители лоции явно знали, что говорили.
Парус пришлось убрать. Шлюпка Игоря бросила якорь на глубине меньше двух метров, и мы стали вместе выжидать более благоприятного ветра. «Славск» не показывался.
Солнце склонилось к горизонту, когда появилась третья
дау. Мачта срублена, как и на первых двух, осадка минимальная, мощный мотор, команда явно хорошо знакома со здешними отмелями. В третий раз мы начали переговоры, и все повторилось, даже выкуп запросили такой же, какой назначила вторая
дау, словно тут было так заведено. Но ведь в лоции подчеркивалось, что европейцы редко посещают эти берега. Скорее всего, три
дау сговорились между собой по радио, пользуясь переносными рациями вроде той, какая была у Игоря. Команду третьей
дау никто не принял бы за рыбаков.
— Посмотрите на того типа, что на подушках сидит, — сказал Детлеф, стоя рядом со мной и глядя в бинокль.
Мы передавали бинокль из рук в руки, но команда
дау никак не реагировала. Эти люди знали наперед, в каком положении мы находимся.
Подозрительного вида толстяк в широкой чалме, который привлек внимание Детлефа, сидел на подушках, скрестив ноги, и созерцал нас презрительным и оценивающим взглядом. Пухлые руки его вряд ли когда-либо прикасались к рыболовным снастям. Сразу видно — отъявленный проходимец. Пестрая компания на борту
дау явно находилась в его подчинении. Все — один к одному, из тех субъектов, к которым лучше не поворачиваться спиной. Те, что в чалмах, смахивали на пакистанцев; другие, не такие свирепые с виду, вероятно, были арабы из Кувейта.
Мы понимали, что с нас требуют выкуп, и капитан Игорь по-прежнему был решительно против того, чтобы я соглашался на какие-либо сделки. Но мы понимали также: если не откупимся, все три шайки в расчете на добычу будут ждать, когда нам придется высаживаться на камни или на болотистый берег. Якорь нас не удержит, а в обширной зоне отмелей никакие пограничники или таможенники не помешают этим субъектам обделывать свои делишки, в чем бы они ни заключались. Ясно было, что эта не рыбаки. Возможно, контрабандисты, доставляющие на Файлаку наркотики или подлежащие пошлине товары с другой стороны залива. Нам рассказывали, что организованные гангстеры ввозят тайком даже рабочую силу из Пакистана в богатый Кувейт. Достаточно выгрузить людей или товар на пустынном берегу с этой стороны Фай-лаки, и путь в Кувейт с черного хода открыт. Остров Фай-лака принадлежит Кувейту, и через пролив в столицу регулярно ходит катер.
Через час с небольшим зайдет солнце. Эти
дау — последний шанс для нас выйти на глубоководье, прежде чем окружающий мир снова канет во тьму. Капитан Игорь никак не хотел мириться с мыслью о сделке с гангстерами. Я не знал, как и быть. На мне лежала двойная ответственность. Мои ребята добровольно вызвались пойти на риск, связанный с нашим экспериментом. Ладья сконструирована так, что нам не страшно напороться на подводный камень, лишь бы волны не прибили ее к отвесным скалам. Но ведь мы тащим за собой на рифы шлюпку с русскими моряками, меж тем как их корабль без капитана кружит где-то за пределами опасной полосы.
— Капитан Игорь, — сказал я. — Теперь я согласен быть твоим отцом. Стало быть, командую я. Будем платить.
По лицу Игоря было видно, каких усилий ему стоит покориться. Он безмолвно наблюдал, как Рашад передавал толстяку на подушках мое согласие. Забравшись в рубку, я скатал матрац, чтобы достать деньги из моей скудеющей казны. Кувейтских динаров у меня не было. Но пиратов устраивала иракская валюта. Хорошо еще, осталось что-то на расходы в дальнейшем плавании через залив.
Эти разбойники отказывались уступить хотя бы один динар, больше того, они потребовали, чтобы Рашад оставался у них заложником, пока мы не внесем выкуп, дойдя до кромки отмелей. Рашад без тени страха согласился.
Хотя ветер несколько умерился, заставить «Тигриса» двигаться в нужном направлении оказалось не так-то просто. Наконец вереница из трех суденышек — впереди
дау, за ней на буксире шлюпка, у шлюпки на буксире мы — медленно пошла против ветра. «Славск» был где-то за горизонтом.
И снова ночь. Такая же темная, как предыдущая. Ничего не видать кроме наших керосиновых фонарей да электрических фонариков. На острове — ни огонька. Маяка не видно. «Славска» не видно. Где остальные две
дау — удаляются или приближаются, — мы могли только гадать.
Капитан Игорь оставался с нами на «Тигрисе» и при начале буксировки сказал, что до «Славска» примерно миль семь. Судя по тому, как нас качало и бросало, место было совсем мелкое. В лучах наших фонариков мелькали кустики водорослей, и вода была такая мутная, словно в пей полоскали белье. В кромешном мраке возглавившие нашу процессию негодяи уверенно шли вперед. Семь миль — не шутка. Но вот наконец Норрис крикнул с мачты, что справа по курсу видит огни парохода. Огни приближались. Это был «Славск».
У края отмели, где кончилась буксировка, бесновались высокие волны. Внезапно из тьмы рядом с «Тигрисом», озаренная керосиновым фонарем, возникла
дау. Не слишком ли близко они подошли? Одно суденышко взмывает на гребень волны, второе в это время скатывается в ложбину — того и гляди, деревянный планшир
дау пропорет наш камыш. Очень уж лихая пляска, и ничего не поделаешь — надо ведь как-то передать выкуп и заполучить обратно Рашада. Стоя на бортовой связке «Тигриса» и держась одной рукой за штаг, я протянул над водой другую руку, в которой крепко сжимал толстую пачку пятидинаровых ассигнаций. Навстречу протянулась рука темнолицего арабского моряка; в это время члены обеих команд вооружились бамбуковыми шестами, чтобы не дать столкнуться двум суденышкам. Схватив деньги, араб вручил их восседающему на подушках главарю. Толстяк не спеша пересчитал ассигнации при свете фонаря, который кто-то держал над его чалмой, наконец кивнул, и Рашад одним прыжком перемахнул на борт «Тигриса». Освещенный яркими огнями, к нам подходил «Славск». Команда
дау задула свой фонарь и пропала в ночи, словно Аладдинов дух. Больше мы их не видели.
Волны немилосердно качали ладью и оранжевую шлюпку, качали они и «Славск», и надо было соблюдать предельную осторожность, чтобы не врезаться в мелькающий перед глазами бок железного великана, то черный, то — ниже ватерлинии — красный. К этой опасности добавились еще две, когда мы сблизились. Во-первых, водоворот, образованный могучими вращающимися винтами. Во-вторых, нижняя площадка спущенного сверху трапа, которая металась в воздухе вверх-вниз, будто поршень. То взлетит выше наших голов, то с плеском нырнет в бурлящие волны. Не так-то просто было ребятам на шлюпке уловить момент, чтобы вскочить на взбрыкивающую площадку. Еще труднее пришлось четверке, которая перебиралась с «Тигриса» на «Славск» через резвящуюся шлюпку. Затаив дыхание, смотрели мы, как готовятся к прыжку капитан Игорь и его старпом. Игорь чуть не сорвался в море, потому что шлюпка взмыла вверх на волне в ту самую секунду, когда он прыгнул. Сразу за ними тот же маневр проделали Юрий и Карло, и все четверо пропали в кромешном мраке. Мы увидели их снова, когда они пересекли луч света, быстро поднимаясь по длинному трапу на палубу «Славска».
Перед прыжком на шлюпку Юрий успел сказать мне по секрету, что у Карло неладно с ногой — серьезная инфекция, нужно воспользоваться случаем, чтобы тщательно обработать язву и сделать перевязку.
Отталкиваясь от борта длинными шестами, чтобы не попасть в водоворот у винтов, мы зашли за корму парохода и продолжали следовать на длинном буксире за шлюпкой, которая, в свою очередь, шла без людей на тросе за «Славском». Нас основательно дергало каждый раз, когда корабль, шлюпка и «Тигрис» начинали качаться не в лад. Игорь сказал, что ни за что не отпустит нас, пока не отведет подальше от бандитской
дау. Я объяснил ему, что для камышовой конструкции нет ничего опаснее буксировки в открытом море, буксирный трос хуже всякого урагана способен раздергать по частям бунты, и он обещал идти на самых малых оборотах. Мы с Норманом, единственные оставшиеся на борту ветераны, несколько раз хватались за ножи, готовые обрубить трос, чтобы спасти носовые связки. Но всякий раз тревога оказывалась напрасной, и мы решили лечь, разделив между оставшейся девяткой ночные вахты.
Очень уж странно было слышать, как волны с грохотом разбиваются о нос камышового судна.
Глава V. В страну Ноя — Дильмун
Мы шли через воды Ноя. А началось наше плавание в Садах Эдема. Адам с его садами и Ной с его ковчегом стоят в одном ряду: это от них мы все произошли, согласно древним верованиям, которые принесли с собой из Ура иудеи. Мы находились в тех самых водах, где родилось предание о ковчеге. За тысячу лет до того, как Авраам услышал его в Уре, шумеры в том же портовом городе рассказывали это предание своим детям. В этих водах, говорили они, прародитель всего человечества некогда построил большой корабль, исполняя волю милосердного бога, который пожелал спасти род людской от полного уничтожения страшным потопом.
Дома и поля исчезли под водой, но скользящий по волнам корабль устоял против ярости беснующихся стихий. В иудейской версии строитель корабля потом возблагодарил всевышнего, который озарил небо радугой в знак своего союза с уцелевшими. В шумерском варианте он простерся ниц перед Солнцем, когда оно вновь явило свой лик.
Море волновалось в меру, когда все то же древнее шумерское солнце взошло над бывшими шумерскими водами, и первые лучи, просочившись сквозь щели в плетеной стене, пощекотали мои сомкнутые веки. Я проснулся со смешанным чувством и посмотрел через дверной проем на лучезарный диск, который величаво, не спеша поднимался в небо после морского купания. Изумительно! Великолепно!
Чистый, девственный свет нового дня. Я жадно впитывал восхитительное зрелище, чувствуя, как солнечные лучи пробуждают новую надежду в сумраке моей души. Как-никак мы в безопасности, и мы свободны. Свободны начинать все сначала, и наше судно в полном порядке.
Ночь выдалась неприятная, беспокойная. Буксирный трос немилосердно дергал «Тигриса». Когда рывки становились слишком уж грубыми, мне чудилось во сне, что меня больно дергают за волосы. Я вылезал на палубу проверить, цел ли нос. И каждый раз со смешанным чувством безопасности, тревоги и разочарования смотрел на безмятежные огни идущего впереди корабля. Добрый «Славск» уверенно бороздил море, и капитан Игорь, Юрий и Карло, надо полагать, крепко спали в каютах железного великана, не ощущая жестоких рывков соединяющего нас буксира.
Перегрузки, которым подвергался «Тигрис», порой принимали угрожающий характер. Скрип, скрежет и треск веревок, дерева, бамбука и
берди терзали мой слух. Огромные веретена рулевых весел болтались и бились в деревянных уключинах так сильно, что все судно содрогалось и толчки отдавались через ящики под нами. В конце концов мы с Детлефом выбрались из рубки и в темноте туго-натуго закрепили весла. После этого жуткий стук прекратился.
А еще мы с Норманом выходили ночью на палубу, чтобы, стоя на носу, бросать в воду светлые кусочки
берди и провожать их лучом фонарика до отметки «10 метров» сбоку на бунте. Таким способом мы проверяли, как механик «Славска» выдерживает обещанную капитаном Игорем скорость не больше двух узлов — именно с такой скоростью шли мы сами под парусом к Файлаке. Вид огней «Славска» неизменно внушал мне смешанное чувство облегчения и разочарования. Облегчения, потому что я освободился от тяжелого бремени ответственности за людей, которое так угнетало меня на отмелях Файлаки. С каждой минутой проходимцы на
дау и коварные рифы уходили все дальше в ночной мрак. Но ведь нас буксируют! Мы не смогли обойтись своими силами, не сумели выбраться под парусом из опасной зоны. И не будь таящихся во тьме стервятников в человеческом облике, может быть для нашей серповидной скирды было бы лучше уткнуться носом в илистую банку. Лучше, чем идти на буксире против ветра, каждые пять секунд врезаясь носом в скат встречной волны.
Солнечный диск поднялся весь над горизонтом. Кто-то весело насвистывал на камбузе. Сквозь тысячи щелей в тростниковой стене различалось какое-то движение и доносился вкусный запах то ли лепешек, то ли блинов. Очевидно, Эйч Пи занялся стряпней. Его спальный мешок был пуст. Остальные, не считая вахтенных на мостике, все еще спали. Небось только рады, что нас ведут на буксире. Хотя Норман вряд ли радуется. Все его помыслы направлены на то, чтобы научиться управлять камышовым судном.
На этот раз вся суть нашего эксперимента заключалась не в том, чтобы просто держаться на воде и дрейфовать, а в том, чтобы судно слушалось нас. В этом смысле начало плавания обернулось полным провалом, что мы и отмечали со смехом, садясь завтракать. Начали с того, что пахали ил на реке рулевыми веслами, потом застряли в приливно-отливной зоне. Не успели выйти в залив, как потеряли оба якоря, и «Тигрис» понес, точно взбесившийся конь, пока не застрял на отмелях Файлаки. Анекдот да и только.
По-прежнему дул встречный южный ветер, поначалу умеренный, потом все сильнее. Нам пришлось даже надеть штормовки, чтобы не продрогнуть за столом на открытой палубе.
— А ты уверен, что древние лучше нас справлялись с ладьей? — допытывался Эйч Пи. — Может быть, они в таких случаях стояли на одном месте и дожидались более благоприятного ветра.
— В конце концов и мы ведь можем идти любым курсом в пределах ста восьмидесяти градусов, — заметил Асбьёрн.
Что верно, то верно: мы вполне могли идти под углом 90° к ветру.
Внезапно мы заметили, что толчки и рывки участились. Нос ладьи окутался каскадом брызг. Скорость явно возросла. Мигом взобравшись на крышу рубки, мы отчаянно замахали руками, чтобы «Славск» сбавил ход. Это же безумие какое-то! Но на корабле то ли не видели, то ли не понимали наши сигналы. Пустая шлюпка между нами и кораблем прыгала еще почище «Тигриса» — ведь тросы дергали ее и вперед и назад.
Не успел я решить, что вернее: то ли обрубить буксир ножом, то ли попытаться вызвать «Славск» по радио, как трос от мощного рывка лопнул сам. «Тигрис» тотчас пошел медленнее, а «Славск» продолжал движение, увлекая за собой шлюпку.
Асбьёрн осмотрел нос снаружи и доложил, что дюймовый трос оборвался у самого корпуса ладьи. Но больше всего потрясло нас то, что он увидел огромную дыру в носовой скуле. Да мы и сами уже заметили проплывающие мимо куски камыша. Скрепляющая всю конструкцию веревка свободно болталась над зияющей полостью величиной с собачью конуру. Неприятное открытие! Мы подергали пальцами витки в носовой части палубы, проверяя, не ослабла ли вязка над поврежденным местом. Но веревка все так же плотно прилегала к камышу, словно приклеенная. На наше счастье, набухшие от воды бунты крепко-накрепко сжали веревку. Даже такая ямина в носовой скуле не грозила нам катастрофой. И все же надо было чем-то заделать брешь, пока не разрослась еще больше. А то ведь так и будут стебли отделяться один за другим, пока бунты совсем не развалятся.
«Славск» описал широкую дугу и вернулся к нам. Появился капитан Игорь с электромегафоном в руках и сообщил, что не может нас отпустить. Он уже связался со своим мореходством в Одессе и получил «добро». Больше того, он передал радиограмму в Москву, в Министерство морского флота, и министр Гуженко лично разрешил «Славску» отбуксировать камышовое судно «Тигрис» в безопасную зону.
«Безопасная зона», по словам капитана Игоря, начиналась где-то у самого Бахрейна. И его ребята стали забрасывать нам новый буксир сверху, с палубы корабля. Но, сколько ни бросали, трос с привязанным к нему спасательным кругом засасывало под корму могучими винтами. Засасывало и нас. А останавливать винты нельзя: железный великан стал бы таким же неуправляемым, как мы без паруса. Даже при работающей машине «Славск» мотало из стороны в сторону, и его высоченный борт нависал над пляшущей на волнах ладьей. Пытаясь выудить буксир из водоворота, мы каждый раз рисковали, что корабль прихлопнет нашу мачту и торчащие вверх нос и корму.
Два часа трудились мы без толку, наконец нам удалось забросить линь на палубу «Славска» и подтянуть привязанный к нему трос. Капитан Игорь объяснил, что механик, к сожалению, вынужден был прибавить обороты, потому что, идя при такой волне самым малым ходом, можно повредить гребной вал. Тем не менее они будут держаться в пределах двух узлов. Мы условились, что поставим парус и пойдем своим ходом, как только подует нормальный ветер, позволяя нам взять курс на Бахрейн.
Команде «Тигриса» не терпелось посмотреть наше место относительно Файлаки и Бахрейна, и Норман развернул живописную карту, полученную нами от Национального географического общества. Карта была скорее историческая, озаглавленная «Библейские страны сегодня». Обозначен путь, которым следовал Авраам, выйдя из Ура; нанесены другие данные, почерпнутые из библейских текстов и археологических исследований. Красиво смотрелся голубой «Персидский залив» с желтыми островами. Норман указал наше примерное местонахождение. И прочитал вслух напечатанный рядом текст:
— «Древнейшие шумерские источники упоминают судостроителей и мореходов. Морские предприятия человека в Персидском заливе относятся к самым древним в мире».
Эти слова разожгли любопытство ребят. Что за источники? Я их читал? Читал. Не все, разумеется, но из переведенных на европейские языки, наверно, все, в которых говорится о мореходстве. Похоже, я недооценил интерес моих спутников к вопросам, лежащим в основе экспедиции. Теперь, когда «Славск» вел нас со скоростью свободного хода мимо судов и нефтяных вышек, выдался самый подходящий случай для спокойной беседы. Я нырнул в рубку и вынес оттуда полную сумку маленьких блокнотов, испещренных сведениями, которые я собирал в ходе собственных исследований. Описания музейных экспонатов и предметов, хранящихся в запасниках, выписки из научных трудов и периодики, в том числе сделанные в библиотеке Багдадского музея. Я листал блокноты, останавливаясь на строках, подчеркнутых красным.
Вот выписка из статьи «Купцы-мореплаватели Ура», опубликованной в научном журнале видным авторитетом по вопросам шумерской культуры А. Л. Оппенгеймом. По его мнению, наиболее интересная информация на некоторых плитках Ура «касается роли города Ур как «порта ввоза», через который во времена династии Ларсы в Двуречье поступала медь. Ее ввозили на судах из страны Тельмун (т. е. Дильмун), ныне — остров Бахрейн в Персидском заливе. Заведовала «Тельмунской торговлей» группа купцов-мореплавателей, называемая
алик Тельмун. Они сотрудничали с дельцами Ура, получая от них предметы одежды, за которые на острове щедро платили медью. Поскольку Бахрейн вряд ли располагал какими-либо рудами, но говоря уже о топливе, необходимом для выплавки металла, перед нами ситуация, типичная для международной торговли на
примитивном уровне: Тельмун играл роль «ярмарки», нейтральной территории, где представители разных областей, примыкающих к заливу, встречались, чтобы обменять пли продать продукты своей страны».
И дальше: «Поскольку Тельмун выступал только в роли торжища, представляются две возможности: приобретаемая здесь купцами из Ура слоновая кость поступала либо из Египта по каким-то неведомым коммерческим каналам, либо из Индии на парусных судах, пересекавших Индийский океан с муссоном. В пользу второго варианта говорят хорошо налаженные связи между Южной Месопотамией, особенно самим Уром, с одной стороны, и цивилизацией Индской долины — с другой. Найденные при раскопках Месопотамии индские печати... и специально обработанные сердоликовые бусины... убедительно свидетельствуют о наличии торговых сношений. К перечню свидетельств вполне можно добавить слоновую кость, поскольку месопотамские источники только упоминают ее, тогда как в Мохенджо-Даро найдены гребни из этого материала...»
Дешифровка записей на плитках позволила ученым, в том числе и Оппенгейму, нарисовать нам яркую картину жизни портовых городов Двуречья во времена шумеров. В хозяйстве древнего Ура судостроение, мореходство и морская торговля занимали второе место после земледелия. Они были великолепно организованы и служили базисом экономики Ура. Из этого порта товары перевозились дальше на север вверх по двум рекам, вплоть до нынешней Турции, Сирии и Ливана. Гавани и сеть транспортных каналов постоянно расчищались и содержались в надлежащем состоянии под наблюдением сановников, непосредственно подчиненных царю. Портовые власти взымали пошлину за ввоз; при капитанах были документы с печатью, содержащие сведения о судне и грузе. Оппенгейм цитирует документ, запечатленный клинописью на плитке из Ура, в котором говорится об ответственности капитана: «...он возвратит корабль и все его оборудование в полной сохранности владельцу в гавани Ура...»
[34]
Корабли играли в повседневной жизни шумеров такую видную роль, что это отразилось даже в пословицах. «Корабль, что вышел в плавание с достойной целью, Уту <бог Солнца> приведет в достойный порт. Корабль, что вышел с дурной целью, он выбросит на берег»
[35].
Герман шутливо заметил, что по шумерским канонам мы были близки к тому, чтобы стяжать себе дурную славу и на Шатт-эль-Арабе, и у Файлаки. Детлефу хотелось побольше услышать о шумерских судах и перевозимых ими грузах. Я взял другой блокнот, с выписками из публикации Армаса Салонена, больше всех занимавшегося этими вопросами. Я восхищался светлым умом этого исследователя, хотя мы приготовились опровергнуть его суждения о плавучести
берди. По тому, каким языком Салонен излагал свои выводы, можно было уверенно сказать, что ему не суждено завоевать сердца широких читательских масс. В предельно академичном и весьма сложном для понимания труде, предназначенном только для коллег, читающих «Студиа Ориенталиа Эдидит Социетас Ориенталис Фенника», эрудированный финский ученый на двухстах с лишним страницах, напичканных немецкими, греческими, древнееврейскими, латинскими, арабскими, французскими, английскими, шумерскими, вавилонскими и аккадскими словами, свел воедино все отрывочные указания о судах и грузах Древней Месопотамии, накопленные ученым миром со времен Александра Великого. Среди использованных им источников преобладают драгоценные глиняные плитки с шумерской и аккадской клинописью.
Салонен подчеркивает, что сначала в Двуречье появились камышовые суда, а уже после по их образцу были созданы первые деревянные корабли. Он начинает с указания на то, что в этом смысле в Двуречье происходила та же эволюция, какая нам известна по Древнему Египту, где папирусные суда послужили прототипом для деревянных кораблей. Вплоть до исторических времен, говорит Салонен, в Месопотамии в том или ином виде продолжали существовать бок о бок все исконные типы судов: камышовая лодка, плот из наполненных воздухом козьих шкур, обтянутая кожей плетеная лодка и деревянная конструкция с дощатой обшивкой.
Обзор начинается сводом упоминаний о судне
ма-гур, которое исследователь характеризует как «морское судно», «божье судно», «судно с высоким носом и высокой кормой». Именно этот тип, по словам Салонена, отображен в знаке «корабль» древнейших идеограмм, предшествовавших клинописи. И он же традиционно изображался на первых шумерских цилиндрических печатях. На таких судах (не деревянных, а связанных из камыша) плавали полубоги и божественные предки будущих основателей Ура.
Салонен особо отмечает, что материалом для египетских судов служил папирус; однако он обходит молчанием вопрос о том, из какого конкретно материала строились первые морские
ма-гур в Двуречье. Вавилонское название
элеп урбати, обозначающее камышовое судно, он переводит на немецкий язык как «папирусная лодка», хотя мы не располагаем никакими данными о том, чтобы в Двуречье когда-либо рос папирус. Судя по местной флоре, шумерские морские суда вязали из того же
берди, который преобладает на здешних болотах и в наши дни. Теперь нам предстояло выяснить, будет ли заготовленный в августе
берди держаться на воде так же хорошо, как папирус
Национальные герои шумеров — бог-прародитель Энки и его современники — приплыли в Ур из далекого Дильмуна на камышовых
ма-гур. Впоследствии словом
ма-гур шумеры обозначали также самые большие корабли, ходившие по торговым путям в заливе, в том числе и такие, которые, сохраняя форму камышовых судов, строились из дерева. Лесоматериалы наряду с медью стали одним из основных грузов, доставляемых в Месопотамию на крупнейших в этой области парусниках.
Салонен показывает, что у шумеров были наименования для четырех других видов деревянных судов. Два вида предназначались только для плавания по рекам, один мог ходить и по реке, и по морю, а четвертый представлял собой попросту грузовую баржу или паром. Однако для всех религиозных процедур неизменно использовался «божий корабль», исконный
ма-гур.
Водоизмещение
ма-гур обычно определяется цифрой 120
гур. К сожалению, мера
гур не однозначная. В одних случаях ее приравнивают к 320 литрам, в других — к 121 литру. Эти цифры достаточно близки к размерам современных
дау. Уже после исследований Салонена Оппенгейм встретил данные о кораблях из Ура водоизмещением в 300
гур. Он справедливо называет такие суда чрезвычайно большими: рядом с ними обе «Ра» и «Тигрис» показались бы малютками.
Салонен цитирует плитки, в которых говорится о пассажирских судах, паромах, рыболовных судах, военных кораблях, транспортах для перевозки войск, а также о торговых судах, как собственных, так и зафрахтованных. Упоминаются и спасательные лодки; очевидно, ими оснащались на случай бедствия крупные суда. Кораблям, как и в наши дни, давали имена в честь городов, стран, царей и героев. Были и более романтические названия, например «Утро», «Хранительница жизни», «Услада души». Часто названия были связаны с перевозимым грузом. Судя по ним, торговля отнюдь не ограничивалась лесом, медью, слоновой костью и тканями; суда перевозили также шерсть, тростник, камышовые циновки, сапожную кожу, кирпич, строительный камень, асфальт, крупный и мелкий скот, сено, зерно, муку, хлеб, финики, молочные продукты, лук, кухонные травы, лен, солод, рыбу, рыбий жир, растительное масло, вино. Одна плитка рассказывает, как шестнадцать человек потратили два дня на то, чтобы ввести свое судно в гавань и разгрузить его, да еще день потребовался, чтобы разместить привезенный товар в складском помещении
[36].
Исходя из классификации, приводимой Салоненом, «Тигрис» явно принадлежал к разряду
ма-гур, «божьих кораблей» древнейшего типа. Мои товарищи по плаванию нисколько не возражали против такого толкования, особенно когда я подчеркнул, что мы вышли на поиски начала всех начал и что шумерская история начинается с божественных мореплавателей, а не с моряков торгового флота.
Мои слова вовсе не были шуткой. Те из нас, кто унаследовал монотеистическую религию Авраама, легко забывают, что слово «бог» понималось иначе людьми, которые обожествляли своих предков. Семитские племена рано смешались с шумерскими пришельцами на территории нынешнего Южного Ирака; очевидно, при этом произошло также смешение древних религий. Подобно Аврааму, шумеры вели счет своим царям от судостроителя, спасшего человечество от полного уничтожения потопом, но если у древних иудеев и цари, и простые люди происходили от Адама, то шумеры четко различали царей и простолюдинов. Подобно египтянам и представителям древних культур Мексики и Перу, они считали своих правителей божественными потомками Солнца. Культ Солнца сочетался у них с культом предков. Царя обожествляли при его жизни, причем его ранг в ряду богов определялся количеством царственных предков. Естественно, что писцы доавраамовой поры, запечатлевшие на глиняных плитках события древних времен, полагали богами священных царей, которые высадились на шумерских берегах и потомки которых основали первую династию Ура. Если мы отнесем шумерских богов исключительно в разряд мифических существ, нам придется так же поступить и со всеми династиями Шумера, от первой до последней. Задача заключается в том, чтобы проследить шумерскую историю до ее мифических истоков, где обожествленные земляне сочетаются с птицечеловеками и небесными телами.
В моем багаже была также небольшая книжечка «Шумеры», написанная другим видным авторитетом, профессором Ч. Л. Вулли. В первой же главе, названной им «Начала», этот известный археолог обращается к сути вопроса:
«Шумерские легенды, объясняющие начало цивилизации в Месопотамии, явно предполагают приход людей с моря, причем люди эти, судя по всему, есть сами шумеры, а тот факт, что исторически известные шумеры населяли южные области и что город Эриду, слывший у них древнейшим во всей стране, расположен южнее других городов, говорит в пользу такого предположения».
Завершая книгу, Вулли подчеркивает, сколь трудно оценить все то, чем современный мир обязан шумерам, доле человечества, лишь недавно спасенной от полного забвения. Шумеры, говорит он, заслуживают высокого почета за их достижения, но еще больше за воздействие на историю человечества. Шумерская цивилизация была ярким факелом в мире варварства. Этап, когда начала всех искусств связывали с Древней Грецией и Зевсом-олимпийцем, продолжает Вулли, пройден нами, «теперь нам известно, что этот цветник гениев питался соками Лидии и страны хеттов, Финикии и Крита, Вавилонии и Египта. Но корни уходят еще глубже: за всем этим стоит Шумер. Военные завоевания шумеров, высокоразвитые искусства и ремесла, общественная организация, морально-этические и даже религиозные представления — не изолированный феномен, не археологический курьез, мы обязаны изучать их как частицу нашего собственного существа, и, восхищаясь ими, мы воздаем должное нашим духовным предтечам»
[37].
Воздавая должное шумерам как нашим духовным предтечам, мы воздаем должное народу неизвестного происхождения. Народу, пришедшему с моря на судах типа
ма-гур.
Обобщая данные раскопок, Вулли отмечал, что за весь период от первой до последней династии Ура шумерская цивилизация не прогрессировала. Напротив, археологические данные свидетельствуют о том, что она достигла своего зенита еще до основания первой династии. «Начиная с первой династии Ура если и наблюдаются какие-то перемены, то в сторону упадка, и позднейшие века не произвели ничего равного сокровищам древнейших гробниц».
Бесподобные произведения искусства, созданные нашими духовными предтечами в додинастические времена, свидетельствуют не только о непревзойденном мастерстве и тончайшем вкусе. Самый материал, выбранный художниками, говорит нам кое-что об их бывшей родине и о связях с другими странами. Связях не поверхностных и не случайных. Ведь в стране, которую они заселили, — в Южном Ираке, — не было металлов и драгоценных камней. Не было даже обыкновенного строительного камня. Богатство этого края составляли плодородная почва и пригодные для судоходства воды. Обширные аллювиальные равнины, где эти люди могли выращивать сельскохозяйственные культуры и пасти скот. Идеальное расположение для коммерческой активности на морских и речных путях. Тогдашний Шумер обладал куда более пышной растительностью, как это видно из плитки, описывающей прибытие в Ур первого божественного правителя из Дильмуна:
«Он прибыл в Ур, Энки, властитель бездны, по велению рока. О город обильный, щедро омываемый водами... зеленый, словно гора, Хашур-лес, тени пространные...»
[38]
Так описывали шумеры край, где ныне царствуют пески, где нет ни капли воды, ни одного зеленого листика, ни клочка тени. Однако первозданный чудный ландшафт не располагал тем, что требовалось ювелиру и золотых дел мастеру, чтобы задумать и создать изумительные сокровища, преданные земле вместе с первыми правителями. Как тут не призадуматься над ярким описанием гробниц в книге профессора Вулли:
«В Уре обнаружен некрополь, где древнейшие захоронения датируются примерно 3500 годом до н. э., а самые последние относятся к началу первой династии; есть здесь могилы местных правителей, не упоминаемых в списках царей... Поражает, что уже в этот ранний период шумеры знали и широко применяли в строительстве не только колонны, но и арки, своды... купола — элементы, освоенные западным миром лишь тысячи лет спустя.
Богатство захоронений свидетельствует, что высокому развитию архитектуры отвечал общий уровень цивилизации. В изобилии встречаются золотые и серебряные изделия, причем из драгоценных металлов делали не только украшения, но и сосуды, оружие, даже инструмент; медь была в повседневном обиходе. Многочисленны каменные вазы, излюбленным материалом был белый кальцит (алебастр), но широко использовались также мыльный камень, диорит и известняк; более редки кубки и чаши из обсидиана и лазурита; по сердолику и лазуриту больше работали ювелиры. Обильно представлена в гробницах Ура техника инкрустации раковинами, перламутром и лазуритом, известная нам по декоративным стенам Киша.
Сколь богатой была эта цивилизация, видно из перечня предметов, найденных в могиле правителя Мескаламдуга, относящейся к позднему периоду описываемого некрополя. Сама могила ничем не примечательна — простая земляная яма, на дне которой стоял деревянный гроб с покойником и с отсеком для даров. Голова правителя была облачена в чеканный золотой убор, или шлем, в виде парика; гравированные штрихи обозначали волосы и плетеную повязку. Шлем с объемным изображением ушей и рельефными бакенбардами закрывал весь затылок и скулы. Точно такой головной убор показан на Стеле коршунов Эанатума. Отдельно лежали две гладкие чаши и выполненный в виде раковины золотой светильник с выгравированным на них именем правителя; на серебряном поясе висел золотой кинжал с украшенной золотой зернью рукояткой, а рядом с телом лежали два топора из электрона; личные украшения правителя включали браслет из треугольных золотых и лазуритовых бусин, сотни других бусин из того же материала, золотые и серебряные серьги и браслеты, золотой талисман, изображающий сидящего тельца, два серебряных светильника в форме раковин, золотую булавку с шляпкой из лазурита. Еще больше даров помещалось рядом с гробом. Особенно прекрасна золотая чаша с рифлением и гравировкой, с маленькими ручками из лазурита; рядом с ней лежали серебряный кувшин для возлияний и подставка; насчитывалось около полусотни кубков и чаш из серебра и меди, большое количество оружия, копье с золотым наконечником, кинжалы с золотом и серебром на рукоятках, медные копья, топоры и тесла, набор стрел с треугольными наконечниками из кремня.
Царские захоронения в каменных склепах были еще богаче, и мы встречаем здесь то, чего не было в простых, земляных могилах. Погребение царей сопровождалось чудовищными человеческими жертвоприношениями. На дне могилы видим останки мужчин и женщин, явно подвергнутых закланию тут же, на месте. В одном захоронении стражники с копьями, в медных шлемах лежат в начале наклонного хода, ведущего вниз, к склепу; в дальнем конце гробницы найдены останки девяти придворных дам в искусно выполненных золотых головных уборах. У входа в склеп стояли две тяжелые четырехколесные повозки, в которые было впряжено по три вола; в повозках — скелеты возничих, а у голов животных — скелеты конюхов. В другом захоронении, где была погребена царица Шуб-ад, останки придворных дам лежали в два ряда, и каждый ряд заканчивался арфистом с инкрустированной арфой, украшенной головой быка из золота и лазурита, причем руки музыканта покоились на сломанном инструменте. Даже в самом склепе лежали два скорченных скелета — один в изголовье, другой в изножье деревянных носилок, на которых лежала царица. В известных нам текстах нет упоминаний о такого рода человеческих жертвоприношениях, и в более поздних захоронениях археологами не обнаружено никаких следов или пережитков такого обычая. Если, как я предположил выше, он находит свое объяснение в обожествлении древнейших царей, следует заметить, что в исторические времена даже самые значительные боги не удостаивались такого ритуала...»
[39]
Стоит обратить внимание на один момент, который подчеркивает тот же автор: природные богатства Нижней Месопотамии ограничивались областью сельского хозяйства: «здесь нет металлов, нет и камня, и едва ли не самое интересное в сокровищах, раскопанных в Уре, то обстоятельство, что почти все они изготовлены из привозного сырья». Но если древнейшая известная нам цивилизация, предшественница первых династий Шумера и Египта, во всем зависела от привозного сырья, выходит, что еще до известных нам начал так или иначе совершались не отраженные в текстах дальние странствия.
Чтобы понять происхождение столь богатых захоронений, мы должны признать, что описанные и изображенные на древнейших шумерских плитках и печатях полубоги были такими же людьми, как те, что погребены в древнейших царских захоронениях Ура. Образ «бога» Энки, который пришел из Дильмуна и застал Ур щедро омываемым водами и осененным тенью
лесов хашур, отражает воспоминание об одном из могущественных правителей, чьи
ма-гур еще до того возили искусных ремесленников и торговцев во многие дальние страны. А иначе как могли они ознакомиться с великим разнообразием драгоценных металлов и камней, потребных для изготовления царских сокровищ? По соседству с их собственным царством нигде не было ни золота, ни серебра, ни электрона, ни меди, ни лазурита, ни сердолика, ни алебастра, ни диорита, ни мыльного камня, ни кремня. Опытные посланцы правителя еще до прихода в Ур должны были тщательно исследовать не одну далекую страну, чтобы в совершенстве изучить все эти чужеземные материалы, знать, где их найти и как обрабатывать. И, наверно, судостроители и моряки древнейших божественных правителей, погребенных в Уре, были такими же знатоками своего дела, как ювелиры и золотых дел мастера.
Немудрено, что иные наши современники, наслышанные о космических кораблях, но ничего не знающие о
ма-гур, готовы поверить, что внезапно появившиеся в Двуречье полубоги — пришельцы из космоса. Да ведь и у нас, когда мы тащились на тросе за кормой «Славска», были все причины скромно судить о возможностях землян.
Советские моряки продолжали буксировать ладью в сторону Бахрейна со скоростью нашего свободного хода. Над заливом по-прежнему господствовал необычный для зимних месяцев ветер. Весь день он дул с переменной силой с юга. Под вечер Норман извлек из-под матраца радиостанцию. Он условился с Би-би-си сообщать данные о нашем местонахождении, однако береговые станции не отзывались. Тогда он включил свою любительскую аппаратуру, и тотчас со всех концов света откликнулись взволнованные голоса любителей. Мы сохранили те же позывные, какими я пользовался на «Кон-Тики» и на обеих «Ра» — L12B, и они представляли особый интерес для радиолюбителей, коллекционирующих двусторонние связи. Стоило Норману выйти в эфир, не адресуясь к кому-либо в отдельности, и от множества нетерпеливых голосов его наушники начинали гудеть, словно пчелиный улей. Но как только он кому-то отвечал, остальные замолкали до следующего случая. Сам страстный радиолюбитель, Норман весь вечер связывался с. коллегами на востоке и западе, севере и юге, обмениваясь позывными и кодовыми данными о местонахождении, слышимости и разборчивости.
Только он собрался ответить очередному корреспонденту, как включился кто-то другой и заявил: «Этому не отвечай, только кучу неприятностей наживешь!» Первый поспешил возразить: «Это же хобби, а не политика!» Норман немедленно согласился с ним: радиолюбители вправе заниматься своим хобби в любой стране, мы за международную дружбу через все границы, и нечего смешивать хобби с политикой. Выяснилось, что на связь с нами вышел радиолюбитель из Израиля. Остальные отключились, чтобы не мешать обмену обычными данными. Так Норман одержал бескровную победу.
Подошло время ужинать, и Норман с Рашадом сели за один стол. Норман происходил из еврейской семьи, Рашад был араб из Ирака, который враждует с Израилем. Возможно, их предки некогда плыли вместе на одном судне. Арабы и евреи ведут свою родословную от Сима — сына родившегося в Уре Авраама.
Пятое декабря. На безоблачном небосводе замерцали первые вечерние звезды, когда я поднялся на мостик, чтобы сменить рулевых. Вахтенные Рашад и Асбьёрн шутливо спросили, заметил ли я, как похожа молодая луна на наш кораблик. Ничего не скажешь, и впрямь похожа... Как обычно в южных широтах, лунный серп висел в небе гамаком, а не опирался на рог, каким его привыкли видеть северяне. Как раз сейчас он к тому же опирался нижней кромкой на черные воды у горизонта — ни дать ни взять золотистое серповидное камышовое судно. Параллельно ладье шел по волнам самый настоящий божий корабль, поразительно схожий с нашей собственной
ма-гур. Мы продолжали любоваться нашим лучезарным товарищем, пока он не оторвался от воды и не поплыл среди искристого звездного планктона в черных небесах.
Символическая картина произвела на меня глубокое впечатление. Луна как важнейший мотив доисторического искусства много лет занимала меня. И теперь я мысленно перенесся в те дни, когда великие строители камышовых судов в Шумере, в доинкском Перу и на уединенном острове Пасхи отождествляли лунный серп с божьим кораблем, на котором бог Солнца и предки древнейших царей странствовали в ночном небе. Это верование отразилось и в преданиях, и в изобразительном искусстве древних шумеров и перуанцев. Пасхальцы ко времени прихода на остров европейцев забыли первоначальный смысл символа, однако грудь их обожествленных правителей неизменно украшала традиционная эмблема власти — деревянная серповидная пектораль, известная под двумя названиями:
реи-миро, что означает «корабельная пектораль», и
реи-марама, что означает «лунная пектораль».
Ночью над Ираном возникли полыхающие зарницами черные облака. На другой день нас несколько раз настигали ливни, но ветер упорно дул с юго-востока, и капитан Игорь не соглашался отпускать «Тигриса». Без якорей, с большой дырой в носу, мы нуждались в попутном ветре — или в помощи друзей, чтобы дойти до надежной гавани и заняться ремонтом. Днем юго-восточный ветер опять сменился южным, причем он дул с такой силой, что гребни волн обдавали нас соленым душем, разбиваясь о нос ладьи. Рация, полученная от Би-би-си, тянула только на связь с «Славском» на другом конце буксирного троса. Капитан Игорь посоветовал нам укрываться от ветра за корпусом парохода, но разделявший нас просвет был слишком велик, чтобы «Славск» мог защитить собой пострадавший нос «Тигриса».
На четвертый день пополудни мы подошли к Бахрейну. Точнее, подошли к бую, обозначающему начало фарватера среди окружающих остров известняковых отмелей. По радио с Бахрейна «Славску» было предложено остановиться здесь. Просьбу капитана Игоря, чтобы ему разрешили следовать до острова, отклонили. Сказали, что за «Тигрисом» вышлют судно. «Славск» отдал якорь, и началось ожидание.
Легендарный остров все еще скрывался за горизонтом; в бинокль можно было различить только лес высоких труб нефтеочистительных установок.
Вскоре примчался новенький сторожевой катер, а следом за ним появился вертолет. Нас снимали с воздуха, но пограничники на сторожевике только приветственно помахали руками, после чего стали кружить поодаль, наподобие
дау у Файлаки. Потом вертолет ушел, однако катер не стал приближаться. «Славск» спустил на воду шлюпку, и Юрий с Карло вернулись на ладью вместе с капитаном Игорем.
Судя по радужному настроению ребят, они отлично провели время на пароходе. Пограничники все так же ходили по кругу, и мы не торопились отдать буксир, чтобы нас не отнесло на мели.
Шли часы, но, сколько мы ни всматривались в горизонт, больше никто не показывался. Пограничники терпеливо описывали круги возле нас и «Славска». Под вечер капитан Игорь попрощался с нами и возвратился к себе на корабль, провожаемый словами самой искренней благодарности и добрыми пожеланиями. Печально было расставаться с добрым товарищем, который, еще не зная нас, проявил такую смелость и бескорыстную человечность.
Начался закат, и мы приготовились ночевать на привязи у «Славска». Неожиданно пограничники подошли к нам вплотную и предложили отвести ладью к Бахрейну. Мы сказали «спасибо», однако я спросил, не ждем ли мы кого-нибудь еще. Нет, это их прислали за нами. Просто они ждали, когда русские отдадут буксир: им казалось, что нас вроде бы держат в плену. Ничего подобного, ответил я, напротив — русские выручили нас. Не дали «Тигрису» сесть на рифы и довели нас до Бахрейна. Мое объяснение ничего не изменило. Воды Бахрейнского эмирата были закрыты для советских судов. Пограничники услужливо подхватили трос, как только наши русские друзья отдали буксир.
Ничего не поделаешь... С тяжелым сердцем еще раз помахали мы руками капитану Игорю. Сторожевик повел «Тигриса» навстречу огням современного порта, а «Славск», снявшись с якоря, пошел обратно к судам, терпеливо ожидающим в устье Шатт-эль-Араба своей очереди подняться вверх по реке.
Нам предстояло знакомство с крохотным независимым государством, пожинающим плоды бурного технического прогресса и безмерного, по видимости, богатства. Великое богатство Бахрейна связано не столько с его собственными, быстро убывающими запасами нефти, сколько с географическим положением: сюда, к защищенным глубоким гаваням, где швартуются танкеры со всех концов света, протянулся нефтепровод из Саудовской Аравии. Во все века Бахрейн благодаря своему местоположению служил перекрестком для мореплавателей и торговцев. А в наши дни и местный аэропорт служит узловой станцией для воздушных лайнеров самых различных авиакомпаний. На Бахрейне садятся даже «Конкорды».
Поздно ночью, ослепленные прожекторами и огнями новейших портовых сооружений, прошли мы на буксире мимо стоящих на рейде танкеров и бетонных волноломов к огромному пирсу только что построенной Арабской строительно-ремонтной верфи с крупнейшим в мире сухим доком, рассчитанным на супертанкеры водоизмещением до 450 тысяч тонн. Надо же было случиться так, что крохотный «Тигрис», чья стеньга едва выступала над самой низкой платформой причала, первым пришвартовался к сооружению, до официального открытия которого оставалось два дня. Опустив камышовые кранцы, чтобы боковые связки не терлись о бетон, мы поднялись по длинному железному трапу на пристань, где нас ожидали официальные представители и любопытствующий люд, пропущенный через полицейские кордоны.
Впереди в ярких лучах прожекторов стоял сановник в длинном белоснежном арабском одеянии. Сердечно и просто поприветствовав нас, он справился, какого мы мнения о своей камышовой ладье. Это был министр информации, его превосходительство Тарик эль-Моайед. Я ответил, что мы чрезвычайно довольны корпусом нашего судна. Сколько ему пришлось испытать со времени неудачного спуска на воду, а он все такой же крепкий и прочный, и осадка совсем небольшая. Но проблему паруса нам пока не удалось решить. Вот и зашли на Бахрейн, надеясь найти здесь парусного мастера, а также арабскую или индийскую парусную
дау, которая могла бы сопровождать нас дальше.
— С этим вам поможет Халифа, — ответил министр и представил нам молодого человека в таком же белом одеянии. — А что вам хотелось бы посмотреть, пока вы будете находиться у нас на острове?
Я поднял взгляд на вздымающиеся к ночному небу железные пирамиды и бетонные обелиски и сказал, что нам хотелось бы увидеть следы пребывания на Бахрейне древнейших мореплавателей. Словно я потер волшебную лампу Аладдина: министр повернул голову, и из темноты возникло знакомое улыбающееся лицо. Приветственно поднялась рука, вынув изо рта увесистую трубку с изогнутым черенком. Это был известный археолог Джеффри Бибби. Тот самый, который вместе со своими датскими коллегами, и в первую очередь крупным ученым П. В. Глобом, поколебал былые представления о началах цивилизации, раскопав в бахрейнских песках храмы и могильники и обнаружив свидетельства того, что более пяти тысяч лет назад остров участвовал в морской торговле с дальними странами
[40].
Бибби прилетел из Дании, услышав, что «Тигрис» идет к Бахрейну. Свыше двадцати лет он руководил полевыми работами на острове и теперь захотел лично ознакомиться с судном, построенным по древнейшим известным нам образцам в области залива. Смеясь, он напомнил мне, что я последовал его совету. Несколько лет назад, рецензируя в газете «Нью-Йорк таймс» мою книгу об экспедициях «Ра», он предложил мне в следующий раз испытать месопотамское камышовое судно.
Спустившись на палубу «Тигриса», он, совсем как капитан Игорь, принялся с восторгом осматривать необычное судно. Интерес Бибби к «Тигрису» естественно вытекал из его собственных исследований. Открытия на Бахрейне показали, что уже на заре цивилизации мореплавание играло фундаментальную роль в человеческом обществе. Бибби принадлежит главная заслуга в доказательстве того, что Бахрейн и есть далекий торговый центр Дильмун, о котором говорится в древних месопотамских текстах. За возможность посетить наш
ма-гур он отблагодарил тем, что прочел команде лекцию о древнейшей истории острова. И потом на протяжении двух недель возил нас по главным объектам своих раскопок.
Когда на другой день Джеффри Бибби, с живописной чалмой на голове, приехал за нами, мы из Манамы с ее огромной верфью перенеслись на двух машинах со скоростью космического корабля на пять тысяч лет назад в истории человечества. Самые большие в мире корабли и самолеты и самые роскошные отели быстро сменились незатейливыми арабскими лачугами из пальмовых листьев и сырцового кирпича, ожидавшими, когда их снесет бульдозер. Дальше последовала также обреченная плантация финиковых пальм, похожая на кладбище телеграфных столбов. Лишенные величественных крон, обезглавленные пальмы с обнаженными корнями как бы напоминали проносившимся мимо торопыгам: нефтяные скважины могут качать свой сок из земли несколько десятилетий, но тысячи лет со времен Дильмуна не они, а корни финиковых пальм извлекали соки, кормившие эту страну. Добыча и переработка нефти доходнее, чем земледелие, и жители Бахрейна потеряли интерес к пахоте и сбору фиников. На деньги, щедрым потоком поступающие из развитых стран, они могли купить сколько угодно фиников, фруктов и овощей. Городские базары и витрины магазинов изобиловали чудесными, свежими плодами земли, доставленными по воздуху с трех континентов. И по мере того, как скромные лачуги и высокие пальмы падали ниц под напором механической лопаты, современные жилые комплексы и промышленные предприятия наступали на зеленые поля, подбираясь все ближе к голой пустыне, распространившейся в наши дни на большую часть острова. Мы быстро доехали до бесплодных песков.
— Вот и Дильмун, — сказал Бибби, указывая черенком трубки на уходящую за горизонт сплошную череду холмов и холмиков, похожих на окаменевшие морские волны. — Теперь вы видите, почему нам с Петером Глобом захотелось копать здесь.
Доисторические погребения. Могильные холмы. Считается, что на Бахрейне около ста тысяч таких курганов. Величайшее в мире доисторическое кладбище. В одиночку Бибби мало что мог бы сделать. Более восьмидесяти археологов, представляющих полдюжины национальностей, главным образом датчане, да еще несколько сот рабочих чуть ли не из всех арабских стран работали вместе с ним. Первые результаты были далеко не вдохновляющими. Древние грабители не обошли вниманием ни один курган из тех, что раскопали археологи. Судя по всему, все сто тысяч захоронений были ограблены в незапамятные времена; выложенные камнем склепы явно содержали в прошлом не одни лишь скелеты. Археологам остались кости, скорлупа страусового яйца, черепки, два-три копейных наконечника из меди, осколки медного зеркала. Покойников явно хоронили люди, которые верили в загробную жизнь, а потому снабжали их личными драгоценностями и прочими предметами, могущими пригодиться в потустороннем мире.
Могильные холмы заметно различались по величине. Мы начали осмотр с района, называемого Али; здесь группировались курганы, числом превосходящие египетские пирамиды, а размерами приблизительно равные среднему месопотамскому зиккурату. Приютившиеся в промежутках между ними одно-, двух- и трехэтажные арабские дома выглядели карликами рядом с этими великанами. Нынешние обитатели Али добывали в толще рукотворных холмов сырье для выжига извести. В итоге усилиями древних грабителей могил и современных добытчиков извести Алийские курганы стали подобны вздымающимся над равниной вулканическим кратерам. С вершины такого кратера открывался великолепный вид на нескончаемую россыпь малых курганов — как будто многочисленное потомство разбежалось от гигантских черепах Али. Разделенные широкими просветами величавые исполины привольно расположились ближе к морю, тогда как приземистые купола уходящего вглубь острова некрополя жались друг к другу, оставляя совсем узкие проходы. Напрашивалась мысль, что большие курганы старше толпящейся за ними мелюзги. Наверно, их соорудили в те времена, когда места было вдоволь, а уже потом к ним начали лепиться рои малых гробниц.
Принято представлять себе развитие как восхождение от малого к большому. Однако путь цивилизаций не всегда таков. Это можно объяснить двояко. В большинстве известных нам случаев развитие той или иной культуры сменялось застоем и упадком. Причины могли быть разные: пагубное изобилие, война, эпидемия, стихийное бедствие. Добавим, что в пору высшего расцвета древние цивилизации, как правило, обладали кораблями и осваивали мореходство. Это позволяло внезапно сниматься с места, чтобы уйти от захватчиков или отправиться на поиски лучших земель. Отдельные семьи, даже большие организованные группы с высоким уровнем развития могли селиться в новых областях, либо вовсе необитаемых, либо занятых примитивными общинами. Не следует удивляться тому, что многие древнейшие цивилизации словно бы возникали вдруг, без каких-либо следов местного развития, а потом так же бесследно исчезали. Мы доискиваемся корней, полагая, что каждая цивилизация выросла, подобно дереву, там, где ее обнаружили. Но когда древо цивилизации выросло и начало цвести, оно дает семена, разносимые ветром и течениями. Вот почему неверно считать, что Бахрейн первоначально мог быть заселен только примитивными дикарями и великие курганы Али — венчающий местную эволюцию плод векового опыта, а начиналось все с малых погребений. Египетские пирамиды не росли со временем. Самые большие воздвигнуты при первых фараонах, потом пошли пирамиды поменьше. То же видим в Двуречье. И в Перу. Во всех этих трех странах наибольший размах отличает деятельность первых династий. Далее последовал не рост, а в лучшем случае имитация, в худшем — упадок. В Перу знаменитая культура инков никогда не поднималась до высот, достигнутых в искусстве и в монументальности сооружений их предшественниками, создателями культур Тиауанако и Мочика. И теперь, глядя на могильники Али, я склонялся к мысли, что передо мной аналогичный пример.
Мне доводилось видеть группы гробниц и доисторические некрополи в разных частях света, но такого я еще никогда не встречал. В мире просто нет ничего подобного. Так что Бибби не надо было тратить много слов, чтобы убедить меня, что Бахрейн и есть Дильмун.
Одна из его посылок заключалась в том, что Дильмун был для шумеров священной страной. Страной, освященной богами, которые даровали ее человечеству после потопа. Страной, где человеку — в лице Зиусудры, он же Ной иудеев — было даровано бессмертие. Зиусудра здесь явно олицетворяет все человечество. В древнейшем известном нам эпосе правитель Урука (библейский Эрек) Гильгамеш отправляется в Дильмун, чтобы в священном краю своих предков искать цветок бессмертия. Шумерская поэма говорит:
Священна страна Дильмун, беспорочна страна Дильмун,
Чиста страна Дильмун, священна страна Дильмун
[41].
При таком отношении к Дильмуну для людей, исповедующих культ предков, было вполне естественно перевозить для погребения останки сколько-нибудь знатных лиц — хотя бы и на кораблях — в Дильмун, где душу покойника ожидала встреча со старейшими богами.
Не только Бибби — многие считают, что во времена шумеров земля Бахрейна должна была играть совершенно особую роль в представлениях жителей соседних областей, коль скоро на этом маленьком острове разместился самый большой некрополь в мире.
В уже цитированной шумерской поэме есть еще одно важное упоминание Дильмуна. Странствующий по морям бог Энки повелел верховному богу неба облагодетельствовать Дильмун пресной водой.
Пусть Уту <бог Солнца>, пребывающий в небесах, даст
тебе пресную воду из недр земли, из подземных источников,
пусть наполнит водой твои обширные вместилища <?>,
пусть твой город черпает в них воду обильную,
пусть Дильмун черпает в них воду обильную,
пусть горькая вода твоих колодцев станет пресной,
пусть пашни твои и поля приносят тебе свое зерно,
пусть город твой станет «домом кораблей» в этом краю.
Вода здесь была божественным даром для любого народа. На островах и в приморье преобладают засушливые земли и пустыни. Бахрейн — поразительное исключение. Здесь из сухого грунта бьют родники, вода нескончаемыми потоками устремляется к морю. Вдоль побережья есть даже подводные ключи; нырнул в море — можешь напиться сам и наполнить взятый с собой сосуд.
Поразительная щедрость, с какой природа наделила водой низкий известняковый остров в заливе, вполне может показаться чудом всякому, кто пьет из его источников. По пути к могильникам Бибби свернул в сторону, чтобы мы посмотрели настоящий оазис с пальмами и зеленой травой. Древняя каменная кладка окружала дивной красоты глубокий круглый бассейн с чистейшей водой. В бассейне плескались юные арабы; один мальчуган старательно намыливался, сидя в воде; три женщины стирали белье. Тем не менее непрестанно обновляемая вода оставалась чистой, как утренняя роса. Гладкие камни на дне виделись так отчетливо, словно бассейн был пуст. Поверхность воды посередине бугрилась под напором поднимающихся снизу струй, и мыльная пена устремлялась в канаву, прежде служившую для полива финиковых пальм.
Мы услышали от Бибби, что на острове много таких источников и бассейнов. Нет ничего удивительного в том, что их возникновение приписывали вмешательству небожителей. Вода поступает на остров с далеких гор Аравийского полуострова. Там осадки впитываются в скальный грунт, не принося никакой пользы обитателям материка, но по капризу природы часть влаги, просачиваясь через подземные трещины, совершает путешествие под дном залива и выходит вновь на поверхность в виде ключей на Бахрейне.
От возвышенностей в центре острова глубоко под песками пролегли на много километров облицованные камнем водоводы. Созданные древними строителями, они заканчивались у некогда возделывавшихся полей. Через каждые пятьдесят-шестьдесят шагов на глубину шести и более метров уходили круглые каменные колодцы, вероятно служившие для надзора и очистки водоводов. Без них никто бы и не подозревал о существовании доисторических подземных магистралей. Бибби и его коллеги основательно поломали голову, пытаясь представить себе, как создавались эти замечательные образцы строительного искусства. Может быть, каменные акведуки сооружали на поверхности земли, а затем, по мере того как их заносило песком, наращивали смотровые колодцы? Или же их с самого начала заложили глубоко в толще песков? Я тоже тщетно искал разгадку, пока несколько недель спустя случай не подсказал мне и моим товарищам по плаванию ответ в другой легендарной стране, упоминаемой шумерами.
Осмотрев бассейны и источники «Энки» и ознакомившись с россыпью курганов, мы уяснили себе, что среди прилегающих к заливу стран Бахрейн убедительнее всего отождествляется с Дильмуном. Однако у Бибби был еще припасен главный козырь: Дильмун был не только ареной деятельности богов и стоявших ниже рангом священных правителей вроде Ноя. После некрополя Бибби отвез нас в погребенный песками город, где некогда простые люди занимались совсем мирскими делами — торговлей и мореходством. Археолог еще раз напомнил нам, что Дильмун со времен потопа оставался вполне реальной страной не только для бороздивших моря шумеров, но и для унаследовавших их культуру вавилонян и ассирийцев.
На стеле и на глиняной плитке, датируемых примерно 2450 годом до нашей эры, царь Урнанше, основатель могущественной династии Лагаша, записал, что корабли из Дильмуна привозили ему лес. Затем живший около 2300 года до нашей эры великий семитский царь Саргон Древний, который покорил все государства от залива до Средиземного моря, воздвигнул в Ниппуре статуи и мемориальные стелы с надписями, где хвастливо возвещал, что к причалам его столицы Аккад швартуются суда из Дильмуна, Макана и Мелуххи. Дильмун и далее фигурирует в аккадских текстах. В титуле ассирийского правителя Тукульти-Нинурты значилось:
«царь Дильмуна и Мелуххи». Ассирийский царь Саргон II получал дань от дильмунского правителя Упери, а при Синаххерибе воины из Дильмуна участвовали в разрушении Вавилона.
Когда археологи в начале пятидесятых годов обратили свой взор на Бахрейн, они не увидели там древних поселений, которые могли бы объяснить, откуда на острове сто тысяч гробниц; развалины арабских мечетей и португальских крепостей — вот и все зримые памятники прошлого. Можно было подумать, что остров служил лишь некрополем для прилегающих к заливу стран. В ограбленных могилах Глобу, Бибби и его товарищам встретились, по сути дела, одни только черепки неизвестной прежде керамики. Тогда они принялись искать но всему острову отщепы кремня, черепки и другие признаки бывших поселений. В итоге им удалось обнаружить сперва засыпанный песками храм, а затем и неизвестный город; в него-то Бибби и повез нас теперь.
Есть что-то интригующее в городах, погребенных временем. Спускаясь с нынешнего уровня в выемку, нависающую краями над бывшими крышами, словно бы проникаешь через люк в неведомое прошлое, чтобы пройти по улицам, по которым, быть может, тысячи лет не ступала нога человека. Такие улицы ждали нас на северном берегу Бахрейна. С песчаных дюн у подножия португальской крепости шестнадцатого века мы спустились в город, кипевший жизнью во времена шумеров. Крепость на господствующем над морем утесе, от которой ныне остались только живописные развалины, была сооружена португальцами вскоре после того, как они в 1521 году захватили арабский Бахрейн. Точнее говоря, португальцы восстановили крепость, первоначально выстроенную арабами, пришедшими на остров вскоре после смерти Мухаммеда в седьмом веке. Арабы, в свою очередь, использовали камни из еще более древних построек неизвестного происхождения, вероятно торчавших из песка.
Участок рядом с крепостью показался заманчивым Бибби и его коллегам. Возвышающийся над морем песчаный холм явно что-то скрывал. И по мере того, как лопаты разгребали белый песок, глазам археологов открылся целый город, а под ним — другой, еще глубже — третий. Окаймленные домами улицы строго выдерживали направление восток-запад и север-юг. За время своего существования город познал и процветание, и беды. Около 1200 года до нашей эры он был опустошен пожаром. Ниже пожарища залегали степы домов, датируемых 2300 годом до нашей эры. К этой же поре относят сооружение могильников и плавания шумеров в Дильмун; Бибби так и назвал ее — «периодом Дильмуна». Спустившись вместе в древнейший город, мы остановились у массивной городской стены с обращенными к морю воротами. Широкая площадь в окружении высоких стен примыкала к упирающейся в ворота главной улице; другие улицы расходились от площади под прямым углом.
Бибби показал на высокие ворота. Нанесенные ветром дюны закрывали вид, но в те далекие времена, когда строилась городская стена, путь к морю был свободен. Оно и сейчас плескалось сразу за воротами.
— Четыре-пять тысяч лет назад, в период Дильмуна, здесь причаливали корабли с товаром, — говорил Бибби. Повернулся и показал на землю. — А вот тут, на площади, мы нашли вещественные доказательства заморской торговли. Сюда поступал привезенный груз. Здесь и на городских улицах мы подобрали множество крупинок необработанной меди. Нашли также медные рыболовные крючки, кусочки слоновой кости, стеатитовые печати, сердоликовую бусину — всё чужеродные для Бахрейна предметы.
Ближайшим источником меди он считал Оман. Слоновая кость могла попасть сюда только из Индии или из Африки. Сердоликовая бусина и пять специфического вида кремневых разновесов, найденные среди развалин, несомненно, принадлежали древней Индской цивилизации. Кстати, разновесы позволили сделать неожиданное открытие: бахрейнцы периода Дильмуна пользовались не шумерскими, а индскими мерами веса.
Разговаривая, я обратил внимание на то, что ветер несет через городскую стену мелкий песок с береговых дюн. Вот так со временем и засыпало песком древний порт. Порт на северном берегу Бахрейна... Внезапно меня осенило, что ветер переменился. Наконец-то он подул со стороны Ирака!
Бибби поправил чалму и рассмеялся.
— Да, не повезло вам. Зимой здесь всегда дует с севера. Как ты думаешь, за сколько дней вы дошли бы сюда с попутным ветром?
— Думаю, уложились бы в три с половиной или четыре дня, — ответил я. — Нас буксировали с той же скоростью, с какой мы сами шли до Файлаки. Но там мы шли перпендикулярно к ветру. Будь у нас попутный ветер до самого Бахрейна, наверно, дело пошло бы быстрее.
— Вполне возможно. В одном из шумерских текстов говорится, что до Дильмуна тридцать двойных часов. Они измеряли расстояние путевым временем.
— Уж, во всяком случае, они прошли бы дистанцию быстрее, чем новички вроде нас, — признал я. — Файлака был для них все равно что родным портом, и в гонках от Файлаки до Бахрейна профессиональная шумерская команда, несомненно, опередила бы нас на несколько часов. Нам при хорошем северном ветре понадобилось бы, наверно, тридцать пять двойных часов.
— Интересное днище у вашей ладьи, — заметил Бибби. — Эти два бунта, и малая осадка...
Следуя за ним, мы поднялись на стену, с которой открывался вид на приливно-отливную отмель, начинающуюся прямо от дюн перед воротами. В прилив морские волны, наверно, подступали к самой городской стене.
— Вполне могу себе представить, как плоскодонное камышовое судно во время прилива подходило сюда, — продолжал археолог. — И не опрокидывалось, когда наступал отлив, благодаря двойному корпусу. Ляжет перед воротами на обсохший известняковый грунт — пожалуйста, занимайтесь разгрузкой-погрузкой.
Мы уже обратили внимание на то, что окаймляющее остров известняковое ложе, особенно около порта, обусловливало как раз такой маневр, какой описал Бибби: с приливом подходить к берегу и ложиться на грунт во время отлива. А Бибби смог теперь своими глазами убедиться, что судно из
берди вполне могло нести двадцать тонн груза — столько, сколько привозили в Шумер некоторые суда из Дильмуна, как сообщают плитки с клинописью
[42].
— Но торговое судно должно возвращаться в порт, откуда вышло, — рассуждал Бибби. — По-твоему, они ждали полгода, когда переменится ветер?
Возможно. А может быть, они намеренно приходили незадолго до смены ветра, чтобы сократить ожидание. Но лично я так не считал. Мне представлялось, что все дело в нас самих — не сумели еще освоить управление древней ладьей.
Ведь не знаем же мы сезонных ветров, которые могли бы благоприятствовать плаваниям в порты Индской цивилизации, как они благоприятствовали рейсам в заливе. И тем загадочнее выглядит факт, на который впервые указал много лет назад Бибби: почему на Бахрейне были в ходу индские меры веса? Шумеры и вавилоняне пользовались совсем другими мерами. И делились эти меры иначе — на трети, десятые и шестидесятые части. Бибби представлял себе два объяснения. Либо зарождение дильмунской торговли было связано не с Двуречьем, а с Индией, либо Индия была намного более важным партнером, чем Двуречье.
Одно было ясно для нас обоих. Роль Бахрейна на торговых путях определялась удобным расположением этого уникального пункта набора воды. На всем пути через залив пет другого места, где древние мореплаватели могли бы запастись пресной водой в неограниченном количестве.
По-своему красноречивы заполняющие существенный пробел в мозаике крупинки необработанной меди. Медь была, пожалуй, наиболее важным видом сырья, ввозимого в Двуречье во времена Дильмуна. Как подчеркивает Бибби в своей книге о поисках Дильмуна, письменность играла первостепенную роль в жизни древнего Шумера; обнаруженные в жилых и торговых помещениях глиняные плитки выполняли самые разные функции — от школьных тетрадей до счетоводных книг ростовщика
[43]. В числе других документов найдена деловая переписка проживавшего в Уре посредника в торговле медью. В переписке его называют «дильмунским купцом», но из одной плитки явствует, что руда добывалась в другом месте, а Дильмун служил как бы ярмаркой, где происходила купля-продажа металла. Бибби отмечает, что перевозившиеся в заливе во времена шумеров грузы меди были довольно значительными. В одном случае, по его подсчетам, из Дильмуна поступило восемнадцать с половиной тонн; «в ценах шестидесятых годов нашего столетия он <груз> стоил бы около двадцати тысяч долларов».
Переписка посредника включает также плитку от недовольного клиента: «Ты сказал: «Гимил-Син получит от меня добрые слитки». Это твои слова, но ты поступил иначе, ты предложил моему посланцу скверные слитки, говоря: «Хочешь — бери, не хочешь — не бери». Кто я такой, чтобы обращаться со мной так высокомерно? Разве мы оба не благородные люди?.. Разве найдется среди дильмунских купцов хоть один, который обошелся бы со мной таким образом?»
Совершенно очевидно, что Дильмун был для наших духовных предтеч вполне реальной страной. И, конечно, среди торговых кораблей, которые швартовались у городских ворот погребенного ныне песками бахрейнского порта, были шумерские суда, поскольку вершина его активности приходится на времена Шумера. Возможно, именно здесь помещался «дом кораблей», упоминаемый Энки в поэме о Дильмуне, если только где-нибудь еще на Бахрейне не скрывается другой, столь же крупный приморский город. Но это маловероятно. Раскопанный датскими археологами торговый порт достаточно велик для небольшого острова.
Среди судов, заходивших сюда, чтобы, как свидетельствуют плитки, в обмен на месопотамские ткани и шерсть получить медь, наверно, были
ма-гур из Ура. Без оживленной торговли не мог бы процветать такой большой островной город. Внутри обращенной к морю стены на обширной площади простираются разделенные улицами руины дворцов и других строений.
С первого взгляда очевидно, что город подвергался реконструкции. И не менее очевидно, что лучшие каменщики жили здесь в наиболее древнем периоде. Другими словами, в период первоначального Дильмуна, когда сооружались могильные холмы. Поверх каменных плит старейшего города затем воздвигли новые стены, часть которых относят к ассирийскому периоду. Обращает на себя внимание внушительная конструкция из тщательно подогнанных тесаных плит, именуемая археологами «ассирийским порталом». Порогом служит монолит, превосходящий шириной двуспальную кровать, с круглой лункой в углу для дверного шарнира.
Ассирийцы прославились как мастера работы по камню. Однако на Бахрейне они уступали в мастерстве своим дильмунским предшественникам. Так, может быть, жители Дильмуна были выходцами из области, где камнерезное искусство достигло более высокого уровня или опиралось на более давнюю традицию, чем в Ассирии? Такие области известны в древнем мире. Их было не так уж и много. Археологи прекрасно разбираются в керамике, с замечательной точностью определяют культурные связи по гончарным изделиям, даже по черепкам. Однако я сомневаюсь, чтобы хоть один археолог когда-либо пытался вытесать каменный блок вроде тех, что сохранились на Бахрейне со времен раннего Дильмуна. А попытаются — убедятся, как убедился я, что это им не под силу. Даже с железным инструментом. Но у дильмунцев не было железа. Вот и получается, что стены, сооруженные первыми градостроителями Бахрейна, могут нам кое-что поведать. Среди основателей порта были каменщики, обучавшиеся своему делу в одном из немногих районов мира, где хорошо знали секреты этого труднейшего искусства.
Казалось бы, что общего между камышовыми судами и тесаным камнем и что моряку до каменных стен? Но в древности связь существовала. Многолетние исследования убеждают меня в том, что строители тростниковых, папирусных, камышовых лодок частенько имели отношение к каменным стенам как раз такого рода. Обычно они же их сооружали.
Бибби не без удивления смотрел, как я, опустившись на колени, штудирую гладкую поверхность раскопанных им дильмунских плит и способ их соединения. Камни разной величины были все обтесаны под прямым углом и плотно, без малейших просветов, прилегали друг к другу, даже если грани были неправильной формы. Мои товарищи по плаванию глядели на меня, как на какого-нибудь Шерлока Холмса, пытающегося обнаружить отпечатки пальцев или следы инструмента, чтобы выйти на след исполнителей. Изумительно обработанные и подогнанные блоки воплощали специфическую технику, с которой я уже не раз встречался. И я объяснил своим озадаченным спутникам, как эти каменные стены увязываются с нашим плаванием и с плаваниями людей, которые воздвигли их на Бахрейне.
Любому ясно, что не практическая потребность, а некая эстетическая или магико-религиозная традиция породила такую сложную и своеобразную технику кладки. Ни в Европе, ни в странах Дальнего Востока таких стен не сооружали. Тем не менее она перебросила мост через два океана, и не как-нибудь, а именно в те места, где поселились народы, строившие папирусные и камышовые суда.
Впервые я по-настоящему обратил внимание на подобные стены, попав к строителям камышовых лодок на самом уединенном в мире обитаемом клочке земли — острове Пасхи. Неведомые древние мастера применили здесь специфическую технику, сооружая мегалитические культовые террасы под могучие статуи
[44]. С такой же кладкой я встретился в Южной Америке, там, где нанимал специалистов по камышовым лодкам, которые помогли мне построить «Ра II» и «Тигрис». Она является отличительным признаком мегалитических стен в святилищах Перу доинкского и инкского периода — той самой области, откуда мне с попутным ветром удалось доплыть на «Кон-Тики» до собственно Полинезии, минуя остров Пасхи.
Следующая встреча была неожиданной. Оказалось, что эта же своеобразная кладка отличает могучие степы храмов Ликса на атлантическом берегу Марокко. Я приехал в Ликс перед началом плавания на «Ра» в Америку, чтобы познакомиться с местными строителями камышовых судов. До этого времени я никогда не слышал про местные развалины. Принято считать их остатками поселения финикийцев, которые выходили в дальние плавания из родной Малой Азии и оседали на берегах Атлантики. Если эта гипотеза верна, нет ничего удивительного в том, что основатели Ликса знали такой способ обработки камня. Они могли освоить его на Ближнем Востоке — единственной, наряду с островом Пасхи и страной инков, территорией, где он применялся. Лучшие образцы мегалитической кладки по соседству с великими пирамидами Египта принадлежат к тому же типу. Но подлинным центром своеобразной техники явно была страна хеттов, где она достигла высшего совершенства. Хетты — исчезнувшие, забытые и недавно открытые вновь предшественники финикийцев — некогда населяли всю область между Верхним Двуречьем и Средиземным морем.
И тут возникает загадка. В обычаях и верованиях, в искусстве и ремеслах хетты многое, если не все, унаследовали от шумеров. По шумеры не строили каменных стен, и на территории, известной нам под именем Шумера, нет никаких следов подобной кладки.
Откуда же она попала на древний Бахрейн? Может быть, каменщики именно этого острова были как-то связаны с хеттами или египтянами? Дильмун поддерживал связи с Шумером, однако в Шумере явно разрывается сплошная полоса распространения специфической кладки. Правда, для этого есть основательные причины. В Нижнем Двуречье попросту не было камня. Был только плодородный ил и была пригодная для лепки кирпичей глина. Но ведь речные контакты Ура и других шумерских портов, судя по текстам на глиняных плитках, были не менее развиты, чем морские. И в верхнем течении двух рек, где встречается камень, месопотамцы заготавливали его, обрабатывали и, в ранний период хетто-шумерских связей, применяли ту же своеобразную кладку, с какой встретились археологи, углубившись в пески Бахрейна.
Отсутствие камня в большей части Двуречья вынуждало шумеров и их преемников сооружать свои зиккураты — ступенчатые пирамиды — из миллионов штук сырцового кирпича. Для Египта кирпичная пирамида — редкое исключение, там почти все пирамиды, даже самая древняя из них, Саккарская, которая тоже была ступенчатой, сложены из тесаного камня. Многие усматривают здесь фундаментальное различие, исключающее общность происхождения. Однако такой вывод представляется поспешным. Огромные ниневийские плиты с рельефным изображением прекрасных камышовых судов относятся к лучшим виденным мной образцам камнерезного искусства. По соседству с Ниневией находится библейский Нимрод с исполинским рукотворным холмом — эродированными остатками бывшей пирамиды, засыпанной обломками ассирийского кирпича. Никто не предполагал, что в этом сооружении мог быть использован тесаный камень. Тем не менее археологи, разбирая битый кирпич, недавно расчистили большой участок древней стены из бутового камня. По подсчетам специалистов, ориентированная по солнцу сорокаметровая пирамида первоначально была почти на двадцать метров выше. Внутри пирамиды обнаружено пустое сводчатое помещение длиной тридцать метров, шириной около двух и высотой три с половиной метра. В прошлом Тигр протекал вдоль западного основания пирамиды, которое смыкалось с пристанью шестиметровой высоты, сложенной из тщательно обтесанных и пригнанных известняковых блоков
[45].
Итак, пирамида Нимрода, подобно египетским, была первоначально сооружена из камня. С одним различием. В Египте для упрощения работы всем блокам придавались одинаковые размеры. Этого нет в Нимроде, к тому же, осматривая блоки, я и тут обнаружил интересующий меня способ подгонки камней друг к другу. Тот самый, который теперь привлек мое внимание, как только мы спустились в раскопанный датчанами дильмунский порт.
Видя мой интерес к каменной кладке, Бибби снова отвез нас к одному из холмов Али, пожалуй самому большому в этой группе и мало чем уступающему нимродской пирамиде. Ничего не скажешь, изрядная высота... Следуя за Бибби, мы обогнули холм и подошли к участку, где был расчищен кусок засыпанной битым известняком сплошной каменной стены. Судя по всему, блоки были одинаковой величины, как в Египте. Бибби объяснил, что большие бахрейнские могильники представляли собой нечто вроде ступенчатых пирамид округлой формы.
Никто не сомневался, что могильные холмы Али играли роль мавзолеев для усопших правителей. Возведение столь огромных сооружений требовало большой организованной рабочей силы; стало быть, речь шла о весьма могущественных монархах. Ограниченное число грандиозных холмов вполне может соответствовать чередовавшимся поколениям царей, а прилегающий к великанам обширный некрополь мог предназначаться для менее крупных вождей и иных лиц, достойных покоиться по соседству с монархами.
Глядя на крыши арабских домиков внизу и выжженный солнцем край с уходящими вдаль курганами, сплошной массив которых лишь в одной стороне нарушался скопищем обезглавленных пальм, я уже по-другому воспринимал эту безобразную картину. Выходит, перед нами Дильмун. Другими словами, страна, которую шумеры называли обителью своих пращуров. Местопребывание Зиусудры, священного правителя, восхваляемого за то, что он со своим кораблем даровал бессмертие человечеству. Культурный герой, которого затем под именем Ут-напиштима присвоили себе вавилоняне, ассирийцы и, возможно, хетты. Выдающаяся личность, впоследствии занявшая видное место в вероучениях иудеев, христиан и мусульман, называющих его Ноем.
Поразительно. Неужели я, сидя на вершине искусственной горы, обозреваю родину Ноя?
Может быть, в этом самом могильном холме был погребен Зиусудра. Ведь холм-то самый высокий! Согласно шумерским текстам, Зиусудра до конца своих дней оставался в Дильмуне, то есть на Бахрейне. В Шумер пришли уже его потомки. Если он и впрямь существовал, вполне вероятно, что его захоронили в одном из этих великих курганов. Как знать, возможно, я и впрямь сижу на гробнице Ноя.
Что за вздор! Ной никогда не существовал на свете. Ной — прелестный сказочный персонаж, странствовавший с плавучим зверинцем, включающим самых различных животных, которые никак не могли быть найдены в одном месте. Сказочный персонаж... но ведь за этим образом стоит Зиусудра! А Зиусудра, говорит предание, взял с собой только то, что уцелело из его стад. Крупный рогатый скот и овец вроде тех, чьи высохшие кости найдены перед четырехколесными повозками в царских могилах Ура или в мусорных кучах Шумера. Для шумеров Зиусудра был совершенно реальной личностью. Правитель из Шуруппака на Евфрате, чьи предки и потомки перечислены в шумерских генеалогиях, он со своими приближенными, включая кормчего Пузур-Амурри, спасся на корабле, когда поля и города на материке были уничтожены катастрофическим наводнением. Потомки спасшихся вернулись из Дильмуна и вновь заселили опустошенную страну предков.
Было бы нелепо недооценивать древних шумеров только потому, что они жили за пять тысяч лет до нас, когда мир в основном населяли дикари. Шумеры не были неграмотными. Это у них мы научились писать. Они не были глупыми. От них мы получили колесо, умение ковать металл, сооружать арки, ткать, ходить под парусом, засевать поля и выпекать хлеб. От них у нас домашний скот. Они придумали единицы длины и площади, веса и объема и приспособления, чтобы все это измерять. Они заложили основы математики, производили точные астрономические наблюдения, следили за временем, изобрели свой календарь, вели счет династиям. Говоря о Дильмуне, Макане и Мелуххе, они точно представляли себе, где находятся эти страны, и вообще великолепно разбирались в географии. Иначе откуда бы им знать, куда отправляться за медью, золотом, лазуритом, сердоликом, алебастром и множеством других ценимых ими материалов, которых не было в недрах Шумера, но которые тем не менее прочно вошли в их материальную культуру? Важнейшее значение придавали они истории. Исповедовали культ предков, дорожили памятью о событиях и героях прошлого. Списки правителей были священными текстами для подрастающего поколения, обучающегося у жрецов и мудрецов. Ной для нас — миф, но Зиусудра был для них исторической личностью. Дильмун представляется нам продуктом фантазии, для шумеров это был торговый центр в тридцати двойных часах пути от их страны.
Пронзительный сигнал одной из ожидавших нас внизу машин вернул меня из Дильмуна на Бахрейн. Пора возвращаться. Спускаясь по крутой осыпи, скрывающей замечательные каменные стены, я не отрывал восхищенного взгляда от величественных рукотворных холмов Али. Этот остров вместил некрополь предтеч шумеров. В более широком смысле — некрополь наших духовных предтеч. Приблизят ли нас его памятники на один шаг к нашим забытым началам?
С чувством, похожим на благоговение, я ступил на землю у подножия холма и направился к машинам, мысленно представляя себе проходившие в этих местах необычные процессии. Быть может, здесь двигался траурный кортеж с прахом могущественного властелина, чьи подвиги на морях во все более приукрашенных версиях пережили века и дошли даже до классных комнат моего детства.
Судно, ставшее «ковчегом», вероятно, было приставшим к этим берегам
ма-гур. Мифическая процессия спустившихся с него животных на самом деле состояла из нескольких коров, быка, небольшого гурта овец. После дней, проведенных на борту широкого, массивного камышового корабля, скотинка, мыча и блея, зашагала по мелководью к берегу, где сразу же принялась искать ближайший водопой. Люди и животные выжили на острове, так как бог священного правителя позаботился о том, чтобы из здешней земли били ключи холодной чистой воды с далеких гор на материке.
С ужасом смотрел я, как местные добытчики извести врубаются в самые величественные курганы. Все арабы островного княжества посещают мечеть, читают в священном Коране о своем пращуре Ное, и эти же мусульмане разрушают киркой и лопатой древнейший мавзолей, к которому, быть может, приходили Сим, Хам и Иафет, чтобы почтить память своего отца.
Древние бахрейнцы были люди религиозные. Из безымянного морского порта Бибби повез нас вдоль берега на запад, в местность, получившую название Барбар. Здесь его отряд сделал свое первое серьезное открытие — был обнаружен храм, притом совершенно особенной конструкции. Археологи вышли на него, заложив разведочную траншею на самом низком из цепочки песчаных холмов, превосходящих размерами великие курганы Али. Выбранный для разведки холм заинтересовал их после того, как коллега Бибби, профессор Петер Глоб, приметил торчащие на склонах два огромных блока тесаного известняка. Каждый из блоков весил более трех тонн и опирался на постамент из известняковых плит. Квадратные выемки на верхней грани блоков позволяли предположить, что они, возможно, служили пьедесталами для больших статуй. Углубляясь над постаментом в холм, археологи наткнулись на стену второй террасы, а выстилающие эту террасу плиты, в свою очередь, подводили к следующей ступени, и наконец последняя стена окаймляла центральную, вершинную часть всего сооружения. С удивлением отметили ученые, что за стенами не было никаких помещений. Сплошная прямоугольная ступенчатая конструкция возвышалась над окружающей местностью наподобие шумерской храмовой пирамиды. Облицовкой стен служили уложенные в три ряда без цементирующего раствора, тщательно подогнанные друг к другу блоки превосходного мелкозернистого известняка. Камни верхней площадки выглядели иначе — они сужались кверху наподобие снежных блоков эскимосского иглу, образуя круглую ограду диаметром менее двух метров.
Раскопки показали, что четыре тысячи лет назад окружающий сооружение участок был на два с половиной-три метра ниже. Надо думать, культовая площадка, венчающая отвесные, ориентированные по солнцу ступени, тогда выглядела еще внушительнее. А когда рабочие расчистили ведущие к вершине лестницы и пандусы, Бибби понял, что перед ним религиозное сооружение, подобное зиккуратам — храмовым пирамидам Двуречья.
Памятуя шумерское предание о потопе, Бибби посчитал весьма знаменательным, что на Бахрейне обнаружен храм, родственный шумерским
[46]. За пределами Двуречья в области залива прежде не находили сооружений, похожих на ступенчатый зиккурат. Продолжая раскопки, археологи нашли множество черепков, лазуритовые бусины, алебастровые вазы, медные обручи и листовую медь, птицу из меди, литую голову быка с глазницами под инкрустацию и — окончательное подтверждение связей с Шумером — медную статуэтку, изображающую обнаженного человека с большими круглыми глазами и бритой головой. Он стоял в молитвенной позе, типичной для месопотамского искусства в период между 2500 и 1800 годами до нашей эры. Одна из алебастровых ваз в точности напоминала вазы, распространенные в Двуречье в конце третьего тысячелетия до нашей эры.
С волнением осматривал я древний храм, слушая, как Бибби связывает его с дальними плаваниями шумеров и дильмунской торговлей. Никто не назвал бы эту островную цивилизацию изолированной. К тому же находки археологов не исчерпывались вышесказанным. На южной грани ориентированного по солнцу сооружения ступени спускались к глубокой выемке, а в ней, ниже уровня земли, помещался облицованный камнем бассейн, и едва мы начали спускаться в него, как у меня вырвалось:
— Пальцевый отпечаток!
Снова она, притом в еще более совершенном исполнении: каменная кладка, за которой я охочусь! Блоки неравной величины словно обрезаны лазерным лучом. Некоторые — с намеренно оставленными выступами; все обтесаны и отшлифованы почти до блеска и пригнаны друг к другу без цемента настолько плотно, что вряд ли просунешь лезвие ножа. Мне снова отчетливо вспомнились стены Винапу на острове Пасхи и другие такие же стены — от доинкских сооружений Винаке и Тиауанако до Ликса и хеттских стен Богазкёя.
Выемка, судя по всему, служила резервуаром для освященной воды, необходимой для совершаемых на верхней площадке ритуалов. Вряд ли строители случайно нашли воду, углубившись в грунт у подножия лестницы; скорее, именно наличие источника определило выбор места для строительства. Но из этого следует, что великолепная кладка резервуара относится к начальной стадии сооружения храма. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что храм строился в несколько этапов, причем, как и в погребенном портовом городе, повторно употреблялись некоторые наиболее искусно обтесанные камни раннего периода. Однако при виде этой кладки напрашивались еще и другие выводы. Люди, которые заготавливали камень, несомненно, были мореплавателями. Каменщики знали, какой материал подойдет им лучше всего и где его взять.
— Отличный известняк пошел на эту кладку, — заметил я, обращаясь к Бибби.
— Верно, — согласился он. — Причем на Бахрейне такого камня нет. Вероятно, они ходили за ним на Джиду
[47].
— На Джиду?
Похоже, мы выходим на еще одно, не учтенное ранее свидетельство мореходной активности!
— Джида — маленький островок километрах в пяти от северо-западной оконечности Бахрейна
— Вы искали там каменоломни?
— Нет. Говорят, что-то в этом роде есть, но на Джиду не попадешь — там лагерь для заключенных.
Интересный остров, туда непременно надо попасть!
Я решил обратиться к столь дружески встретившему нас на пристани министру информации и не сдаваться, пока не одолею этот бастион. Но сперва нас ожидали более срочные дела.
Мы пришли на Бахрейн с огромной дырой в носовой части судна. Выше ватерлинии еще не так заметно, но наш дюжий аквалангист Герман, уйдя под воду, вынырнул с испуганным лицом и доложил, что мог бы весь поместиться в этой полости. Веревки уцелели, но витки свободно болтались, и обнажились внутренние связки. Нужно было ремонтироваться, иначе мы рисковали, что ладья в конце концов развалится на части.
На борту был небольшой запас камыша для мелкого ремонта; мы могли также использовать кранцы, связанные из
берди. Но ведь этого все равно мало! Как быть? Если набьем в полость деревянные бруски или еще какой-нибудь твердый материал, эта начинка будет царапать камыш и вывалится при сильном волнении. Надо было подыскивать что-нибудь подходящее среди уцелевшей на острове скудной растительности.
Мне пришла в голову одна идея, и я стал перелистывать книгу Бибби из библиотечки «Тигриса». Автор привел рисунок парусной лодки из связок, напоминающей файлакские с двойным рулевым веслом на корме. Я прочел подпись: «Такие лодки длиной около пяти метров, связанные из бунтов камыша, применяются рыбаками на Бахрейне. Они обладают хорошей плавучестью, но, естественно, пропускают воду (почему их, строго говоря, следует называть плотами). Сходные лодки из папируса использовались в Египте более 4000 лет назад».
Я бросился к Бибби. Все остальные, с кем бы я ни говорил, видели на Бахрейне только танкеры, яхты и моторные суда. Бибби хорошо помнил, где ему встретилась упомянутая в книге конструкция. Проехав через весь остров, мимо десятков тысяч еще не виденных мной гробниц, мы добрались до крохотной — в несколько цементных домиков — рыбацкой деревушки Малакия на юго-западном берегу. Обвешанные драгоценностями женщины и дети с золотыми зубами показали нам ведущую к морю тропку. Бибби заметил, что несколько лет назад тут стояли куда более красивые и здоровые жилища из черешков пальмовых листьев. Валяющаяся кругом пластиковая тара и прочие современные отбросы, а также горы объедков, над которыми вились мушиные рои, выразительно говорили о быстром обогащении. Арабский шофер заверил нас, что у этих людей теперь уйма денег и главной проблемой стало, как их истратить. Оставив машину на превосходном шоссе, не ведающем, что такое копыто коня или осла, мы пересекли некогда орошаемую и тщательно возделываемую тенистую пальмовую рощу и очутились под лучами жгучего солнца на протянувшемся далеко в обе стороны великолепном песчаном пляже. В море стояли на якоре небольшие
дау без мачты. А на белом песке лежала маленькая лодка столь хорошо знакомого мне типа. Ее только что вытащили на берег, она даже не успела обсохнуть. Какой-то старик в чалме и в халате горчичного цвета, со связкой серебристых рыб в руке как раз подходил к пальмам. Мы окликнули его, он с готовностью подошел и ответил на все наши вопросы. Лодка — его, он сам ее связал, называется она
фартех, и на всем острове осталось лишь четыре человека, умеющих вязать такие лодки.
Работа мастера. Безупречная симметрия, точность во всех деталях. Материалом послужил не камыш, а черешки листьев финиковой пальмы, совсем как на Файлаке, где тоже — во всяком случае, теперь — нет камыша. Помимо скрепляющих всю конструкцию витков, каждый черешок был аккуратно сшит с соседом; общий результат был поразительно похож на камышовые лодки, которые я видел у индейцев сери в Мексике. Вероятно, стебли этого камыша и пальмовые черешки слишком твердые, недостаточно губчатые, чтобы ограничиваться только наружными витками. И они вряд ли сохраняют плавучесть так же долго, как камыш. Я спросил об этом старика. Он не смог ничего сказать по этому поводу, заметил только, что прежде местные жители ходили на
фартех в Саудовскую Аравию — это два дня пути, — после чего лодку вытаскивали на берег для просушки. Он сомневался, чтобы
фартех могла продержаться на воде больше недели: черешки не устоят против действия морской воды. Старик выходил в море на веслах, однако он нарисовал на песке контуры паруса, каким пользовались прежде, и сказал его название —
шера. Такими трапециевидными парусами раньше оснащались
дау; в наши дни их увидишь лишь на таре для фиников. Но сути дела, это тот же древнеегипетский парус, только поставленный косо. Теоретически, достаточно наклонить прямой парус, чтобы лодка из бунтов могла лавировать против ветра.
Идя вдоль пляжа, мы увидели на берегу под пальмами еще две лодки точно такого же вида. Одна — совсем новая, связанная подлинным умельцем. У таких лодок-плотов есть одно важное преимущество: они свободно проходят над известняковыми отмелями, после чего их можно вытащить на сушу, тогда как другие лодки становятся на якорь вдали от берега.
Волны выбросили на пляж черешок, который привлек мое внимание своей красотой. Тонкий конец черешка густо оброс белоснежными коническими ракушками и стал похож на чудесный белый цветок. Показывая Бибби эту диковину, я вдруг сообразил: передо мной было немое свидетельство того, что черешки пальмовых листьев не так уж быстро разъедаются морской водой. Ведь не один месяц провел в море, судя по размерам моллюсков, а совершенно целый и тугой, как новенький!
Мы догнали бегом старого рыбака, и он обещал в следующую пятницу доставить к нам на пристань две сотни черешков, если мы пришлем за ним машину. Обещал также лично отремонтировать нашу большую
фартех.
Настала пятница, и наш шофер привез черешки. Но рыбака не привез: его жена объявила, что они больше не вяжут лодки для чужеземцев. Несколько лет назад один вот такой приезжий заказал ее супругу
фартех. Снимал кинокамерой весь ход работы. Когда же лодка была готова, попрощался и уехал, сказав, что они могут оставить ее себе.
Ладно, хоть получили за наличные две сотни черешков. Что нам, строго говоря, и требовалось. Дальше справимся сами.
Карло трудился над водой, Тору и Герман — под водой. Сначала в зияющую дыру затолкали все излишки запасенного в Ираке
берди. Затем просунули под веревочные витки длинные и тугие, но достаточно гибкие черешки и сшили их на дильмунский лад; получилось что-то вроде защитной пластины кирасира. По виду пальмовые черешки удивительно напоминали стебли папируса, но они были и тверже, и тяжелее. Когда провисшие веревочные витки натянулись до предела, так, что нельзя было просунуть больше ни одного черешка, их для верности обвязали сверху бечевкой крест-накрест. И «Тигрис» опять стал таким же красавцем, каким был в первые дни, когда ветер гнал нас к Файлаке.
Нам предстояло решить еще одну проблему. Халифа, молодой симпатичный араб, которого министр в первый же день выделил нам в помощь, пришел на другое утро с неутешительными известиями. Джентльменские манеры и ослепительно белое одеяние при блестящих черных полуботинках придавали ему сходство со звездами арабского кино; да он и в самом деле снимался на студии Уолта Диснея. Отец Халифы, обаятельный старик, был одним из последних ловцов жемчуга на Бахрейне; этот промысел, как установил Бибби, существовал здесь еще во времена Дильмуна. И вот Халифа передал нам слова отца: на всем острове нет никого, кто мог бы сшить парус. Последние из тех, кто ходил на парусных
дау, достигли такого преклонного возраста, что уступили море более молодому поколению. Может быть, нам больше повезет в Пакистане, если мы пойдем туда.
Но как плыть дальше, если наш грот распорот на куски? К тому же мы убедились, что нужен парус гораздо большей площади, чтобы развивать скорость, необходимую для лавировки. Отрицательный ответ Халифы подтолкнул меня на отчаянный ход. Я полез в ящик под моим матрасом и подсчитал скудеющий запас наличных денег. Как раз хватит на то, чтобы отправить Детлефа с распоротым гротом в ФРГ. Гамбургский мастер выручит нас. Он сшил парус, он его и починит. А заодно сделает то, чего мне не удалось организовать в Ираке: сошьет нам парус побольше, по образцу тех, какими оснащались
дау. Норман, наш главный специалист по этим делам, просил изготовить парус, соответствующий расчетам Саутгемптонского университета. Только в этом случае, говорил он, сможет наш «Тигрис» показать все, на что способен. И, отправляясь с Бибби в экскурсию по археологическим объектам Дильмуна, я предоставил Норману разрабатывать чертежи по своему усмотрению. Ему помогали Детлеф и два ветерана жемчужного промысла, бывшие кормчие
дау, которых разыскал Халифа.
Более трех недель провели мы на Бахрейне, пока Детлеф летал в Гамбург. Вместе с приливом и отливом «Тигрис» то поднимался, то опускался на волнах у стенки бетонного причала. Его основательно покачивало, поскольку танкерная гавань не была защищена.
При нас состоялось торжественное открытие самого большого в мире сухого дока с участием эмира и знатных представителей других арабских стран. В нескольких метрах от «Тигриса» открылся шлюз, и в док вошел настоящий гигант, супертанкер «Тексако Джапан» водоизмещением 325 тысяч тонн. Глядя на нас с его палубы, матросы качали головой: вздумали тоже, идти в Индийский океан на копне сена... А у меня сосало под ложечкой, когда я поднимался по бесконечному трапу вдоль высоченной железной стены этого плавучего острова.
На Бахрейне нам оказывали такой же теплый прием, как и в Ираке, хотя руководители этих двух арабских стран представляли разные политические системы и не ладили между собой. С того самого дня, как Бибби сказал мне про остров с редкостным известняком и с лагерем для заключенных, я не забывал напомнить о своем желании посетить его. Герман заметил, что обычно трудность заключается не в том, как попасть в такое место, а в том, как унести оттуда ноги. И тут же предложил на выбор кучу способов угодить в лагерь, смотря по тому, какой срок мне желателен.
Тем временем министр просвещения, шейх Абдулазиз эль-Халифа, устроил роскошный арабский обед в честь экспедиции. А сын бахрейнского эмира, наследник престола шейх Хаммад, пригласил нас с Бибби во дворец и преподнес мне трость из слоновой кости с золотым набалдашником. Бибби усмотрел в этой трости мирную современную замену меча, которым арабские правители в прошлом одаривали почетных гостей.
А за день до возвращения Детлефа я услышал радостную новость: завтра на рассвете комендант лагеря на Джиде, майор Смит, будет лично ожидать меня на полицейском катере в селении Будайя на северо-западном побережье. Халифа вызвался сопровождать меня. К сожалению, Бибби к этому времени уже улетел домой, в Европу. Мне было разрешено взять с собой двух человек, только чтобы среди них не было русского. Кандидатуры американского кинооператора Норриса и итальянского фотографа Карло не встретили возражений.
Майор Смит, могучего сложения полицейский офицер, в прошлом — профессиональный английский военный с большим стажем службы в колониальных войсках, встретил нас точно в назначенное время. Его катер стоял у маленькой пристани вместе с пластиковыми лодками и старыми
дау, среди которых было несколько совершенных развалин. Тепло поздоровавшись, англичанин извинился, что пришлось поднять нас так рано, и объяснил это необходимостью поспеть к Джиде до начала отлива.
Первые четверть часа мы видели только море, затем показался прелестный островок с единственным, зато весьма импозантным зданием в окружении пальм. Остров Умм-эль-Сабан, сказал майор Смит, принадлежит сыну эмира, шейху Хаммаду. Есть источник вроде бахрейнских.
Наконец на горизонте возник Джида. Высокие утесы, белые, как под Дувром. Маленький домик — жилище коменданта. Пройдя над широкой отмелью, мы причалили к длинной пристани, сложенной из грубого камня. Справа от пристани простиралась возвышенная часть острова, слева зеленели финиковые пальмы, перед которыми громоздились здоровенные глыбы, — судя по всему, остатки взорванного людьми утеса.
Я направился к этим глыбам, чтобы осмотреть поверхность сколов. Точно, люди руки приложили. Сколы были старые. Но не настолько, чтобы связывать их с бронзовым веком. На защищенной карнизом скальной полочке я увидел высеченную в камне арабскую вязь. Подозвал Халифу, и он перевел:
«В месяц шах'бан лета 978 камни резал достопочтенный Махмуд Сар Али для обновления башен Бахрейнской крепости».
По христианскому календарю это соответствовало 1556 году. Тридцать пять лет после того, как Бахрейн захватили португальцы. Очевидно, достопочтенный араб работал на завоевателей, восстанавливая арабскую крепость, сооруженную поверх погребенного дильмунского города. К счастью, ни он, ни его заказчики не подозревали, что в песке под их ногами таятся многочисленные здания из тесаного камня.
Глыбы на берегу не сулили больше ничего интересного, но майор Смит пообещал показать нам кое-что еще. И он выполнил свое обещание. Я искренне жалел, что нет вместе с нами Бибби.
Следуя за майором вглубь острова по битой тропе, мы встречали учтиво здоровающихся заключенных. Похоже было, что их сторожат только акулы, курсирующие вдоль кромки широкой отмели. Миновав безмолвную обитель коменданта, мы поднялись на известняковое плато, составляющее большую часть Джиды. Полтора
километра в длину и много меньше того в ширину — вот и весь остров. И похоже было, что изрядный кусок его увезли древние каменотесы.
Размах добычи камня здесь превосходит всякое воображение. В нескольких местах явно потрудились португальцы или работавшие на них арабы, как мы это видели около пристани. Однако эти карьеры заметно отличаются от других, которых подавляющее большинство. В карьерах португальской поры огромные желтовато-серые плоскости и четыреста с лишним лет спустя высветляют склоны, и кое-где видно следы шпуров, куда закладывался порох. Но эти выработки окружены другими каменоломнями; чуть ли не каждый холм, каждый береговой утес источен каменотесами. Куда ни глянешь — террасы, крутости, ниши, ступени такой древности, что поверхность их потемнела, став неотличимой от нетронутых участков, а выветривание сгладило все углы и грани. Не ведавшие пороха труженики отделяли блоки от породы, оконтуривая их глубокими бороздами. Причем все блоки были разной величины. Большинство выламывались с таким расчетом, чтобы четыре человека могли донести их до берега на шестах. Но были и настоящие исполины, судя по зияющим брешам в месте добычи и по оставшимся в карьерах не обтесанным до конца экземплярам. Кое-где сохранились непонятные, причудливые образования, напоминая то ли окаменевшие глинобитные хижины, то ли кубистские монументы. В северо-западной части плато все скалы срублены, и на расчищенной площадке расположились обнесенные оградой маленькие бараки для заключенных. Повсеместно громоздятся груды эродированного щебня, порой такие большие, что их можно принять за могильные курганы. Посередине сплошь засыпанного старым щебнем участка торчит одинокий прямоугольный выступ, словно каменный дом. Можно подумать, его оставили намеренно, чтобы люди могли представить себе, какие огромные количества камня выломаны кругом.
Древние каменоломни не были для меня новинкой. Не один месяц прожил я по соседству с карьерами на острове Пасхи. Изучал каменоломни замечательных доинкских строителей в Перу и Боливии; места, где добывались огромные монолиты для мегалитичских сооружений египтян, финикийцев, хеттов. Твердейшие известняковые утесы Джиды были стесаны не какими-нибудь дилетантами, а членами великого древнего клана подлинных мастеров-камнерезов. Всюду видны следы поразительно искусной работы. И ни одной постройки. Добытый камень не просто выносили из карьеров — его куда-то увозили с расчлененного острова. Увозили в количествах, намного превосходящих число тесаных блоков в раскопанных археологами зданиях на Бахрейне. Напрашивается догадка, что в песках Дильмуна ждут открывателя еще многие постройки. Для такого пророчества есть и еще один повод. До сих пор в дильмунских дворцах и храмах не обнаружены колонны, хотя колоннады из круглых каменных столбов в древности были широко распространены от Египта до Двуречья. Между тем в карьерах Джиды на некоторых нишах можно видеть круглые выемки, где были высечены широкие — только-только обхватить руками одному человеку — цилиндрические блоки, явно служившие сегментами для колонн. В известных науке зданиях на Бахрейне таких блоков не найдено.
Большинство встречавшихся нам заключенных бродили поодаль, не обращая на нас внимания, но некоторые подходили ближе; судя по их лицам, они были рады видеть гостей на острове. Кое-кто даже улыбался нам. Майор объяснил, что в лагере много опасных преступников, фанатических противников господствующего режима. Но им-то вряд ли позволяли свободно разгуливать кругом. Когда мы присели на камнях в окружении ниш, чтобы позавтракать захваченными припасами, один заключенный не замедлил принести кувшин забеленного молоком чая.
Мы совсем не видели домашних животных на Джиде, если не считать одного белого мула. Зато кругом среди скал бродило невероятное множество одичавших кошек. Майор уверял, что их на острове не менее четырехсот. И никогда еще я не встречал такого количества бакланов. Взмывая тучами над морем, они буквально затмевали солнце.
Южная часть Джиды настолько отличалась от остального острова, что я подумал — не приложили ли и тут руку древние каменотесы. Здесь плато резко спускается почти до уровня пляжа и известняк покрыт слоем тучного чернозема. Среди финиковых пальм и декоративных деревьев зеленеют прекрасные огороды, такие аккуратные и ухоженные, словно правители Бахрейна почему-то не взлюбили садоводов и самых лучших из них отправили в лагерь. Огороды окружают бассейн, питаемый чистейшей ледяной водой из мощного родника. Пройдя весь путь под морским дном до острова, вода бьет из-под земли с такой силой, что мы бросились врассыпную от брызг, когда гордый своими владениями майор ухитрился затолкать в устье родника садовый шланг.
Не удивительно, что посещавшие Дильмун шумеры говорили о двух морях — горьком вверху, пресном внизу. Кстати, слово «бахрейн» означает как раз «два моря». Остров Джида и крохотный Умм-эль-Сабан вполне можно назвать придатками Бахрейна, который едва различается на горизонте с вершины здешних скал. Рай для Ноя и древних шумеров — ад для современных бахрейнцев, ютящихся на клочке изрезанного каменотесами известняка. На месте эмира я поселился бы на Джиде, а заключенных отправил бы на Бахрейн, поближе к нефти. Карло и Норрис явно разделяли мое мнение.
Майору Смиту заметно льстило наше восхищение тем, что он нам показал. Но когда он признался, что ему как-то одиноко в этом маленьком зеленом уголке, мы поняли, что не стоит ему завидовать. Много лет только нарядный мундир отличал его бытие от жизни вверенных ему заключенных. Плюс одиночество: заключенные хоть общались друг с другом. Когда время вынудило майора вести гостей обратно к пристани, он огорчился столько же за себя, сколько за нас. Что поделаешь, только в прилив полицейский катер мог подойти к пристани, чтобы увезти нас в свободный мир, прежде чем горькое море снова отступит от Джиды.
Пока берег не скрылся вдали, мы видели одинокую фигуру майора Смита, который стоял на пристани, будто статуя. Казалось, окружающая его пустота измеряется не только пространством, но и временем. За спиной майора высилась скала с последним посланием от араба, покинувшего этот мир четыре столетия назад. Л еще дальше зияли бреши, оставленные дильмунскими тружениками четыре тысячи лет назад.
Несомненно, они грузили свои многотонные ноши на крепкие, массивные, мелкосидящие суда —
фартех, как их называют сегодня арабы, или
ма-гур, как называли шумеры в ту далекую пору. И уж, конечно, камень выгружали не на ближайшем берегу Бахрейна, где нас высадил полицейский катер. Какой смысл волочить здоровенные блоки по суше, когда на веслах, или под парусом, или отталкиваясь шестами можно было доставить их прямо туда, где ждали строительный материал! Приливно-отливные течения на отмелях были словно дар бога вод, предусмотревшего именно такой случай. В прилив судно легко подходило к Джиде; с отливом садилось на дно. Прочно сидящую на скальном грунте широкую камышовую ладью было так же удобно загружать, как четырехколесную повозку на берегу. К началу следующего прилива она была готова выйти в путь с полным грузом, могла даже до конца полной воды поспеть к Бахрейну, чтобы разгружаться, когда вода отступит. Не удивительно, что тогдашние люди воздвигали храмы в честь богов природы.
Только мы возвратились с Джиды, как и Детлеф вернулся из Гамбурга. Мы расстелили оба паруса на пристани, чтобы Рашад намалевал эмблему — солнце, всходящее из-за ступенчатой пирамиды. Символ этот казался нам еще более уместным теперь, когда мы увидели, что дильмунские солнцепоклонники и мореплаватели тоже воздвигли такое сооружение. Душа радовалась оттого, что наш грот опять цел — небольшой, удобный в обращении. Что же до нового, огромного паруса, то я с первого взгляда ощутил к нему инстинктивную неприязнь. Норман и Детлеф тоже смотрели на него, почесывая затылок, пока Рашад старательно изображал на исполинском полотнище здоровенную пирамидищу.
Находясь в мусульманском мире, мы не забыли про рождество и — независимо от убеждений одиннадцати членов команды — достойно отметили праздник на берегу. А рано утром 26 декабря начали загружать ладью, готовясь покинуть Дильмун и, если повезет, шумерский залив. До прибытия паруса-великана мы с Норманом как раз успели решить еще одну важную проблему: надо было приготовить для него длинную рею. Халифа предложил нам выбирать среди сотен рей и спиленных мачт на бахрейнских пристанях и лесоскладах. Но шли дни, а осмотренные нами мачты и реи оказывались либо слишком короткими, либо кривыми, либо источенным червями гнильем. В последнюю минуту Халифа свел нас со старым плотником, который помог нам срастить два более или менее прочных гика в 12,5-метровую рею для нашего нового паруса.
Рашад доложил, что краска высохла, и мы укрепили великана на новой рее. Оставалось затащить эту махину на борт, и можно трогаться в путь. Чтобы оторвать от земли рангоутное дерево с привязанным к нему полотнищем, понадобились совместные усилия всех одиннадцати членов команды. Моя неприязнь готова была перерасти в отвращение. Это же не парус, а слон какой-то! Да, похоже, мы приобрели себе хомут на шею.
— Черт-те что! — крикнул я Норману. — Он сломает нашу мачту.
Норман вытер потный лоб. Бедняга, вот уже пятый день его опять трепала непонятная лихорадка. Норман согласился, что парус и впрямь тяжеловат. Прося Детлефа заказать у гамбургских парусных мастеров самый толстый брезент, каким они располагали, он не подозревал, что полотнища окажутся такими толстыми. С тяжеленной ношей мы кое-как доковыляли до края пристани; внизу качался на волнах «Тигрис».
— Как же мы все-таки затащим его на борт?
— Попробуем с помощью фала.
— Но ведь эта чертова штуковина зацепится за бакштаги!
Смотрю на Нормана — вот-те на, даже он растерялся. Поистине, хомут на шею, да еще какой! Норман, такой предусмотрительный и дотошный в планировании, спроектировал парус, который вызвал бы горячее одобрение Саутгемптонского университета. Однако теперь ни он, ни я не представляли себе, как занести эту конструкцию на борт. Стоя на месте, мы обменивались предложениями; зрители тоже не скупились на советы. Бакштаги можно обойти, если подавать рею и парус с кормы. Нет, с носа. Да нет же, надо ослабить штаги левого борта, а кто-нибудь пока подержит мачту. Можно спустить рею на борт перед всеми оттяжками.
Словом, решений хоть отбавляй. Да только в итоге мы будем связаны нерасторжимыми узами с неуправляемым чудовищем.
Я с трудом сдерживал себя. Дурацкая ситуация. Еще немного, и моя ярость выплеснулась бы через край, но тут вдруг лица моих товарищей приняли самое постное выражение и голоса зазвучали на полтона ниже. Внезапно явился эмир? Нет, это Норрис, переложив на плечи Халифы часть общей ноши, потихоньку сходил за своим младенцем и включил рекордер.
Пришлось рубить сплеча.
— Бросайте этот хомут! — распорядился я. — Обойдемся без него. Даже если мы втащим парус на борт здесь в порту, разве управишься с ним на море в шторм? Да мачта переломится раньше, чем мы найдем для него место на палубе. Все на борт! Отчаливаем!
Глава VI. «Тигрис» начинает слушаться
Подняв наш добрый старый грот в легендарных водах Дильмуна, мы почувствовали себя так, точно расправили крылья и взмыли в воздушный простор. Нос ладьи снова тугой, словно птичья грудь, перышко к перышку. Наполненный ветром парус развивал осязаемую подъемную силу — волнующее чувство, знакомое только планеристам, парусникам и пернатым. Идя от Файлаки на буксире, мы как будто тряслись на грузовике с проколотыми шинами. Теперь же легко скользили по мягким волнам, готовые взлететь подобно тому, как на наших глазах оторвался от волн лунный корабль шумеров.
Здорово! Совсем другое дело! Забыв про лихорадку, Норман сиял от удовольствия. Стоя каждый на своем крыле мостика, мы поворачивали румпелем длинное веретено, переходящее в широкую лопасть, и с удовлетворением отмечали, что судно замечательно слушается руля.
Одиннадцать вольных людей — насколько может быть свободен человек! Свободны, как летящие с нами чайки. У нас, как и у них, нет заданного наперед маршрута. Нас нигде не ожидают. Нам не предписан порт захода, и нет у нас адресованного кому-то груза. Свободны, если не считать одного маленького «но». В отличие от чаек, не признающих никаких границ, наша свобода кончалась там, где начиналась суша. Чтоб обрести неограниченную волю на просторах океана, нам надо было выйти из залива. А выход из залива подобен игольному ушку. Не промахнемся?
Зимний ветер давно вернулся к норме и дул в полную силу от севера. Идеальный ветер для плаваний на камышовой ладье от Ирака до Бахрейна! Но после Бахрейна залив изгибается под прямым углом, и, чтобы проскочить в игольное ушко, мы должны были следовать курсом вест-норд-вест. Вряд ли попутный ветер повернет вместе с нами к выходу из залива... В наши дни, как и во времена шумеров, на этом отрезке требовалось не просто плыть по воле стихий, а активно управлять судном.
Если смотреть на глобус, а не на искажающую пропорции плоскую карту мира, залив сопоставим по площади с Англией и Шотландией вместе взятыми. А очертаниями он напоминает желудок: спустившись но Шатт-эль-Арабу, мы как бы прошли через глотку, теперь же направлялись к единственному выходу — расположенному в противоположном конце Ормузскому проливу. Здесь Аравийский полуостров словно нацелил с юга на север длинный кинжал, который вонзился бы в набитое брюхо Азии, не изгибайся иранское побережье как раз напротив острия, образуя весьма извилистый и коварный проход между замкнутым со всех сторон заливом и вольными просторами океана.
Лихо скользя по волнам, мы были озабочены не только тем, как в споре с господствующими ветрами протиснуться через узкий рукав, испещренный островами и окаймленный скалами. Ормузский пролив известен невероятно интенсивным движением, сухогрузы и танкеры со всего света мчатся сквозь него в обоих направлениях, так что трудно представить себе более опасное место для малых парусных судов. Верно ли, нет ли, но нас предупреждали, что здесь проходит самая загруженная в мире морская трасса. На нашей путевой карте пролив напоминал двухполосную автостраду: одна полоса размечена для судов, направляющихся в залив, другая — для выходящих из него. Отменная организация для гигантов, несущихся полным ходом с непрерывно работающим радаром, но малые суда из дерева или камыша явно не могли рассчитывать на такую же безопасность. Капитан одного норвежского супертанкера рассказывал мне, как вахтенный офицер во время утреннего обхода палубы обнаружил прилипший к носу корабля парус от
дау. Саму
дау никто не видел, и судьба ее команды осталась неизвестной.
В Манаме мы с Норманом несколько раз навещали пристани для малых судов и с помощью Халифы беседовали с владельцами многочисленных моторных
дау. Из Омана на Бахрейн довольно часто ходят
дау за пресной водой и другим грузом, и один из кормчих рассказал нам про отгороженный скалами от главной трассы узкий коридор, которым они пользуются, обходя оживленную магистраль больших кораблей. Он согласился провести нас по этому пути, если мы будем за ним поспевать.
Опрометчивость ни к чему, когда налицо все основания быть осмотрительным. И когда мы подняли парус за танкерным рейдом у Бахрейна, рядом с нами следовала старая, потрепанная ветрами
дау без мачты. Темнокожий кормчий Саид Абдулла смахивал скорее на африканца, чем на араба, хотя был родом из султаната Оман. Три члена команды, словно предчувствуя, что их ожидает, в последнюю минуту покинули
дау. Четверо остались, чтобы идти в Оман; один — африканец, представитель народа суахили, двое — уроженцы Северного Йемена, четвертый — земляк кормчего. Рашад охотно присоединился к этой пестрой компании, чтобы исполнять обязанности переводчика и связного между двумя суденышками, примерно одинаковой величины.
Саид не располагал картой, но компас у него был. Он не пошел прямо к нашей цели — Ормузскому проливу, а предпочел путь, которым, как мы поняли, традиционно следуют все
дау. Как только мы миновали белый песчаный островок с левого борта и Бахрейн со всеми его пароходами ушел за горизонт, Саид взял курс на оконечность полуострова Катар — еще одного, правда тупого, кинжала, нацеленного на север с аравийской стороны. Мы потратили довольно много времени на то, чтобы выбраться из гавани, и теперь Рашад крикнул нам, что Саид предлагает прибавить скорости, чтобы миновать Катар до ночи. Норман заглянул в лоцию Персидского залива, и нам стало понятно стремление Саида идти побыстрее. Вот что говорила лоция:
«В 1951 году отмечено, что все селения на северо-западном берегу Эль-Катара разрушены и покинуты после повторных набегов в предшествующие годы. Иногда среди развалин временно располагаются рыбаки».
К северо-западному побережью Катара мы подошли как раз в ту минуту, когда солнце скрылось и наступила ночь. Полуостров не произвел на нас впечатления покинутого. Мы видели огни на берегу справа по борту, и сразу вспомнились наши файлакские приключения. Саид шел со скоростью четыре узла, мы же, держа восточный курс при северном ветре, могли развить от силы два узла, и он решил взять нас на буксир. К счастью, трос вскоре лопнул, и когда Саид вернулся, чтобы снова подать нам конец, я отказался. Буксировка нетерпеливым капитаном грозила нам большими неприятностями, чем достаточно далекий берег Катара. Мой отказ возмутил Саида, и Рашаду было далеко не просто играть роль посредника в развернувшихся бурных прениях. В разгар переговоров на палубе «Тигриса» приземлилась огромная морская птица с длинным крючковатым клювом. Пернатая гостья повела себя очень развязно, и Карло с трудом усмирил ее. Потом она снялась с ладьи и опустилась на воду, а на смену ей из ночного мрака на свет кормового фонаря явился крупный сокол. Он парил так низко над головами рулевых, что мы различали ноздри на его загнутом клюве, пока и этот гость не удалился. В чистом небе сияла полная луна, мы шли под парусом в полном ладу с ветром и естественным ритмом волн и наслаждались самостоятельностью. Однако северный ветер пронизывал до костей, и мы с удовольствием нырнули под одеяла, как только
дау, прибавив ходу, покинула нас.
Саид предупредил, что от северной оконечности Катара — мыса Ракан надо править на высокий остров Халул с маяком. Только я погрузился в крепкий сон, как меня разбудили рулевые. Огни Катара пропали, зато по соседству снова качалась
дау, и Рашад крикнул с нее, что Саид настаивает на буксировке. Зная от рулевых, что мы идем точно предписанным курсом, я не мог понять его настойчивости и ответил решительным отказом. После чего выяснилось, что дело не в нас. Волны разгулялись, и дряхлая
дау грозила рассыпаться: уже есть течь, они вынуждены непрерывно откачивать воду. Моторное суденышко не может идти так медленно, как мы идем под парусом, а если им кружить около ладьи, волны раздолбают корпус вдребезги. А с нами на буксире
дау пойдет тише без ущерба для устойчивости и для мотора. Иначе Саид отказывается продолжать путь.
Вот так номер! Теперь, когда ладья наконец-то слушается нас, наш проводник кипятится, потому что мы против буксировки. Саид нехотя согласился, и
дау скрылась из виду. Напоследок Рашад крикнул, что у пего есть предложение: отослать
дау обратно на Бахрейн и дальше идти одним. Кое-кто из ребят поддержал его, но Карло и Юрий считали, как и я, что все-таки безопаснее не разлучаться с провожатыми, пока мы не выйдем из этого мудреного залива со всеми его препятствиями и встречными кораблями, да при таких непостоянных ветрах и течениях.
Час спустя
дау опять подошла к ладье, и теперь капитан Саид был сама любезность. Он целиком к нашим услугам, готов делать все, что мы скажем. Одна лишь просьба — сообщить ему нашу позицию и расчетное время подхода к острову Халул, поскольку он из-за бесконечного кружения совершенно сбился с пеленга. В лунном свете было видно, что
дау изрядно качает; Рашад подтвердил, что «Тигрис» выглядит капитальной пристанью рядом с хрупкой люлькой Сайда. Помпа работала непрерывно. Но хотя спасательная шлюпка
дау производила еще более ненадежное впечатление, чем сама старая посудина, Рашад твердо настроился до конца выполнять миссию связного. Конечно, Саиду было бы спокойнее видеть за кормой нашу добротную ладью, но он предпочел оставить все по-прежнему, чем возвращаться в одиночку на Бахрейн. И мы продолжали путь самостоятельно, очень гордые собой.
Море было неожиданно чистым, если не считать изредка встречавшиеся нам деревянные ящики и другие плавающие предметы. Я ожидал гораздо худшего. Время перевалило за полдень,
дау давно не показывалась, когда Эйч Пи внезапно крикнул с мостика, что прямо по носу на воде лежит какая-то непонятная белая коробка. Мгновением позже сильный толчок сотряс всю ладью. Перестав слушаться руля, «Тигрис» развернулся кругом, и парус вместе с провисшими длинными шкотами начал нещадно лупить и хлестать все и вся. Несколько секунд продолжался полный сумбур, после чего наш корабль замер на месте, словно пойманный огромной сетью среди моря. Так оно и оказалось. Белая коробка, приплясывая, скрылась под водой; одновременно нас не хуже какого-нибудь морского змея обвил красный найлоновый трос. Одним прыжком Детлеф очутился на боковой связке, закрепил за штаг страховочный леер, свесился за борт и обрубил рыбацким ножом толстый канат, грозивший распороть камышовые бунты, единственный способ спасти рулевые весла и само судно. Красный змей разжал свои зловещие объятия и бессильно закачался на гребнях, пропуская «Тигриса», снова послушного руке Эйч Пи. Надев маску, Детлеф проверил бунты и сообщил, что они не пострадали.
А еще через несколько часов «Тигрис» оказался в окружении настоящих морских змей, в том числе таких же красных, как найлоновый трос. Змеи сопровождали нас дня два. Жуткие твари, длиной с обыкновенную гадюку и окрашенные природой в самые яркие цвета. Сонно качаясь на волнах у наших бортов, они смахивали на куски каната. Но были и такие, что активно плавали, извиваясь по-змеиному. И яд у них есть, притом очень сильный. В районе, через который мы шли, и в Оманском заливе водится двадцать заметно отличающихся друг от друга по окраске и узорам видов морских змей; укус девятнадцати из них смертелен. Правда, они довольно вялы от природы и сами, как правило, на человека не нападают.
Я заранее знал, что мы можем встретить змей, но первая, которую я обнаружил, возникла у самого борта как раз в ту минуту, когда Детлеф, решив принять душ, зачерпнул воды брезентовым ведром на веревке. Змея скользнула в сторону, но Детлеф, услышав мой предостерегающий возглас, решил, что она в ведре, и чуть не свалился за борт к рептилии, однако вовремя узрел ее. У этой змеи была коричневая спина и желтое брюхо, бока украшены черным зигзагом. Следующая была вся желтая в черную крапинку. Некоторые толщиной и окраской в точности напоминали куски красного троса, из мощных объятий которого нас вызволил нож Детлефа. Несколько дней мы не отваживались ни купаться, ни окатываться из ведра, не убедившись предварительно, что вода около «Тигриса» свободна от облюбовавших этот район рептилий.
Выбравшись в ту ночь из рубки, чтобы заступить на рулевую вахту, я увидел, что «Тигрис» окружен огнями, словно в порту. С одной стороны мигал маяк; ночное небо за ним в трех местах было озарено темно-красным отсветом далекого пламени. С другой стороны, совсем близко, пылал газовый факел, освещая наш парус и правую стену рубок. Сверкая огнями, прошел за кормой большой пароход, а впереди виднелся топовый огонь нашей
дау. Стало вдруг заметно теплее. Редкие звезды и почти полная луна лихо плясали над парусом, мелькая то слева, то справа от стеньги. Мы достигли острова Халул и теперь пробирались сквозь скопище нефтяных вышек. По расчетам Детлефа, скорость ладьи на пройденном отрезке превышала три узла.
На другое утро мы едва не столкнулись с
дау, когда две шипящие волны сбросили нас в одну и ту же ложбину. Саид вернулся известить нас, что помпа капризничает и он намерен править несколько севернее, чтобы зайти для ремонта на остров Сирри. Отыскав Сирри на карте, мы с радостью убедились, что снос не должен помешать и нам подойти к нему. Но если капитан Саид, исходя из нашей нынешней скорости, полагал, что мы будем там до заката, то наши штурманы считали, что «Тигрис» в лучшем случае достигнет Сирри во второй половине следующего дня. Несмотря на столь резкое расхождение в мнениях, мы шли более или менее вместе;
дау то забегала далеко вперед, то так же далеко отставала.
Через некоторое время Саид опять подошел к нам и, качаясь на волнах в опасной близости от «Тигриса», передал через Рашада, что мы правим слишком круто к северному ветру. Так мы на Сирри не выйдем, надо спуститься под ветер, потому что остров лежит гораздо восточнее нашего курса. Профессиональная гордость Детлефа и Нормана, прокладывавших курс ладьи, была задета. Они заявили, что капитан Саид явно допетлялся до того, что потерял всякое представление о направлениях.
Вот уже и закат, а острова все не видно. Не было его и на другое утро, когда солнце взошло. Саид больше не препирался с нами, а кротко следовал за ладьей на почтительном расстоянии. Ночью мы, как и предсказывали наши штурманы, снова миновали несколько нефтяных вышек. Бортовая качка достигла такой силы, что пришлось закрыть брезентом левую дверь рубки для защиты от брызг. Утром
дау решилась приблизиться к нам, и Рашад крикнул, что теперь у них и руль барахлит. Мы предложили ему вернуться на «Тигрис», но он твердо решил оставаться на своем посту.
В полдень, когда солнце кульминировало, Норман и Детлеф объявили, что скоро покажется остров Сирри. Норман влез по перекладинам до самой стеньги, и тут же раздался его торжествующий голос: справа по носу видно Сирри! Теперь, сколько бы нас ни сносило, не промахнемся.
За Норманом и остальные увидели невысокий холмистый остров. Триумф наших штурманов и камышовой ладьи, сдавшей первый серьезный экзамен в активном плавании. Под вечер остров вырос в целую громадину. Его окаймляли штурмуемые белыми каскадами скалы, похожие на развалины старинного замка. А за скалами мы рассмотрели низины с большими деревьями. Гораздо меньше порадовал нас вид огромных построек и нефтяных установок на берегу.
В это время
дау догнала нас, чтобы сообщить, что мы дошли до цели. Пошел дождь. Мы приготовили новый якорь и условились войти в гавань и ждать там, пока
дау не отремонтируется. Саид снова взял на себя инициативу и вырвался далеко вперед, однако тут же примчался обратно, и мы услышали голос Рашада:
— Это не Сир! Это персидский остров Сурри! Саид все время говорил вам, что вы чересчур отклонились на север!
Полнейшее замешательство. Под проливным дождем мы снова изучаем карту. Кричим по буквам названия на арабский, английский и немецкий лад. Остров Сурри? Такого вообще нет. Остров Сирри есть, этот самый, и он действительно принадлежит Ирану. Мы заставили Саида и Рашада несколько раз повторить название, и стало ясно, что капитан Саид все-таки подразумевал Сир, а не Сирри. На карте и впрямь значился остров Сир Абу Ну'аир, но совсем в другой стороне, у берегов Омана. Услышав полное название, Саид подтвердил, что это тот самый остров, который ему нужен.
Ничего страшного. Для нас только лучше: отсюда мы можем идти прямо на Ормузский пролив, ветер вполне это позволяет. Но сперва вместе зайдем на Сирри, чтобы капитан
дау мог устранить все неисправности.
Нет, спасибо! Саид был в ужасе при одной мысли о том, что очутился в иранских территориальных водах. У него нет иранского флага. Нет бумаг, позволяющих ему находиться здесь.
У нас есть иранский флаг, можем одолжить. Однако спорить было бесполезно, на сей раз капитан Саид не хотел даже выслушать нас. Сказал, что мотор тоже барахлит и водяная цистерна протекает. И это не аравийские воды, можно нарваться на большие неприятности. И не успели мы толком договориться, что будем делать дальше, как
дау с неисправной помпой, с худым корпусом, с поврежденным рулем полным ходом устремилась по ветру на юго-восток, в сторону от Ормузского пролива. Мы крикнули вдогонку, что предпочли бы теперь идти на пролив, никуда не отклоняясь. Сквозь гул моря нам показалось, что Рашад назначает встречу у аравийского берега где-то к северу от Дубай. Название места мы не разобрали, не поняли даже, идет ли речь о бухте или прибрежном островке, и оставалось только руководствоваться курсом, который избрал Саид. Вскоре маленькая
дау исчезла за горизонтом и больше уже не возвращалась.
Нам незачем было заходить на Сирри, к тому же остров утратил в наших глазах всякую привлекательность, как только мы увидели нефтяные установки и ангароподобные постройки. Но и задавать стрекача по примеру Саида у нас не было причин. Правда, виз нет, по кому придет в голову искать шпионов или контрабандистов на борту камышовой ладьи! И мы, была не была, вошли в защищенные от ветра воды с южной стороны острова и поплыли вдоль самого берега. Внезапная тишина и покой после немилосердной качки создали благостное ощущение какой-то театральной нереальности, и мы невольно старались говорить потише, занимая места вокруг дощатого стола, когда Карло позвал нас ужинать. Обжаренная икра, печенье, горячий компот — мы отдали им должное, не снимая непромокаемых курток. Тем временем дождь перестал, и мы любовались эффектными декорациями. Смирное море, парящие облака, слева по борту — длинный ряд фонарей, как будто мы неторопливо спускались по реке, справа — чуть ли не сплошь буйное красное зарево, словно мир вдоль всего горизонта был охвачен пожаром. Особенно ярко он полыхал в той стороне, куда нам предстояло идти. Несколько раз нам чудился вдали топовый огонь
дау, увозящей Рашада, но рано утром он окончательно пропал из виду.
Мирная жизнь под прикрытием Сирри длилась недолго. Ветер вырвался из-за гор с удвоенной силой, и волны вздыбились пуще и злее прежнего, словно решили отомстить нам за попытку избежать их хватки. Веревки ослабли, многочисленные деревянные части начали вихляться в местах соединения друг с другом и с камышом, и рулевой мостик заходил у нас под ногами. От гула разбивающихся волн и жуткого концерта скрипучих надстроек закладывало уши. Брусок твердого дерева, служивший упором для левого рулевого весла, треснул. Сперва он норовил защемить наши босые ступни, потом и вовсе стал разваливаться, грозя дать волю толстенному веретену, способному раздолбать вдребезги всю корму. Тотчас явился Карло с веревкой наготове, словно какой-нибудь ковбой с лассо, и вместе с Юрием укротил брусок крепкими путами. Одну за другой корчащиеся части мятежной кормовой надстройки облекали в смирительные рубашки. В поединке с волнами за последние дни не был поврежден ни один стебель камыша, пи один пальмовый черешок, зато две широкие доски из твердой древесины, которые мы попробовали опустить с борта, чтобы умерить снос, сломались посередине, будто шоколадные плитки. С растущей тревогой думали мы об исчезнувшей с Рашадом
дау. Тугие бунты «Тигриса» даровали нам чувство полной безопасности при любом волнении. Но каково-то сейчас приходится дряхлой
дау?
Однако больше всего заботил нас пламенный частокол на пути ладьи. Чем ближе, тем ярче и грознее он выглядел; казалось, мы направляемся к полю битвы. На исходе ночи черное небо побледнело, побледнело и зарево, но мы-то знали, что пламя никуда не делось. На карте был обозначен обширный район, закрытый для плавания из-за нефтяных вышек. Нам предстояло огибать его с севера, после чего нас ожидал узкий проход между другим скопищем вышек и островом в оторочке из рифов. Еще севернее пролегала главная судовая трасса, от которой следовало держаться подальше во что бы то ни стало.
В опасный район мы вошли вскоре после полуночи. Сперва увидели проблески маяков, потом справа от нас, совсем близко, возникли контуры освещенного беспокойным заревом острова. Ладья развила небывалую скорость, и далеко впереди мы различали топовый и красный ходовой огни какого-то суденышка — возможно, наших проводников. С барахлящим мотором
дау вряд ли могла идти намного быстрее «Тигриса», которого все сильнее подгонял попутный ветер.
Поднимаясь на вахту в два часа ночи, я с удивлением обнаружил, что койка Нормана пуста. По графику он сменял меня, а между тем с мостика доносился его голос. Детлеф спокойно спал, убежденный, как и я, что при благоприятном ветре и видимых издалека маяках рулевой может уверенно управлять ладьей, не опасаясь столкновений. Однако, выбравшись из рубки, я тотчас понял, что либо карта нас подвела, либо мы неверно определяли свое место. Слева, где полагалось мигать маякам, черное небо и огни пароходов внизу. Справа — постоянные огни и зарево. Неужели нас вынесло течением к северу от частокола вышек, вплотную к морской трассе?
На мостике Норман и еще трое ребят горячо переговаривались, склонясь над картой. Что-то неладно, в чем-то мы просчитались...
— Что случилось, Норман?
— Пришлось изменить курс, мы не на тот маяк ориентировались!
Лежа без сна в щелеватой рубке, Норман услышал возбужденные голоса на мостике. Тору, Асбьёрн и Норрис
недоумевали, почему видно больше огней, чем должно быть согласно карте. Мигом поднявшись на мостик, Норман обнаружил, что «Тигрис» идет прямо на риф. Островной маяк не работал, а тот, но которому мы ориентировались, давал неверный сигнал.
— Самое безопасное, что нам оставалось, — свернуть круто на север, — объяснил Норман. — Мимо рифа проскочили всего в какой-нибудь миле!
Среди наблюдаемых нами факелов только один отвечал позиции, указанной на карте, остальные либо пылали в других местах, либо вовсе не были обозначены. Мы миновали их один за другим, и хотя никто толком не понимал, что произошло, было очевидно, что бдительность и быстрая реакция Нормана спасли нас от столкновения с рифом. Уяснив, что мы каким-то чудом обошли все препятствия, все рифы и вышки с правого борта, мы повернули вправо и курсом 80° двинулись прямо на Ормузский пролив.
Перед самым восходом ветер словно взбесился. Мощные порывы налетали с западных румбов, на море возникла толчея, обычно связанная с наличием рифов или встречных течений. Приметив вдали, слева по носу, какие-то непонятные образования, мы вооружились биноклем, чтобы выяснить, что это такое. В сумеречном освещении там возвышалось нечто вроде причудливых замков из арабских сказок со штурмующими башни и бастионы белыми каскадами. А у самого горизонта мелькала крохотная точка — возможно, наша
дау с Рашадом. Однако бинокль пришлось отложить и сосредоточить все внимание на своем собственном судне. Внезапный коварный шквал вместе с крученой волной развернул ладью боком к ветру, и не успели мы сманеврировать парусом и рулевыми веслами, как на нас словно обрушились все дьяволы вселенной. Вместо курса 80° нос ладьи через 0° переметнулся на 340°, и вся команда высыпала на палубу, чтобы совладать с вышедшим из повиновения судном. Ветер давил на снасти и на бамбуковые стены с остервенением, какого мы еще не испытывали в этом плавании. Толстый парус хлопал и бился, норовя сорвать людей с палубы; концы и петли шкотов, брасов и горденей хлестали почем зря палево и направо. Мы облепили парус и спасти, точно муравьи, и в самый разгар отчаянного поединка со стихиями лопнул деревянный брус, за который крепился левый топенант, и рея вместе с парусом наклонилась влево. Надо было живо убрать беснующийся парус, пока он не разорил все спасти. Обмотанные вокруг перил мостика фалы всегда легко отдавались, по теперь их натянуло с такой силой, что мы никак не могли с ними справиться. И атакуемый ветром парус так и остался висеть на покосившейся рее. Я благодарил судьбу за то, что это был наш старый верный грот, а не забракованный мной новый гигант.
Пока на палубе, на мостике и крышах рубок продолжалась битва, я улучил минуту, чтобы еще раз взглянуть на причудливые образования впереди. Вот они, никуда не делись. Но
дау пропала и больше не показывалась. Призрачные замки в голубой мгле заметно приблизились, озаренные первыми лучами восходящего солнца. В одном месте какая-то огромная платформа покоилась на высоченных и толстых, что твоя башня, столбах — получилось нечто вроде опрокинутой крепости. Два других сооружения напоминали не то мечети, не то восточные дворцы со шпилями в окружении домов. И не поймешь — то ли они опираются на рифы или отмели, то ли вынесены в море и стоят на якоре. Волны, курчавясь барашками, бешено штурмовали колонны и бастионы загадочных громад. По всему было видно, что нас пронесет южнее этих махин, даже если все наши старания укротить грот и заставить ладью слушаться руля окажутся тщетными. На карте рукотворные громады не были показаны, стало быть, они появились недавно. А что подстерегает нас дальше? В это время путь нам пересекли два огромных танкера, а третий промчался параллельно «Тигрису». Что им качка! Они шутя рассекали волны носом, идя среди белых гейзеров. Попади ладья под такие каскады, они смыли бы с палубы все подчистую. Но «Тигрис» уткой переваливал через гребни, не давая волнам ворваться на борт. Волны нас не страшили — только суша или встречные суда.
Понадобились закаленные в горах, железные пальцы Карло, чтобы раскрепить упрямый фал, пока пять или шесть членов команды изо всех сил подтягивали парус, ослабляя натяжение узла, который буквально врезался в деревянные перила мостика. Но вот фал отдай, парус спущен на палубу, Норман заменяет треснувший брусок. Эйч Пи привязался к качающейся стеньге, чтобы тянуть снасти сверху. Парус подняли, повернув под нужным углом, и «Тигрис», подчиняясь рулевым, лег на нужный курс.
Завтракать пришлось стоя, поскольку частые волны так и норовили разбавить нам овсянку брызгами. А одна, особенно резвая поперечная, волна ухитрилась прорваться в просвет между рубками, смыла всю посуду со стола и намочила нас до пояса.
Если замеченная нами рано утром точка впереди и впрямь была
дау капитана Саида, то он явно нацелился не на Ормузский пролив, а на аравийский берег южнее пролива. Учитывая западный ветер, мы сейчас находились в идеальной позиции для выхода на пролив. Но нельзя же оставлять Рашада без денег среди незнакомых людей! И мы повернули на юго-восток, в ту сторону, куда ушла
дау.
Обстановка была предельно напряженная. Волны так разгулялись, что рулевым надо было в оба глаза следить за каждым гребнем, за каждым порывом переменчивого ветра, чтобы ладья опять не вышла из повиновения. На случай, если кого-нибудь смоет с палубы, за кормой волочился красный спасбуй; не говоря уже о том, что у каждого вокруг пояса был обвязан страховочный леер, и я строго-настрого велел ребятам за пределами плетеных стен наших рубок непременно закреплять его за снасти или надстройки. Откуда-то явилась двухметровая акула и затеяла игру с пляшущим на волнах спасбуем. Первая крупная рыба, встреченная нами в этом районе, если не считать промелькнувшие несколько раз высокие острые плавники, напоминающие плавник меч-рыбы.
В полдень мы впервые после Шатт-эль-Араба вошли в зону ужасающего загрязнения. Скопище тряпок и черных шматков мазута красноречиво говорило о том, что здесь недавно промывал свое чрево танкер. Сверх того, в смолистой жиже плавали и бултыхались банки, бутылки и прочий хлам, а также невероятное количество вымазанных нефтью крепких лесоматериалов: бревна, доски, ящики, решетки, листы фанеры, на одном из которых примостилась желтая ядовитая змея. Мы никогда еще не наблюдали ничего подобного вдали от суши. Уж не случилась ли тут какая-нибудь морская катастрофа? Ни одна из здешних
дау по доброй воле не рассталась бы с драгоценными лесоматериалами. С другой стороны, вряд ли
дау могла бы взять на борт столько сырой нефти.
С великим трудом избегали мы столкновений с качающимися на волнах, словно торпеды, бревнами и балками. Обломки поменьше нам не удавалось обойти. Впервые я шел на лодке-плоту с такой скоростью. Детлеф определил, что мы развиваем больше четырех узлов.
Ладья то и дело выходила из подчинения, но каждый раз нам удавалось вернуться на прежний курс. Когда парус грозил заполаскать, от рулевого на подветренной стороне мостика требовалось одной рукой поворачивать румпель, а другой выбирать шкоты и брасы, ловя ветер. Руки членов команды были сплошь в пузырях и ссадинах от веревок. Карло и Юрий, на плечи которых ложилась основная тяжесть в борьбе со снастями, с трудом разгибали пальцы.
Мы шли полным ходом вперед, все внимание — снастям и поискам
дау; внезапно с рулевого мостика донесся спокойный голос Асбьёрна:
— Поглядите-ка, что это такое? Облако, что ли?
Над нами простиралось голубое небо, но вдоль всего горизонта впереди залегли белые облака. Облака-то облака, по что за чертовщина торчит там выше облаков? Я схватил бинокль, и моему взору отчетливо предстало то, что вызвало недоумение Асбьёрна. В первую минуту я не поверил своим глазам: над облаками парила суша, какой-то призрачный, особый мир. Далеко-далеко, так что нижние склоны казались прозрачными, обрываясь выше облачной пелены, повисла в воздухе скальная гряда. Собственно, мы видели только верхнюю кромку синеватой полосой на фоне голубого неба, притом так высоко, что это казалось фантастикой. Гималаи не входят в наш маршрут. Что это? Оптический обман, мираж?
Навигационная карта не подготовила нас к такому зрелищу, на ней была обозначена только береговая линия, а в остальном вся суша показана сплошь белым цветом. Наше зрение было настроено на равнины Ирака, низменности приливно-отливной зоны, известняковые отмели, и столь великолепная картина психологически застигла нас врасплох. Обратившись к физической карте Омана, мы установили, что упирающийся в Ормузский пролив аравийский кинжал в самом конце круто вздымается на высоту до двух тысяч метров над уровнем моря. Вот эти самые горы мы и увидели теперь прямо по нашему курсу.
Оказалось, что весь мыс — сплошная горная гряда, почти отвесно спадающая к берегу, на которой мы правили.
Детлеф только что определил, что мы идем с рекордной скоростью — около пяти узлов. Однако, видя, что нас ожидает впереди, мы поспешили повернуть рулевые весла, пока не поздно: к такому берегу лучше не приближаться... В своем старании поспевать за
дау мы явно забрались на юг дальше, чем нам положено. У
Саида мотор, он-то может идти еще южнее в поисках подходящей гавани.
Произведя расчеты с поправкой на ветровой снос, наши штурманы пришли к выводу, что мы слишком отклонились к югу, прямо на Ормузский пролив теперь править уже не сможем, придется все-таки идти к берегу. Но в какой точке можно к нему подходить? И — главная загадка — где тут могла укрыться
дау! Машина позволяет ей проникнуть даже в самую хитрую бухточку. Однако на нашей карте не обозначено никаких портов, никаких селений, даже маяков. Ни одного пляжа, ни одной пристани, просто якорь отдать и то негде: высокие скалы обрываются прямо в бурлящую пучину.
По карте единственная зарубочка в береговой линии, где капитан Саид со своими людьми и Рашадом мог найти укрытие и стать на ремонт среди крутых утесов, помещалась у мыса Шаих. Контуры гор в той стороне подсказывали, что моряка там ждет зажатая между скальных стен, отнюдь не гостеприимная бухта. Нам еще предстояло убедиться в верности этой догадки, поскольку надо было миновать Шаих на пути к мысу, обозначающему вход в Ормузский пролив.
До гор еще было далеко, но все же достаточно близко, чтобы мы начали различать грани каменной твердыни, которая, вынырнув из моря, пронизывала облачную пелену. По доброй воле мы не стали бы подходить к таким берегам. Мы уже не обращали внимания на плавающие тут и там обломки и не задумывались над загрязнением — все помыслы направили на то, как спасти свою шкуру. Не в пример любому другому судну, лодка-плот вроде «Тигриса», оседлав волну, ляжет невредимой на пляж или отмель, даже камни и рифы ей не так уж страшны, но отвесные скалы — погибель для всякой конструкции.
По расписанию Норману было пора выходить на связь с береговыми радиостанциями. Мы приготовились доложить о пропаже
дау с Рашадом на борту и сообщить наше примерное место перед голыми скалами северо-западного Омана. Нас вызывало Бахрейнское радио, но в хоре заполонивших эфир на этой частоте мощных голосов никто не слышал Нормана. Наше местонахождение осталось для внешнего мира такой же загадкой, как позиция
дау для нас и позиция «Тигриса» для капитана Саида.
Мы шли с боковым ветром параллельно берегу, но нас все ближе прижимало правым бортом к тем самым утесам, которых мы упорно сторонились. В жизни не видел более нелюдимого края! На суровых стенах вонзившихся в небосвод вершин — ни кустика, ни клочка зеленой травы. Вздыбленная торчком окаменевшая пустыня. Штормовой ветер с лета упирался в скалы; буйные волны, штурмуя многокилометровую твердыню, встречали отпор и беспорядочно откатывались, образуя коварную толчею, какой никогда не бывает в открытом море. До чего же далеки от реальности кабинетные исследователи, которые сами верят и учат других, будто до европейцев мореплаватели ходили только вдоль берегов и лишь с появлением испанских каравелл начались трансокеанские плавания! Самый трудный фарватер, самые сложные проблемы там, где из воды торчат скалы, где течения и волны наталкиваются на отмели и берега. Идти вдоль берега — сложнейшая задача для пользующегося примитивными плавучими средствами. Должно быть, древние мореплаватели в подобных обстоятельствах испытывали те же чувства, что и мы, разве что они были подготовлены намного лучше нашего. В плаваниях на простейших судах главной трудностью для меня и моих товарищей всегда было благополучно миновать последние мысы на пути в открытый океан и подойти к берегу на другой стороне. Близость Аравийского полуострова отнюдь не внушала нам чувство безопасности. Напротив, это был подлинный кошмар, и мы только мечтали: вот бы сейчас очнуться на безопасных просторах Индийского океана!
Умеренный снос подтверждал мрачное пророчество, которое высказали наши штурманы, как только увидели сушу: мы уткнемся в утесы раньше, чем успеем снова выйти на широту Ормузского пролива, — очень уж сильно ветер опять отклонился к северу. Конические волны, рожденные сумбурным откатом, то и дело подхватывали ладью, разворачивали ее на сорок — пятьдесят градусов и сбрасывали в ложбину, и приходилось всей командой отчаянно воевать с парусом и снастями, чтобы вернуть «Тигриса» на нужный курс. Ничто не сплачивает людей всех возрастов и взглядов так, как совместная борьба перед лицом смертельной опасности. Национальность, социальное происхождение — в такие минуты об этом не думаешь. Одиночка уподобился бы барабанщику, вознамерившемуся исполнить симфонию без дирижера и товарищей по оркестру. Тут не выгадаешь за счет другого и никого не поразишь безрассудной удалью. Только при согласованных коллективных усилиях можно рассчитывать на победный исход.
Воодушевление и решимость команды потягаться со стихиями, которые упорно толкали нас на скалы, отчетливо выразились в торжествующем крике Нормана:
— Ур-ра, мы идем острым курсом!
Красный спасбуй за нашей кормой, позволяющий определить угол сноса и истинное направление хода, подтверждал его слова. Нам бы рулевые весла пошире да побольше шверцов, тогда дело пошло бы еще лучше, но и то мы выиграли у ветра несколько важных градусов. Маленькая победа заметно прибавила всем бодрости. Однако суша продолжала надвигаться. И никак не развести ее с пляшущим на волнах носом ладьи — разве что повернуть кругом и взять курс на Объединенные арабские эмираты. Длинная шеренга скал справа по борту заканчивалась прямо по носу пупырышком мыса. Попытайся мы повернуть еще круче к ветру, чтобы этот мыс не маячил у нас перед глазами, — парус заполощет. Все мои надежды были на то, что ближе к берегу обстановка как-нибудь сама собой изменится. Столкновение с высокими утесами не может не сказаться на поведении стихий, течение должно повернуть параллельно берегу, прибавив скорость за счет сжатия, повернет и ветер, уткнувшись в каменную преграду. Единственный просвет в этой сплошной стене — Ормузский пролив за острым выступом полуострова. Если стихии в поисках выхода устремятся туда, они и нас за собой увлекут.
И мы продолжали следовать навязанным нам курсом, уповая на то, что ближе к суше окажемся в состоянии изменить его в свою пользу. С нетерпением ждали мы минуты, когда поведение ладьи оправдает наши расчеты, когда природа, не доходя скал, развернет нос «Тигриса» в нужную нам сторону. Уже различалось штурмуемое прибоем подножие обрывов, а между нами и сушей все еще не было ничего похожего на
дау капитана Саида. В одном месте у самой воды, словно нарисованные на скале, белели два домика. Но людей не было, — если эти постройки вообще предназначались для жилья. Никаких признаков жизни... Я записал в дневнике:
«Берег придвинулся устрашающе близко. Из-за огромных волн рулевые с трудом держат курс. Из моего угла в рубке через дверной проем в бамбуковой оправе видно теперь не пылающее зарево, не суда и гоняющиеся друг за другом волны, а сплошную высокую скальную стену. Предзакатное боковое освещение отчетливо выявляет вертикальные складки и борозды, образующие в угрюмом чередовании теней узор, похожий на поверхность вечернего моря, с его отсвечивающими гребнями и кружевами пены. Как будто мы скользим через бесплодные отвалы высокогорного плато, над которым вздымаются голые склоны непокоренных вершин. Но рулевые изо всех сил работают веслами, чтобы лечь на курс 52° и избежать крушения на Шаихе — первом из мысов, преграждающих нам путь к Ормузскому проливу. Если повезет, западный ветер и течение, которое должно идти вдоль берега на север, позволят нам проскочить рядом с ним. Ин ша'алла!»
Вскоре, без пятнадцати пять судового времени, я записал, что солнце только что скрылось. Двигаясь в общем и целом на восток, мы вошли в другой часовой пояс, хоть переставляй стрелки на час вперед. Мористее появились огни пароходов. Угрюмые скалы окутались еще более густыми тенями; в небе над ними мерцала одинокая звездочка. Ночь накрыла нас плотным черным покрывалом в то время, когда мы шли в северном направлении очень уж близко от гигантских каменных штор перед мысом Шаих. По нашим понятиям, только здесь где-то могли искать убежища Саид с Рашадом. Мы пристально всматривались в мрак — не покажутся ли очертания дома или судна, какой-нибудь огонек. Стоя на крыше рубки, размахивали керосиновыми фонарями, сигналили электрическими фонариками. Тщетно.
Никакого маяка на мысу. Никаких огней. Стало быть, и нет там никого. Смутные тени на черных отвесах лишь подтверждали недоброе впечатление, производимое мысом издали при дневном свете. Искать тесное убежище в обозначенной на карте извилистой расселине за мрачными каменными шторами было бы самоубийством. Если
дау и отважилась сюда зайти, уж, наверно, капитан Саид распорядился бы выставить на скале фонарь, чтобы обозначить свое укрытие. Со скоростью два узла мы миновали темную щель и проскочили мыс Шаих.
Забравшись обратно в рубку, я сделал новую запись в дневнике. На часах всего половина шестого, а уже воцарился кромешный мрак. Мы совершенно не представляли себе, куда могли подеваться наши товарищи. Видно, Саид избрал совсем не тот курс, какой мы думали. Теперь вплоть до Ормузского пролива и искать-то больше негде. Мы по-прежнему шли острым курсом, и на прибрежной волне ладью качало так, что подвешенный к потолку маленький керосиновый фонарь не столько светил, сколько гонял тени по дневнику, норовя стукнуть меня по голове. Я записал, что сижу широко расставив ноги для упора и все равно приходится держаться за стену одной рукой, чтобы не опрокинуться. Все предметы на борту грозили сорваться с места и исчезнуть. Висящий на стене бинокль с маху врезал мне по челюсти. Подвешенные на бамбуковых жердях куртки, рубахи и брюки дергались в лад, словно группа роботов с точностью часового механизма согласованно делала утреннюю зарядку. Все участвовало в этом синхронном спектакле. Полотенца и трусы, сумки и ведра, фонари и часы вместе отрывались от стены, вместе качались вправо-влево, вперед-назад, чтобы дружно хлопнуться опять о стену.
Видя, что в рубке невозможно ни сидеть, ни стоять на коленях, я выбрался наружу, пристегнулся страховочным леером и с восхищением стал наблюдать акробатические трюки, которые выделывал взобравшийся на мачту Норман. Тут он крикнул, что видит впереди световые вспышки. С одинаковыми промежутками в небе пробегало отражение вращающихся лучей маяка, скрытого за горизонтом слева по носу. Детлеф прокомментировал с мостика, что это, скорее всего, маяк на другой стороне Ормузского пролива. Чтобы обогнуть незримый в ночи крайний мыс Аравийского полуострова, нам следовало держать маяк справа по носу, а затем повернуть под острым углом в пролив, оставляя маяк слева.
К этому времени, во исполнение наших самых смелых надежд, ветер заметно отклонился к западу. Несомненно, и водный поток под нами, встретив неодолимый барьер, повернул и направился вдоль берега в нужную нам сторону. Нагрузка на рулевые весла была так велика, что левая уключина опять разошлась и грозила совсем порвать узлы Карло. Во избежание беды мы вызвали на корму всю команду и подняли тяжеленное весло так, что лопасть высунулась над водой на четверть длины. Правда, теперь с мостика уже нельзя было дотянуться до румпеля, и пришлось в самую качку, в темноте осваивать новый вид морской акробатики. Ведущую роль играл правый рулевой; когда же требовалось маневрировать и неудобным левым веслом, он подавал команду своему напарнику. Старшим рулевым стал Карло, а я, чтобы дотянуться до своего румпеля, влез на перила мостика. Разболтанные суставы деревянной конструкции рвались с кошачьим визгом из креплений, норовя защемить тебе палец руки или ноги. Стоя одной ногой на крыше рубки, другой — на привязанной к перилам снаружи узкой доске, служащей опорой для весла, я видел только пляшущую сферу света от фонаря, подвешенного Асбьёрном на качающемся топе. Да будь там хоть какой светильник, все равно подо мной смотреть особенно не на что: черная вода и больше ничего. И не за что ухватиться, кроме высокого веретена, которое устойчивым никак нельзя было назвать, поскольку я сам же крутил его румпелем. Поднятое вверх весло все время заедало, и всякий раз, когда Карло кричал, чтобы я живее поворачивал руль, приходилось толкать или тянуть мою единственную опору двумя руками, всецело уповая на привязанный к скользкому веретену страховочный леер.
Наверно, это потешно — этакая лихая ночная пляска на канате, но нам в те минуты было не до смеха. Шумер изобразил бы себя стоящим с завязанными глазами на спине скачущей газели.
Но вот впереди за краем паруса замелькала яркая искорка долгожданного маяка, о чем известил меня торжествующим криком Карло. Вскоре она сместилась вправо настолько, что даже я, стоя у левого борта, увидел ее. Нам удалось отвернуть ладью от берега настолько, что теперь вся суша оказалась справа. При свете высыпавших звезд мы различали подпирающие небо зубцы и пирамиды и смогли убедиться, что они уже не приближаются к «Тигрису». Это была победа. Нас перестало сносить.
С этой минуты я прекратил думать о собственном равновесии, сосредоточил все внимание на том, чтобы удерживать пляшущую искру маяка возможно правее паруса. Остаток двухчасовой вахты я чувствовал себя так, словно мчался по звездному небу на послушном узде крылатом Пегасе. На смену нам на мостик вскарабкались Герман и Эйч Пи; им тоже пришлось осваивать не совсем обычный способ управления ладьей. Со всех сторон возникали судовые огни, а вот нас-то вряд ли кто-нибудь мог обнаружить. При таком ветре дешевое местное горючее в наших керосиновых фонарях давало больше копоти, чем света. Хорошего мало, и Норман попытался исправить положение, достав из своего рундука и подвесив на мачте проблесковый фонарь, работающий от батарей. Нам эти проблески казались вполне профессиональными, во всяком случае более впечатляющими, чем тусклый керосиновый фонарь, для тех, кто подойдет достаточно близко, чтобы их заметить. Правда, Детлеф объявил, что эти проблески ничего не скажут настоящему моряку, но именно поэтому, добавил он, фонарь Нормана может сыграть роль пугала, заставляя других сторониться нас.
Справа совсем близко возникли неподвижные огни, словно от освещенных окон на берегу. Яркие лучи маяка писали круги в небе прямо перед ладьей. Детлеф был занят прокладкой курса. Норман только что укрепил блестящие ленты фольги на штагах и наружных стенах рубок. Фольга не камыш, не бамбук и не дерево, говорили мы себе, она покажет себя на экране локатора. Полным ходом, при ограниченной управляемости мы шли по самому оживленному фарватеру в мире. И не было с нами
дау, чтобы провести ладью через не столь известный проход среди сбившихся в кучу островков возле мыса.
Никогда еще не доводилось нам одновременно наблюдать в движении столько ярко освещенных пароходов, сколько появилось вокруг нас, как только Детлеф отдал команду повернуть на 90° вправо и рулевые вывели ладью на главную судовую магистраль в Ормузском проливе. Сразу нас подхватила с кормы сильная воздушная струя: мы очутились в ветровой воронке между двумя противостоящими мысами своего рода азиатского Гибралтара. И в ту же сторону стремилось выходящее из залива течение, напрашиваясь на сравнение с рекой. Мы неслись мимо кончика аравийского кинжала с небывалой для наших экспедиций скоростью, и черные силуэты гор менялись каждую минуту. При таком ходе «Тигрис» отзывался на малейшее прикосновение к румпелю, и мы ворвались в строй супертанкеров, которые с грохотом проносились мимо, словно признав нас своей ровней.
Все шло на диво благополучно. Двое вахтенных на руле, оба штурмана начеку на крыше рубки. Мы с Карло могли позволить себе немного вздремнуть перед тем, как заступать на вахту с двух часов ночи. Достаточно было нырнуть в рубку через квадратную дверь, и возникало ощущение, будто мы находимся в лесной хижине далеко от всех морей. Бамбук и тростник — что в них морского? А вот для отдыха лучшей обстановки не придумаешь. Ветер и волны — забота тех, кто остался на палубе, а в рубке — нейтральная зона покоя и мира, хотя бы гребни валов скользили перед дверью чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Эта ночь была какая-то особенная. Вытягиваясь на матрасе у дверного проема, я пребывал в счастливом состоянии, какое испытывает мальчишка, впервые в жизни забравшийся на верхнюю полку в ночном поезде. Лежа на боку, я смотрел на проплывающие мимо освещенные корабли и темные горы. Крушения, столкновения — эти угрозы остались позади, мы шли словно по двухколейной железной дороге в Альпах.
Проснулся я оттого, что Детлеф карабкался через мои ноги на свое место.
— Порядок, — сказал он. — Мы вышли из залива. Половина первого ночи, тьма тьмущая, ночь в разгаре. Вышли из залива? Я подполз к правой двери и поднял брезент, опущенный кем-то, чтобы не мешали спать пароходные огни. Совершенно другая картина! Прекрасная. Изумительная. Качка прекратилась, небо над слабо высвеченными луной скалами и утесами усеяно мириадами звезд. Выше скал поднимались могучие гряды и острые пики. Волшебный ландшафт! Я повернулся в другую сторону, к меня едва не ослепили вращающиеся лучи маяка, которые озаряли и остров под башней, и небо, и море. И никаких барашков на волнах. Море примолкло, и мы слышали идущие слева и справа корабли. Ни рева ветра, ни скрипа деревянных частей. Идиллическая тишина. Судовые огни романтично отражались в гладкой воде, совсем как в защищенном горами норвежском фьорде. Сам «Тигрис» словно весь, от паруса до рулевого мостика, отдыхал после рекордного пробега.
Наша скорость упала до двух узлов, потом до одного. В Ормузском проливе, по подсчетам Нормана, мы развивали почти пять узлов, да еще надо добавить скорость течения. Да, мы в самом деле вышли из залива. Скалы Омана защитили нас от ветра, но вскоре выяснилось, что мощное течение не отпустило своей хватки и увлекает нас прочь от Аравийского полуострова. Мы еще повернули влево и, снизив скорость до пол-узла, пошли на юг под прикрытием того самого арабского кинжала, который несколькими часами раньше готов был изрезать нас на куски, когда мы пробивались на север вдоль наветренной стороны.
— Ребята, мы научились управлять! — радостно воскликнул Норман, когда мы при свете карманного фонаря расстелили путевую карту на крыше рубки, чтобы решить, как действовать дальше.
Выбор неограниченный. И только одна закавыка, зато весьма существенная. Путь вперед, в Индийский океан, открыт, по позади, где-то в заливе, мы потеряли Рашада. Никакого понятия, куда могла подеваться злополучная
дау. Скорее всего, Саид взял курс на какой-нибудь из крохотных арабских эмиратов.
Ветер слабый, однако вполне подходящий, чтобы, окончательно простившись с сушей, выходить из разверстой пасти Оманского залива в Аравийское море и Индийский океан. Но мы не можем бросать Рашада, самого молодого и наименее опытного члена нашей команды. Его родители будут в отчаянии, если мы сообщим, что «потеряли» его и даже не представляем себе, где искать.
Дау — оманская, и, чтобы попасть в родной порт, Маскат, ей надо пройти Ормузский пролив. Сторонясь пароходной трассы, она будет прижиматься к скалам оманского побережья. Стало быть, выход один: ждать здесь, в защищенных водах, не слишком близко к суше, чтобы нас не выбросило на камни, если ветер переменится, но и не слишком далеко, чтобы видеть идущие вдоль берега суда.
Мы опустили на место левое рулевое весло и затянули ослабевшие узлы. Держать нужный курс не составляло никакого труда. До утра был еще не один час, и остальные легли спать, а мы с Карло поднялись на мостик. Наша вахта была с двух до четырех, и мы сошлись с ним в том, что это лучшие часы, какие нам когда-либо доводилось испытать в море. Задник, образованный зубчатыми силуэтами прикрывших нас от ветра могучих гор, поражал своим величием. С южной стороны эти горы выглядели еще живописнее. Казалось, их грани намеренно изваяны так, чтобы радовать душу человека. И они перехватывали ветер, усмиряя волны, которые так бесновались на северной стороне. Дежурить на мостике в чудесно преобразившейся обстановке было все равно что увидеть приятный сон после дикого кошмара. Нам удалось вырваться на волю через дыру в ограде, стены залива остались позади. Мы очутились в другом мире, с другими волнами, другими ветрами. Где-то еще дальше к югу простиралась полоса муссонов. Муссоны дуют над Индийским океаном с регулярностью часового механизма, каждые полгода ветровой маятник поворачивает в обратную сторону. Зимний муссон дует от северо-востока, из Азии в Африку; летний муссон — от юго-запада, из Африки в Азию. Идеальные условия для примитивных судов.
Даже большие современные корабли, наводившие на нас такой страх в заливе, здесь казались куда дружелюбнее. Ярко освещенный пассажирский лайнер с гирляндами цветных лампочек на всех палубах, пройдя мимо «Тигриса», заставил и нас почувствовать себя участниками увеселительного плавания. Надо думать, судовые бары и в этот поздний час не пустовали. Но мы никому не завидовали, мы отлично чувствовали себя на борту шумерского
ма-гур.
После завтрака Асбьёрн накачал резиновую шлюпчонку, и Тору с Норрисом отошли на ней от ладьи, чтобы поснимать. Проверка показала, что черешки пальмовых листьев, которыми мы залатали нос «Тигриса», такие же тугие и крепкие, как перед нашим выходом с Бахрейна. Большинство ребят попрыгали в воду у борта, чтобы поплавать, держась рукой за веревки на бунтах.
Около полудня кто-то крикнул с мостика, что из-за скал, а точнее, из-за островков, принятых нами за скалы, показалось какое-то суденышко. Изменив курс, оно направилось в нашу сторону, и стало очевидно, что это
дау! Потянулись напряженные минуты, наконец Норрис, вооруженный биноклем, крикнул, что вроде бы узнает Рашада. Бинокль переходил из рук в руки. В самом деле, Рашад! И капитан Саид рядом с ним, и вся команда. Наша шлюпчонка еще качалась на волнах, и Эйч Пи не замедлил подойти к
дау, чтобы забрать потерявшегося товарища домой, на камышовую ладью. Взбираясь на борт «Тигриса», Рашад был готов буквально целовать бунты. Объятия, рукопожатия... Мы не могли нарадоваться на Рашада, и нам не терпелось услышать подробности его приключений. Он как раз подоспел к столу. Карло подал дымящийся рисовый пудинг и салями. Герман открыл бутылку текилы, Юрий — водку, я — норвежский аквавит. У нас был тройной повод для празднества, и первый тост мы провозгласили за возвращение Рашада, который был рад-радешенек столь праздничной встрече, увенчавшей благополучное окончание его невольного плена.
Шестерка на
дау потеряла контакт с нами после острова Сирри, когда Саид, очутившись в запретных для него иранских водах, бросился наутек. Боясь за свою хлипкую
дау, он уже не стал возвращаться к нам против ветра и разгулявшихся волн. Мало того, что корпус дал течь, — один за другим летели болты на единственной помпе, и она только разбрызгивала воду. От жестокой качки под ударами изнутри разошлись швы квадратной цистерны с питьевой водой, и четыре пятых запаса вылилось в трюм. Вода плескалась взад-вперед, и амплитуда качки возросла настолько, что винт половину времени вращался вхолостую над волнами, отчего поршни принимались сердито стучать и вся машина барахлила. В довершение всего лопнула металлическая обшивка баллера и начала вихляться деревянная сердцевина. Все эти беды постигли капитана Саида, когда мы еще шли вместе. В тот вечер у Сирри Саид не собирался вовсе уходить от нас, но на другой день волны разбушевались пуще прежнего, и у него не оставалось выбора. Сколько ни убеждал Рашад Саида и его товарищей ориентироваться на нас, им приходилось думать прежде всего о том, чтобы спасать свои шкуры. К тому времени, когда
дау поравнялись с нефтяными вышками, команда совершенно выбилась из сил, и они без всяких карт направились полным ходом к мысу Шаих. Капитан Саид говорил при этом, что правит «по памяти». Сперва они вроде нас подошли к гористому берегу. Следуя вдоль него, отыскали расщелину в стене, свернули туда и оказались в зажатом скалами рукаве, где дул такой ветрище, что «Тигрис» был бы там совершенно неуправляем. Еще один поворот — и они очутились в бухточке, которая показалась Рашаду настоящей сказкой. В небольшой выемке на подгорном берегу примостилась на террасах овеянная ароматом древности обитаемая деревушка. Здесь тоже дул неистовый ветер, однако они отдали якорь рядом с рыбацкими суденышками. Естественно, в таком убежище
дау была совершенно скрыта от наших глаз, когда мы высматривали огни, идя к Шаиху. С помощью проволоки и деревянных брусков команда починила руль и произвела еще кое-какой ремонт, но сварить разошедшиеся швы можно было только в Маскате. Сегодня в шесть утра
дау отправилась на поиски «Тигриса». Не увидев нас, капитан Саид взял курс на север и вышел из залива по более короткой дуге, чем та, которую образует пароходная трасса. Увидев наконец нашу ладью, они подивились тому, какой ход мы сумели развить. Ели на
дау рыбу и рис с острым соусом, и ребята все были славные, только очень уж вымотались, откачивая воду и мучаясь с ремонтом.
Вернуться на борт камышового крепыша было для Рашада все равно что из плавучей ванны перебраться на не подвластный качке роскошный лайнер. А когда солнце скрылось за горами Омана, начался небывалый по своему великолепию пир: Юрий извлек из своего рундука советское шампанское и икру, космический хлеб, орбитальную индейку, лунный сыр и тюбики «Спутник», из которых мы прямо в рот выдавливали паштеты, кремы, джемы, соки и прочие лакомства. Все эти концентраты входят в меню соотечественников Юрия, когда они отправляются в плавание вокруг планеты Земля. Юрий Александрович Сенкевич — научный работник, занимается вопросами жизнедеятельности космических экипажей, когда не плавает вместе с нами по морю на древних лодках-плотах. А впрочем, что
ма-гур, что космический корабль — в эту ночь никто из нас не стал бы отрицать, что есть еще чему радоваться на родной планете. Любуясь узким серпом шумерской луны, мы прикладывались к космическим тюбикам и произносили тосты за три выдающихся события, которые обязывали нас как следует отметить этот вечер:
Рашад снова с нами.
Мы благополучно выбрались из залива.
И мы провожали последний день уходящего года!
Глава VII. Ищем пирамиду и находим Макан
Если бы в мою комнату во время завтрака въехал паровоз, я был бы удивлен. Однако еще больше удивился я, когда, лежа в постели, увидел вторгшийся в мою обитель нос судна.
Это был не сон. Я не спал. Меня разбудил звук приближающегося в ночи мотора и чей-то хриплый, неприязненный голос. Чужой голос. В ответ с мостика знакомые голоса Норриса и Рашада отчаянно закричали:
— Назад!! Не подходите!
Часы показывали 2.30, сквозь правый дверной проем на меня смотрели мерцающие звезды, пока в стену не уперся чей-то наглый прожектор. И сразу сна как не бывало.
Мы находились где-то у берегов Омана. Нам наговорили всякие страсти про эти места. Дескать, в этом районе Аравийского моря современные пираты грабят и захватывают малые суда. Совсем недавно газеты писали про плававшую на яхте датскую чету, которую начисто обокрали, оставив только самую малость питьевой воды, чтобы бедняги выжили.
Перехватившие среди ночи «Тигриса» люди не могли знать, что нас одиннадцать человек и у бамбуковой рубки выход на обе стороны. Я приготовился растолкать ребят и потихоньку выбраться через левую дверь, чтобы устроить засаду, но остановился, слушая приблизившиеся вплотную недобрые голоса.
— Что это такое?! — сердито крикнул кто-то по-английски с арабским акцептом.
— Судно, — почти так же сердито ответил Рашад.
— А что это за здоровенные ящики у вас на борту? — Снова по нашим рубкам заскользил луч прожектора.
— Это рубки! Не подходите! В рубках спят одиннадцать человек из разных стран!
Однако предупреждение Рашада не подействовало. Звездное небо затмил вторгшийся в правую дверь острый нос чужого судна, и в ту же секунду все обитатели рубки проснулись от сильного толчка.
— Назад! Вы покалечите наше судно!! — вопил с мостика Рашад, и мы поддержали его лихим воинственным кличем.
Ноги Юрия были вытянуты у самого проема, и спросонок он яростно крикнул Рашаду сквозь тростниковую стенку:
— Скажи им, пусть уматывают, это международные воды!
— В том-то и дело, что нет, — сердито отозвался Рашад. — Мы находимся у берегов Омана. К тому же «уматывайте» — не самое подходящее слово, когда в тебя целятся из автомата!
Тем временем мы уразумели что к чему. Мы, но не наши незваные гости. В жизни не видел таких испуганных и озадаченных глаз, какими воззрился на нас смуглый оманский рулевой в полицейской форме, когда он включил полный назад и мы высыпали из рубки на палубу, точно злые псы из конуры.
«Тигриса» перехватил сторожевой катер с тремя представителями береговой охраны Омана. Бестолковые вспышки на стеньге, призванные отпугивать посторонних, явно произвели обратное действие. Пограничники подошли, чтобы обследовать ладью, а когда рассмотрели золотистые бунты шумерского
ма-гур, то от растерянности не сообразили ни свернуть, ни остановиться. Больше тысячи лет в здешних водах не плавало ничего подобного нашему судну. Ошарашенные зрелищем, которое явилось их взору в луче прожектора, они забыли про руль и наскочили на ладью, основательно встряхнув камышовые бунты и бамбуковые рубки. А тут еще из «ящиков» на палубе вырвались крики на вавилонской смеси языков и на палубу высыпали разъяренные бородатые дикари. Не мудрено, что потрясенная троица поспешила отступить.
В самом деле, когда еще они увидят, как из двух маленьких рубок с такой быстротой вылезает на карачках столько негодующих мужчин! Полусонные, вне себя от ярости и тревоги, мы бросились к правому борту, ожидая увидеть вконец искалеченные связки. Двадцать два грозящих кулака и яростные возгласы на разных языках, в том числе на понятных им арабском и английском, повергли пограничников в такое смятение, что они, не говоря ни слова, продолжали отступать, пока не скрылись в темноте за сопровождающей нас
дау.
Внезапно до нас донесся новый взрыв арабских восклицаний: поравнявшись с судном с опознавательными знаками Омана, стражники обрели дар речи. Нам послышалось, что они сыпят проклятиями, но Рашад внес ясность:
— Они обвиняют своих соотечественников в том, что те стыковались с судном, которое кишит
шайтанами.
Последнее слово не нуждалось в переводе.
Будь стебли
берди такими же сухими и ломкими, как при начале строительства ладьи в Ираке, столь пристальное внимание пограничников положило бы конец нашей экспедиции в тихих водах Омана, к югу от Ормузского пролива. Но для
берди справедливо то же, что для папируса: если его сперва просушить на солнце, а потом намочить, волокна обретают невероятную крепость. К счастью для нас, за последние дни буйные волны залива основательно увлажнили камыш и тростник, так что бунты стали тугими, как резиновые кранцы, а плетеные стены рубок эластичностью уподобились кожаной обуви. Даже при дневном свете мы не смогли обнаружить никаких повреждений выше или ниже ватерлинии, если не считать нескольких сдвинутых с места палубных досок и каркасных реек, а их ничего не стоило подвинуть обратно.
Вторжение в рубку полицейского катера заставило нас всерьез призадуматься над возможностью столь же неожиданного свидания с носом куда более крупного судна. Вроде тех, что сорок восемь часов с рокотом проносились мимо нас на рубеже нового года. В самом деле, после двух суток, когда мы чувствовали себя улитками среди туфель в бойком танцзале, это была первая ночь, которую «Тигрис» провел в тихих водах в стороне от пароходных трасс. Когда на смену первому дню нового года снова наступила ночь, весь простор от горизонта до горизонта был свободен от судовых огней, и море вдоль побережья расстелило такую гладь, что звезды смотрелись в него, как в зеркало. С легким сердцем, чувствуя себя в полной безопасности, укладывались мы спать — и были разбужены столкновением...
Решение идти на юг вдоль восточных берегов Омана было принято не сразу. Редко доводилось мне так явственно представлять себе чувства древних путешественников, как после выхода из тесного Ормузского пролива, когда перед нами встал выбор: куда дальше следовать? У нас не было заданного маршрута. Открывшийся нам Оманский залив напоминал воронку, поскольку берега его расходятся от пролива под углом на восток и на юг. После всех переживаний от грозной близости скал и утесов соблазнительнее всего было, используя попутный ветер, править прямо на просторы Индийского океана. Но вряд ли так поступали команды первых
ма-гур, выходя из залива на разведку. Всякого, кто вроде нас никогда не бывал здесь прежде, наверно, манило исследовать какой-то из открывшихся его взгляду расходящихся в разные стороны берегов. Так было и с нами, хотя мы-то хорошо знали, что один берег направляется к Индии и дальше на восток, другой — к Красному морю и Африке.
Только Карло был против неприятного соседства скалистых берегов и за то, чтобы поскорее выходить в открытый океан. Ему не терпелось проплыть побольше, пока ветер в нашу пользу. Норрис призывал нас идти вдоль побережья Аравийского полуострова — очень уж живописно смотрелись с моря дикие скалы и острые пики Омана. Причудливые формации сулили ему отменные кадры для фильма об экспедиции. Норман поддержал его, сказав, что этот маршрут позволит нам зайти в Маскатский порт, чтобы как следует подготовить снасти и рулевое устройство для плавания в океане. Других, и меня в том числе, соблазняло побережье Азиатского материка. По ту сторону Ормузского пролива отчетливо просматривался берег Ирана, бывшей Персидской империи. В глубине страны, за ласкающими глаз приморскими холмами, теряясь вдалеке между небом и морем, голубели волнистые горные гряды, которые словно звали нас последовать за ними на восток, в сторону Пакистана. Днем горы сливались с небесной синевой, но на рассвете, на фоне багрянца, зажженного скрытым за горизонтом светилом, ясно рисовались очертания параллельных гряд. На пределе видимости иранский берег нырял в океан, оканчиваясь причудливыми формациями, глядя на которые мы гадали, то ли там какие-то диковинные скалистые острова, то ли облака поднимаются над водой. Словом, восточный берег, конечно же, выглядел крайне заманчиво для древнего исследователя.
Что уж тут говорить обо мне, который знал, что вдоль холмистого приморья мы дойдем до берегов Пакистана и Индии, где расцвела Индская цивилизация, одна из трех ведущих цивилизаций древности, не уступающая по возрасту и значению культурам Двуречья и Египта. Среди великого разнообразия судов, тысячи лет ходивших вдоль континентального побережья от Ормузского пролива и обратно, наверно, было предостаточно
ма-гур. Археология установила, что порты Двуречья, такие, как Ур и Урук, и могущественные города-государства Мохенджо-Даро и Хараппа в долине Инда поддерживали обширные связи друг с другом, причем остров Бахрейн служил промежуточным торговым центром. Именно этот путь предлагал мне проверить на месопотамском судне Джеффри Бибби, и соблазн был исключительно велик.
Тем не менее нос камышовой ладьи развернулся на юг, и мы пошли вдоль Аравийского полуострова. Сомневаюсь, чтобы древние мореплаватели начали свои исследования с этого маршрута. Дикие голые склоны Оманских гор с обрывающимися в море нелюдимыми скалами могли приютить только птиц. Правда, дальше к югу ландшафт становился приветливее, горы сменялись волнистыми холмами. Насколько известно науке, на территории Омана в древности не было цивилизации, сравнимой с Индской. И все же у меня была совершенно особая причина присоединиться к тем, кто голосовал за то, чтобы следовать вдоль этих берегов в сторону Африки. Во-первых, если верить метеорологам, зимой в этой области ветры дуют от Азии к Африке и только весной меняют направление на обратное. Во-вторых, мои мысли упорно вращались вокруг дошедших до меня накануне старта на «Тигрисе» неподтвержденных слухов о сделанном в Омане интересном археологическом открытии. Эту потрясающую новость передал мне, сославшись на директора Багдадского музея, видного археолога Фуада Сафара, немецкий репортер с усами, похожими на велосипедный руль. Будто бы из достоверных источников в Багдаде стало известно, что где-то в Омане, за Ормузским проливом, в районе Маската, обнаружен в песках шумерский зиккурат — ступенчатая пирамида, каких до сих пор не встречали за пределами Двуречья.
Я отказался поверить — очень уж это смахивало на розыгрыш, придуманный журналистом, увидевшим намалеванный на нагнем парусе зиккурат! Однако немец клялся, что он лишь выполняет роль передатчика чужих слов. Дескать, Фуад Сафар был очень взволнован и просил нас непременно попытаться зайти в Оман, подчеркивая, что впервые за пределами Ирака найдено шумерское сооружение.
Я поделился с ребятами удивительной новостью. «Слишком хорошо, чтобы в это поверить», — сказал Норман. Я и сам так считал. Пирамид на земле не так уж много, и они разделены большими расстояниями. Не из тех они предметов, на которые можно нечаянно набрести в песках. Черепки — пожалуйста, но не пирамиды. В Старом Свете они найдены только в Египте и в Двуречье. И слишком это невероятное совпадение, чтобы первый шумерский зиккурат в далекой стране у рубежей Индийского океана был обнаружен как раз тогда, когда мы подняли парус на шумерской ладье, надеясь достичь этих самых рубежей. Скрепя сердце мы решили отнести эту версию к разряду анекдотов и постараться о ней забыть.
Тем не менее, когда мы с Норманом оказывались вдвоем на рулевом мостике, он порой произносил с мечтательным выражением:
— А все-таки здорово было бы встретить шумерский зиккурат в стране на берегу Индийского океана!
Эта тема обрела новую актуальность на Бахрейне, когда Джеффри Бибби отвез нас к развалинам дильмунской храмовой пирамиды, наделенной, по его словам, всеми основными чертами месопотамского зиккурата. Сплошная, ориентированная по солнцу ступенчатая конструкция с лестницами на гранях и святилищем наверху. За пределами Двуречья такие сооружения неизвестны. Если не считать древние Мексику и Перу. Бибби так и называл свою пирамиду — «мини-зиккуратом». Он даже нашел в святилище месопотамские изделия. Бахрейн находится примерно на полпути между Ираком и Оманом. И я отважился спросить Бибби, доходил ли до него слух о том, что в Омане недавно обнаружен шумерский зиккурат?
Нет, он не слышал ничего подобного.
Если Бибби, виднейший знаток археологии этого района, ничего не слышал, стало быть это выдумка. И мы твердо решили выкинуть ее из головы.
Однако Оман продолжал неудержимо манить нас с Норманом. И когда Норман после Ормузского пролива предложил идти вдоль берега на юг, чтобы подремонтировать снасти в Омане, я заподозрил, что он не совсем забыл про таинственный зиккурат. Да и сам я в основном по этой же причине после долгих колебаний поставил крест на уникальной возможности посетить долину Инда.
Вообще-то мысль о том, чтобы хорошо подремонтироваться, прежде чем продолжать плавание к дальним странам, не была лишена оснований. Два дня трепки на толчее от супертанкеров дались нашим надстройкам тяжелее, чем штормовая волна в заливе. Оманские горы прикрыли ладью от шторма, как только мы обогнули мыс на выходе из Ормузского пролива. И не будь сумасшедшего движения на трассе, море вело бы себя так же смирно, как и воздух. Утро застало нас посреди магистрали, в гуще кораблей, преимущественно танкеров. Уйдя от рифов и утесов и закрывшись горами от ветра, мы облегченно вздохнули и не сразу уразумели, что трудно было придумать худшее место для плавания на камышовом судне при слабых ветрах, сводящих до минимума нашу способность маневрировать. В таком вот опасном месте встретили мы Новый год. На другую ночь наш парус и вовсе поник. Главным движителем было сильное течение, увлекавшее «Тигриса» вдоль оманских берегов в сторону Маската. Наши керосиновые фонари и слабенькая мигалка на стеньге выглядели светлячками рядом с яркими огнями следовавших мимо исполинов. А потому ночью один из рулевых каждые три-четыре минуты бегал на нос — наблюдать за приближающимися огнями и светить самым сильным из наших электрических фонариков на парус «Тигриса», чтобы впередсмотрящие встречных судов, еще не перешедших на электронику, вовремя нас обнаружили.
Во время моей вахты мимо «Тигриса» в залив медленно провели на буксире огромную, ярко освещенную плавучую нефтяную вышку. По огням я насчитывал до двенадцати кораблей одновременно. Они проносились с такой скоростью, что на поднятой ими волне ладью раскачивало, как на гамаке, и в таком бешеном ритме, какого мы еще никогда не испытывали в океане. На океанских валах крепкое камышовое суденышко колышется с приятной плавностью, успокаивая самую нервную натуру. И даже частые порывистые волны в бурном заливе оставляли достаточно широкие ложбины, качка была вполне сносной, не то что выматывающая душу тряска на волнах, вызванных творением человеческих рук — супертанкерами. Мы чувствовали себя так, будто угодили в сосуд для смешивания коктейля или на спину скачущего быка. Казалось, нам растрясет все внутренности. Мы ходили злые и раздраженные оттого, что трудно было устоять на палубе, а в постели нас катало, словно бочки. Скоротечные спокойные промежутки между внезапными волнами, поперечными волнами, откатом от встречных кильватерных струй и новыми сериями волн еще больше усугубляли беспорядочную качку.
Притороченные к кницам стойки мостика и колена мачты затевали пляску на ходулях, и лишенный ветровой опоры тяжелый парус колыхался вместе с мачтой, помогая ей растягивать штаги и прочие оттяжки, а также найтовы, крепящие к камышу рубки и мостик. Всякий раз, когда мимо ладьи со скоростью двадцать узлов проносился огромный танкер, нас так резко швыряло из стороны в сторону, что мы опасались за целость палубных найтовов. Тяжеленные рулевые весла снова принялись брыкаться в уключинах, да так, что толстые бруски раскалывались пополам и приходилось заново скреплять их веревками и клиньями. Кратковременная встреча со сторожевым катером не пошла на пользу нашим расшатанным деревянным конструкциям, но при тихой погоде двуногая мачта и мостик сохраняли стойку не хуже опытного моряка.
На другой день после столкновения дикие горы Северного Омана ушли из нашего поля зрения, но под вечер мы приблизились к берегу настолько, что увидели приморскую равнину с редкими высокими деревьями. Равнина была
совершенно плоской, и можно было наперед сказать: незримая береговая линия представляет собой длинный пляж, на отмели перед которым мы вполне можем отдать якорь. Но пока мы взвешивали этот вариант, Норман из своего уголка в главной рубке крикнул, что установил двустороннюю связь с береговой радиостанцией. Маскатские власти предупреждали, чтобы «Тигрис» без соответствующего разрешения не приставал к оманским берегам. Заодно нам передали радиограмму Би-би-си: консорциум запрещал Норману использовать любительскую рацию для передачи каких-либо сведений. Он не должен сообщать радиолюбителям наше местонахождение. Не сумеет, как это было до сих пор, наладить связь на фиксированной частоте передатчика, предоставленного консорциумом, все равно — в работе с любителями передавать только «все в порядке» и больше ничего.
Этот запрет возмутил Нормана.
— А если мы потерпим крушение? — спросил он и сорвал с головы наушники.
Было еще совсем светло, когда
дау остановилась возле поплавков большой рыбацкой сети, которую мы на сей раз постарались обойти. А ребята Саида, к нашему удивлению, преспокойно начали вытаскивать сеть и выбирать из ячеи трепещущую рыбу. Покончив с этим делом, привязали к поплавку полиэтиленовый мешочек и бросили сеть обратно в море. После чего знаками дали понять Рашаду, чтобы подошел на шлюпке за нашей долей; выяснилось, что они положили в мешочек три динара в уплату владельцу сети.
И вот уже мы вылавливаем из большой кастрюли Карло дымящуюся вареную рыбу, а Тору подает японское блюдо: нарезанную кубиками сырую рыбу в соевом соусе. Для тех из команды, кто еще не пробовал сырой рыбы, это блюдо оказалось приятнейшим сюрпризом. Сам Тору, весь в ожогах и волдырях, выглядел так, словно побывал на раскаленной сковороде. Перед обедом он долго сидел и нервно поглаживал обессиленно приземлившегося на ладье крупного хохлатого зимородка, больше в утешение самому себе, чем птице. В этот день Тору первым прыгнул за борт искупаться и угодил прямо в скопище медуз. Маленькие прозрачные кишечнополостные в несметном количестве окружили ладью, кокетливо помахивая фиолетовыми юбочками и длинными жгучими нитями. У них была в разгаре брачная пора, и они явно вознамерились весь мировой океан наполнить своими отпрысками.
Человек тоже оставил свидетельства своего стремления безраздельно властвовать на суше и на море. На выходе из залива поверхность воды была затянута радужной нефтяной пленкой. Мы приготовились увидеть комья мазута, но мазут попадался редко и лишь маленькими комочками. Не то, что сделанное нами десятью годами раньше неожиданное открытие, когда мы, идя на «Ра I» и «Ра II», радировали в Организацию Объединенных Наций, что Атлантическому океану угрожает сильное загрязнение. С того времени заметно сократились случаи намеренного выброса танкерами нефтяных отходов в море. Тем не менее на наших глазах огромные танкеры, прежде чем входить в Ормузский пролив, беззастенчиво промывали цистерны. Видимо, этот район их устраивал: в заливе нарушать действующие правила более рискованно.
Нефтяная пленка не помешала примерно сотне дельфинов резвиться и прыгать вокруг ладьи. И вода кишела планктоном, невидимым до захода солнца, как невидимо днем звездное небо. Зато едва показывались звезды, вокруг рассекающих воду рулевых весел вспыхивал планктонный фейерверк. Время от времени в глубине мелькали огоньки, точно кто-то сигналил фонариком или чиркал спичкой. Ночи здесь были такие теплые, что мы несли рулевую вахту без курток. Снова, как тридцать дней назад, над притихшим морем шумерской ладьей плыл молодой месяц. «Тигрис» перестал скрипеть суставами, дав Эйч Пи возможность заметить, что Тур, Герман и Юрий храпят во сне.
Ядовитые морские змеи попадались редко, хотя здешние воды считаются одним из главных мест их размножения. Зато по утрам мы находили на палубе летучих рыбок.
Хотя патрульный катер больше не возвращался, было очевидно, что оманские власти извещены о нашем появлении. Капитан Саид был заметно озабочен, как будто пограничники назначили его нашим сторожем. Страх, как бы мы не подошли чересчур близко к берегам его родины, был по меньшей мере равен тому, что он испытал, очутившись в иранских территориальных водах. Кончилось тем, что на подходе к прибрежным островам Сувади он настоял на том, чтобы взять нас на буксир, словно пленников. И не отпускал от себя, пока мы не стали перед скалами на якорь рядышком друг с другом.
Суша неудержимо манила нас, однако с Бахрейна передали повторное предупреждение: без разрешения властей не сходить на берег. Перед Сувади мы всю вторую половину дня следовали мимо чудесного белого пляжа с редкой цепочкой пальм и других деревьев. Тихое море омывало песок; вдали голубели горы, судя по всему, те самые дикие крутые гряды, вдоль которых мы прошли противоположным курсом по ту сторону полуострова. В этой части Омана горы будто сдвинуты чьей-то могучей рукой к внутреннему заливу, лицом к заходящему солнцу, а на восход, где открывается путь в океан, смотрят просторные равнины. Оказавшись здесь, древний исследователь, конечно же, направил бы свою камышовую лодку-плот к приветливым, просторным берегам. И мы бы непременно это сделали, не будь строгого радиопредписания сперва оформить паспорта и получить разрешение на высадку в лежащем дальше на юго-восток Маскате.
В бинокль было видно множество лодчонок, вытащенных на белый пляж за островами. Расстояние не позволяло различить детали, поэтому я не подозревал, что потерял бы, запрети нам султан Омана посетить его тщательно охраняемые владения. Те немногие лодки, которые проходили сравнительно близко от нас, ничем примечательным не выделялись.
С приближением вечера уходящий в обе стороны пляж ожил, полчища моторок муравьями устремились в море. Несколько валких весельных лодок, похожих на каноэ, обогнули ближайший от нас островок, чтобы проверить сети. В одной из них сидели два старика и юноша, который греб суком с привязанным к нему подобием лопасти. Симпатичный седобородый плут с орлиным носом предложил нам купить у него рыбы по сходной цене. У нас не было оманских денег, но мы показали ему две крупные ассигнации — одну бахрейнскую, другую катарскую. Старик схватил обе и сказал Рашаду, что должен выяснить на
дау, сколько это будет в оманских деньгах, чтобы выбрать какую-нибудь одну бумажку и отсчитать сдачу. Однако стоило рыбакам зайти за
дау, как все трое дружно взялись за весла и умчались за остров с такой скоростью, что никакие чемпионы не угнались бы за ними.
Больше в тот вечер нас никто не навещал, если не считать окружавших ладью рыб и морских птиц. Две черепахи подняли над гладкой водой головы-перископы, изучая нас. Несколько раз кто-то очень большой, вероятно кит, поднимался к поверхности и, сделав шумный вдох, тут же снова погружался. Мы его так и не рассмотрели, видели только разбегающуюся по воде рябь.
Восхитительный уголок... Сбившиеся в кучу островки разделены тихими проливами в обрамлении мягких склонов и светлых пляжей, но в море смотрят бастионы стометровых утесов. Как же нам хотелось сплавать на берег! Однако капитан Саид умолял нас ради его блага не выходить на сушу. После того как пограничники видели нас вместе в оманских водах, спрашивать будут с него...
Норман снова связался по радио с Бахрейном, и, пользуясь неожиданно хорошей слышимостью, мы передали адресованную морскому агентству в Маскате официальную просьбу разрешить нам высадку на берег. В ответ нам передали, что резолюция портовых властей будет получена завтра, но так или иначе высадка может быть разрешена лишь в столице Омана, Маскате.
У островов Сувади вода была свободна от нефтяной пленки, мы наблюдали только шарики мазута да клочья полиэтилена. Однако, вызвавшись на другое утро снова нырнуть на дно — на сей раз, чтобы снять подъем якоря, — Тору вернулся и доложил, что на глубине семи метров не видно ни якоря, ни троса, в воде полно каких-то мелких белых частиц. Вся команда надела маски, чтобы взглянуть на такую диковину. Это было все равно что ветреным зимним днем смотреть в окно на снегопад. Миллиарды непонятных по своей малости частиц, похожих то ли на размокшие хлебные крошки, то ли на размолотое папье-маше, сделали видимым неторопливо скользившую мимо якорного троса водную толщу. Нам оставалось только гадать, откуда они взялись; вообще же течение, как и мы, пришло со стороны Ормузского пролива.
В восемь утра мы поставили паруса и покинули острова. Саид не возражал против того, чтобы мы плыли своим ходом, однако шел все время так, чтобы видеть нас. Слабый юго-западный ветер толкал ладью в открытое море, по благоприятное местное течение вкупе с новым топселем, который Норман сконструировал и поднял на бамбуковой рее, помогали нам уверенно выдерживать курс параллельно берегу. Изредка с моря катили группами по два, по три высоких вала — своего рода привет от больших танкеров, проходящих за восточным горизонтом.
Идя вдоль низменного побережья с чуть видимой в глубине голубой цепочкой гор, мы поравнялись с городом Барка. В это время Норман принял через радио Бахрейна новое послание Маската: высадка пока не разрешена, вопрос обсуждается «на высшем уровне».
В 15.15 нас нагнало сторожевое судно «Харас II» с крупной надписью «Полиция». Офицер приветливо помахал нам рукой и осведомился:
— Все в порядке?
— В порядке, спасибо! — крикнул я и помахал ему в ответ с мостика.
Однако мой приветственный жест сменился лихорадочной жестикуляцией, когда я увидел, что судно разворачивается и идет прямо на нас, точно атакующий носорог. Я подумал было, что это шутка, юмористический намек на поведение встреченного нами раньше сторожевого катера, но тотчас убедился, что шуткой тут и не пахнет. Мидель ладьи с гостеприимно открытым дверным проемом главной рубки явно оказывал магическое притягательное действие на полицейских инспекторов. А может быть, связанные веревкой бунты смотрелись как небывалой прочности кранец и здесь было заведено для таможенного досмотра подходить в упор к грузовым баржам и плавучим платформам. Так или иначе, вторично в рубку к нам вторгся чужак. Сколько ни метались мы на палубе и на крышах рубок, крича и размахивая руками, «Харас II», как нарочно, с ходу таранил «Тигриса» в той самой точке, куда врезался предыдущий гость. От толчка в живот Эйч Пи кувырнулся на спину. Вместе с Юрием он сидел в дверях, и обоих нос катера затолкал внутрь рубки, где Норман, сидя с наушниками на голове, озадаченно смотрел на закупоренный посторонним судном дверной проем. К счастью, планшир «Хараса II» был выше боковых связок «Тигриса», так что он уперся в шестерку крепких бакштагов и веревочно-бамбуковую ограду — изобретение Карло, призванное охранять нас от риска свалиться за борт во время сильного волнения. Мачта и рубка вздрогнули от удара под протестующий треск и скрип снастей, бамбука и тростника.
Придя в себя от неожиданности и убедившись, что ладья не рассыпалась, мы с удивлением обнаружили, что гостей уже и след простыл — сторожевое судно полным ходом удалялось в сторону Маската. Славные люди, которые подошли поприветствовать нас, явно были шокированы нашей невоспитанностью. Ладья уже доказала свою прочность при подобном испытании, почему же мы их встретили так неприязненно?
Берег передал по радио новое послание: вопрос о высадке еще не решен, нам предлагается ждать в международных водах у Маската до следующего дня.
— Объясни им, что наша ладья все равно что плот, — сказал я Норману. — За ночь нас снесет. Глубина не позволяет нам отдать якорь в открытом море. И спроси, почему нам нельзя войти в порт.
Норман передал мои слова и добавил, что мы идем под флагом ООН. Потом снял наушники и сообщил:
— Хочешь верь, хочешь нет, они говорят, все дело в том, что у нас на борту есть русский.
Вместе с
дау мы подошли совсем близко к берегу, точно Саид решил, что теперь мы уже никуда не денемся. Мы почти не видели жилья, но в одном месте возвышалось нечто вроде средневековой крепостной стены с башнями и брустверами, за которой стояли великолепные здания в арабском стиле. Это был один из приморских дворцов султана; главная резиденция находилась в Маскате.
Вскоре затем на место низменностей опять пришли подступающие к самой воде причудливые горные формации. Отсюда оставалось совсем немного до Маската, мы уже видели суда на рейде и другие, направляющиеся и порт. Учитывая опасность столкновений, мы охотно приняли предложенный капитаном Саидом буксир, и немного спустя нашему взору открылась россыпь огней города, расположившегося на приморском плато и в лощинах. Прямо по курсу мерцали сигнально-отличительные огни кораблей. Их было так много, что нам стало малость не по себе. Сразу видно: Маскат — оживленный современный порт. Еще одно напоминание, что мы живем в изменяющемся мире...
Оманский султанат находится на юго-востоке Аравийского полуострова, по площади он почти в пятнадцать раз больше Кувейта, однако до недавних пор оставался одной из наименее изученных стран земного шара и был закрыт для иностранцев, пока нынешний самодержец, султан Кабус, заточив в тюрьму собственного родителя, не приступил к модернизации страны. Для начала он велел проложить дороги и разрешил импорт автомашин. Правда, мы смогли убедиться в том, что, несмотря на все признаки экономического бума и строительной активности в непосредственной близости от Маската, туристам по-прежнему не было доступа в Оман. Вообще в страну впускали только тех иностранцев, кандидатуры которых были одобрены лично самим султаном.
Вечером мы подошли к большому скалистому острову с маяком. Перед островом помещалась якорная стоянка грузовых судов, ожидающих своей очереди войти в гавань Маската или слишком больших для здешней гавани. Мы запросили по радио разрешения отдать якорь хотя бы на этой стоянке, объяснив, что иначе течение отнесет нас слишком далеко и утром мы уже не сможем вернуться в Маскат. Такое разрешение было получено, однако наши якоря не доставали дна, и с той же проблемой столкнулся капитан Саид, а потому, когда он направился к входу в гавань, мы кротко последовали за ним на буксире и в конечном счете бросили якорь в окружении живописнейших
дау изо всех сопредельных стран; при свете звезд они вполне могли сойти за флотилию варяжских ладей.
Трудно сказать, кто был больше удивлен, когда на рассвете мы и наши соседи по гавани проснулись и увидели друг друга. Черные, смуглые, белолицые моряки из Африки, с Аравийского полуострова, из Пакистана и Индии воззрились на нас, а мы на них, выбираясь из спальных отсеков на подвешенные за кормой балкончики с круглым отверстием в полу, позволяющие присесть и обозревать окрестности, высунув голову сверху. Балкончики
дау напоминали расписанные яркими красками бочки, и так же ярко были расписаны деревянные корпуса суденышек вплоть до декоративной резьбы на высоком носу. Наши гальюны представляли собой всего-навсего круглые ширмы из золотистого камыша под цвет всей ладье. Зато у нас их было два, по обе стороны кормы, во избежание очередей. В море они являли идеальный приют для желающего побыть наедине с собой, но в порту нам пришлось привыкать к любопытствующим зрителям, которые беззастенчиво созерцали вас и ваши сугубо личные отходы, отправляя свои шлаки в воду с изрядной высоты.
Некоторые
дау пришли уже после нас, так что мы оказались в сплошном кольце, тогда как Саид стоял где-то поодаль. Но главную прелесть составляли не окружающие нас экзотические афро-азиатские суда, а общий вид, грандиозная картина местной гавани с ее поразительной смесью старого и нового. Обширный новый порт, названный Порт-Кабус в честь султана, вмещал и
дау, и большие корабли. Мало портов могли бы сравниться с ним в живописности. Над современными молами, причалами и пакгаузами, венчая темные лавовые скалы, гордо возвышалась средневековая португальская крепость. За частоколом мачт к девственно чистому голубому небу вздымались изрезанные эрозией черные голые гряды. Под горой вытянулись в ряд высокие белые арабские строения, и оттуда несло ветром сладковатый аромат благовоний и южных пряностей.
Первые лучи солнца только-только начали красить темный утес над нами в горчичный цвет, когда моторная лодка, промчавшись между
дау, пристала к «Тигрису». Первым к нам на палубу ступил приветливый швед, представитель морского агентства. От него мы узнали, что все инстанции дали согласие на то, чтобы мы сошли на берег, осталось получить резолюцию султана. Потом подошел катер, навстречу которому мы, оберегая бунты, выставили полдюжины бамбуковых шестов. Катер доставил чрезвычайно учтивого полицейского офицера, прибывшего с кратким визитом вежливости. Еще через несколько часов нас почтил своим посещением необычайно радушный таможенный чиновник-шотландец. Посидев за столом и весело поболтав с нами, он удалился с нашей «судовой ролью», чтобы снять ксерокопии для чиновников иммиграционной службы.
Когда Карло готовил на камбузе второй завтрак, в гавань вошел большой полицейский катер. Чины в мундирах высмотрели нас в гуще
дау, и мы опять приготовили бамбуковые шесты, но очередные гости — три полицейских офицера — спустились с катера в маленькую моторку и подошли к «Тигрису», соблюдая великую осторожность. Двое из них, оба в широких чалмах, оказались индийцами, причем старший по званию был родом из Дели. Такие же приветливые и радушные, как их шотландский коллега из таможни, новые гости тоже посидели и побеседовали с нами, после чего отбыли, подтвердив на прощание, что разрешение на высадку лежит наготове на рабочем столе султана и будет подписано, как только он придет в канцелярию.
Во второй половине дня к нам подошел катерок консульства ФРГ, и консул обещал Детлефу связаться с представителем ООН в Омане и с американским посольством. После консула явился еще один полицейский и потребовал судовую роль. Я объяснил, что ее уже увез на берег его коллега, однако новый гость заявил, что это его не касается, тот офицер был из другого ведомства, вероятно из сыскной полиции. Я отпечатал на машинке новый список в пяти экземплярах. Почему-то это расположило к нам полицейского до такой степени, что он согласился отбуксировать нас к причалу, чтобы мы могли пользоваться туалетом, который помещался в далеко не новом зеленом металлическом сарайчике.
Затаив дыхание, мы стояли с шестами наготове, пока катер вел нас зигзагами между
дау. Только подошли к бетонному пирсу и приготовились швартоваться, как появился швед из агентства, крикнул, что мы не туда заехали, и показал на другой пирс, расположенный под прямым углом к первому. Катер развернулся на сто восемьдесят градусов, и мы перебежали с шестами к другому борту, чтобы уберечь от поломки торчащие на носу и на корме поперечные балки. Лихой маневр завершился удачно, но не успел Рашад выскочить со швартовом на пирс, как возникший невесть откуда портовый инспектор-англичанин остановил его и велел нам причаливать за трехмачтовым учебным судном у первого пирса. В тесном пространстве между двумя пирсами взаимодействие «Тигриса» и катера нарушилось, и корма ладьи, где я один стоял с бамбуковым шестом, стала стремительно приближаться к стенке. Отталкиваясь от бетона изо всех сил, я вдруг смекнул, что рискую проткнуть другим концом шеста тростниковую стенку рубки. Рывком отклонил в сторону шест — и проиграл сражение. Выступающее с обеих сторон толстое бревно, на которое опирались рулевые весла, с нехорошим треском стукнулось о бетон, так что все деревянные конструкции на корме сдвинулись вправо.
В это время на борт «Тигриса» прибыли чиновники иммиграционной службы и, не подозревая о случившейся драме, учтиво попросили «одолжить» им на несколько минут наши одиннадцать паспортов. С другой стороны того же пирса разгружался норвежский сухогруз «Тир», капитан которого пригласил нас на дивный обед, и мы без каких-либо возражений со стороны местных чинов пересекли разделявшую нас полоску оманской территории.
Следующий день была пятница, и вся жизнь в порту замерла. Мы вытащили на пирс рулевые весла и принялись выправлять покосившиеся конструкции. Как и накануне, над нами то и дело совсем низко кружил вертолет. Представитель морского агентства передал, что султан еще не подписал разрешение, но, как только он придет в канцелярию, все будет сделано в тот же миг. А пока мы должны оставаться на борту «Тигриса».
В субботу к нам на борт явились четыре деятеля, которые вежливо попросили разрешить им осмотреть судно. Явно удовлетворенные увиденным, они подошли ко мне и, приветливо улыбаясь, осведомились, нельзя ли также спуститься в трюм. Я с не менее приветливой улыбкой попытался разъяснить им, что у нас нет трюма, вообще под палубой ничего нет, всё на виду, и стал описывать устройство «Тигриса». Корпус из бунтов... По образцу шумерского
ма-гур... Инспекторы нахмурились, дружелюбия как не бывало, и двое из них с нескрываемой подозрительностью начали заглядывать под матрасы и палубные доски, а остальные двое подвергли меня перекрестному допросу. За каждым ответом следовал новый вопрос. Для меня стало очевидно, что это сотрудники сыскной или тайной полиции, которым поручили произвести заключительную проверку, прежде чем впускать нас в султанат, и я принес камышовую модель, связанную индейцами с Титикаки, а также вырезки из газет других арабских стран и письмо норвежского Министерства иностранных дел. Тем не менее инспекторы покидали ладью отнюдь не убежденные в том, что у нас нет трюма. Так или иначе, следом за ними в охраняемую зону порта была допущена молодая англичанка, которая взяла интервью для «Оман таймс», после чего явился с доброй вестью морской агент: султан Кабус подписал разрешение, мы можем, «находясь под наблюдением», посетить Маскат и снимать все, кроме нового дворца султана.
Современный Порт-Кабус выстроен в бухте на месте старого селения Эль-Матрах; от столицы и султанской резиденции его отделяют лишь иссеченные вертикальными складками утесы, окаймленные петлей дороги. Рыбный рынок на берегу и фруктовый базар среди старых домов Эль-Матраха не менее и не более живописны, чем такие же базары в других арабских селениях, куда еще не проторили путь туристы, но лица здесь удивительные. Собери Голливуд для библейского фильма столько длиннобородых мужей с изумительным профилем, я сказал бы, что продюсер хватил через край, но султан-то уж вряд ли старался специально для нас. Особенно внушительно смотрелись старцы с орлиным носом, гордо носившие на поясе кривой серебряный кинжал мастерской работы. Возможно, из-за длинного халата, чалмы и бороды они казались старше своего истинного возраста. Вообще-то седые бороды преобладали над черными, нередко они раздваивались, и у многих достигали пояса, как у Деда-Мороза или Мафусаила. Что ни лицо, то картина, и Карло лихорадочно щелкал затворами своих фотоаппаратов.
На базарах, на узких улочках, да и везде, где нам довелось побывать, чувствовалось, что Оман — древний тигель, в котором сплавлялись семитские, персидские, пакистанские, индийские и африканские типы. В облике людей я видел подтверждение того, что нам известно об истории этого края. Задолго до дней пророка Оман был центром мореплавания, привлекавшим парусники из Азии и Африки. Используя муссон, летом африканские купцы шли на север — в Оман, Пакистан, Индию, а зимой возвращались в Африку вместе с торговцам из Аравии и с Азиатского материка. И португальские завоеватели не замедлили оценить стратегическое положение Омана в центре ближневосточных морских путей, как только Васко да Гама позаимствовал у арабов плоды их вековых наблюдений над муссонами.
Маскат стал столицей Омана прежде всего благодаря современному порту, а раньше главным городом был Эс-Сохар, лежащий севернее на открытом берегу, мимо которого мы прошли. Там парусники могли становиться на якорь на мелководье, и оттуда было несложно дойти до входа в залив, где пролегали пути к Бахрейну, Персии, Месопотамии. Но в Эс-Сохаре нет защищенной гавани, а потому он был забыт внешним миром, когда султан Кабус приступил к модернизации Омана и начал с новой столицы. На горе над старой гаванью Маската появился роскошный дворец, а центром морских перевозок стал расположенный рядом Порт-Кабус. В это же время в процветающей столице и около нее были построены большой международный аэропорт, шоссейные дороги, административные и правительственные здания.
Тем интереснее было для меня услышать упоминание Эс-Сохара уже в первый наш вечер на берегу, во время обеда, данного в честь членов экспедиции генеральным директором порта англичанином Бэрри Меткалфом и его супругой Кэт. Кто-то сказал, что в районе Эс-Сохара можно увидеть маленькие лодки, похожие на нашу ладью. Мы как раз пришли с базара распаренные и усталые и не отреагировали на эти слова, ибо Меткалфы и двое их соседей предложили нам воспользоваться ванной. Исполнив танец радости и благодарности под чистыми струями душа, мы словно заново родились на свет и блаженно погрузились в мягкие кресла, вооруженные тарелками с цыплячьим рагу и огромными кружками, в которых пенилось холодное пиво. Только тут до меня постепенно дошло, что человек, говоривший о лодках под Эс-Сохаром, не кто иной, как видный итальянский археолог Паоло Коста, генеральный инспектор Управления древностей в Оманском султанате. Несмотря на пышный титул, Коста оказался очень простым и добродушным человеком, мы быстро перешли на «ты» и углубились в далекие тысячелетия, когда мусульманская вера и архитектура еще не распространились до Омана.
Паоло рассказал, что на севере страны находятся древние медные копи. Там же найдены подземные акведуки, а на холмах стоит множество каменных башен, представляющих собой могильники примерно того же периода, что и многочисленные бахрейнские курганы.
Интересные древние развалины, продолжал он, обнаружены на юге, в приморье у границы Южного Йемена. Правда, туда мы не сможем попасть, потому что йеменские власти враждуют с султаном и в пограничной зоне идут непрерывные стычки.
Слухи о зиккурате не шли у меня из головы, и я спросил Паоло, верно ли, что в Омане найдена шумерская храмовая пирамида. Тотчас Норман придвинулся поближе к нам со своим креслом.
— Что-то найдено, — последовал неожиданный ответ. — Не хочу утверждать, что пирамида шумерская, но конструкция во всем похожа на шумерские зиккураты.
Мы не стали терять времени. На другой день рано утром за воротами гавани нас уже ждал предоставленный портовыми властями автобус. Коста вызвался быть нашим экскурсоводом, и мы отправились в путешествие по краю, закрытому для туристов. Миновав сверхсовременную застройку в пригородах Маската, мы затем с каждой сотней километров словно углублялись на тысячу лет в прошлое, проехали древний город Низва и в горах, примерно в 250 километрах от Маската, достигли еще более древнего городка Эль-Хамра. Новое шоссе султана недавно дотянулось сюда, но электричество и водопровод еще не подоспели. Ни тебе транзисторных приемников, ни пепси-колы, ни полиэтиленовых мешочков...
И если не считать того, что все мужчины моложе сорока пяти лет использовали шоссе, чтобы перебраться на заработки в Маскат, жизнь этого привлекательного уголка мало в чем изменилась со времен возникновения древних ближневосточных цивилизаций. Мы снова окунулись в библейскую атмосферу, — впрочем, тут не Библию следует вспоминать, а Коран.
Из прилепившихся гроздьями к голому камню высоких глинобитных строений горчичного цвета появлялись босые женщины в ярких одеяниях и с царственной осанкой шествовали с кувшинами на голове к старым акведукам в тени фиговых пальм. Позвякивающие браслеты на их руках, как и серебряные кинжалы мужчин, украсили бы собрание самого взыскательного коллекционера. С отведенной для посадок влажной земли женщины возвращались на отшлифованные до блеска множеством ног и копыт узкие каменистые улочки, которые от вечнозеленых пальм между светло-коричневыми домами круто поднимались прямо в голубое небо. В прохладной тени аркад сидели и стояли люди в халатах, размышляя или беседуя и заботясь о времени не больше, чем присоседившиеся к ним вьючные ослики и безмятежно жующие жвачку козы. Нигде не видел я столько мужчин, напоминающих известное изображение «дяди Сэма» с роскошной бородой и орлиным носом. Нигде, если не считать доколумбовые каменные рельефы с изображением загадочных ольмеков, которые принесли цивилизацию на берега Мексиканского залива задолго до прибытия сюда европейцев. Величавая осанка и спокойные лица старцев придавали им сходство с древними мудрецами. Снисходительные взгляды, провожавшие вторгшихся в их мир чужаков, заставляли нас чувствовать себя школярами, затеявшими возню перед коллегией профессоров, обдумывающих тайны бытия. Возможно, здешние жители не умеют писать, но ведь это их двойники первыми изобрели письменность! Их предки пустили и передали нам беспокойные часы цивилизации; мы заставили эти часы тикать в тысячу раз быстрее и, не осознав еще толком своих заблуждений, спешим распространить их всюду, куда дотянулись наши дороги.
Эль-Хамра выстроен на скальном грунте, и его внушительные здания еще долго будут стоять на радость туристам, когда те устремятся в Оман. Но дома станут подобны пустым раковинам на морском берегу, ибо даже всемогущий султан не повернет вспять поток молодежи, устремляющейся по новым дорогам в Маскат.
Живое прошлое, с которым мы соприкоснулись в еще обитаемых городах и селениях горного Омана, согревало своим теплом и наделяло смыслом соседствующие с ними древние развалины. Особо знаменательными были для нас с «Тигриса» следы давней деятельности человека у Тави-Арджа, на сухих равнинах Вади эль-Джитти в северной части страны. Мы проникли туда на вездеходе Паоло Косты через приморскую низменность Эль-Батина, которую наблюдали с моря, когда шли на юг. Теперь, по пути на север, мы рассмотрели нашу якорную стоянку у островов Сувади, а часах в трех от Маската хорошая дорога привела нас к скромным пригородам бывшей столицы. От Эс-Сохара другое шоссе вело внутрь страны, к диким горам; мы уже видели их с другой стороны, когда пробирались к выходу из залива. На смену плоской равнине пришли сперва отлогие холмы, и мы с волнением заметили, что все они венчаются рядами древних каменных башен, удивительно похожих на бахрейнские. Коста рассказал, что многие башни уже раскопаны и оказались могильниками третьего тысячелетия до нашей эры, то есть периода шумеров, как и на Бахрейне. Сходство с бахрейнскими склепами выражается и в том, что здесь внутренняя камера тоже крестовидная.
Я смотрел на древние башни по обе стороны
вади, и они представлялись мне каменными турами, указывающими путь к храмовой пирамиде, к которой мы направлялись.
Вскоре Коста круто свернул с дороги, и машина запрыгала по дну каньона, где одни лишь верблюжьи тропы вились через потаенный мир пересохших русел и бывших пойм, всю растительность которых составляли редкие корявые деревца с несъедобными ягодами в обрамлении колючек. И кругом ни одного дома, хотя кое-где нам попадались живущие в своего рода симбиозе с деревьями полукочевые семьи. Их примитивное жилье представляло собой огороженную ветками платформу, примостившуюся среди кривых сучьев наподобие гнезда, и похоже было, что приносимая жильцами дань идет на пользу дереву. Скудная одежда и утварь висели на сучьях вне пределов досягаемости для коз; как нам рассказали, когда кочевников переселяют в настоящие дома, они по привычке пол ничем не занимают, все имущество развешивают под потолком и на стенах.
Вади эль-Джитти — самое большое сухое русло в этом бесплодном краю. Словно вымощенная галькой широкая автомагистраль, петляет оно на окаймленной покатыми и крутыми холмами песчаной равнине с разрозненными колючими деревцами. Обработанные обломки яшмы да выложенный в древности круг из камней — вот и все подмеченные нами здесь следы человека. В глубине страны линию горизонта вычертили зубчатые горы западного побережья; череда высоких гряд стала на пути в Саудовскую Аравию и к заливу. В другую сторону, вплоть до Эс-Сохара и открытого морского берега, откуда мы ехали, простерлась плоскость широкого
вади. Без дороги, прямо по гальке мы доехали до конической черной вершинки, служившей для Косты ориентиром, обогнули ее и на равнине перед собой увидели то, ради чего была устроена поездка.
Я еще из машины обратил внимание на большие камни шоколадного цвета, слагающие террасированную стену засыпанного песком сооружения. Меня так и подмывало выскочить на ходу; наконец мы остановились, и я смог воочию убедиться: перед нами было то самое, что я надеялся увидеть, отнюдь не уверенный, что надежда сбудется. Никаких сомнений!
Коста подвел меня и Нормана вплотную, и Норрис поспешил занять удобную позицию со своей камерой, чтобы запечатлеть первую за много столетий встречу «камышовых» мореплавателей из Двуречья с остатками святилища, возможно принадлежавшего шумерам. Мы стояли у подножия рукотворного холма, пострадавшего от времени, но достаточно сохранного, чтобы судить о его форме. Разглядывая огромные коричневые камни кладки, мы слушали обстоятельное объяснение Косты:
— Пока не произведены серьезные раскопки, нет оснований датировать это сооружение третьим тысячелетием до нашей эры. Несомненно одно: перед нами капитальное сооружение уникального типа, квадратное в плане, ступенчатое, весьма умело сложенное без подбора камней. Поскольку оно стоит посреди равнины, окруженной холмами, речь явно идет не о фортификационном сооружении, и мы вправе утверждать, что это храм.
Продолжая жадно рассматривать высокий курган, мы подошли следом за Костой к той грани, вдоль которой до верхней террасы поднимался узкий пандус. Герман с трудом сдерживал свое возбуждение — ведь перед нами была ступенчатая пирамида вроде тех, которые нам с ним не раз встречались среди развалин доколумбовой поры в Мексике! И в то же время она обладала типичными чертами месопотамского зиккурата. Как подчеркнул Коста, ничего подобного не находили до сих пор не только в Омане, по и на всем Аравийском полуострове. Над поверхностью земли четырьмя ступенями возвышались облицованные крупным диким камнем террасы. Углы квадратного сооружения ориентированы по сторонам света; посередине одной из граней — хорошо сохранившийся мощеный пандус, совсем как у храмовых пирамид солнцепоклонников Двуречья и доколумбовой Мексики. Воздвигшие эту пирамиду люди руководствовались немусульманскими канонами, зато бросалось в глаза принципиальное сходство с дильмунским храмом на Бахрейне, который Джеффри Бибби назвал «мини-зиккуратом».
На глаз нельзя было сказать, скрыта ли часть сооружения под землей или оно все на виду, но с одной стороны к террасированному кургану примыкала чуть выступающая над плотным грунтом верхняя часть булыжной ограды прямоугольного храмового дворика. Раскопок здесь совсем не производили. Всюду кругом были видны остатки других стен и сложной системы водоводов. Следы каменной кладки уцелели и на бугре, возвышающемся над храмовой пирамидой. В самом деле, почему не начаты раскопки?
Коста пожал плечами: некогда было. Вместе со своими помощниками (двое из них сопровождали нас в этой экскурсии и впервые увидели загадочный курган) он занимался обследованием археологических объектов по всему Оману. Пирамида открыта совсем недавно, по чистой случайности, в связи с тем, что султан разрешил производить в стране общую археологическую и геологическую съемку. Четыре года назад в этот
вади приехали на «лендроверах» геологи Оманской геологоразведочной компании. Они занимались поиском полезных ископаемых по программе, разработанной Ч. Хастоном и одобренной его величеством султаном Кабусом. Геологи представили оманскому правительству отчет обо всем, что было обнаружено, но, поскольку главный интерес для властей представляли экономические данные, весть о храмовой пирамиде лишь недавно стала достоянием более широких кругов. Экспедиция Гарвардского университета во главе с Дж. Хемфрисом посетила этот объект и указала в своей публикации, что в районе горных выработок есть «зиккурат месопотамского типа»
[48]. Арабы в свое время не обошли вниманием древние копи, но и в наши дни возрождение выработок сулило немалую отдачу.
Копи... В уме возникло смутное воспоминание. В двух-трех десятках метров от пирамиды пестрели на солнце причудливые груды то ли битого камня, то ли шлака. Красивые цвета: красный, бурый, фиолетовый, желтый, зеленый... Конечно, шлак.
— Я говорил тебе про древние медные копи. Вот они, перед тобой! — сказал Коста.
Куски давно разрозненной мозаики начали складываться в логическую картину, и на миг у меня перехватило дыхание, а Коста уже показывал на странную гору за бугром со следами кладки. Будто огромный ржаво-красный гнилой зуб с почти сквозной дырой посередине. Сразу видно, что это не эродированный кратер, вообще не природное образование, — тут поработал человек.
— Одна из старинных выработок, — объяснил Коста. — Здесь ты на каждом шагу увидишь следы деятельности древних рудокопов.
Но тогда понятно, почему именно здесь появился зиккурат шумерского типа. Вспомнились тексты древних шумерских плиток, с которыми я знакомился в Ираке и о которых говорил с Джеффри Бибби на Бахрейне. Прикидывая в уме итог, я с трудом удержался от того, чтобы высказать вслух напрашивающуюся догадку.
По словам Косты, только у подножия причудливой горы лежало в кучах около сорока тысяч тонн шлака. Всего же геологи обнаружили в Северном Омане сорок шесть древних выработок. Нашему экскурсоводу не терпелось показать нам другую копь, где накопилось до ста тысяч тонн шлака. Древние рудокопы начисто срыли целую гору, и мелкая лощина на ее месте, засыпанная разноцветным шлаком из множества маленьких плавильных печей, напоминает исполинскую палитру живописца.
Трясясь по каньонам и пересохшим руслам, мы достигли самого впечатляющего, по мнению Косты, изо всех археологических объектов Омана. В самом деле, нельзя было не поразиться размаху древних тружеников, преобразивших местность в подобие огромной арены или живописного театра под открытым небом. От бывшей тут горы рудокопы оставили только отливающий металлическим блеском монументальный выступ, этакую триумфальную арку, примостившуюся на приподнятом краю пестреющего обломками поля битвы. Не исключено, что величественная арка была сохранена намеренно в память о первой штольне, с которой рудокопы начали штурм медной горы, обреченной на полное исчезновение.
Я не мог больше терпеть, должен был поделиться своими догадками.
— Макан! — вырвалось у меня, когда Коста завел нас под могучую арку, чтобы мы оттуда полюбовались эффектным зрелищем.
— Верно, — подтвердил он. — Вполне возможно, что это и есть Макан, легендарные Медные горы древних шумеров. Здесь самое близкое к Двуречью месторождение меди.
Я вспомнил, как Джеффри Бибби, показывая развалины древнего портового города на Бахрейне, привел нас на площадь у обращенных к морю городских ворот, где были найдены куски необработанной меди. Бибби считал эту находку свидетельством того, что во времена шумеров местные купцы выходили из залива, чтобы добыть столь необходимый для культур бронзового века металл. Ввоз меди играл важнейшую роль для создателей цивилизации Двуречья — ведь ни в самой этой стране, ни у ее соседей по заливу не было своих месторождений!
Самый вдумчивый, пожалуй, исследователь вопроса о происхождении и путях доставки меди в Двуречье, Бибби обращает внимание на данные древних плиток о том, что металл привозили по морю из страны, которую шумеры называли Макан или Маган. Две найденные в Уре плитки четырехтысячелетней давности представляют собой расписки шумерского купца за товары, полученные им от главного храма. В одной расписке говорится о шестидесяти талантах шерсти, семидесяти кусках ткани, ста восьмидесяти шкурах и шести
кур (около двух тысяч литров) доброго кунжутного масла, предназначенных для «обмена на медь». Вторая расписка уточняет, что ткани и шерсть выданы для «обмена на медь из Макана».
Бибби нашел упоминания Макана в месопотамских текстах времен Саргона Аккадского, около 2300 года до нашей эры: царь горделиво сообщает, что корабли из Макана швартуются у его причалов вместе с судами из Дильмуна и Мелуххи. Внук Саргона утверждал, что он «выступил в поход на Макан и лично пленил Маннуданну, царя Макана». А Гудеа, правивший в Лагаше около 2130 года до нашей эры, ввозил из Макана диорит для многочисленных каменных статуй, иные из которых уцелели до наших дней и донесли до нас надписи, в которых сказано о происхождении камня. Но, отмечает Бибби, около 1800 года до нашей эры ссылки на «медь из Макана» и на товары «для обмена на медь, погруженные на корабль, идущий в Макан» прекращаются. Видимо, с той поры больше не было прямых плаваний в Макан, вся торговля медью шла через Дильмун. Однако Макан по-прежнему значился как первичный источник металла. В текстах можно прочесть: «диорит из Макана», «медь из Макана», «пальмовое дерево из Дильмуна, из Макана, из Мелуххи»
[49]. Если в древних преданиях верховные боги Двуречья и спасшийся от потопа Зиусудра тесно связаны с дильмунским торговым центром, то Макан совсем не упоминается в мифологических текстах. Шумерские боги там не бывали. Все ссылки на Макан носят чисто деловой, коммерческий характер.
К тому времени, когда раскопки Бибби на Бахрейне начали поставлять убедительные доводы в пользу гипотезы о тождестве Бахрейна и Дильмуна, уже было выдвинуто немало предположений о местонахождении Макана. В частности, некоторые ученые были склонны помещать Макан в Африке. Авторитетный исследователь С. Крамер допускал, что Макан — Египет; кое-кто отдавал предпочтение Судану или Эфиопии. Основанием для этих предположений служил один намек в поздних ассирийских анналах. Около 700—650 годов до нашей эры воинственные ассирийские цари вышли по суше к Нижнему Египту со стороны Средиземноморья и оставили надписи, в которых помещали Макан и Мелухху южнее страны египтян. Однако вряд ли ассирийцы могли верно судить, как далеко на юг от Египта находились эти легендарные области, поскольку прямая торговля между Двуречьем и Маканом прекратилась за тысячу лет до того.
Другим исследователям Макан виделся ближе к шумерским портам. Так, Вулли писал, что «диорит
доставлялся морем из Магана, расположенного где-то на берегах Персидского залива». Насчет меди он уточняет, что она «поступала из Омана, как показывает анализ руды...»
[50]. Бибби поддерживает эту точку зрения. Во-первых, потому, что Макан, по его прикидкам, был вполне достижим для парусных судов из Дильмуна, во-вторых, потому, что анализ многих медных изделий из Двуречья, датируемых III—II тысячелетиями до нашей эры, показал наличие в металле малых примесей никеля
[51]. Никель в медной руде встречается довольно редко, но точно такую же примесь обнаружили в образце руды с закрытой при отце Кабуса территории Омана. Образец «из древних выработок» был найден в долине, уходящей вглубь страны от порта Эс-Сохар.
Из полученного мной впоследствии письма от мистера Дж. Джеффса из Канадской геологоразведочной компании я узнал, что именно упоминание оманского образца в книге Бибби «В поисках Дильмуна» побудило руководителей компании организовать с разрешения султана Кабуса разведку забытых копей в Северном Омане, и тогда был открыт храм, к которому нас привез Паоло Коста.
Уже после экспедиции «Тигрис», когда Паоло Коста с супругой неожиданно навестили меня в моем доме в Италии, я услышал, что начаты раскопки храмовой пирамиды у Тави-Арджи. Ветры и водяные потоки не давали копиться гумусу на гладкой твердой поверхности
вади, где стоит источенный зубом времени курган, поэтому пока все находки, включая черепки, датировались не старше мусульманского периода. Но на вершине Коста откопал сильно эродированную кладку из квадратного сырцового кирпича того самого типа, какой применялся в Двуречье. Судя по всему, пирамиду венчала некая надстройка.
Осторожность ученого удерживала Паоло Косту от каких-либо выводов за отсутствием убедительных свидетельств. Он не нашел еще ни плиток с письменами, ни угольков, поддающихся датировке. Пока что на всем Аравийском полуострове не обнаружено ничего подобного внушительному сооружению немусульманского типа, возвышающемуся в окружении сорока шести заброшенных древних выработок единственного месторождения меди, которое было вполне достижимо для купцов-мореплавателей из Ура и их торговых партнеров на Бахрейне.
Но даже если на бесплодной земле
вади и в горных выработках этого края не будет найдено ни одного шумерского сосуда, все равно география и геология весьма убедительно говорят за то, что страна меди Макан древних шумеров — Северный Оман. В области залива нет другого претендента на эту роль. Всяк волен по-своему гадать о принадлежности заблудшего, но видимости, мини-зиккурата в Тави-Ардже. В его строительство вложен колоссальный труд. Это не форт и не арабская мечеть, зато мы видим все черты ритуальных сооружений, подобные которым в Старом Свете известны лишь в Двуречье да еще на Бахрейне, где недавно раскопан дильмунский мини-зиккурат. Мы прошли на шумерской ладье от Бахрейна до океанских берегов Омана. Пользуясь шумерской терминологией, можно сказать, что мы проплыли на
ма-гур от Дильмуна до Макана. И нам наиболее правдоподобной представляется гипотеза, предполагающая, что обнаруженное геологами в Тави-Ардже неопознанное сооружение было воздвигнуто по воле исповедовавших культ Солнца купцов-мореплавателей, представителей великой цивилизации Двуречья, которые прибывали сюда в большом количестве, потому что здесь находился ближайший источник меди.
Из виденных в Омане следов изобретательности древних самое сильное впечатление произвели на нас подземные
фалай. Среди безбрежной песчано-галечной равнины мы остановились перед ямой, которая в первую минуту показалась нам бездонной, мы даже попятились от ее края. Каменный колодец уходил далеко в глубину, и дно терялось в кромешном мраке. Наверху отверстие окаймлял невысокий вал из выкопанной земли и гравия. В обе стороны уходила вдаль череда подобных ям. Мы услышали, что колодцы соединены с многокилометровым подземным водоводом, проложенным с такой точностью, что вода все время течет под уклон независимо от неровностей рельефа. Некоторые
фалай начинаются на поверхности земли для создания нужного напора, и мы с немым восхищением смотрели на открытый водовод на склоне холма, ныряющий под русло реки и выходящий наверх с другой стороны! Уйдя перед руслом в нечто вроде врытой в землю каменной башни, вода вновь появлялась в несколько более низкой башенке за рекой. Дальше акведук протянулся вдоль склона другого холма до опаленной солнцем равнины, где воду ожидало долгое путешествие в прохладном подземелье. Арабы и сейчас поддерживают в рабочем состоянии некоторые
фалай; есть акведуки, построенные, вероятно, ими самими, но корни этих поразительных творений инженерного искусства и коллективного труда теряются в далекой древности.
Кто бы ни создал первые оманские
фалай, они подсказывают логический ответ на загадку, связанную с древними водопроводящими галереями, открытыми Бибби и его товарищами на Бахрейне. Дильмунские водоводы тоже скрыты глубоко в толще песков, и такие же каменные колодцы соединяют их с поверхностью. Думается, они, как и маканские акведуки, были намеренно проложены под землей, а не погребены впоследствии песчаными бурями.
Еще более наглядное, притом мобильное, звено, соединяющее Дильмун с Маканом, мы наблюдали, спускаясь на машине Косты по широкому плоскому
вади от храмовой пирамиды и окружающих ее копей к открытому берегу моря у Эс-Сохара. Этот старинный город расположен в устье бывшей реки, которая несла свои воды в море много тысяч лет назад, пока рудокопы не свели все леса внутри страны. Выплавка меди, как это видно по грудам шлака, велась в огромных масштабах и требовала колоссального количества заготавливаемых на месте дров. Здесь, как и во многих странах, и не только на Ближнем Востоке, хищническое обращение человека с природной средой превращало леса в пустыни, а реки в
вади.
Ложе кончающегося у Эс-Сохара
вади выстлано гладкой речной галькой. Надо думать, бывшая столица Омана потому и возникла здесь, что широкая водная артерия соединяла город с важнейшим горнопромышленным районом.
На полтораста с лишним километров протянулся в этих местах широкий пляж, омываемый океанскими волнами. Чистый белый песок отделяет от воды незатейливые глинобитные и камышовые лачуги в предместьях Эс-Сохара. Дружелюбные арабские рыбаки сидели на солнце, чиня сети, когда мы приехали сюда. Старые женщины и юные девушки в ярких платьях, с черной полумаской на лице не прятались от нас, как в селениях внутри страны, а спокойно стояли у входа в свои жилища. Подгоняемая длинными веслами, с моря приближалась к пляжу лодка. Прибойная волна подхватила ее и вынесла почти на самый берег. Гребец вытащил лодку на песок. Маленькое суденышко, полное серебристой рыбы, было связано из пальмовых черешков, совсем как на Бахрейне. Рядом лежали на берегу еще три лодки такого же рода. Их местное название —
шаша. Теперь таких суденышек становится все меньше. Нам рассказали, что ими пользуются для доставки грузов с
дау, бросающих якорь на более глубокой воде.
Я пристально рассматривал
шаша. Конструкция точь-в-точь такая, как у бахрейнских
фартех, до малейших деталей, только и разницы что в названии. Два арабских народа по обе стороны Ормузского пролива унаследовали один и тот же тип судна, притом так давно, что называют его по-разному.
Не вынуди нас современные постановления идти до самого Маската, мы стали бы на якорь у здешних берегов, как это делают нынешние
дау и делали прежние
ма-гур из Ура и Дильмуна, слишком большие, чтобы приставать прямо к пляжу. Я живо представлял себе, как «Тигрис» стоит, покачиваясь на голубых волнах, а местные
шаша подходят к нам для связи с берегом, как во времена шумеров они обслуживали купцов, которые приходили за многотонным грузом меди.
На самом деле «Тигрис» уже целую неделю праздно стоял в грязной воде Порт-Кабуса. Камышовая ладья, обреченная, по мнению авторитетов, насквозь пропитаться водой еще до выхода из реки, успела обрасти водорослями длиною с бороду Нептуна, на бунтах развелись крабы и аплизии. И мы никуда не спешили: скоро ли еще представится редкостная возможность посетить Макан!
Уже после возвращения в Европу я обратился к написанной ровно девятнадцать столетий назад «Естественной истории» Плиния Старшего, чтобы проверить, было ли известно древним римлянам что-нибудь об Омане и его жителях. Можете представить себе мое удивление, когда я обнаружил упоминание арабского народа «мака»
(gentem Arabiae macas), в земли которого, знаменитые медными копями, можно попасть через пролив восьмикилометровой ширины, отделяющий эту страну от восточных пределов области, подвластной персидским царям
[52]. Безусловно, речь идет об Ормузском проливе, и мака, таким образом; жители Северного Омана. Вполне логично, что мака обитали в стране, известной им и древним шумерам под названием Макан.
Глава VIII. «Тигрис» и супертанкеры. Путь в Пакистан
— Левая греби, правая суши!.. Обе стороны греби!.. И-и... раз!.. И-и... раз!..
Я стоял на высоком мостике, словно какой-нибудь капитан невольничьей галеры, а мои друзья, обливаясь потом, дружно налегали на длинные весла, которые согласно погружались в воду, придавая ладье сходство с огромной многоножкой.
Увлекательное испытание! Я давно о нем мечтал, но раньше не было случая его провести. Мы задумали выйти из порта на веслах, и поскольку Тору и Карло втиснулись в резиновую шлюпку, чтобы снимать это событие, на веслах сидело только восемь человек, по четыре с каждого борта. Я рулил и, чтобы видеть ребят, стоял на перилах, держась за верхний из двух румпелей, которыми были оснащены рулевые весла.
— И-и... раз!.. И-и... раз!..
Ребята полностью выкладывались, чтобы заставить тяжелую ладью двигаться вперед. Общий вес намокшего
берди, надстроек и груза, наверно, приближался к пятидесяти тоннам, так что каждому гребцу надо было перемещать по воде вес одного слона. Не справимся с экспериментом — дело может обернуться скверно. Если ладья выйдет из подчинения, малейший порыв ветра пли каприз приливно-отливного течения в гавани может привести к нежелательному контакту с корпусами, швартовами и якорными цепями окружающих нас со всех сторон больших и малых судов. Устремленные на нас с берега и кораблей взгляды многочисленных зрителей еще больше подстегивали ребят.
Мы поднялись до восхода, чтобы попробовать своими силами выбраться из обширной гавани прежде, чем разгуляется ветер и проснутся местные жители. Но пока мы прощались со своими оманскими друзьями, весть об отплытии «Тигриса» каким-то образом распространилась по городу. Кому не удалось проникнуть на охраняемую территорию порта, те выстроились на берегу вдоль главной улицы. Команды стоявших в гавани судов тоже приготовились созерцать, что у нас получится. Выбирая якорный трос, мы отвернули нос ладьи от пирса, затем оттолкнулись от стенки и начали грести.
— И-и... раз!..
Минуту-другую ладья оставалась неподвижной. Потом медленно пошла. Очень медленно. Скорость меньше одного узла, однако достаточная, чтобы судно слушалось руля. Со спущенными парусами «Тигрис», будто длинноногое морское чудище, отполз от пирса и двинулся через лабиринт, образованный бетонными пирсами и стальными корпусами. Потревоженный веслами, уходил за корму засоряющий гавань хлам. Судовые сирены провожали нас тремя гудками: приветствие современных океанских богатырей незатейливому древнейшему предку, упорно пробивающемуся в открытое море. Два вертолета кружили над нами, как бы проверяя, взаправду ли мы уходим. В сопровождении эскорта его величество султан промчался на машине по магистрали до Порт-Кабуса, развернулся и ринулся обратно в свой дворец в Маскате. Вся эта шумиха прибавляла гребцам задора, и когда остался позади последний корабль и открылся свободный путь до крайнего мола, внезапная тишина показалась нам даже гнетущей.
Отчалив в восемь утра, мы к девяти часам успели вполне постичь размеры огромной современной гавани: нам еще надо было обойти внешний волнолом, а уже принялся мешать слабый бриз. Непривычные к гребле, ребята здорово устали. Команда «Тигриса» была явно недоукомплектована. На древних петроглифах у средних размеров камышовой ладьи, как правило, не меньше двадцати гребных весел, у судов побольше — до сорока, у нас же работало всего восемь. С двадцатью веслами мы запросто развили бы втрое большую скорость.
На подступах к выходу из гавани слабый бриз стал для нас подлинной проблемой. Казалось, «Тигрис» не трогается с места и расстояние до волнолома неизменно. Мало того, что ветер тормозил ладью. Поскольку мы принимали его чуть справа от высокого носа, он теснил нас влево, грозя столкнуть с оконечностью дамбы. Рулевые весла вместе с носовым и кормовым швертами не могли противоборствовать сносу, поэтому я командовал правой четверке гребцов «суши!», а левая четверка гребла с удвоенной силой; время от времени ребята менялись местами.
Гребцы выматывали из себя все жилы; я же мог только следить за рулем и покрикивать все громче и настойчивее на своих «невольников». И подбадривать их, конечно. Волнолом упорно приближался. Осталось одолеть каких-нибудь сто метров, после чего мы, сравнявшись с длинной стенкой, обогнем ее штурмуемый волной конец, вырвемся на простор и поднимем квадратный парус. Минуты казались нескончаемыми. Кое-кто из ребят, выбившись из сил, шлепал веслами как попало.
В целом полтора часа ушло у нас на то, чтобы добраться до ворот рукотворной баррикады. Левый борт ладьи смотрел на звездообразные бетонные массивы, принимающие на себя натиск океанского наката. Отчаянными усилиями мы заставили камышового тяжеловеса протиснуться мимо дамбы. Просвет между ладьей и волноломом был так мал, что не давал четверым гребцам на левом борту толком грести. И едва мы вышли за волнолом, как ветер взял верх над мускулами. Вместе с волнами он навалился на ладью с такой силой, что нас стало сносить кормой вперед прямо на зубчатые многогранные глыбы. Лишь секунды отделяли нас от катастрофы.
— Поднять парус!
Строго говоря, время для такой команды еще не наступило, но у нас не было выбора — ребята совершенно выдохлись. Положение было отчаянное. С верхушки волнолома и с полудюжины наблюдавших паше отплытие катеров до нас донеслись тревожные крики. Ладью прижало почти вплотную к торчащим бетонным пальцам; с перил мостика я видел, как разбегаются крабики, спасаясь от рулевого весла, которое проплывало в нескольких сантиметрах от них. Угрожающая картина. Над «Тигрисом» нависла серьезная опасность. Поданный с одного из катеров буксир помог нам продержаться, пока ребята во главе с Норманом бросились ставить парус. В рекордно короткий срок парус занял свое место и наполнился ветром. Минута-другая, и бетонные клешни остались позади. Мы вышли в открытое море.
Как не позавидовать древним шумерским мореплавателям! Насколько все было бы проще, если бы мы, подобно им, могли подойти к Эс-Сохару и отдать якорь у пляжа. Там хватило бы нескольких весел, чтобы на стоянке развернуть ладью кормой к ветру и продолжать плавание.
Слабый ветер дул от зюйд-зюйд-оста — ничего похожего на мощный северо-восточный муссон, обычно господствующий здесь в середине января. Малая скорость при недостаточной площади паруса не позволяла нам лавировать, и мы, принимая ветер с правого борта, вынуждены были идти на север, в обход высокого черного мыса, выдающегося в море к северу от Порт-Кабуса. В шутку я сказал ребятам, что после Макана нам теперь не мешало бы, повернув назад, все-таки посетить долину Инда. На самом деле мы рассчитывали идти с муссоном на юг, в сторону Африки.
До самого вечера перед глазами у нас маячили высокие горы и скалистые острова Омана. С приходом темноты в той стороне было видно лишь несколько ярких огней, да и те вскоре канули в море, и ночью только тусклое зарево обозначало местонахождение Маската и Матраха. Но еще засветло нам явилась знакомая картина — непрерывная череда мачт и судовых надстроек вдоль восточного горизонта. Белые надстройки поднимались все выше, и вот уже целиком видны следующие друг за другом корабли. Мы снова вышли наперерез пароходной трассе, снова началась мерзкая беспорядочная качка в созданной супертанкерами толчее, и раздраженная камышовая ладья опять отзывалась режущим ухо кошачьим концертом на яростные удары волн. Во время нашей с Детлефом полуночной вахты мы с трудом избежали столкновения, в последнюю минуту отвернув в сторону от небольшого сухогруза, который шел прямо на нас.
На другой день перед восходом зюйд-зюйд-ост сменился норд-норд-вестом, парус наполнился, и мы с хорошей скоростью пошли курсом 130°. Во второй половине дня еще подправили курс, чтобы обойти мыс Эль-Хадд, крайнюю восточную точку Омана, после которой берег Аравийского полуострова, изогнувшись под прямым углом, направляется к Аденскому заливу.
И тут внезапно обнаружилось, что на борту «Тигриса» назревает серьезная проблема. Норрис, всегда такой веселый и радостный, вдруг ударился в мрачность и стал огрызаться. Причина была всем нам известна. В последний день в Омане, когда Паоло Коста возил нас к древним копям, мы сбились с пути в лабиринте
вади и каньонов и допрыгались в машине по гравию и гальке до того, что в специальной кинокамере Норриса что-то поломалось. Забыв о сне и еде, он манипулировал со своими запасными частями, пока не убедился, что неисправность можно устранить только в мастерской. Перед отплытием из Омана Норрис отправил экстренную депешу консорциуму. Мы пытались утешить его, предлагая занять камеру у Тору или Германа — ничего, что они не рассчитаны на синхронную звукозапись. Однако наша недооценка профессиональных запросов Норриса лишь усугубила его хандру. Национальное географическое общество и телевизионная компания для того включили его в экспедицию, чтобы он снял документальный фильм с синхронным звуком. С обычной 16-миллиметровой камерой он задания не выполнит.
Лишенный своего орудия производства, Норрис в числе восьмерки гребцов прилежно налегал на весла, когда мы выходили из Маската. Тем не менее когда и в море камера продолжала бастовать, ему загорелось вернуться на берег и отправить аппаратуру в ремонт самолетом. Я был даже рад, что на борту нет рекордера, так как разговор пошел на повышенных тонах. Норрис настаивал на том, чтобы его высадили на берег. Нам же в это время было плевать на фильм. Главное, пока ветер благоприятный, уйти от всех волноломов и скал. Что мы и сделали, увозя с собой зародыш осложнений. Норман злился, потому что Норрис засыпал его срочными депешами для передачи через Бахрейнское радио с требованием прислать самолетом в Маскат из Англии или США запасные части или новую аппаратуру и чтобы какое-нибудь судно доставило нам посылку в Оманском заливе. Я поддержал Нормана: на передачу этих депеш уйдет не один час, а нам важно отплыть подальше от берегов Аравийского полуострова. Рисковать экспедицией из-за какой-то кинокамеры было бы безрассудством.
В итоге долговязый весельчак Норрис замкнулся в себе. Он смотрел в ту сторону, где скрылась за горизонтом земля, так, словно, потеряв возможность выполнять свое специальное задание, был готов покинуть нас и вплавь добираться до берега. Глядя на убитое лицо Норриса, я понял, что дело плохо. Норман сумел передать через Бахрейн его отчаянные призывы.
К этому времени бахрейнский радист Фрэнк де Суза стал как бы двенадцатым членом нашей группы. Только он ухитрялся принимать сигналы передатчика, которым нас осчастливил консорциум, и передавать нам ответы. Оставалось уповать на то, что случай поможет Норрису до того, как мы, миновав мыс, окончательно простимся с Оманом.
Мы благополучно пересекли пароходную трассу, однако, взяв курс на Эль-Хадд, снова сблизились с ней. Ночью было такое ощущение, словно мы странствовали в прериях, видя редкие огни разбросанных в темноте домов. Однако иллюзия сразу пропадала, когда огни придвигались к нам. Во время вахты Юрия и Германа один танкер промчался так близко от «Тигриса», что Юрий пулей выскочил из забортного туалета, а Герман принялся лихорадочно размахивать сигнальным фонарем.
На третий день после выхода из Маската благоприятный северный ветер кончился. Его сменили слабые порывы от оста и зюйд-оста, которые замедлили наше продвижение к мысу, зато пробудили надежду в душе Норриса. После Порт-Кабуса мы одно время шли в зоне умеренного загрязнения, теперь же кругом простерлась нефтяная пленка с комьями мазута. Не зная, что Бахрейнское радио предупредило все суда этого района о нашем присутствии в Оманском заливе, мы решили уйти с трассы поближе к берегу. Перед тем нас крепко напугал роскошный лайнер, который неожиданно изменил курс и пошел прямо на нас, видимо, чтобы пассажиры могли получше рассмотреть необычное суденышко. Вскоре после того небольшой сухогруз вдруг застопорил машину и лег в дрейф, как будто вознамерился загородить нам путь. Обнаружив, что мы-то не можем остановиться, капитан в последнюю минуту скомандовал «полный вперед!». Затем еще один сухогруз направился к нам, словно собираясь таранить «Тигриса». Это был норвежский «Брюнетте». Описав два круга около ладьи и трижды посигналив сиреной, он двинулся дальше. После него такой же маневр, наподобие танца вокруг рождественской елки, выполнил большой советский корабль «Академик Стечкин». С корабля окликнули в электромегафон Юрия Александровича и спросили, нуждаемся ли мы в чем-нибудь. Мы ни в чем не нуждались и со всей доступной нам скоростью направились к берегу, спеша освободить оживленную магистраль.
Эйч Пи поймал на свою любимую блесну огромную рыбину. Такую огромную, что она оборвала лесу и скрылась прежде, чем кто-либо смог удостоверить, что добыча и впрямь, как он утверждал, была около метра в длину. А через несколько часов Асбьёрн, обвязавшись страховочным концом, взял острогу, прыгнул в воду и вернулся на борт с большущей корифеной, в пасти которой застряла драгоценная блесна Эйч Пи с куском лески! Только Асбьёрн вышел из воды, как появилась двухметровая акула. Покружив около ладьи, направилась к красному спасбую, который постоянно волочился у нас за кормой, отдубасила его и исчезла.
На четвертый день справа показались возвышающиеся над мглистым берегом дикие горные гряды. Все корабли проходили мористее — нам удалось на какое-то время уйти с трассы. А ветер, заходя с востока, продолжал, к великой радости Норриса, теснить нас к гористому берегу. Вечером Фрэнк передал с Бахрейна невероятную новость: для Норриса приготовлена новая камера, ее отправят самолетом в Маскат, если мы готовы подождать. А что еще нам оставалось при виде сияющей небритой физиономии нашего кинооператора! К тому же и ветер был за него. Мы повернули на сто восемьдесят градусов и пошли параллельно берегу обратно на север. Сплошная череда суровых отвесных скал, вынырнувшая из тумана, производила куда более грозное впечатление, чем разбросанные вдоль пароходной трассы стальные корпуса, и когда с приближением ночи неприступный гористый берег вырос еще выше, мы постарались повернуть камышовый нос «Тигриса» возможно дальше навстречу восточному ветру, который дул теперь в правый борт.
Последующие дни и ночи вряд ли кто-нибудь из нас забудет. Наш знакомый морской агент нанял рыболовное судно, и была назначена встреча в 12 милях от берега, в районе рыбацкого поселка Сур, уединившегося между скалами западнее мыса Эль-Хадд. Однако рыбаки не сумели отыскать нас в море, а высокие утесы и горные гряды не давали Норману связаться по радио с берегом или другими судами. Даже Фрэнк на Бахрейне за всеми горами не слышал нас. Мы решили пробиваться на север к Маскату, где нас было бы легче найти. Однако сообщить кому-либо об этом решении мы не могли, и рыбаки продолжали тщетно разыскивать «Тигриса».
Иной раз наименование места неверно изображает его. Так было с мысом Рас Эль-Дауд. Для норвежского уха это название звучит как «смертельный обвал», по Рашад объяснил, что по-арабски оно означает всего-навсего «мыс Давида». Мы увидели этот угрюмый мыс ночью, в тусклом звездном освещении, в призрачной пелене морского тумана. Проходя мимо него, я невольно подумал, что никогда не видел места, более заслуживающего эпитета «смертельный», чем этот мрачный, омертвелый утес, который огромным могильным камнем возвышался в полуночной мгле над склепом пустынной узкой долины слева, теряющейся во мраке под шлейфом бледных облаков. Никаких признаков жизни. Никакого движения, если не считать ползущих прядей тумана. Вероятно, в устье долины был маленький пляж, и я взвесил возможность пристать к берегу между крутыми скалами, но вблизи он выглядел так зловеще, что наши штурманы согласились со мной: лучше вовремя отойти от этих скал подальше.
Между тем мыс надвинулся вплотную, и мы отдали плавучий якорь, чтобы затормозить ладью. Но из-за слабого ветрового сноса якорь не сработал, а ушел мешком под воду. Нас выручил сконструированный Норманом топсель на бамбуковой рее. С этим парусом ладья лучше слушалась руля, мы отразили попытки восточного ветра выбросить ладью на камни и за неимением иного выбора взяли курс на пароходную магистраль, которой перед тем так упорно сторонились. Только мы, завидев суда, прицелились пересечь трассу, как ветер совсем пропал. Слабенькие порывы с разных направлений не позволяли осмысленно управлять ладьей. Затесавшись в самую гущу интенсивного движения, мы без устали маневрировали рулевыми веслами и парусами, чтобы не оказаться на пути у быстроходных лайнеров и танкеров, которые с рокотом проносились мимо, раскачивая ладью так неистово, что мы опасались, как бы мостик у нас под ногами не сорвался с палубы в море вместе с рубками и мачтой. Пока Юрий и Карло крепили узлы в разных концах ладьи, остальные всячески старались увести «Тигриса» с сумасшедшей трассы, отнюдь не рассчитанной на старинную камышовую ладью.
Хуже всего было ночью. Судовые огни мы замечали издалека, но, не видя самого парохода, не могли определить, пройдет ли он на безопасном расстоянии или надо остерегаться столкновения. Вот вынырнуло из-за горизонта созвездие огней — ближе, ближе, наконец можно среди них различить зеленый или красный фонарь. Если видно оба сразу, корабль идет прямо на вас: согласно правилам, красным огнем обозначается левый, зеленым — правый борт морского судна. На «Тигрисе» тоже вывешивались такие «ходовые огни» по обе стороны носовой рубки, но из-за ветра стекло быстро покрывалось копотью, а подчас пламя и вовсе задувало. Да и на каком современном большом корабле наблюдатель станет высматривать керосиновые фонари! А если б и заметили нас с мостика какого-нибудь супертанкера, все равно не успели бы ни остановиться, ни свернуть. И оставалось нам самим вести непрерывное наблюдение, внимательно следить за каждым вновь появившимся огнем, пока судно не приблизится настолько, что можно различить сигнальные фонари. По взаимному расположению зеленого и красного огней, а также двух белых — одного высоко на корме, другого низко на носу — мы узнавали, находимся ли прямо на пути корабля или он пройдет мимо. Обычно на таком расстоянии мы уже различали черные контуры корпуса на фоне ночного неба, и при капризном ветре у нас оставалось очень мало времени, чтобы уйти с дороги. Поэтому ночью на мостике вахту несли двое, и они пристально наблюдали за огнями, чтобы определить, в какую сторону нужно отклониться — влево или вправо. Постепенно мы втянулись в такой режим, однако ночи были длинные, и мы нетерпеливо ждали рассвета. Утомительно было всматриваться в темноту, утомительно без конца воевать с парусом и снастями, утомительно рукам ворочать рулевые весла толщиной с бревно, утомительно ногам пружинить на прыгающей не хуже дельфина ладье.
С приходом утра огни исчезали — огни, но не корабли, и мы следили, как они возникают на горизонте, пища по-комариному, как приближаются, жужжа по-шмелиному, и, наконец, с грохотом проносятся мимо — будто слон ломится через лес.
Под вечер пятого дня погода переменилась. Над горизонтом возникли тяжелые тучи; глухо раскатывался гром. На западе вспышки молний озаряли силуэты приморских гор. Только спустилась ночь, как впереди, медленно пересекая наш курс, показалось странное сочетание огней. Недоумевая, мы спрашивали друг друга, что это еще за рождественская елка; в это время позади первого судна возникли не менее необычные огни второго, идущего так же неторопливо и тоже наперерез нам. При таком тихом ходе было похоже, что мы запросто успеем проскочить между ними. Мы с Германом так и решили сделать, но тут на мостик поднялся Детлеф, и я показал ему диковинную елку. Он тотчас разобрался в ней, мы живо повернули оба румпеля круто вправо и проскользнули у самой кормы второго судна — тяжело нагруженной баржи без экипажа. По комбинации вертикальных огней на мачте первого судна Детлеф, капитан торгового флота, определил, что это буксир ведет баржу на двухсотметровом тросе.
Я залез в главную рубку, чтобы немного подремать перед вахтой. У меня уже выработался навык спокойно лежать с закрытыми глазами, не вскакивая каждый раз, когда приближался какой-нибудь корабль. Слух машинально регистрировал медленно нарастающий и так же медленно убывающий гул проходящих мимо судов. Внезапно с мостика над моей головой раздался тревожный крик; вслед за тем я услышал тяжелый рокот поршней стремительно надвигающегося на нас корабля. Ребята высыпали на палубу, словно испуганные мыши. Высунув голову из левой двери, я увидел, что наш коричневатый парус залит ярким светом, огромный рокочущий источник которого находился по другую сторону рубки. Взявшись за штаг, я встал — и в глазах у меня зарябило. Было такое чувство, будто я еду ночью по городской улице мимо высокой черной стены с ослепительной иллюминацией. Сверкающий огнями сухогруз вынырнул из тьмы так близко, что на какую-то секунду черная стена и две бамбуковые рубки будто слились воедино перед моим взором. Тут же они разъединились, и мы, не успев даже толком осмыслить, в чем дело, отчаянно уцепились за снасти, чтобы не сорваться с подброшенных пенными каскадами бунтов.
Едва отзвучали возгласы тревоги и облегчения, как с мостика опять донесся крик Юрия:
— Черт! Еще один!
Его голос потонул в рокоте поршней другого стального гиганта, который мчался следом за первым. Возникнув рядом с «Тигрисом», корабль небрежно отбросил нас в сторону, словно мощный плуг какого-нибудь червяка.
— Контейнеровоз, — сухо отметил Детлеф. — Они развивают скорость до тридцати узлов.
Мы стояли на палубе, обсуждая плохую видимость. Ни луны, ни звезд, погода не сулила ничего хорошего. Решили убрать новый топсель. Начало моросить. Подошло время нам с Тору заступать на вахту. Остальные неохотно полезли обратно в щелеватые рубки, накрыв тростниковые стены брезентом. Дождь прибавил. Потом полило как из ведра. Мы ничего не видели, лаже собственного такелажа. Наши с Тору непромокаемые куртки не боялись дождя и брызг, но они не были рассчитаны на подводное плавание. Холодные капли просачивались за воротник, и мы промокли с головы до ног; в кедах хлюпала вода. Потеха... Хотя нас разделяло меньше метра, я с трудом различал лицо Тору при свете фонарика.
Внезапно я уловил какой-то посторонний звук. Посветил на Тору — слышит? Он кивнул. Поршни. Сквозь гул дождя мы еле слышали собственные голоса, по быстро приближающийся басовитый перестук мощной машины сразу опознали. Карло, которому полагалось спать в главной рубке, тоже различил его сквозь топкий слой тростника и брезента и крикнул, чтобы мы были начеку. А мы и без того насторожились. Что-то надо было предпринять, но что именно? В наших руках рулевые весла, можно отвернуть влево или вправо. В какую сторону уходить от опасности? Не угадаем — окажемся на пути корабля и он врежется носом в ладью.
Окоченев от холода и напряжения, мы цеплялись каждый за свой румпель. Ветер с кормы нес нарастающий грозный рокот. Уже все проснулись. В кромешном мраке мы даже собственного паруса не видели, знали только, что он наполнен ветром и дождем. Повернуть голову, чтобы посмотреть назад, и то невозможно: дождь нещадно хлестал по лицу и глазам.
— Слышите машину?! — снова донесся из рубки отчаянный голос Карло.
Дальше все прочие звуки потонули в реве настигшего нас корабля. На меня вдруг накатило бесшабашное веселье.
— Слышу! — крикнул я в ответ. — Не только звук, но и запах!
И добавил:
— Даже тепло ощущаю!
Громыхающий поршнями исполин прошел так близко, что мы и впрямь ощутили запах машинного масла, и скользящая вдоль связок правого борта едва различимая сквозь завесу дождя стальная махина на миг обдала мое лицо теплом. За стеной падающей с неба воды глаза уловили что-то вроде огней, промелькнувших на уровне стеньги.
А люди на этом гиганте, вооруженные радаром и прочей электроникой, и вовсе не могли нас заметить. Основываясь на собственном опыте, Детлеф рассказывал нам, что в сильный дождь радар не берет предметы на расстоянии меньше мили. В такую погоду даже от лент из фольги не было никакого проку.
Внезапно дождь прекратился, мы рассмотрели сквозь ночную мглу нос нашей ладьи и тут же прямо по курсу вдруг увидели две группы огней. Еще два корабля... Словно две галактики проплывали перед нами справа налево. Похоже было, что мы сможем пройти между ними, хотя плохая видимость не позволяла точно определить, на каком расстоянии. Внезапно нас осенило, что корабли идут очень уж близко друг за другом, сохраняя неизменный интервал, несмотря на высокую скорость. Никакой буксир с баржей не может развивать такой ход! После секундного замешательства мы с Тору дружно налегли на румпели, отворачивая «Тигриса» до предела вправо. В поле зрения возник неосвещенный борт, соединяющий обе галактики в один большой корабль. Перед нами быстро скользил по волнам огромный супертанкер с полным грузом, с огнями только на носу и на корме; невероятно длинная средняя часть судна, несущая минимум сто тысяч тонн нефти, едва выступала над водой.
Хороший попутный ветер позволил «Тигрису» быстро развернуться и пропустить черный танкер мимо левого борта. С рулевого мостика мы отчетливо видели переборки кают за иллюминаторами. Яркое электрическое освещение позволило бы даже различить черты лиц, если бы кто-нибудь из команды бодрствовал.
Мы решили, что с нас довольно. Предоставив супертанкерам носиться по их магистрали у берегов Омана, мы воспользовались свежим юго-восточным ветром, чтобы уйти подальше в море, курсом на северо-восток. В редко посещаемых водах, в обществе птиц и рыб, мы снова почувствовали себя людьми, а не лилипутами в мире железных роботов, где живому человеку на борту неповоротливого
ма-гур отказано в праве на безопасное существование.
До самого утра тучи кругом громыхали. Потом ветер подул от норд-оста, вынудив нас повернуть парус и изменить курс. Да только зря мы старались: едва подстроишься к ветру, как он, будто нарочно, меняет направление и дует совсем с другой стороны. Снова и снова налетали шквалы с дождем, и рулевые весла стало заедать в набухших от сырости веревочных креплениях и кожаных прокладках на палубе и мостике. В десять утра между густыми облаками проглянуло тусклое солнце, и Детлеф определил паше примерное место. Возвращаясь на север, мы находились теперь в 15 милях от Маската, на пеленге 226°. Как назло, рация консорциума опять подвела. Ни Маскат, ни Бахрейн, ни один корабль не слышали нас. Пренебрегая риском, мы вернулись в район маскатского порта, но об этом никто не знал. Морской агент с кинокамерой для Норриса, скорее всего, продолжал разыскивать нас в районе Сура.
Скорее бы уже заполучить эту окаянную камеру! Три часа Норман лазил на качающуюся мачту, подвешивая антенны разной длины и формы. Наконец нам отозвался Фрэнк с Бахрейна. Мы сообщили ему наше место и услышали, что представитель морского агентства и впрямь на моторном катере ищет нас у мыса Эль-Дауд, от которого мы ушли. Фрэнк обещал передать, чтобы посылку для Норриса вернули машиной из Сура в Маскат, лишь бы мы теперь никуда не уходили. Около полудня мы развернули ладью носом к северу, чтобы противостоять сильному прибрежному течению. Нам совсем не хотелось, приближаясь к Оману, снова очутиться на пароходной трассе.
В полдень мы неожиданно связались с судном, стоявшим в маскатской гавани. Радист созвонился по телефону с береговой радиостанцией ВМС, и оттуда сообщили наши координаты морскому агенту. Он потерял надежду отыскать нас в районе Сура и привез кинокамеру в Маскат. Тем лучше! Особенно для Норриса, который уже почти неделю чувствовал себя как дровосек без топора. Начальник морского агентства Лейф Турнвалль вызвался лично доставить нам камеру, если мы подойдем поближе к Маскату. По-прежнему налетали шквалы с дождем, но ветер дул по большей части от зюйд-зюйд-оста, и мы пошли на сближение с грозящей неприятностями трассой. До самой ночи никто так и не явился к нам на свидание. И опять нарушилась связь с Маскатом и Бахрейном. Зато Норман вдруг услышал голос американского диспетчера, руководившего посадкой самолета на острове Гавайи в Тихом океане. Он прибавил громкости, и мы все услышали:
— ...скорость двести узлов, не теряй связи!
Вместе с Норманом мы громко посмеялись над этим трагикомическим эпизодом.
Когда я ложился спать, в ночном небе четко отражалось зарево огней Маската. Ветер на время притих. Очутившись в неприятной близости от пароходной трассы, мы снова повернули и отошли подальше. События прошлой ночи были слишком свежи в нашей памяти. Под моросящим дождем мы провели новую ночь на безопасном расстоянии от трассы. Изредка проплывали вдалеке судовые огни; над Ираном сверкали молнии, сопровождаемые раскатами грома. Забираясь в спальные мешки или кутаясь в одеяла, мы говорили друг другу, как хорошо быть вне пределов досягаемости для бесноватых волн, создаваемых супертанкерами. Детлеф признался, что в последние дни его несколько раз укладывала на матрас морская болезнь, да и мой желудок, обычно нечувствительный к качке, болезненно отзывался на жестокую тряску.
На другой день в десять утра Норман сумел связаться с Бахрейном, и нам передали, что накануне из Маската выходил на поиск буксир, отмерил восемнадцать миль, но сильное волнение вынудило его возвратиться в порт. Улучшения погоды не предвидится, так что сегодня поисков не будет.
День выдался такой темный, что Эйч Пи пришлось зажечь керосиновый фонарь, когда он захотел почитать в рубке. По примеру шумеров мы промазали сводчатую крышу рубки асфальтом, но дождь просачивался внутрь через тростниковые стены. Всю вторую половину дня за нами неотступно следовали четыре акулы. В такую погоду море, наверно, являло грозное зрелище наблюдателям в порту, мы же радовались плавным, как колыбельная песня, длинным валам. Ливень расплющил острые гребни, и «Тигрис» скользил по воде легко, как тень от кошки. Набухшие веревки прочно схватили дерево и бамбук. Ночью стояла редкостная тишина, и я, просыпаясь, мог подтвердить слова Эйч Пи о том, что Карло и Герман храпят. Слышно было даже уютное бульканье воды, рассекаемой рулевыми веслами. Во время моей ночной вахты тучи на короткое время разошлись, и я увидел, что правлю прямо на Южный Крест. Перед полуднем небо снова расчистилось, Норман определил наше примерное место и сумел сообщить его на бахрейнскую радиостанцию. Фрэнк передал, что портовый буксир «Маскат» чуть свет вышел из Порт-Кабуса со скоростью десять узлов и попытается, отойдя подальше от берега, связаться с нами по радио.
В три часа дня мы встретились с «Маскатом», что называется, нос к носу. У руля стоял портовый инспектор-англичанин, а на палубе вместе с оманской командой нам радостно махал швед Туривалль. С борта на борт были переданы два ящика с запасными частями и новехонькой синхронной камерой взамен испорченной. Боясь, как бы долгожданная посылка не очутилась в море, Норрис принимал ее сам и не хотел, чтобы ему помогали.
От радости и облегчения, что мы наконец нашлись, наш шведский друг откупорил шампанское и выпил всю бутылку, поднимая тосты за море и за небо. Тем временем «Маскат» развернулся и развил предельную скорость, спеша вернуться в порт до темноты.
Отвернув нос «Тигриса» от материка, мы поставили топсель над гротом и направились в море. Мы не нуждались в шампанском, чтобы разделить ликование старины Норриса, который сидел на матрасе в передней рубке, нянча своего нового «младенца». Из рубки доносилось знакомое икание, означающее, что «младенец» слышит каждое наше слово.
На закате мы отметили, что ладья идет в открытый океан с отменной скоростью — 3,5—4 узла. Макан остался позади. «Тигрис» шел к неведомой цели.
Неведомой, поскольку в моей душе зрело тайное желание изменить наши планы. В стремлении помочь Норрису заполучить новую кинокамеру мы забрались на север дальше, чем я считал это возможным в зимний сезон, когда обычно преобладает северо-восточный ветер. Топсель Нормана прибавил нам скорости и тем самым расширил возможности для маневрирования. Похоже было, что мы можем по своему выбору взять курс на любую из стран на берегах Индийского океана. Скажем, дойти до Пакистана и посетить долину Инда. Соблазн был настолько велик, что два дня я шутя говорил ребятам: «Следующий заход будет в один из портов на берегах, где процветала великая Индская цивилизация».
На третий день я уже не шутя предложил рулевым вместо Африки править на Пакистан. У меня было больше оснований, чем когда-либо, стремиться в эту часть Азии: я хотел увидеть Мелухху. До сих пор Мелухха была для меня лишь нерасшифрованным названием на шумерских глиняных плитках. Снова обратившись к книге Бибби, я прочел: «Дильмун и Макан сплошь и рядом упоминаются вместе, и зачастую к ним присоединяется третья страна — Мелухха»
[53].
Мы побывали в Дильмуне и в Макане. А где находится Мелухха? Прежде я не строил на этот счет никаких догадок, хотя имя страны напоминало названия, сохранившиеся в малайской области, например полуостров Малакка, Молуккские острова. Теперь же, не сомневаясь, что Дильмун и Макан опознаны верно, я по методу простого исключения склонялся к тому, что Мелухха — область Индской долины. Здесь помещалась ближайшая к древнему Двуречью развитая приморская цивилизация, и до нас дошло много свидетельств общения между Двуречьем и долиной Инда во времена Шумера. Так много, что в
шумерских источниках просто не может не быть упоминаний о столь важном торговом партнере. Если наименование «Мелухха» сохранить в ряду неопознанных, то как еще называли шумеры страну в долине Инда? Не могли же они оставить безымянной единственную близлежащую цивилизацию, с которой поддерживали тесные контакты!
Обитавшие на Инде современники шумеров разделили их судьбу: культура погибла, города были покинуты, само существование этих людей забыто пережившими их народами, пока уже в наши дни археологи не открыли развалины неведомой цивилизации и не откопали изделия древних художников и ремесленников. Шумеры, прежде чем исчезнуть, сменили свою первичную иероглифическую письменность на клинопись, которую ученым удалось дешифровать. Так дошло до нас слово «Мелухха», обозначающее одного из торговых партнеров Шумера. А вот письмена Индской цивилизации, хорошо известные по начертанию и легко опознаваемые исследователями, до сих пор не поддаются расшифровке, и потому мы ничего не знаем о бытовавших в этом языке географических названиях, не знаем даже, как эти люди называли себя и свою страну. Подобно отпечаткам пальцев, индские письмена не читаются, хотя изобразившую их руку повсеместно узнают без труда.
Индские печати с индскими письменами и характерными индскими рисунками найдены археологами не только в долине Инда, но и в далеком от нее Двуречье. Очень много печатей обнаружено при раскопках в Ираке — от стоявших прежде на берегу залива Ура, Урука, Лагаша и Сусы до Киша и Тель Асмара, даже Брака, расположенного в пределах нынешней Сирии. Надо думать, связи были достаточно обширными, если «отпечатки пальцев» сохранились так далеко от источника вплоть до наших дней. Лично мне особенно красивой кажется найденная археологами в Тель Асмаре индская печать с вереницей индийских слонов и носорогов, которую я видел в Багдадском музее.
Некоторые исследователи помещали Мелухху, как и Макан, в Африку. Все по той же причине, что ассирийские цари после походов в страны Средиземноморья указывали в надписях, будто Макан и Мелухха находятся где-то южнее Египта. Упомянутый ранее Крамер, поместивший Макан в Верхнем Египте, склонен был отождествлять Мелухху с Эфиопией
[54]. Однако Бибби, чьи раскопки выявили развитые связи Шумера с Бахрейном, писал:
«...Очень уж трудно увязать Африку с текстами на урских плитках и данными археологии. Да взять хотя бы расстояние. Я никогда не был консерватором, оценивая возможности древних торговых судов, и все же не мог пренебрегать тем фактом, что путь от Бахрейна до Африки вдвое больше пути от Бахрейна до Индии. Слоновая кость и золото, поставляемые Мелуххой, могли быть и африканского, и индийского происхождения, но вот мелуххский сердолик мог быть вывезен только из Раджпутапы в Индии»
[55].
Показывая нам раскопанный им древний порт на Бахрейне, равный по площади половине могучего Ура, Бибби подчеркивал, что нашел индскую печать у самых городских ворот. Он обнаружил также индский кремневый разновес и заключил, что между Бахрейном и Индской долиной существовали более тесные торговые связи, чем между тем же островом и находящимся в три раза ближе Двуречьем. Еще до того, как Бибби в современной гавани Бахрейна убедился в крепости и плавучести нашей камышовой ладьи, он высоко отзывался о древних мореплавателях Дильмуна:
«Купцы, добывающие капитал и комплектующие груз для плаваний в Дильмун, занимались не какими-то там поисками мифической страны бессмертия, а своим повседневным делом, которое их кормило».
Заметим, что торговлю эту вели не одни только месопотамцы. Среди тех, кто приносил дары храму Нингал, двое обозначены как уроженцы Дильмуна. Видимо, дильмунские купцы поселялись в Месопотамии, а месопотамские — в Дильмуне и в перевозках были заняты корабли обеих стран.
Но и другие страны в начале II тысячелетия до нашей эры направляли к берегам Дильмуна свои суда, которые швартовались у стен его городов. Корабли из Макана несли тяжелый груз меди; суда из городов Индской цивилизации доставляли, как и в наши дни, лес (возможно, также хлопок) наряду с более легкими и более ценными товарами: слоновой костью, лазуритом, сердоликом»
[56].
И Бибби выдвинул дерзкую, по интересную гипотезу. Напомнив, что говорившие на санскрите арии, которые вторглись в Индию с севера и, вероятно, сокрушили Индскую цивилизацию, обозначали заимствованным, несанскрптским словом «млехха» неариев, людей, не поклонявшихся арийским богам, он спрашивает: «Так, может быть, именем «Млехха» люди Индской долины называли себя и свою страну?»
Долина Инда, до недавних пор принадлежавшая Индии, теперь составляет сердце Пакистана. Никто из команды «Тигриса» не возражал против того, чтобы повернуть кругом и снова выходить на альтернативный маршрут, от которого мы отказались, пройдя Ормузский пролив.
Десять дней мы шли на северо-восток, видя только патрулирующих акул, верный эскорт корифен да изредка навещавших нас игривых дельфинов и более крупных представителей китообразных. На палубу садились отдохнуть яркие тропические птицы; привлеченные широкой тенью «Тигриса», за нами целым стадом, словно домашние животные, следовали разноцветные рыбы — таких скоплений я не наблюдал со времен дрейфа на «Кон-Тики» через Тихий океан. Ежедневно Эйч Пи, Асбьёрн и Карло для собственного развлечения и для общего стола ловили на удочку и били острогами представителей двух самых лакомых видов: во-первых, красавицу корифену, которая в родной стихии переливалась зелеными, ржаво-красными и золотистыми бликами, а вытащишь на палубу — нечто сплющенное и непропорциональное, словно отштамповали из серебра рыбий хвост и прилепили к нему бульдожью голову; во-вторых, стройного, напоминающего торпеду элагата — он же «радужный бегун», — одинаково красочного по обе стороны морской поверхности. Спинорогов, лоцманов, прилипал и прочих из той же братии мы старались не трогать; если же они с ходу заглатывали крючок прежде, чем рыбак успевал отдернуть приманку в виде летучей рыбы, мы тотчас возвращали их в океан.
А однажды Карло заявил, будто во время ночной вахты слышал кузнечика. Мы отказывались ему верить, пока я сам не обнаружил в своей постели желто-зеленого кузнечика длиной с палец, а заступив на вахту, услышал, как перекликались сразу двое — один на корме возле меня, другой на носу. Дальше — больше, стрекот звучал со всех сторон; на глазах у нас кузнечики прыгали и ползали по камышу и бамбуку, даже взлетали и описывали небольшие круги над морем, всякий раз возвращаясь на плавучую скирду. Особенно привлекали их камышовые метелки на конце высокой кормы и носа. Видимо, эти безбилетники вместе с несколькими крабами, обосновавшимися на днище «Тигриса», прокрались к нам на борт в Омане. В засушливой Аравии им, конечно, не приходилось видеть столь пышной растительности.
Ветер временами достигал такой силы, что грот лопнул, и пришлось убирать его среди ночи. Надувшись, словно парашют, он так неистово рвался из рук, что я со страхом ждал, как бы кто-нибудь из ребят не оступился в темноте и не очутился за бортом. Отдав плавучий якорь, мы тридцать два часа беспомощно дрейфовали во власти сильного течения и северо-западного ветра. К этому времени был пройден шестидесятый градус восточной долготы — меридиан мыса Эль-Хадд, и как только Тору, Эйч Пи и Асбьёрн доложили, что парус отремонтирован, можно ставить, мы повернули круто к ветру, насколько позволяло вооружение ладьи, включая топсель.
Мы снова вошли в загрязненную полосу. Купаться разрешалось только со страховочным концом. И мы впервые обнаружили, что боковые связки, кроме скользких водорослей и белых морских уточек с длинными розовыми жабрами, обросли еще и большими колониями конических морских желудей, твердых и острых, как акулий зуб. Заденешь невзначай — оцарапают до крови. Тоже безбилетники, ухитрившиеся зацепиться за камыш в порту в личиночной стадии, — ведь «Тигрис», в отличие от «Ра», не один день простоял в гавани сначала на Бахрейне, потом в Маскате.
И телу приятно, и душе отрадно было погрузиться в воду рядом с нашим плавучим домом и полюбоваться, как прекрасно сохраняют форму бунты и как высок по-прежнему надводный борт. В тихую погоду проплыв вокруг «Тигриса» на семьдесят третий день после спуска на воду, мы увидели, что бунты погрузились чуть больше чем наполовину. По прогнозу в тот день в Оманском заливе и Аравийском море предполагался северо-восточный ветер скоростью до 10—20 узлов, а на самом деле выдался мертвый штиль. Норман так и сказал Фрэнку на Бахрейне, что передаваемые им прогнозы упорно врут. Но удивительнее всего то, что знаменитый муссон ни одного дня не наполнял наши паруса. Чаще всего ветер дул со стороны Ирана, однако он перемежался ветрами с разных направлений, от зюйд-оста до зюйд-веста. В любом случае мы старались идти курсом ост-норд-ост, в пределах 60—90 градусов по компасу.
Наши старания увенчались успехом. На другой день после штиля Норман и Детлеф взяли полуденную высоту солнца и определили наше место: 23°50' с.ш. и 62°05' в.д., примерно в 70 милях от горной области, известной под названием «Макрана». Начинаясь в Иране, суровое, нелюдимое Макранское приморье окаймляет с севера Оманский залив и простирается в Пакистан до самой долины Инда. Глядя на карту, я подумал о том, как близок Макран и фонетически, и географически к Макану. Одна лишь буква да узкий Ормузский пролив отделяют их друг от друга. Может быть, легендарная страна Макан располагалась по обе стороны Оманского залива, контролируя важные морские ворота? Район медных копей составлял ее южную часть, а область, прилегающая к Инду, — северную?.. Вполне возможный случай, говорил я себе, меж тем как ладья шла на восток, к долине Инда, на почтительном расстоянии от пустынных берегов Макрана.
Еще через день всего 55 миль отделяло нас от берегов Пакистана. Теперь только сильный и ровный норд-ост мог помешать нам достигнуть цели. Тот самый ветер, которому положено преобладать в это время года. Но его не было и в помине. Преобладали южные ветры, и нас заботил не столько вопрос о том, как подойти к Макранскому берегу, сколько риск, как бы нас не прибило к нему раньше, чем мы найдем безопасную гавань. Эта часть побережья сплошь состоит из скал и непроходимых мангровых болот.
Двадцать две мили до Пакистана, вот-вот покажется земля... Норман открыл «Лоцию западного побережья Индии», изданную в 1975 году, и на первой же странице прочел, что карты для прибрежного плавания вполне надежны, «исключая часть Макранского приморья». Карты этого участка, прочли мы дальше, основаны на съемках, произведенных в прошлом столетии с применением ручного лота, и «охватывают районы с внезапно возникающими и кочующими мелями, а у берегов Макрана... мелкомасштабные измерения глубины ныне малонадежны, поскольку впоследствии (1945 год) вулканические извержения изменяли рельеф морского дна». И еще: «В 1945 году в трех милях к юго-западу от Джазират Шахардама наблюдался небольшой вулканический остров, однако в 1947 году он ушел под воду».
Словом, увлекательный район, сулящий всевозможные сюрпризы. Море здесь буквально кишело рыбой. И полчищами крохотных белых червей. Карло, завзятый альпинист, превратился в страстного любителя океанской рыбной ловли и одну за другим выудил шесть больших корифен, прежде чем мне удалось его остановить. Юрия осенила мысль развесить для вяления несколько рыбин на бамбуковом шесте. Уписывая корифену с полентой, мы приметили впереди на горизонте белый парус
дау. Мы шли на сближение со скоростью три с лишним узла, однако едва команда рассмотрела нас, как
дау описала широкий полукруг и скрылась. Что ж, хоть увидели наконец парусник, и то утешение!
Двадцать четвертого января возникли осложнения. Прямо по курсу, над районом Карачи, копились густые облака; сильные порывы ветра с разных направлений нагнали крутую волну. Решили, пока не поздно, убрать топсель, но топенанты заело, и парус не желал спускаться. С приходом сумерек мы увидели, что черные тучи над Карачи непрерывно озаряются молниями. Эйч Пи привязал нож к бамбуковому шесту, и после ужина, когда буйный ветер не оставил нам другого выбора, Норман и Детлеф вскарабкались на верхнюю перекладину двуногой мачты и, придерживая друг друга, перерезали топенанты, после чего бешено хлопающий парус лег на палубу. Через редкие просветы в штурмующих небо облаках на нас поглядывала полная луна, потом она совсем пропала, и рокочущие стихии затеяли фейерверк над нами и над незримым берегом Макрана. Мы шли навстречу буре.
Я прилег перед ночной вахтой, а когда, захватив фонарик и страховочный леер, выбрался из рубки, чтобы вместе с Тору подняться на мостик, то увидел голые мачты. Сдавая нам чреватую неприятностями вахту, основательно продрогшие Норрис и Асбьёрн доложили, что всякий раз, когда над «Тигрисом» проходила особенно черная грозовая туча, ветер начинал метаться в разные стороны. Они физически не поспевали отдавать и выбирать шкоты и брасы, к тому же качка достигла такой амплитуды, что они боялись, как бы пляшущая рея не сломалась и не разорвала грот в клочья. С помощью Нормана они убрали парус, и теперь ладья снова дрейфовала с плавучим якорем. Берег подступил совсем близко, и где-то во тьме притаился остров, так что нам следовало быть начеку.
Из «Лоции западного побережья Индии» с предельной ясностью следовало, что в таких коварных водах пассивный дрейф не сулит добра, и когда со стороны Ормузского пролива подул слабый попутный ветер, я, выждав для верности полчаса, поднял людей, чтобы поставить грот. В темноте поблизости от ладьи громко сопели три кита, и при скудном свете фонарей мы приметили на высоких оконечностях ладьи двух крупных белых птиц. Не успели мы поставить парус, как ветер переменился и подул от северо-востока, как положено муссону. Но если это и впрямь проснулся муссон, налицо опасность, что нам вовсе не видать Пакистана. И нам сильнее прежнего захотелось ступить на берега Макрана.
Мы снова обратились к карте. Согласно счислимому месту, мы находились на уровне рыбацкого селения Пасни. Земля — где-то сразу за горизонтом. Правда, земли Макрана еще не долина Инда, но Индская цивилизация простерла свое влияние и на это побережье. Археологи обнаружили развалины сооруженных ее основателями древних крепостей, которые прикрывали вход в обе долины, уходящие вглубь здешнего края. Одна крепость — Суткаген-Дор, у самой границы Ирана, — уже осталось позади нас. Вторая — Сутка-Кух — в устье долины как раз у Пасни. В своем сообщении о недавних раскопках этих двух приморских крепостей археолог Дж. Ф. Дейлс указывает, что там найдено множество черепков индской керамики, привязываемых к раннему периоду Индской цивилизации. По мнению Дейлса, эта керамика попала в Макран из области нижнего течения Инда и вообще археологические свидетельства говорят о том, что могущественные города-государства Мохенджо-Даро и расположенный выше в бассейне той же реки Хараппа уделяли большое внимание мореплаванию и воздвигли крепости в единственных доступных для высадки местах Макранского побережья для защиты от вторжений с моря. Наличие индских форпостов в приморье утвердило Дейлса в его убеждении, что «ни одна из великих цивилизаций мира не возникала и не развивалась в культурном и экономическом вакууме»
[57].
Эти слова производили особенно весомое впечатление теперь, когда я среди уютных тростниковых стен перечитывал свои старые записи в нескольких милях от Сутка-Куха.
— Вижу Пакистан!
Донесшийся сверху голос вернул меня к действительности. Норман, примостившись на конце мачты, чуть не пел от радости. Я захлопнул свои блокноты, сунул их обратно в ящик под матрасом, выбрался из рубки и полез к нему по перекладинам. Одиннадцатый день как мы вышли из Маската. На мачте было тесновато, всем не терпелось увидеть незнакомую землю. Двадцать шестое января, 9.05 утра, великая минута для меня. Земля, которую Норман увидел слева по носу, представляла собой плосковершинный остров — поначалу голубой, затем, когда мы проходили мимо, ярко-желтый в солнечных лучах. Юрий, зимовавший в Антарктике, заметил, что он напоминает плоский айсберг.
Это был остров Астола. Из-за мглы мы не могли рассмотреть материковый берег Макрана. А остров нас нисколько не манил: он известен лишь заброшенным индусским святилищем да полчищами мелких ядовитых змей. Некоторые авторы отождествляют его с островом Карнин, или Насола, на который заходил Неарх, командующий флотом Александра Великого. Однако римский историк Плиний в 77 году нашей эры называл его островом Солнца или Обителью Нимф, «где все животные без исключения погибают от неведомых причин»
[58]. Возможно, до римлян не дошли сведения о змеях...
Мы плыли в исторических водах. Биограф Александра, Арриан, располагавший записями Неарха, сообщает, что греки, достигнув Индии после утомительных переходов через дикие гористые пустыни Персии, построили флот на реке Инд и зимой 326/25 года до нашей эры возвратились в Месопотамию морем вдоль персидских берегов. И хотя плавание Неарха состоялось более шестнадцати веков назад, мы, идя по следам людей, которые побудили правителей Индской долины соорудить крепости в приморье за двадцать с лишним столетий до дней Александра, воспринимали его чуть ли не как факт современной истории.
Небо над нами прояснилось, но на горизонте клубились новые облака, и оттуда доносились громовые раскаты. «Тигрис» шел вдоль самых нелюдимых берегов Пакистана, не располагавших мореплавателей к высадке ни в прошлом, ни в настоящем. Здесь не было нужды в крепостях, лоция кратко извещала, что природа воздвигла отвесные известняковые стены, перемежающиеся непроходимыми мангровыми зарослями. Пожалуй, это был наименее изученный участок азиатского побережья на всем нашем пути. Нам предстояло где-то причалить, но мы могли только гадать, где именно. После того как змеиный остров Астола канул в море за кормой «Тигриса», мы больше не видели суши до самого заката, когда солнце скрылось за мятущимися облаками.
Пожелав друг другу спокойной ночи, мы забрались в свои рубки. Хотя мы не подозревали, что предстоящая ночь принесет нам обилие сильных впечатлений и острых ощущений, все были несколько взвинчены. И не только от сознания того, что слева по борту простирался неведомый мир. Что-то было не так, нас будоражили смутные предчувствия. Царила необычная атмосфера, я не мог припомнить ничего похожего за все наши плавания. Море притихло, кругом — ни звука, если не считать мирного похрапывания, стрекота кузнечиков да иногда коротких всплесков прыгающей рыбы. Как будто мы очутились на горном озере. Как будто сердце планеты перестало биться. Затишье перед бурей?.. Белые птицы на носу и на корме сидели неподвижно, словно ожидая чего-то, похожие на чучела.
Раз за разом тревога выгоняла меня на палубу — не видно ли суши? И я неизменно наталкивался на Карло, снедаемого тем же беспокойством. Такое совпадение еще больше встревожило меня. Карло предложил промерять глубину ручным лотом и был очень недоволен, когда я отклонил его предложение.
— Зачем? Мы ведь далеко от берега, — сказал я. — Полночь. Иди лучше спать.
— Да ты погляди на воду, — возразил Карло, наклоняясь над бортом с фонариком в руке.
Гладкое море было скорее белым, чем голубым.
— Должно быть, река муть вынесла, — предположил я. — Где ты возьмешь длинный тросик, чтобы достать дно в этом месте?
Мой ответ чем-то задел Карло, и он с угрюмым видом полез обратно в рубку. Я остался сидеть на длинной узкой лавке у левой двери. Именно с этой стороны следовало ожидать появления земли, и некоторое время я пристально всматривался в мрак в надежде увидеть далекий берег. Ничего... Вообще, по нашим расчетам, до суши еще было слишком далеко. И я вернулся в рубку.
В 01.30 меня разбудили громкие голоса Норриса и Асбьёрна, доносившиеся с мостика над головой. Вахтенные толковали о суше, и, выбравшись через левую дверь наружу, я тоже ее увидел. Выше стелющейся над морем белой мглы в ночи на фоне звездного неба отчетливо проступали волнистые очертания горной гряды. Светила чуть урезанная с края луна. Насколько мы могли судить, горы были очень высокие, и нас отделяло от них изрядное расстояние. Вершины и седла оставались на одном месте, хотя мы шли на восток с приличной скоростью, принимая справа южный ветер. Наши карты этого района показывали только береговую линию, а лоция ограничивалась упоминанием о ровной череде известняковых утесов, так что столь внушительная картина явилась для нас полной неожиданностью. Вода кругом по-прежнему была молочного цвета. Я посидел, любуясь Азией и слушая всплески прыгающей рыбы, потом снова прилег, а в 02.00 заступил на рулевую вахту вместе с Тору.
Вид далекого берега почти не изменился, и это подтверждало, что расстояние до него достаточно велико. Мы с Тору без труда сохраняли курс 85—90°, рассчитанный на то, чтобы с запасом миновать расположенный на курсовом углу 76° мыс Ормара — единственный мыс, выступающий в океан достаточно далеко, чтобы затруднять нам подход к Карачи.
Во время нашей вахты облик берега вдруг стал меняться. Борозды ущелий и долин сгладились, и волнистая гряда сменилась плоским плато. Одновременно темный массив стал призрачно-серым и придвинулся совсем близко, покричи — отзовется эхом. Но эха не было. Пожалуй, и суши тоже, потому что призрачная стена местами свертывалась и растворялась в поднебесье наподобие облаков. Что за чертовщина! Похоже, природа надула нас...
Подошло время Карло сменять меня, но еще раньше на палубу вышел по нужде Детлеф. Молочная гряда облаков оставила его безучастным, зато он обратил внимание на молочную окраску воды.
— Какая-нибудь река выносит глину! — крикнул он мне, почти дословно повторив мое заключение, которое вызвало такую досаду Карло.
Сам Карло только что вылез из рубки, держа в руках тросик, чтобы измерить глубину, прежде чем заступать на вахту. Ничего не говоря, он швырнул тросик обратно в рубку, поднялся на мостик и выхватил румпель у меня из рук.
— Курсовой угол восемьдесят пять градусов, не меньше. Не то врежемся в мыс, — предупредил я.
Подстегнутый его странной раздражительностью, я добавил:
— Да не трусь ты! Это всего-навсего облака, — и небрежно показал на таинственную пелену с левой стороны.
Тут же я пожалел о вырвавшемся у меня обидном слове, так как сам сомневался. Настолько, что вместе с Детлефом сел на лавку у левого борта и уставился на пелену тумана, неожиданно закрывшую вид на далекие горы, которые я так явственно наблюдал вместе с Норрисом и Асбьёрном. Прислонясь спиной к пружинистой тростниковой стене, я едва не уснул, но тут с проплывающей мимо нас мглистой пеленой что-то стало происходить. Молочная окраска сменилась желтоватой, и появились отчетливые вертикальные трещины — как будто изломанные края гренландского ледника медленно сбрасывали тонкий шлейф ночного тумана. Мгла рассеялась, облака исчезли, и перед нами в лунном свете обнажились бледные утесы, сложенные то ли известняками, то ли затвердевшей глиной. Гладкие, как стекло, они поднимались на 200—250 метров к звездному небу, теряясь вдалеке. Закрытый туманом, окаймленный мутной водой, берег Макрана уже не один час как подступил к нам совсем близко. То ли усиленный ветровой снос, то ли направленное к северу течение увели нас с взятого курса после острова Астола. Но утесы остановили снос, и ладья пошла прямо. Те самые стихни, что прижимали нас к берегу, сами повернули, напоровшись на твердыню. Дальше воздушные и морские течения следовали вдоль стены — и мы вместе с ними. Вдали от берега было раздолье ветру и воде. Здесь же командовали утесы. И они поработали на нас, даже волны усмирили.
Вершины, замеченные Норрисом во время его вахты, принадлежали расположенным в глубине материка горам Белуджистана. Вздымающиеся на тысячу метров пики и гребни на фоне звезд было видно, пока мы шли достаточно далеко от берега и отороченная двухсотметровыми утесами приморская пустыня не могла их заслонить. Когда же мы приблизились к берегу, нависшие высоко над нашей головой, одетые в мглу утесы закрыли обзор.
В хлопотах с парусом, думая лишь о том, как отойти подальше от призрачных скал, мы забыли про тросик Карло, и хотя его инстинктивная тревога была вполне оправданна, нам так и не пришлось узнать, чем была вызвана молочная окраска воды — эрозией меловых утесов или близостью дна. Одно несомненно: когда мы любовались высокими хребтами далекого Белуджистана, нас в каких-нибудь сотнях метров подстерегал Макран.
Нам довольно легко удалось нейтрализовать снос и увеличить дистанцию, отделяющую «Тигриса» от длинной скальной стены, и я снова улегся на свой матрас. Но уже часа через два проснулся оттого, что Детлеф немилосердно дергал меня за ногу.
— Видно мыс Ормара, и что-то непохоже, чтобы нам удалось его обойти!
Я весь похолодел. Раннее утро 27 января, солнце еще не показывалось, мы шли с хорошей скоростью мимо озаренных луной белых утесов, по впереди они обрывались, открывая вход в широкую бухту. А за бухтой в море выступал гористый мыс, вдвое выше приморских утесов, с острыми шпилями и обрывами, при виде которых у наших рулевых сразу отпала охота следовать дальше вдоль берега. К тому же, как только кончились белые утесы, изменилось направление ветра. Стихии, диктуя свою волю, явно хотели, чтобы мы вместе с утесами и плавающим мусором вошли в незнакомую бухту. Высокий мыс Ормара был точно регулировщик, указывающий левый поворот.
На фоне багряной зари он напомнил мне норвежский мыс Нордкап, крутые склоны которого точно так же обрываются в черные волны в зимний полдень перед началом поры полуночного солнца. А может быть, вернее сравнить Ормару с азиатским драконом, пришедшим к морю на водопой. Крутая спина дракона вздымалась к окропленному кровью небу, зубчатый хвост уходил в глубину бухты.
Надо было незамедлительно что-то решать. Я разбудил Нормана, он в два прыжка очутился на мостике и определил направление по компасу.
— Обойти не удастся! — крикнул он. — Нас несет прямо на скалы!
— Тогда войдем в бухту и отдадим якорь! — крикнул я в ответ.
Не теряя времени, мы вызвали на палубу всю команду. Убрали топсель. Повернули грот. Курсом фордевинд вошли в широкую бухту, оставляя мыс справа. И залюбовались великолепным зрелищем — очень впечатляюще выглядел черный дракон. Пурпурное небо за ним светлело на глазах, и вот уже первые серебристые лучи, протянувшись над его головой и над «Тигрисом», озарили слоновую кость утесов по другую сторону залива. В глубине бухты возникли три белых паруса. Когда они приблизились, мы подняли пакистанский флаг — звезда и полумесяц на зеленом поле с белым краем. Однако рыбацкие лодки миновали нас на почтительном расстоянии. Внутренний берег бухты терялся вдали.
Тору и Асбьёрн сели на резиновую шлюпку, чтобы поснимать восход и промерять ручным лотом глубину перед нами.
— Пять саженей! Четыре сажени! — кричали они.
Только вошли в бухту, а уже так мелко! Вода и здесь была молочного цвета.
Норман попробовал вызвать по радио Ормару, Карачи, Бахрейн, потом послал вызов «всем, всем» — надо же было как-то запросить разрешение на высадку. Но нас никто не слышал. Оставалось готовить якоря и подходить к берегу незнакомого залива без разрешения. И без карты, продолжая измерять глубину. Впрочем, она больше не менялась. Посреди бухты мы убрали грот и на глубине четыре сажени отдали оба якоря. Они поползли по песчаному дну, и мы отметили, что ветер с моря усиливается. Над океаном громоздились низкие облака; по берегам залива крутились в воздухе песчаные вихри. Надвигался шторм, и хотя мыс частично прикрывал нас от ветра, «Тигрис» заплясал на высоких волнах, продолжая волочить якоря.
Непуганые птицы бесстрашно садились на палубу рядом с нами. Крупная олуша опустилась на воду около качающейся шлюпки и оставила свою визитную карточку на Детлефе, когда он отказал ей в удовольствии спокойно посидеть на весле. В этих местах явно не было заведено охотиться на птиц, зато, когда три лодки проходили мимо нас, мы почти за километр уловили явственный запах рыбы.
В полдень мы все так же волочили оба якоря, и ветер напирал немилосердно. Погода не располагала к тому, чтобы, подняв якоря, маневрировать по соседству с незнакомыми скалами в поисках более крепкого грунта. Я решил послать Нормана и Рашада на разведку — пусть поищут людей и либо на английском, либо на арабском языке выяснят, где нам лучше отстаиваться. Асбьёрн сел на весла, все трое надели спасательные жилеты, и нагруженная до предела резиновая шлюпчонка тронулась в путь, ныряя в ложбины между волнами.
Шли часы. Вернулся Асбьёрн, доложил, что прибой зверский, но они отыскали в крайней правой части пляжа защищенный уголок под скалами. Встретили человека, который кое-как объяснялся на арабском языке, и Норман с Рашадом пошли с ним. Отчитавшись, Асбьёрн отправился ждать наших посланцев. И надолго пропал.
Было ясно, что найденный разведчиками защищенный уголок недоступен для ладьи. Ветер неистово ворошил песок на берегах, якоря продолжали волочиться по дну, и за скалами показался широкий ровный участок, — очевидно, перешеек, соединяющий мыс с материком. В правом конце перешейка, о котором говорил Асбьёрн, мы рассмотрели вытащенные на песок черные лодки, однако нашей шлюпки не было видно. Зафиксировав направление на одинокие пальмы у кончика драконьего хвоста, мы убедились, что нас по-прежнему сносит, и отдали плавучий якорь в надежде, что он зароется в дно и остановит нас, как это было у Файлаки. Однако глубина была еще слишком велика. Ветер упорно теснил ладью к берегу, и промеры давали уже не четыре, а три, две с половиной, две сажени. Когда счет пошел на метры, мы подняли рулевые весла вровень с днищем и закрепили их в этом положении.
Для нас, оставшихся на борту дергающего якорные канаты «Тигриса», потянулись волнующие и тревожные часы. Мы не опасались за свою жизнь — разве что прибой смоет нас и выбросит на камни. Нас беспокоила судьба палубного груза, и мы боялись, что уже не сможем продолжать плавание, если «Тигриса» прибьет к этим пустынным берегам. Со всех сторон доносился ритмичный грохот вздыбленной череды разбивающихся валов, которые вторгались в бухту с моря. Только по грохоту и можно было судить о высоте прибойных волн, поскольку мы видели их пологий задний скат.
Наши страхи и волнения не помешали нам по достоинству оценить окружающую экзотику. Эффектной декорации — обрамленная с одного края каменным занавесом плоская песчаная сцена под открытым небом — вполне отвечали не менее картинные персонажи. Представление началось с того, что из-за хвоста дракона появился верблюжий караван и прошествовал через всю сцену, протянувшуюся на шесть или семь километров. Погонщики в чалмах, мешковатых шароварах и пестрых халатах вели своих длинноногих трудяг вдоль самого края, по уплотненному влагой песку. Не успевал один караван скрыться за скалами слева, как справа показывался другой. От двенадцати до четырнадцати верблюдов степенным шагом пересекали сцепу от края до края. В обратном направлении шли погонщики с одним-двумя верблюдами, которые несли огромные охапки сушняка. Рядом с погонщиками или следом за ними семенили женщины с большими связками хвороста на голове, облаченные в длинные одеяния зеленого, красного и других ярких цветов. Вскоре разделяющее нас расстояние сократилось до каких-нибудь четырехсот метров, и, отделенные от них барабанами прибоя, мы чувствовали себя так, будто и впрямь сидели в партере театрального зала, тем более что люди на берегу совершенно не обращали на нас внимания. Хоть бы один остановился или повернул голову, чтобы взглянуть на пришельца из чужого мира — камышовую ладью, которая медленно ползла по воде кормой вперед, дергая якорные тросы.
Даже трусившие рядом с голенастыми верблюдами собаки и козы не смотрели в нашу сторону. Между тем мы приблизились к берегу настолько, что видели выброшенные на песок пучки водорослей. Озабоченные спасением судна и нашего имущества, мы в то же время жадно созерцали необычные картины. Вряд ли можно было бы в наш век найти другую обстановку, в которую так хорошо вписывалась бы камышовая ладья. Казалось, весь этот спектакль поставлен специально для нас, моделирующих историю.
Где-то за дюнами справа, куда люди и верблюды спешили с вязанками хвороста, явно находилось селение. По эту сторону дюн лишь несколько глинобитных лачуг приютились под пальмами у драконьего хвоста, выше извлеченных на берег лодок. Вдалеке над песками торчала макушка мечети. Видимо, кочующие в пустыне мусульмане по случаю пятницы побывали в селении, а теперь возвращались к себе. А те, что собирали хворост, торопились домой, пока солнце не ушло за горизонт на западе.
Полной неожиданностью для нас было увидеть круживших над ладьей фламинго. Вытянув шеи и ноги, они летели клином, словно стрелы, пущенные тетивой. Немного спустя пошел дождь, загремел гром. В открытом море явно бушевал шторм, от которого нас частично прикрывал мыс Ормара. Шлюпка с нашими ребятами не возвращалась. Тишина на борту «Тигриса» оттенялась ритмичным гулом прибоя и раскатами грома. На открытом камбузе Тору молча жарил корифену с луком. Эйч Пи промерил глубину своим страховочным леером и доложил: «Два метра», Я проверил, получилось два метра двадцать сантиметров. В тихую погоду это означало бы полметра глубины под днищем. Но погода была отнюдь не тихая. Прибой давно подбирался к нам, и теперь могучие валы, вырастая за ладьей, с маху обрушивались на камышовые бунты. Поскольку якорные тросы держали нос, корма смотрела на берег, и тут оправдала себя изящная серповидная конструкция.
Ма-гур был создан не для речного судоходства. Высокие дуги помогают отстояться на якоре в шторм; нос и корма возвышаются над гребнями частых волн, словно шея и хвост лебедя. Взмывая вверх, широкая крутая грудь «Тигриса» рассекала валы, потом скатывалась в ложбины, отбрасывая брызги в стороны, так что на палубу почти ничего и не попадало. Дождь мочил нас сильнее.
Вооружившись топором, Карло попытался с помощью Детлефа вколотить дубовое гребное весло в дно рядом с ладьей. Но песчаный грунт был слишком рыхлым, и весло тут же всплыло.
Солнце опустилось совсем низко. На берегу больше никто не показывался. Начался отлив, вода отступала из бухты, и мы с ужасом смотрели, как пляж, разрастаясь, придвигается к нам. Глубина под бунтами становилась все меньше; ладья еще была на плаву, и обращенный к морю нос лихо взлетал на гребне, но в ложбинах между волнами корма явно касалась грунта. Кстати, это обстоятельство, вкупе с действием отлива, помогало двум маленьким якорям и зарывшемуся в песок плавучему якорю удерживать нас на одном месте, совсем близко от полосы, где проходили верблюды. Вся моя надежда теперь была на то, что нагрузка на якоря уменьшится, как только корма сядет на грунт. Отстоимся таким способом, качаясь на волнах, а когда уймется шторм, подтянемся за тросы обратно, туда, где поглубже.
В такой вот напряженной обстановке, чувствуя себя словно пассажиры на мчащемся в неведомое глиссере, мы сели за наш длинный стол, где ждал горячий ужин.
Без двадцати шесть по судовому времени солнце зашло, и Эйч Пи зажег керосиновый фонарь. В одной из глинобитных лачуг на краю бухты тоже затеплился огонек. Дождь прекратился. В шесть вечера нас окликнули с моря, и мы стали махать фонарями, взобравшись на рубку. Прибой вынес к «Тигрису» надувную шлюпку; в ней сидел один Асбьёрн. Несколько рук подхватили его и помогли вскарабкаться на борт. Он не встретил Нормана и Рашада. Углубился в дюны, набрел на маленькое строение с башней, заглянул внутрь и увидел богомольцев, которые объяснили ему, что это — мечеть, а селение находится далеко, по ту сторону песчаного перешейка. Тогда он вернулся к шлюпке, оставленной под прикрытием большой лодки, написал на песке большими буквами «Тигрис» и короткое послание ребятам: дескать, пусть посигналят, и он придет за ними.
Однако никто не сигналил. В дальнем конце пляжа мелькнул тусклый огонек, но тут же пропал и больше не появлялся.
В семь вечера мы вскочили со скамеек, услышав чьи-то крики с моря. Теперь уже там мелькали огни. Я готов был поклясться, что узнал голос Нормана. Мы дружно кричали в ответ, но прибой и ветер заглушали нас. Затем до нашего слуха донеслось сразу несколько голосов и шум мотора. Вооружившись всеми наличными фонарями и облепив крыши рубок и мачту, мы махали руками и кричали изо всех сил, чтобы вновь прибывшие не угодили на мель. Наконец в свете наших фонарей показалась маленькая, мелкосидящая
дау с пакистанской командой и с Норманом и Рашадом на носу.
Дау подошла так близко, что наши ребята прямо с нее перескочили на борт «Тигриса». Пакистанцы не сразу сообразили, что мы наполовину сидим на мели. Еще минута, и
дау могла либо опрокинуться, либо тоже сесть на мель, но опытные моряки мигом сориентировались, лихо развернулись в каскаде брызг, развили полный ход, и вскоре огни и рокот мотора пропали в ночи.
...Снова вся команда в сборе, готова разделить судьбу «Тигриса». Норман и Рашад рассказали, что им пришлось отшагать не один километр по низкому перешейку, прежде чем они достигли приморского селения по ту сторону мыса Ормара. С жаром описывал Рашад виденные по пути сводчатые дома из циновок — совсем такие, как у болотных арабов. В самом селении есть и каменные постройки, принадлежащие директору школы и полиции. Местные жители встретили гостей приветливо и очень беспокоились за нас, застрявших к западу от мыса, поскольку в океане бушевал сильный шторм. В конце концов решили послать на выручку судно в обход мыса. Спасателей здорово потрепало на этом отрезке. Доставив на «Тигриса» наших товарищей, они канули во тьму и уже не вернулись; мы так и не узнали, что с ними было потом. Норман и Рашад уверяли, что
дау подвергалась большей опасности, чем «Тигрис», так что, наверно, рыбакам пришлось несладко, когда они повторно огибали мыс, спеша укрыться в своем заливе, пока шторм совсем не рассвирепел. Во всяком случае, эти самоотверженные люди убедились, что мы живы, невредимы и не падаем духом, качаясь возле берега на камышовых бунтах. Капитан
дау напоследок крикнул Рашаду, что нам здесь ничего не грозит, но для них эта стоянка не годится.
Судя по всему, капитан был прав, хотя нам еще не доводилось слышать, чтобы кто-то вот так отстаивался на якоре посреди бушующего прибоя, уткнувшись кормой чуть ли не в самый берег. Как бы то ни было, мы явно перестали смещаться, и шторм вроде бы не собирался прибавлять; оставалось только сбросить внутреннее напряжение и утешать себя мыслью, что трое из команды побывали на берегу в Пакистане. Расписав ночные вахты, мы забрались в тростниковые шалаши, и камышовая люлька принялась грубовато укачивать нас под сатанинскую колыбельную макранского прибоя.
Глава IX. В долине Инда в поисках Мелуххи
В понедельник 30 января небо над Пакистаном радовало глаз голубизной, и волны давно перестали яриться, когда норвежский океанский спасательный буксир «Язон», обогнув мыс Ормара, вошел в широкую западную бухту.
Шторм, обрушившийся тремя днями раньше на побережье Индийского океана, унялся, и капитан Хансен из Бергена, стоя на мостике, высматривал в бинокль разбитое судно. Такового не оказалось. Он поискал взглядом обломки среди каменных глыб и коварных песчаных баров у подножия высоких утесов. Обломков тоже не было.
Зато посреди бухты мирно покачивалась на якоре серповидная ладья — самое диковинное судно, какое когда-либо доводилось встречать капитану и его двенадцати товарищам-норвежцам. Не арабская
дау. Не китайская джонка. И отнюдь не пакистанская лодка. Какая-то вязанка камыша, на корме даже название не написано.
Малым ходом 1200-тонный спасатель подошел к странному недомерку и отдал якорь. Ладья была покинута командой, но якорные тросы удерживали ее на месте. На палубе и в плетеных рубках — ни души. Но на столе между рубками стояли тарелки, кружки, пустая сковорода; на тростниковых стенах сушились трусы и акульи хвосты. На штагах висела вяленая рыба; в крохотных забортных гальюнах на корме белели рулоны туалетной бумаги.
Внимательно изучая длинный песчаный перешеек на краю залива, капитан и его товарищи заметили на пляже кучку людей, которые что-то разглядывали, сбившись в плотное кольцо, а из-за дюн к ним торопились другие желающие посмотреть на их находку.
Что тут подумал капитан Хансен, может ответить только он сам. Так или иначе, он приказал спустить на воду десантную баржу и, отобрав несколько человек, поспешил к берегу. Ведь он пришел в эту глухую бухту, выполняя инструкции норвежской аварийно-спасательной компании «Сальватор» в Бергене, которой передали сообщение Бахрейнского радио, что судно «Тигрис», приписанное к норвежскому порту Ларвик, потерпело аварию западнее мыса Ормара в Пакистане.
Мелкосидящая баржа ткнулась в грунт, не дойдя до берега. Поручив матросам удерживать ее на месте, капитан и его старший помощник дошли вброд до пляжа, подбежали к толпе, осторожно протиснулись через нее и неожиданно для себя очутились в первом ряду зрителей, наблюдающих фольклорное выступление. Барабаны, восточные пляски, народная борьба... Внутри кольца стояли почетные гости — бородатые иностранцы, представляющие самые различные этнические типы; вместе с хозяевами они так веселились, что не сразу заметили пополнение.
Я в это время отсутствовал и ничего не знал об ожидавшем меня сюрпризе. Мы с Германом ходили в селение и возвращались оттуда почти бегом, чтобы застать представление на пляже, которое директор школы устроил для нашей команды. Перевалив через дюны, мы сразу приметили не совсем обычное судно по соседству с «Тигрисом», там, где он стал на якорь два дня назад, как только утихомирился ветер. Навстречу нам, приветственно махая рукой, шел Юрий, чтобы представить сопровождавших его двух светловолосых европейцев, и один из них, в котором я угадал капитана, широко улыбаясь, крепко стиснул мою руку.
— Вы говорите по-английски? — спросил я, представляясь.
Уголком глаза я заметил, что Юрий с трудом удерживается от смеха.
— Капитан Хансен, — в свою очередь, представился незнакомец на норвежском языке и добавил, что может говорить по-английски, но предпочел бы родной язык, если я не возражаю.
Под дробь барабанов, обтянутых акульей кожей,
звучали над пляжем пакистанские песни, плясали танцоры, возились на песке борцы. Импровизированный концерт продолжался. Придя в себя от удивления, я спросил капитана Хансена, какой бес забросил его с норвежским спасательным судном в такой глухой уголок, как Ормарская бухта? Рассказал ему, что приветственный концерт концертом, но симпатичный деревенский полицейский сознался мне, что вообще-то иностранцев в Ормару не пускают. До нас, по словам местных жителей, их посетил только один зарубежный гость, а он прибыл по суше, чтобы собирать камни.
Капитан Хансен ответил, что пришел сюда с разрешения пограничных властей в Карачи. Его спасательный буксир работает по всему свету. Теперь они заняты тем, что выручают суда, застревающие в дельте Инда на илистых отмелях в лабиринте мангровых болот. Только что вернулись на базу в Карачи, как пришлось спасать загоревшийся у входа в гавань старый греческий пароход, и тут получили по радио команду идти в западную бухту Ормара — выручать «Тигриса».
— Приходим сюда — твоя ладья стоит на якоре посреди бухты, а на берегу народ пляшет! — заключил он, недоумевая.
После чего охотно принял приглашение вместе со своими людьми досмотреть до конца представление.
Но что же все-таки произошло? Ведь мы, входя в Ормарскую бухту, ни к кому не обращались по радио. Правда, Норман вместе с Рашадом отправились на берег, но когда они вечером вернулись на обузданный якорями «Тигрис» в прибойной полосе, мы в помощи не нуждались, а если бы и нуждались, все равно никто не поспел бы вовремя. Может быть, наше молчание в эфире, когда вся область от Аравийского полуострова до Пакистана была охвачена песчаной бурей, породило тревожные догадки, что «Тигрис» потерпел аварию? Вот что гласила моя последняя запись в экспедиционном журнале в ту ночь:
«Жестокий ветер с моря подвывает, обтекая мачту; прибой награждает звонкими шлепками пляшущую ладью. Ложимся спать одетые, буйные волны бросают нас вверх и вниз, в небе полыхают молнии, ветер и море расшумелись так, что еле слышно кузнечика на камбузе. Капитан
дау сказал напоследок, что для нас стоянка безопасная, но им не годится. И что они вернутся завтра или попытаются прислать кого-нибудь еще. Ин ша'алла. Да, не сладко сейчас нам на «Тигрисе». Ух как воет штормовой ветер! Выдержат ли якоря? Ин ша'алла».
А проснувшись наутро, мы увидели совсем другую картину. В бухте было тихо, мыс надежно прикрыл нас, дул береговой ветер. В море волны курчавились белыми барашками. Ощутив сквозь сон резкую перемену, я уже в четыре часа выходил на палубу и подивился странной тишине. Как будто мы вернулись на реки Ирака: никакого прибоя, никакой тряски, во всю ширь бухты катили неторопливые валы. Лишь откуда-то издалека доносился гул, как от могучего водопада. Я поглядел на берег. Все ясно: теперь сильный прибой дубасил узкий перешеек с другой стороны. Погода резко изменилась. Шторм перекочевал в восточную бухту, где расположилось селение. Пожалуй, для навестившей нас
дау было бы лучше отстаиваться вместе с нами.
Скалы, прикрывшие ладью от шторма, напоминали готовые сорваться в море айсберги. Вода была мутнее прежнего, но с приливом уровень ее поднялся, и от пляжа осталась совсем узкая полоска метрах в двухстах от нас. Хлопотавший на камбузе Тору предложил мне чашку горячего кофе. Да, сплошные чудеса... Вернувшись в рубку, я долго не мог уснуть. С прояснившегося неба на меня смотрела луна, мерцал знакомый ковш и Полярная звезда.
И после восхода солнца небо осталось таким же ясным, по-прежнему дул береговой ветер. Редкий случай: все одиннадцать человек одновременно сели за стол. Герман подал овсянку и яйца, которые оставались свежими благодаря тому, что перед стартом он смазал их растительным маслом. Карло побывал на берегу и вернулся с говорящими на урду дружелюбными рыбаками, которые вызвались помочь нам отвести ладью на хорошую стоянку посреди бухты. Если якорные тросы выдержали шторм, теперь на них и подавно можно было положиться, и поскольку Норман с Рашадом накануне уже побывали в селении, их оставили нести вахту, а вся остальная команда получила увольнение на берег. На резиновой шлюпке мы по двое переправились на великолепный длинный пляж, проходя вброд последний кусок. На много километров протянулся чистый белый песок — и ни души, только наша девятка. Ступая по раковинам и губкам, загоняя в подводные норки пугливых крабов, мы выходили на сушу и обувались.
Душа радовалась смотреть, как «Тигрис» спокойно стоит на якоре, покачиваясь на ленивых валах, и сознавать, что у нас под ногами земля Пакистана. Ныне это пустынное побережье известно под названием «Макран»; возможно, что в древности его называли «Макан». А может быть, здешняя область составляла восточные владения Мелуххи — ведь оборонительные рубежи Индской цивилизации включали горные проходы вблизи от нынешних границ Ирана. Да, скорее всего, мы уже миновали земли Макана и достигли Мелуххи, поскольку сфера военных и торговых интересов индских городов-государств в шумерские времена простиралась намного дальше Ормары.
За пределами досягаемости волн в песке лежало множество черепков. Однако вряд ли на этом низком перешейке можно найти какие-либо следы древности — ведь во времена шумеров уровень моря здесь, как и в Двуречье, был намного выше. Очевидно, на месте перешейка был песчаный перекат, а нынешний гористый мыс был островом. Очень интересно геологическое строение этого участка. Асбьёрн обнаружил, что известняковые утесы нашпигованы идеальной формы шарами из мягкой меловой породы величиной с апельсин. Разломав один такой шар, он увидел внутри удивительно красивые окаменелости затейливых раковин, моллюсков и червей. Ребята набрали целую кучу таких шаров в качестве сувениров. Твердые пласты песка, слагающие низкий перешеек, создавали рельеф, резко отличный от известняковых утесов. Параллельно пляжу тянулись кривые террасы, возникавшие по мере того, как отступал океан. Важный признак, подтверждающий мнение Дейлса, что древние крепости Суткаген Дор и Сутка-Кух были выстроены в приморье.
На гребне перешейка черепков было столько, словно местные жители дружно разбили все старые горшки, как только купцы из Карачи снабдили их современной жестяной посудой. В самом деле, первыми нам встретились женщины в длинных одеяниях, которые убегали от чужеземцев, неся на голове жестяные кувшины. Недалеко от нашего пляжа был вырыт колодец, и к нему отовсюду сходились хозяйки за драгоценной водой.
Дома на нашем пути и впрямь, как говорил Рашад, были до того похожи на характерные камышовые постройки болотных арабов, что это сходство естественнее всего было бы объяснить общим для обитателей пустынь и жителей болот наследием. В селении Ормара дома из циновок, как и более поздние каменные постройки, прямоугольные, с остроконечной или плоской крышей. А в целом нашим глазам предстала община, замечательно сочетающая глубокие местные корни и скудные заимствования извне. Природная среда — море, утесы и пустыня. Вглубь края уходят голые пески; дюны белыми сугробами подступают к самому поселку. Никаких сухопутных трасс в сторону Карачи; только на запад, к древней крепости Сутка-Кух под горным перевалом выше Пасни, протянулись верблюжьи тропы и подобие автомобильной дороги. Если большая часть Пакистана ощущает шумное влияние современной столицы, которое распространяется по автомагистралям и авиалиниям, то окружающие Ормару пустыни, как и болота в дельте Инда, служат естественной преградой для продвижения культурной революции. Ормара терпеливо ждала, когда настанет ее черед совершать длинный прыжок в двадцатое столетие. А пока жизнь тут приближалась к моему представлению о цивилизованной самостоятельной общине третьего тысячелетия до нашей эры больше, чем где-либо, если не считать плавучие острова достопочтенных болотных арабов в Ираке и непокоренные временем горные селения Омана. Здесь, как и прежде при посещении изолированных общин, я лишний раз ощутил, что столь подвластный теперь взаимным связям внешний мир с его нефтяными проблемами и военным престижем весьма зыбок, но если он рухнет, как рухнули империи Шумера и Индской долины, верблюжьи караваны Ормары по-прежнему будут доставлять пальмовые листья и тростник для домов, рыбу, финики и овощи для пропитания. Гордые женщины по-прежнему будут в ярких одеяниях скользить через дюны за водой и молоком; мужчины будут ловить сетями рыбу и обрабатывать клочки земли между финиковыми пальмами.
Впрочем, вездесущие торговцы не жалеют сил, чтобы преобразить натуральное хозяйство здешних рыбаков в денежное. Ормара сбывает свои товары купцам, приходящим на
дау из расположенного восточнее на том же побережье Карачи и из Коломбо на острове Шри Ланка, что к югу от Индии. Главный предмет местного промысла — акулы. Правда, до сих пор он, похоже, приносит ормарским беднякам больше мух, чем денег. Мы в жизни не видели такого скопища этих двукрылых. Непрерывно отмахиваясь от них, мы знакомились с очаровательным селением, располагающим тремя крохотными мечетями и базаром, словно заимствованным из «Тысячи и одной ночи». Сопровождаемые стайкой ребятишек, пробились сквозь живой барьер из верблюдов, ослов, собак, кошек и кур, и нашим глазам предстал базарный люд — пакистанцы и арабы в чалмах, среди которых выделялась одна роскошная серебряная феска. Снова я увидел мощные крючковатые носы, а рядом — более плоские лица негроидного типа: та же примечательная смесь, какую мы наблюдали в Омане, на другой стороне пройденного нами широкого залива. Мы пробовали заговорить с местными жителями на арабском и английском языках, но они отрицательно качали головой: здесь понимали только урду.
Нас встречали улыбками и приветственными жестами, однако нашелся один буян с нечесаной бородой, который, выхватив из ножен кривую саблю, приставил острие к собственному животу, потом угрожающе взмахнул клинком над нашими головами. После чего с высоко поднятой саблей нырнул в толпу. Остальные спокойно восприняли его выходку и постарались дать нам понять, что это религиозный фанатик. Показывая на себя и на мечеть, они несколько раз произнесли: «Аллах! Аллах! Аллах! Аллах!» — потом указали вслед буяну и, раскачиваясь всем телом и закрыв глаза, точно в трансе, презрительно добавили: «Алли-алло, алли-алло».
Выслушав это маловразумительное объяснение местных религиозных обычаев, мы прошли вдоль торгового ряда, длина которого немногим превышала длину нашего «Тигриса». Пять или шесть лавчонок величиной с кукольный домик возвышались на сваях на метр над песком. Передняя сторона открыта, и внутри, занимая почти всю площадь, сидит со скрещенными ногами сам лавочник с разложенным перед ним товаром. Я переписал наличность в самой маленькой лавчонке: семь морковок и пять картофелин. Большинство торговцев предлагали покупателям зеленые, серые, белые зерна или семена в блюдцах и мисочках. Только один выделялся из всех — его ассортимент включал печенье, арабские сигареты, сласти и кусочки серого мыла. Самое роскошное гнездышко принадлежало длиннобородому портному. Каждый раз, когда он взмахивал рукой, казалось, что его игла сейчас проткнет плетеный потолок или стену. Проходя мимо портного, мы едва не споткнулись о человека, который устроился прямо на земле, предлагая желающим чай, кипятившийся на древесных углях. Женщины были представлены в этой экзотической толпе шести-семилетними девчушками и древними старухами с кольцом в носу, украшенным зеленым камнем.
И всюду мухи, невероятное множество мух. Правда, невероятным оно казалось нам, пока мы не вышли на край поселка, обращенный к морю. Сплетенные из пальмовых листьев циновки в рост человека ограждали участки песчаного берега, и, заглянув через одну ограду, я увидел жутковатую картину. Стоя по колено в грязной яме, молодой парень плясал на рыбьих тушах величиной с него самого, а кругом, скаля острые зубы и тараща безумные глаза, валялись огромные акульи головы. Стоявший в окружении голов старик время от времени подливал воды в яму, где напарник усердно топтал обезглавленных акул в бурой жиже. Наплясавшись всласть, парень стал вылавливать туши из песочного супа и бросать их на землю рядом с горами вымазанных в песке плавников, филе и голов. Вместе с акулами казни подверглись здоровенные скаты. Отовсюду на меня глядели оскаленные челюсти и маленькие злобные глаза. Босоногий мальчуган орудовал граблями, сгребая в ряды и кучки тушки более мелкой рыбы, словно сено. Тут же стоял длинноногий верблюд, навьюченный двумя громадными корзинами. Двое — очевидно, продавец и покупатель — наполняли корзины сушеной рыбой.
В моих плаваниях я не раз предлагал своим спутникам отведать акульего мяса. Акула вполне съедобна, если нарезать ее кусками и на ночь положить в воду, чтобы удалить привкус аммиака. Примитивный организм акулы устроен так, что моча поступает в кровь. И эти люди были как раз заняты тем, что выжимали и вымывали аммиак из акульих туш, перед тем как сушить их для далеких потребителей. Владелец верблюда отвезет лакомство в свое племя где-нибудь в пустынях Макрана или еще дальше в глубине страны, а на стоянке перед пляжем ждали свою партию товара две
дау. «Коломбо», — сказали нам, показывая на них, местные жители. До Коломбо, главного города и порта Шри Ланки, от Ормары конец изрядный, и не один перекупщик наживется на облепленных песком акульих филе, прежде чем их съедят на острове к югу от Индии.
На пути к Ормаре мы повидали много акул, но такие крупные нам почти не встречались. Судя по горам зубастых голов на обнесенных оградами гротескных полях сражений, в океане у мыса Ормара водятся несметные полчища этих людоедов. Но больше всего нас поразили не грозные челюсти обезглавленных хищниц, а словно набранные из блестящих иссиня-черных бусин причудливые маски на лежащих в сторонке головах. Мы не могли поверить, что обыкновенные мухи могут скапливаться в таких невообразимых количествах, покуда Карло не наклонился с фотоаппаратом над особенно большой акульей головой. Мгновенно маска слетела с головы, и окутанный жужжащим облаком Карло чуть не упал навзничь от неожиданности. Всюду: на заборах, на грудах рыбьих туловищ — сплошной пеленой копошились мухи, даже взбирались друг на друга в поисках свободного места для своего хоботка. Из года в год в теплом воздухе на много километров разносился манящий запах лежалой рыбы, заставляя крылатых гурманов со всех концов Макрана полчищами устремляться в Ормару.
Видимо, этот же острый запах притупил мое обоняние, сделав его невосприимчивым к менее резким ароматам, когда мы спустились к воде, где два рыбака строили лодку. Доски были белые, а лежащие на берегу готовые лодки — темно-коричневые из-за толстого водонепроницаемого слоя какой-то затвердевшей обмазки, напоминающей лак. Видя, как пристально я рассматриваю обмазку, лодочники дали мне понять, что приготовляют ее сами из жира акульей печени. Я долго обнюхивал лодку, но не уловил никакого запаха. Вспомнилось, как арабские рыбаки в Ираке рассказывали мне, что в прошлом они промазывали свои
дау акульим жиром для водонепроницаемости. Они даже предложили подвергнуть такой же обработке «Тигриса». Я отказался. Зная, как воняет в жару старый рыбий жир, я боялся, что эта вонь всех нас прогонит с ладьи. Однако ормарские лодки, хоть и покрытые акульим жиром, ничем не пахли. И мне снова пришли на память слова из эпоса о Гильгамеше про венценосного мореплавателя, услышавшего в Дильмуне рассказ о том, как шумерский Ной построил корабль, разломав свой камышовый дом: «Шесть саров смолы влил я в горячий котел, три сара асфальта добавил. Три сара масла принесли работники, не считая одного сара, который хранился в трюме, и двух саров, которые припас кормчий»
[59].
Прежде чем спускать на воду свою ладью, мы для проверки, как я уже писал, утопили в Тигре смазанную асфальтом связку камыша. Асфальт растрескался — он явно не подходил для промазки камышовых связок. Возможно, покрытие было бы прочнее, смешай мы, по примеру шумерского Ноя, асфальт со смолой и маслом, а точнее, с акульим жиром. Связанная из
берди, заготовленного в августе, наша ладья вполне могла продержаться на воде еще не один месяц; может быть, покрытие из акульего жира или, еще лучше, из особой смеси, описанной в эпосе о Гильгамеше, позволило бы ей служить годами. Стремясь учиться у людей, хранящих вековой опыт, мы постепенно усваивали их секреты. Что ни говори, с «Тигрисом» наши дела шли раз в десять лучше, чем во время первого эксперимента на «Ра».
Более полусотни псов, набивших брюхо рыбьими внутренностями, простерлись недвижимо на мокром песке приливной полосы. Хорошо, подумал я, что «Тигрис» в западной бухте стоит достаточно далеко от берега — ему не страшны приливы-отливы. Во время шторма нагрузка на якорные тросы достигла такой силы, что веретена якорей погнулись, но лапы удержали ладью, возможно потому, что она упиралась кормой в грунт.
Обойдя селение, мы поспешили обратно, чтобы удостовериться, что у наших вахтенных все в порядке. И на пути через перешеек неожиданно встретили молодого лейтенанта пакистанских пограничных войск, который расположился со своими людьми в четырех палатках у кончика драконьего хвоста. Он был предельно учтив, а услышав, что наша маленькая
«дау» называется «Тигрис», стал само дружелюбие. От начальства в Карачи он принял по радио сообщение, что в макранских водах плавает «большой корабль „Тигрис”», и лейтенанту, отвечающему за охрану всей пакистанской части макранского приморья, было предписано не чинить никаких препятствий, а, напротив, оказывать всяческое содействие!
Мы-то не подозревали, что берега Макрана закрыты для иностранцев, и причина запрета так и осталась загадкой, ибо нас принимали очень радушно. Лейтенант-пограничник, директор школы, полицейский, присланный из Карачи эксперт по рыболовству — все они говорили по английски, и все стали нашими искренними друзьями. Говорящие на урду местные жители тоже не скупились на гостеприимство, приглашали ребят с «Тигриса» к себе в дом и дарили свежих омаров, предлагали яйца, козье молоко.
Появление нашего «большого корабля» вызвало изрядный переполох в эфире между Ормарой и Карачи. Учтивый лейтенант вернулся в свою палатку, чтобы доложить по радио о прибытии «Тигриса». Мы, возвратившись в свою бухту, застали Нормана в ту минуту, когда он, сидя в рубке, лихорадочно добивался связи с внешним миром. Наконец кто-то ему отозвался, и Норман с трудом разобрал, что направляющееся из Карачи в Дубай судно зайдет в Ормару, чтобы доставить «Тигрису» 3600 литров воды! Бред какой-то! Зачем нам вода? Норман прокричал в микрофон, что наших запасов воды хватит еще на три с лишним месяца; если добавить 3600 литров, мы пойдем ко дну. Ответа не последовало.
Услышав от нас эту историю, капитан Хансен заверил, что «Язон» не вез никакой воды и отнюдь не направлялся в Дубай. Он получил команду спасти «Тигриса» и доставить нас в Карачи. И он готов взять ладью на буксир, как только фольклорный ансамбль закончит свое выступление. Мы устроили небольшое совещание. Как быть? После опыта со «Славском» буксировка представлялась нам страшнее любого шторма. У нас было задумано оставаться в западной бухте, пока не установится погода, потом идти до Карачи. Оттуда мы хотели совершить поездку в Мохенджо-Даро и осмотреть тамошние развалины. Низкое атмосферное давление располагало нас ждать благоприятного ветра, а то, чего доброго, выбросит ладью на скалы мыса Ормара. Или вынесет на просторы Индийского океана раньше, чем мы ознакомимся с древним городом в долине Инда. Можно было добраться по верблюжьей тропе до Пасни и продолжать путь внутрь страны от крепости Сутка-Кух, но тогда пришлось бы надолго оставить «Тигрис» без присмотра. А прими мы предложение капитана Хансена, «Язон» в один день довел бы ладью вдоль побережья до Карачи и у нас было бы больше времени для осмотра древних памятников. Все были за это. И когда музыканты и зрители направились обратно в селение Ормара, два судна в западной бухте подняли якоря. Широкий, могучий «Язон» пошел вперед, увлекая «Тигриса» за собой, словно игрушку на веревочке, и еще до того, как мы обогнули мыс Ормара, нас поглотила темнота.
Живописные сцены будней неподвластной току времени Ормары все еще стояли у нас перед глазами, когда мы неделей позже приехали в древний город-призрак Мохенджо-Даро. «Тигрис» был пришвартован к рейдовой бочке перед зданием военно-морской академии в оживленном порту Карачи; портовые власти приняли нас чрезвычайно радушно, а военные моряки вызвались постеречь ладью на время нашей экскурсии внутрь страны. По хорошим дорогам, пересекая город за городом, Сани, молодой гид из Национального музея, привез нас на микроавтобусе к Мохенджо-Даро в 560 километрах от Карачи.
«Мохенджо-Даро» означает всего лишь «Холм Мертвых»; никому не известно, как на самом деле назывался этот город, когда в нем примерно с 2500 до 1500 года до нашей эры кипела жизнь. Поселившиеся здесь в начале третьего века нашей эры буддисты соорудили маленький храм поверх развалин. В остальном же гора песка и обломков была нетронутой вплоть до 1922 года, когда она привлекла археологов. До той поры никто не догадывался, что тут погребена неведомая культура. Ученые только-только начали подозревать, что в долине Инда существовала древнейшая цивилизация. Первыми стали здесь копать Р. Д. Банерджи и другие члены экспедиции Джона Маршалла, после них работу продолжили другие исследователи, и на сегодняшний день раскопан участок окружностью около пяти километров, площадью около ста гектаров. А под землей все еще скрываются обширные неисследованные части крупного развитого города. Раньше кругом простирались орошаемые поля с плантациями финиковых пальм и инжира, посевами пшеницы, ячменя, хлопка, кунжута, стручковых и других культур, теперь же прилегающая равнина представляет собой сплошной песок с редкими пыльными кустами тамариска. Широкий Инд, некогда омывавший городские пристани, ушел в сторону. Весь климат в целом стал суше и суровее. Подобно заброшенным руинам Ура и Вавилона, Мохенджо-Даро ныне лежит далеко от воды. Развалины жилищ и лавок тянутся на полтора километра в сторону тихого Инда, который в прошлом был и жизненной артерией, и грозным бичом горожан. Раскопки показали, что город семь раз восстанавливался после наводнений, пока люди не оставили его по неизвестным причинам. Никто не знает, почему все городское население вдруг исчезло около 1500 года до нашей эры. Мортимер Уилер и другие исследователи предполагают, что климатические, экономические и политические неурядицы могли подорвать фундамент здешней культуры. А окончательно сокрушили ее вторгшиеся с севера арии. Плодородные равнины, тысячу лет кормившие Индскую цивилизацию, были захвачены племенами, которые пришли не по морю, а через горные перевалы внутри страны. Речь идет о тех самых говорящих на санскрите ариях, что именовали неариев заимствованным несанскритским словом «млехха», которое, как полагает Бибби, тождественно шумерскому «мелухха» и могло быть самоназванием древних народов долины Инда.
«Млехха», или «мелухха», — основатели города, известного нам под названием «Холма Мертвых», — оставили следы, которые на любого производят сильнейшее впечатление. Мохенджо-Даро — памятник векового единства всего человечества, он учит, что нельзя недооценивать ум и возможности других людей, отделенных от нас многими километрами или столетиями. Отнимите у нас наследие, накопленное сотнями поколений, и сравните затем наши способности со способностями создателей Индской цивилизации. Исчисляя ныне возраст человечества миллионами лет, мы начинаем понимать, что к третьему тысячелетию до нашей эры мозг человека был вполне развит. Жители Мохенджо-Даро и их нецивилизованные современники научились бы водить машину, включать телевизор или повязывать галстук с такой же легкостью, с какой усваивает эту премудрость любой современный африканец или европеец. Последние пять тысяч лет эволюции человека мало что прибавили или убавили в его умении рассуждать и изобретать. Вот и выходит, что основатели Мохенджо-Даро либо превзошли все прочие поколения человечества в скорости развития, либо, подобно сменившим их ариям, пришли сюда, уже владея многовековым культурным наследием.
В одном согласны все исследователи: город Мохенджо-Даро был построен по заранее разработанному плану искусными архитекторами, членами высокоорганизованного общества. Тот же принцип планировки затем четыре тысячи лет соблюдался градостроителями Центральной и Западной Азии, но не был ими превзойден. Даже в начале нашего столетия лишь немногие из малых городов достигали столь же высокого уровня строительной культуры.
Первое впечатление, когда приближаешься к этому городу-призраку, сходно с впечатлением от шумерских городов: центральное возвышение с храмом, кругом — лабиринт улиц и руин. Но этот храм — поздней поры. Полтораста веков назад буддисты, к сожалению, разорили макушку первоначального сооружения и воздвигли свое святилище в виде кольцевидной глинобитной стены, ниже которой на террасах расположились монашеские кельи. А исконная конструкция была квадратной и ступенчатой, нечто вроде террасированной пирамиды, приспособленной затем монахами для своих целей.
Ступая между кирпичными степами, кое-где поднимающимися на высоту второго этажа, мы невольно говорили вполголоса, как бы из уважения к святому месту. Мы не увидели ни величественных храмов, ни роскошных дворцов; все говорило об относительном социальном равенстве. Правда, самые крупные здания явно сосредоточились в центральной части, на террасах вокруг высокого святилища, увенчанного развалинами буддийского храма.
Проектировщики ясно представляли себе, каким хотят видеть город: от продолговатой возвышенности в центре расходились параллельные улицы, направленные с севера на юг и с востока на запад. Прямые и широкие, некоторые до десяти метров в ширину, они разделяли город на прямоугольные кварталы длиной около четырехсот, шириной двести-триста метров. Стены из обожженного кирпича были выложены искусными каменщиками. У большинства домов двери и редкие окна обращены в доступные только пешеходам узкие переулки, словно для того, чтобы избежать шума и пыли главных улиц, где, судя по местным произведениям искусства, влекомые парой волов, а то и слонами, катили повозки с грузом строительного материала и различных товаров. Меня особенно поразили свидетельства высоких требований к санитарии. Судя по отсутствию роскошных дворцов, здесь не было одержимого манией величия самодержца, находившего выход своему тщеславию в строительстве; тем не менее дома рядовых горожан были обеспечены совершенной канализацией, и улицы окаймлены крытыми плиткой водостоками с люками, которые позволяли работникам городских коммунальных служб очищать их. У одного такого люка археологи нашли кучу мусора, сохранившуюся до наших дней.
Город располагал водопроводом и большой общественной купальней, возможно предназначенной для очистительных обрядов. Превосходный бассейн длиной двенадцать, шириной семь и глубиной два с половиной метра обложен для водонепроницаемости двойной кирпичной стеной с 2,5-сантиметровой асфальтовой прослойкой, и цементирующим раствором для кирпичей тоже служит асфальт. Рядом с бассейном был выстроен колонный зал — очевидно, для ритуалов — и здание неизвестного назначения, с особо прочными стенами и глухим двориком.
Обилие археологических находок помогает оживить немые развалины. Обитатели города оставили утварь, украшения и изображения из долговечных материалов — от базальта и керамики до бронзы, золота и драгоценных камней. В ходе тщательных раскопок собиралось все, что устояло против разрушительного действия времени. Сюда относятся и красиво декорированные печати с надписями, подобные тем, что дошли до древних торговых партнеров в Двуречье и на островах Файлака и Бахрейн. Письмена пока не прочтены, однако выгравированные на печатях миниатюрные изображения богов, антропоморфных чудовищ и мифических сцен говорят о художественном стиле, о теократическом укладе и космологических представлениях, удивительно близких к тому, что было присуще миру шумеров и, в меньшей степени, древних египтян. Но особенно ярко повествуют о людях и быте той поры изумительно выполненные бронзовые и многочисленные керамические статуэтки. Вот женщина, стоя на коленях, мелет зерно на муку для хлеба... А вот украшенные драгоценными камнями бронзовые танцовщицы... Керамические композиции изображают погонщиков и запряженных в двухколесные повозки волов; в бронзе выполнены чудесные миниатюрные колесницы. Некоторые ритуальные фигурки — например, керамическая птица на двух колесиках — настолько похожи на аналогичные изделия других великих цивилизаций той же эпохи, что это сходство ставит в тупик даже специалистов.
Смотришь на такие фигурки и за различными предметами, найденными среди развалин, видишь живых, думающих людей. Тут и орудия труда крестьянина, и образцы выращенных им плодов, зерна, хлопка; замечательные бронзовые крючки рыбака; изящные бронзовые весы купца с набором кремневых разновесов и аккуратных печатей; керамические шедевры гончара, начиная от красочно расписанных ваз, кончая фигурными сосудами, изображающими птиц, животных, людей; ступы для растирки красок живописца; поделки ювелира — ожерелья, браслеты и иные украшения из золота и драгоценных камней; восхитительные изделия бронзовых дел мастеров, от статуэток до ручных зеркал, изготовленных литьем по выплавляемым моделям. Даже игрок представлен игральными костями, неотличимыми от современных, и клетчатыми досками с набором фигурок. А вот воины оставили мало следов своего пребывания в пределах городской черты; видимо, речь шла о невоинственном обществе, занятом сельским хозяйством и торговлей и уповающем на прочность внешней линии обороны, с крепостями в стратегических точках вдоль побережья.
Скелетные остатки из хараппских погребений не дают однозначного ответа на вопрос о происхождении Индской цивилизации. Ф. А. Хан считает, что в захоронениях представлены четыре физико-антропологических типа. По его мнению, в населении Хараппы преобладала средиземноморская раса — люди невысокого роста, с удлиненным черепом, узкой, выступающей спинкой носа и длинным лицом. Были и другие — длинноголовые, более рослые и плечистые. Третий тип — короткоголовые, четвертый — типичные монголоиды
[60].
Но сколько бы этнических групп ни участвовало в создании Индской цивилизации, остается загадкой: как ухитрились граждане Мохенджо-Даро и Хараппы так быстро и так далеко опередить в развитии своих современников? Может быть, раскопки Хараппы и Мохенджо-Даро вообще не дадут ответа на этот вопрос. Может быть, эти города были основаны выходцами из Амри или Кот-Диджи — двух других поселений в той же долине Инда, но ближе к морю, на месте которых ныне возвышаются холмы со следами жизнедеятельности древних общин. Мы посетили оба холма, но увидели только груды закопченного кирпича, черепки, осколки камня, кости и поддающиеся датировке угольки. Ученые надеются, что информация, которую можно извлечь из этих незатейливых остатков, даст им в руки важные ключи для разгадки происхождения Индской цивилизации. Обширные раскопки выявили здесь следы замечательной древней культуры, существовавшей примерно с 3000 по 2500 год до нашей эры, когда возникли Хараппа и Мохенджо-Даро. Примечательный факт, если речь идет не о случайном совпадении. Ведь получается, что формативный период Индской цивилизации пришелся на то же время, что возникновение шумерских и египетских династий. Не удивительно, что находятся простодушные умы, готовые принять гипотезу, будто в ту пору цивилизацию принесли на нашу Землю гости из космоса.
Широкие проспекты древнего Мохенджо-Даро, по которым нас водил наш гид Сани, были безлюдны и мрачны, голые развалины без кровли смотрели в небо зияющими пастями. Но мысленно мы заполняли улицы и переулки недавно виденными картинами. Впрочем, жизнь в Мохенджо-Даро, наверно, была еще ярче, еще интересней и содержательней, чем в Ормаре. Ничего не стоило представить себе беспокойную толпу на главных улицах, а в тенистых проулках — праздных горожан: одни сидят и мирно дремлют, другие заняты беседой или игрой. Мы словно слышали городской шум и обоняли запахи от горбатых быков, от сена и пряностей, наполняющие воздух между пропеченными солнцем стенами. Смуглые мужчины и женщины торопливо проходили мимо с ношами, с домашней живностью; грохочущие тележки везли пальмовые листья для кровель, хлопок для прядильщиков, снедь для продажи на базаре; рыбаки несли на голове корзины с рыбой, пекари — теплый хлеб, женщины — яйца, сласти, южные плоды; плакали младенцы, щебетали пичуги; звенела кувалда кузнеца; мычала скотина; юные сорванцы с криком и гамом носились по переулкам, тогда как их более степенные сверстники сидели в тенистых помещениях, слушая жреца, который обучал школяров до сих пор не расшифрованному нами письму.
Чтобы вполне оживить Мохенджо-Даро, большой город с широкими улицами и развитым хозяйством, надо было во сто крат умножить наши впечатления от Ормары. Ормара строилась не по плану. Каждый рыбак ставил лачугу для своей семьи на приглянувшемся ему месте. Подобно большинству селений такого рода, Ормара прошла путь естественного роста на протяжении столетий, без каких-либо существенных нововведений. Она не обзавелась канализацией.
Направляясь от окраин Мохенджо-Даро к лестницам среди домов вокруг центрального возвышения, мы из того, что раскопано здесь за полвека, знали, что видим, так сказать, пустую раковину общества, которое возглавлял священный властитель, полубог, как это было в Двуречье и в Египте. При нем строго ориентированные по солнцу улицы видели смешавшихся с толпой простолюдинов ученых мужей: жрецов, писцов, астрономов, зодчих, изобретателей. Элита здешней общины вместе с правителями расположенного в 800 километрах выше по реке столь же крупного и важного города Хараппы создала империю, чьи руины и памятники разбросаны по всей долине Инда. Ее территория простерлась на полторы тысячи километров с севера на юг по берегам реки и на три тысячи километров вдоль морского побережья, от скал Макрана до джунглей Южной Индии. Возможно, весь этот край был Мелуххой для шумеров. Нам он известен как область Индской, или Хараппской, цивилизации по бытующим ныне названиям мест, где найдены первые и пока наиболее значительные городища.
Раскопки выявляют поразительную однородность и неизменность культур Хараппы и Мохенджо-Даро за весь срок их существования, начиная от одновременного возникновения и кончая их гибелью тысячу лет спустя. Более того, в каких-то деталях строительства вместо прогресса отмечается явный упадок; некоторые исследователи объясняют его необходимостью быстрого восстановления после катастрофических наводнений.
Загадка Индской цивилизации заключается не столько в том, почему она погибла — все цивилизации сходили со сцены, только наша пока еще жива. Как она зародилась — вот в чем вопрос. Подобно шумерской и египетской культурам, современная им третья великая цивилизация не обнаруживает четких местных корней. Мы не видим их даже в Амри и Кот-Диджи. Можно подумать, что некая ветвь могущественной древней династии облюбовала себе в качестве новой обители плодородные берега большой судоходной реки. В Двуречье цивилизация тоже начинается с поселенцев, которые умели выплавлять бронзу из привозной меди и олова и оставили в царских погребениях четырехколесные повозки с упряжкой из трех быков, а также множество других предметов, свидетельствующих об уровне культуры, не превзойденном затем ни вавилонянами, ни ассирийцами.
При поиске родины первых изобретателей письменности и колеса бросается в глаза, что Индская цивилизация не только удивительно схожа с цивилизациями Двуречья и Египта, но и совпадает с ними во времени. Разница в одно-два столетия для столь важных вех на пути человечества представляется ничтожной теперь, когда приходится пересматривать старые понятия и измерять достижения человека масштабом миллионов лет. После того как рухнули господствовавшие догмы о давности существования нашего вида, лучше проявлять осторожность и не цепляться слепо за былые предположения о возрасте и распространении цивилизации. Мы слишком мало знаем, и новые открытия постоянно изменяют туманную картину. Точно известно, что основатели династий Египта и Шумера начали оставлять свои следы на речных берегах и изображать большие камышовые лодки предков как раз в ту пору, когда долину Инда заселила третья цивилизация, причем все три обосновались в долинах великих рек вокруг Аравийского полуострова.
Раскопки в долине Инда, подобно раскопкам в Двуречье и Египте, далеко не исчерпали запас сюрпризов для тех, кто по-прежнему ведет отсчет истории от Колумба или от древних греков и римлян. На первых порах, естественно, внимание привлекли внутренние области, где были найдены памятники Мохенджо-Даро и Хараппы, но со временем стало очевидно, что люди Индской культуры питали пристрастие к береговым районам. Американский геолог Л. Р. Рейке, реконструируя уровень моря и русла крупнейших рек во времена этой древней цивилизации, установил, что практически все ее поселения располагались на берегу моря или реки
[61]. В последнее время ученые проявляют возрастающий интерес к приморским городищам, поскольку выяснилось несомненное значение мореходства и морской торговли для древнейших обитателей долины Инда. Здесь одним из пионеров явился авторитетный индийский археолог Ш. Р. Рао, который раскопал многие индские поселения, постепенно продвигаясь к океану. Вот его слова:
«До недавних пор было принято считать Индскую цивилизацию сухопутной... Однако исследования последних лет позволили обнаружить следы хараппских портов, которые говорят о приморском характере Индской цивилизации и об оживленной морской торговле между народами долины Инда и шумерами на рубеже третьего-второго тысячелетий до нашей эры... Во втором тысячелетии до нашей эры все побережье Кача, Катхиявара и Южного Гуджарата на протяжении 1400 километров было усеяно хараппскими портами. Некоторые порты возникли еще в третьем тысячелетии... Из форпостов хараппской культуры внутри страны древнее всего Лотхал... Крупнейшее хараппское сооружение из обожженного кирпича — раскопанный на восточной окраине Лотхала док для причаливания судов и обработки грузов»
[62].
Этот древний порт с огромным кирпичным доком, пожалуй, самое многозначительное из открытий, связанных с Индской цивилизацией. Он построен около 2300 года до нашей эры и представляет собой обширную выемку, облицованную толстым слоем обожженного кирпича. Сохранились части этой кладки высотой 3,3 метра; ее подпирала пристань из глинобитного кирпича шириной от 13 до 20 метров. Вода подавалась через впускное отверстие, и уровень ее регулировался водосливом. Общая длина бассейна около 215 метров, ширина около 37 метров; он позволял шлюзовать суда длиной 18—20 и шириной 4—6 метров, то есть несколько больше «Тигриса». Указывая, что входные ворота шириной 12,21 метра могли одновременно пропускать по два корабля, Рао заключает:
«О высоком уровне строительного искусства, достигнутом людьми Лотхала, говорит остроумный способ, при помощи которого они регулировали поступление воды в док во время прилива и отлива. В отлив нужный уровень воды для судов в бассейне обеспечивали опуская затвор в вертикальных щелях в стенках водослива. Во время прилива избыток воды сбрасывали, поднимая затвор. Ни в одном другом порту начала или конца бронзового века не обнаружено искусственного дока с такого рода шлюзовым устройством. Да и в самой Индии гидростроительство после хараппского периода уже не прогрессировало».
Чем был Лотхал для Индской империи? Рао показывает, что с плодородных полей в глубине страны в его амбары доставлялись рис, хлопок, пшеница. Кроме того, здесь были мастерские, где изготовляли бусы, обрабатывали слоновую кость. Сердолик для бус привозили из внутренних областей; находки бивней и скелетных костей свидетельствуют о том, что слонов держали в самом Лот-хале. Рао пишет, что через Лотхал вывозились главным образом слоновая кость, бусы из сердолика и мыльного камня, раковинные инкрустации, возможно, хлопок и изделия из хлопка. Наличие столь крупного порта дает все основания отождествлять Индскую цивилизацию с Мелуххой, откуда в Двуречье прямо или через Бахрейн поступали сердоликовые бусы, слоновая кость и стеатит. Рао нашел также терракотовую голову «бородатого мужчины с шумерскими чертами», которую считает свидетельством связей с западом, а в доме купца на базарной улице Лотхала раскопал «восемь золотых подвесок, аналогичных тем, что обнаружены в царской гробнице в Уре». Все это, считает он, придает особый вес восемнадцати индским печатям, найденным в Уре, и тем, что обнаружены в Сусе, Кише, Тель-Асмаре, Хаме, Лагаше и Тепе-Гавра. Им найдена в Лотхале круглая стеатитовая печать, несколько отличная от индских и шумерских, зато почти тождественная печатям, раскопанным датчанами в дильмунском ярусе на Бахрейне. В посвященной этой «печати Персидского залива» статье Рао связывает ее с многочисленными индскими печатями и другими изделиями, появление которых в Двуречье, по его словам, можно объяснить только «процветающей торговлей с активным участием купцов из Индии и области Персидского залива. Употребление в разных областях печатей специфического вида говорит о наличии посредников, которые вели учет, оформляли контракты и пересылали опечатанный груз. Главными центрами были юг Двуречья, Персидский залив и западное побережье Индии от долины Инда до Камбейского залива»
[63].
В Лотхале раскопаны также грубо выполненные из терракоты маленькие модели судов, как килевых, так и плоскодонных. Вероятно, речь идет о талисманах или жертвоприношениях по обету; именно такую роль играли столь часто встречаемые при раскопках в Двуречье модели лодок из терракоты, асфальта, серебра. По символическим, очень приблизительным керамическим моделям нельзя судить о подлинных размерах и деталях конструкции мореходного торгового судна. Настоящие корабли строились не из глины, а из не столь долговечного плавучего материала, но
замечательные портовые сооружения и печать с далекого острова говорят о том, что лотхальские купцы явно располагали судами, пригодными для дальних плаваний.
Поскольку мы пришли в бывшую область Индской цивилизации на шумерского типа судне из
берди и по пути убедились, что связанные из жгутов лодки дожили до наших дней и в Дильмуне, и в Макане, наверно, нам больше, чем кому-либо из посещающих Мохенджо-Даро, было интересно, какими судами располагали индские мореплаватели. И, словно по заказу, один из жителей древнего города оставил печать, кусок долговечного камня, содержащий как раз то, что нам было нужно. Как ни мал этот предмет, он заполняет огромный пробел в мозаике, в которой мы пытались разобраться при помощи эксперимента с «Тигрисом». Я видел в крупнейших музеях Азии, Европы и Америки вещи, раскопанные в долине Инда, но самый большой сюрприз ожидал меня здесь, в маленькой экспозиции у подножия холма Мохенджо-Даро.
— Тут есть корабль!
Я с восхищением рассматривал каменную фигурку с глазами-раковинами, подобную месопотамским, когда Тору дернул меня за рукав и подвел к следующей витрине. Нагнувшись и плюща нос о стекло, я уставился на лежащий в ней экспонат. Маленькая желтоватая печать, прямоугольный кусок стеатита размером с мой большой палец. На ярлыке надпись: «Печать с плавучим домом». На гладкой плоскости стеатита и в самом деле выгравировано судно. Камень разломался пополам, но нашедший его человек тщательно склеил половинки вместе. В качестве символа для своей печати первоначальный владелец избрал корабль, мореходный
ма-гур с характерными серповидными обводами, позволяющими легко переваливать через океанские валы. Отчетливо показана типичная для камышового судна поперечная вязка, двойные рулевые весла на корме, рубка на палубе между двумя мачтами. Обе мачты явно двуногие; на одной из них хорошо видны перекладины вроде тех, которые мы скопировали с египетских изображений, когда строили «Ра» и «Тигрис».
Сомневаюсь, чтобы безыскусные царапины на кусочке камня когда-либо так волновали мореплавателей, как взволновала нас принадлежавшая торговцу или моряку реликвия, которая пролежала тысячи лет в мусорных кучах Мохенджо-Даро. Мы сгрудились вокруг витрины, и, надо думать, творцу этого изображения не приходило в голову, что каждая вырезанная им борозда будет изучаться с таким вниманием и жаром.
Значение этой находки задолго до нас оценил сделавший ее Эрнест Маккей. Вот что он писал в своем отчете:
«Изображенное на печати судно вырезано смело, но грубо, вероятно, треугольным штихелем. Автор печати явно не был опытным резчиком, именно поэтому она представляет особый интерес, так как мотив нестереотипный. Нос и корма судна резко загнуты вверх — черта, присущая почти всем архаическим изображениям судов; ту же конструкцию видим, например, на древних минойских печатях, на египетской керамике додинастического периода, на цилиндрических печатях Шумера, где суда такого рода были в обиходе вплоть до ассирийских времен»
[64].
Маккей верно определил, что параллельные борозды обозначают вязку судна, «сделанного из камыша наподобие примитивных лодок Египта и судов, которыми пользовались на болотах Южной Вавилонии». По его словам, на печати показан тип судна, распространенный в древнем Мохенджо-Даро, и, судя по вниманию к деталям, ее владелец, вероятно, был связан с мореходством.
Открытие Маккея не вызвало большого отголоска, и кроме печати он нашел только еще одно, гораздо более грубое, изображение судна, нацарапанное на керамическом черепке, хотя и здесь можно различить крутую дугу корпуса, двойную мачту с двумя реями и рулевое весло на корме. Так или иначе, ссылавшиеся впоследствии на публикацию Маккея исследователи единодушны в своем вердикте: «Судно на печати явно сделано из папируса»
[65] и «Изумительная печать... отголосок Древнего Египта»
[66]. Но можно ли утверждать, что древние жители Индской долины располагали папирусом? Папирус — африканское растение. Суда Древнего Египта и впрямь были связаны из папируса. В те времена он рос в изобилии вдоль всего Нила и был широко распространен в прилегающих африканских областях. Папирус произрастал и на Средиземноморском побережье Малой Азии, где отдельные участки его находили до наших дней; суда из бунтов изображены на стенах древних пещер в Израиле и на хеттских печатях из Газиантепа, и пророк Исайя говорит о папировых судах с посланцами из Египта. Судя по всему, папирус был некогда известен на острове Корфу, где местные рыбаки до недавних пор вязали лодки из камыша и называли их
папирелла. Он уцелел со времен древности на Сицилии; на близлежащей Сардинии папирус не сохранился, но камышовые лодки есть. Древние мореплаватели вывезли его за Гибралтар и посадили на Канарских островах, где впоследствии римляне с удивлением обнаружили заросли папируса на реках
[67]. Неизвестно, кто именно доставил корневища не такого уж простого для разведения пресноводного растения на далекие атлантические острова; мы знаем, однако, что здесь побывали азиатские выходцы — финикийцы. Недавно в районе их бывшего порта Кадис на испанском берегу за Гибралтаром на дне моря найдена чудесная финикийская ваза с изображением ладей из бунтов, но папируса в этих местах нет. В окрестностях древнего финикийского порта Ликс на атлантическом побережье берберы уже в наше время вязали лодки из осоки за неимением папируса. На Канарских островах папирус исчез давно, и когда португальцы в средние века, через два тысячелетия после финикийцев, заново открыли этот архипелаг, светловолосые островитяне-гуанчи вообще не умели строить никаких лодок, хотя делали для своих мумий гробы из досок, владели искусством черепной трепанации и другими сложными приемами, убедительно говорящими о былых контактах с мореплавателями из внутренних областей Средиземноморья. Наряду с осколками треногих финикийских ваз археологи обнаружили терракотовые печати, неотличимые по типу и орнаменту от некоторых месопотамских; эти находки выставлены в музее
Гран-Канария вместе с типичными мексиканскими терракотовыми печатями, чтобы подчеркнуть их поразительное сходство с изделиями, созданными по другую сторону Атлантического океана.
Несомненно, папирус играл важнейшую роль для древних мореплавателей, и, наверно, попытки сажать его корневища предпринимались с разным успехом в районах, где его нет в наше время.
В Ла-Венте на берегу Мексиканского залива на болотах вокруг древнейшей местной пирамиды обширные площади заняты растением, цветок и стебель которого неспециалист не отличит от цветка и стебля папируса. Ботаники сейчас исследуют его методом инбридинга, подозревая, что речь идет о потомке папируса Cyperus papyrus. Этот важный вопрос был недавно поднят на этноботаническом семинаре Дональдом Б. Лоуренсом, профессором кафедры ботаники Миннесотского университета. Лоуренс писал:
«Повторное открытие гигантской осоки (Cyperus papyrus) на побережье мексиканского штата Табаско, в знаменитом районе ольмекской культуры, родине «первой цивилизации Америки», и установленное сходство ее с папирусом побудило выступающего предположить возможное происхождение от упомянутого растения Старого Света, привоз в Новый Свет человеком в древние времена (три тысячи и более лет назад) и значение для формирования и развития культуры ольмеков»
[68].
Наука не располагает письменными данными о наличии папируса в Двуречье. Очевидно, первые
ма-гур были, как и наша, связаны из
берди. И поскольку мы благополучно дошли до Пакистана,
берди явно оправдал себя как материал для мореходных судов.
От окружающей ныне Мохенджо-Даро пустынной зоны не так уже далеко до зеленого пояса, в котором Инд неторопливо извивается на своем долгом пути к мангровым болотам и соленым водам океана. И мы, не теряя времени, спустились от маленького музея на краю развалин к реке.
— Камыш! Эй, да это же
берди! — Норман первым подоспел к заболоченному берегу и выдернул с корнем одно растение.
В самом деле,
берди! Типичное овальное сечение, образованное соединением серповидных в разрезе стеблей с губчатой сердцевиной в крупноячеистой глянцевой оболочке. То самое растение, из стеблей которого связан «Тигрис». Доставлено ли оно сюда человеком или самой природой — чисто ботаническая проблема. Мы видели огромные заросли. Где бы на индских равнинах нам ни встретился свободный влажный участок, там непременно рос
берди. Стало быть, он, а не папирус использовался людьми Индской цивилизации для строительства судов того же типа, что известен по Двуречью и Египту. Купцы, ходившие в древности между Уром и Индом, вполне могли отремонтировать, даже обновить свои суда, если задерживались в гостях так долго, что камыш утрачивал плавучесть.
Возвращаясь к ожидавшему нас в порту Карачи «Тигрису», мы знакомились по пути с миром, который производит неизгладимое впечатление смесью обычаев, разделенных промежутком в пять тысяч лет. Если в таких городах, как Карачи, внедрился реактивный век со всевозможными — были бы только деньги — электронными новинками, то, свернув с больших магистралей, путешественник может увидеть все этапы, пройденные жителями Индской долины в несколько длинных прыжков от бронзового века до современности. Вторгшиеся в эту страну арии явно не торопились уничтожать достижения Индской цивилизации на подвластной ей территории, и она оставила прочные благотворные следы. Мы увидели переселившиеся в область реки племена из Белуджистана — того самого края, чьи горы первыми предстали нашему взгляду, когда «Тигрис» приближался к Макрану. Увлекаемые парой волов дышловые повозки в их поселениях во всем были тождественны керамическим моделям из Мохенджо-Даро. Поскольку бывшие горцы никогда не посещали музей, они, очевидно, сохранили традицию, на которую не покусились арии. Мы видели деревянные колеса, украшенные такой дивной резьбой, что они вполне могли бы — скажем, в качестве люстр — украсить квартиру любителя красивой старины. Жилища белуджей, подобно некоторым постройкам Ормары, напоминали дома иракских болотных арабов, которые, в свою очередь, верны хорошо известному нам по шумерским печатям образцу. Зайдешь в дом белуджа и видишь картину, знакомую по керамическим моделям Мохенджо-Даро и Ура: женщина, сидя на полу, перемалывает зерно каменной ручной зернотеркой. Правда, глиняные горшки уступили место покупной жестяной посуде, в остальном же все имущество белуджей напоминало про Мохенджо-Даро. Скот — тот самый, что был впервые одомашнен основателями Индской цивилизации; хлопчатобумажные одежды сотканы на изобретенном ими станке, из волокон окультуренного ими же растения. Даже зерно, перетираемое на муку для хлеба, тоже представляло вид, впервые окультуренный древними благодетелями, о которых современные белуджи вряд ли слышали. Довольствуясь полученным наследством, они четыре тысячи лет ничем его не пополняли, пока не пришла пора воспринимать образ жизни двадцатого века.
Сидевший подле одной лачуги мужчина лепил из навоза аккуратные лепешки, чтобы просушить их на солнце и использовать как топливо. Я спросил, почему он и многие его соплеменники окрашивают свои волосы и пышные бороды в красный цвет. Нам ответили, что таков старинный обычай.
Вдоль всех ручьев и канав росли
берди и
кассаб, и мы видели, как оба растения заготавливают для строительства камышовых лачуг и для кровель глинобитных построек. Большинство деревенских домов и все городские были сложены из сырцового кирпича. В планировке старых городов прототипом явно послужил Мохенджо-Даро, вплоть до крытых плитами водостоков.
Производство сырцового кирпича старо, как сами цивилизации долины Инда, Двуречья, Египта. В тех местах, куда не дошли основатели этих культур, его распространили сменившие их арабы; это простой и остроумный выход для засушливых областей, где нет другого строительного материала.
На наших глазах деревенские жители в долине Инда изготовляли сырцовые блоки такой же величины и в таких же деревянных формах, какие я видел в Ираке и в Мексике. Дав подсохнуть замесу из глины, соломы и воды, они извлекали блоки из формы и досушивали на солнцепеке. Независимое изобретение столь нехитрой процедуры в странах, скажем, северного побережья Африки от Египта до Марокко никого бы не поразило, но удивительно, что сырцовыми блоками пользовались основатели мексиканской цивилизации на лесистом берегу по другую сторону Атлантики. Ольмеки, происхождение которых остается загадкой, сложили из сырцовых блоков ориентированную по солнцу храмовую пирамиду в Ла-Венте, в болотистых лесах приморья, где есть сколько угодно дерева и камыша. Сырцовые блоки применяли также доинкские народы Перу, когда воздвигали в приморье свои пирамиды в виде увенчанных храмом, астрономически ориентированных зиккуратов. Пирамида Серро Колорадо на севере Перу занимает площадь 4800 квадратных метров, и на сооружение этого древнего гиганта ушло около шести миллионов сырцовых блоков. Несмотря на полный контраст климата и природной среды, основоположники доколумбовых цивилизаций в лесах Мексики и в пустынях Перу строили из сырцового кирпича даже жилье, подобное домам Старого Света.
Глядя, как ослы и верблюды несут на базар индский хлопок, я опять же подумал о древних культурах Мексики и Перу. Насколько известно науке, культивация хлопка, дающего текстильное волокно, началась на равнинах Индской долины и оттуда распространилась в Египет. Между тем испанцы, придя в Мексику и Перу, увидели здесь обширные поля хлопчатника. Для науки поныне остается загадкой, каким образом ткацкий станок с вертикальным расположением основы и двойным навоем, которым пользовались инки ко времени прихода испанцев, оказался тождественным станкам Древнего Египта и Двуречья. Даже своеобразные керамические пряслица с орнаментом подчас совершенно одинаковы. Да и одежды из готовой ткани, по словам исследователей, были подчас «идентичны» по обе стороны Атлантики. Однако и это не все. В последнее время ботаники кое-что добавили к этим данным. Исследование хромосом показало, что окультуренный хлопчатник древних жителей Мексики и Перу отличается от диких американских видов, которые вообще не давали текстильного волокна. Хромосомы всех видов хлопчатника Старого Света намного крупнее хромосом диких видов Америки, но древние мексиканцы и перуанцы каким-то образом раздобыли хлопчатник Старого Света, скрестили его с дикорастущим местным хлопчатником и получили растение с текстильным волокном. Этот гибрид с двойным набором хромосом — единственный известный вид, сочетающий большие и малые хромосомы. И ботаники представляют специалистам по истории культуры выяснять, как мог неамериканский хлопчатник с тринадцатью большими хромосомами, подобный хлопчатнику, впервые окультуренному жителями долины Инда, попасть в руки основоположников цивилизации Мексики и Перу? Если семена были доставлены ветром или птицами, некий американский индеец должен был распознать их и посадить на своих полях до того, как они сами проросли, наперед загадав, что, окажись волокно длиннее, чем у дикого хлопчатника, можно будет изобрести пряслице для кручения пряжи и станок для изготовления ткани.
Мы посмеивались над лихорадочными усилиями многих представителей исторических наук сохранить пальму первенства в пересечении Атлантики за испанцами и норманнами — иначе говоря, за европейцами, достигшими Канарских островов лишь через две тысячи лет после финикийцев, которые прошли путь из Малой Азии до Атлантики в несколько этапов, исследуя и осваивая новые земли. Есть что-то от религиозного фанатизма в стремлении западного мира видеть Америку европейским творением, надежно огражденной океанами, пока цивилизованные первооткрыватели-христиане не проторили дорогу к заморским варварам. Надо бы нам освободиться от шор. Искусство мореплавания, умение писать, христианская религия, даже символ креста — всем этим багажом, доставленным нами в Новый Свет, мы в конечном счете обязаны Азии.
...Мы накопили бездну исторических сведений и свежих впечатлений, наши фотокамеры запечатлели великолепнейшую арабскую крепость, и ноги ныли от усталости, а Сани не терпелось показать нам еще какие-то мечети и прочие мусульманские дива. И вот мы входим босиком в помещение очередной святыни — мавзолей умершего в XIII веке Шабаза Куланды, который принес ислам в здешние края. Слушая дробь барабанов и вдыхая запах благовоний, мы следом за Сани протиснулись к священному гробу. Какой-то человек с неправдоподобно длинными руками, возвышаясь над толпой, принимал бумажные цветы у тех, кто не мог сам дотянуться до гроба. Кончилось тем, что длиннорукий стронулся с места и пошел, все так же возвышаясь над окружающими. Что за чудеса... Я нырнул в просвет за его спиной, чтобы проверить: может быть, он на ходулях? К моему удивлению, его штанины доставали почти до пола. Что же это выходит — под покровом длинного халата один человек сидит на плечах другого? Уместно ли так забавляться в мавзолее? Но тут я рассмотрел такие громадные ступни и кисти, каких еще никогда в жизни не видел. Да и голова необычайной величины, с огромными губами и глазищами. Казалось, в полумраке старинной гробницы расхаживает сказочный великан. Три раза обошел я следом за ним по кругу, прежде чем набрался духу пригласить его выйти с нами наружу. Здороваться с ним за руку было все равно что пожимать окорок. Пригнувшись, он вышел за ворота, и мы окружили великана, чтобы измерить его рост. Два метра сорок сантиметров без обуви! В долине Инда нам встречалось немало высокорослых людей, но этот всех превзошел.
Я тешил себя мыслью, что мы, если учесть краткость визита, не так уж мало успели повидать в Пакистане, пока мы не вернулись в Карачи и директор Национального музея Тасвир Хамиди не спросил меня:
— А в Хассан Вахан вы заезжали?
Нет, мы и не слыхали такого названия. А что эта такое?
Оказалось, что Хассан Вахан — деревня на берегу озера в бассейне Инда, недалеко от Мохенджо-Даро. Тамошние жители по сей день изготовляют керамику старинного типа и вообще недалеко ушли от прошлого в своем образе жизни. А на самом озере живут на деревянных лодках рыбаки, потомки древнего народа. Живут с семьями, со всем своим имуществом и, верные обычаю, никогда не выходят на сушу. Тасвир Хамиди сам разговаривал с одним столетним патриархом, который за всю свою жизнь пи разу не ступал на землю.
Меня подмывало снова поехать внутрь страны и посетить Хассан Вахан, но в невероятно загрязненной гавани нас ждал «Тигрис». Океан, а не озеро наша задача, пора возвращаться на борт, ставить парус и прощаться с Азией. К тому же дальнейший рассказ радушного пакистанского археолога заставил меня и вовсе позабыть об озерных жителях. Тасвир Хамиди не сомневался, что древние жители Индской долины поддерживали связи с Двуречьем, и показал мне музейные экспонаты, убедительно говорящие о контактах. Среди них был «гильгамешский» мотив на индской печати: знаменитый месопотамский герой стоит между двумя вздыбленными львами.
Гильгамеш.. Легендарный правитель Урука, который отправился в Дильмун, чтобы посетить родину своих предков. Предание о Гильгамеше дошло через Бахрейн до Инда.
В самом деле, сколько можно сомневаться? Правы те исследователи, которые отождествляют Мелухху с областью Инда. Больше ей негде быть. Дильмун, Макан и Мелухха связаны между собой. На нашем
ма-гур мы посетили все эти три страны. И были готовы выходить навстречу новым приключениям.
Глава X. От Азии до Африки: от Мелуххи до Пунта
Отбытие из Азии. Холодный северный ветер сочился через щели в тростниковой стене, когда я на рассвете проснулся, чтобы проверить, вся ли команда вернулась ночью на борт. Попутный ветер. И все люди на месте, возвратились из последнего на много дней увольнения на берег. На сколько именно, никто не знал.
Жизнь в гавани Карачи била ключом. Куда ни погляди — суда, и всю ночь между ними сновали лодки. Рано утром, приветствуя нас улыбками, мимо прошли пакистанские рыбаки на малых
дау. Наше судно явно поразило их. Вскоре затем на борт «Тигриса» поднялись представители портовых властей, чтобы оформить положенные бумаги.
— Следующий порт захода?
— Неизвестен.
— Мы должны что-то написать.
— Ладно, пишите Бомбей.
Семья эмигрантов из шахского Ирана, владельцы экспедиторского агентства «Ковасджи и сыновья», подошла с друзьями на небольшой яхте и подала нам буксир. У нас было условлено, что они выведут нас из гавани. Стоило «Тигрису» тронуться с места, как из двух выемок в днище пахнуло тухлыми яйцами. То же самое было, когда мы выходили из Маската. Вода современных гаваней страшно загрязнена. Мы опасались за веревки и камыш. Было похоже, что наружный слой
берди местами загнивает. К счастью, мы уже знали по опыту, что зловоние исчезнет, как только соленые океанские волны отмоют камыш.
У входа в гавань мы насчитали на рейде тридцать восемь судов. Среди них был и «Язон». На мостике стоял капитан Хансен. Взяв электромегафон, он пожелал нам счастливого плавания и сообщил, что только вчера вернулся с очередного задания в болотистом мангровом лабиринте дельты Инда. «Язон» ходил снимать с мели греческий пароход, но до прибытия спасателей пираты успели начисто ограбить злополучное судно.
Выйдя за внешний рейд, мы подняли паруса. Наши добровольные помощники выбрали буксир и вернулись в гавань. Напоследок бородатый шкипер яхты крикнул, что готов заплатить хорошую цену за «Тигрис», когда он освободится. Дескать, только дайте телеграмму, где и когда финишируете, и будет прислан корабль — из камышовой ладьи выйдет отменный аттракцион.
Большой город скрылся в пелене густого смога. В послевоенные годы население Карачи возросло с семисот тысяч до пяти миллионов с гаком. Далеко в море простерлась нефтяная пленка. В ней барахтались два дельфина. Крохотная мышка выглянула между бунтами и снова юркнула в укрытие. Наверно, та самая, что сопровождала нас еще от Садов Эдема.
Мачты кораблей все еще торчали на горизонте, словно макушки затонувшего леса, когда пропал северный ветер. И сразу же возникли проблемы с управлением. Подул слабый, неровный ветер от юга. Нос ладьи развернулся обратно, в сторону Карачи. Пришлось браться за гребные весла. Но мы уже научились не отступать перед натиском ветра. Солнце склонилось к закату, а лес мачт по-прежнему был виден вдалеке, теперь уже на западе. Приливное течение увлекло нас на восток, к дельте Инда. С приходом ночи стали видны огни кораблей на рейде и зарево над Карачи. Мы отдали плавучий якорь, хоть и не ждали от того большого проку. Кто-то обратил внимание на то, что за время стоянки в Пакистане корма и нос несколько осели. Карло подтянул все штаги, поправил веревки, крепящие рубки к палубе, и гибкое камышовое судно тотчас обрело прежний гордый вид.
Команда была в отличном настроении, хотя большинству нездоровилось. Оба забортных гальюна были постоянно заняты; хуже всех досталось Асбьёрну и Норрису. Меня вдруг прихватили почки, а у Нормана, хотя он регулярно глотал таблетки, опять началась загадочная лихорадка, и Юрий заподозрил малярию. Правда, Норман старался не поддаваться приступам, и этот диагноз так и остался предположительным, пока уже после экспедиции лабораторный анализ не подтвердил, что у него малярия.
Тем не менее ребята шутили и смеялись; заход в Ормару и экскурсия в Мохенджо-Даро всех взбодрили. А впереди нас ждали неизвестные приключения. Скорее бы выйти на океанский простор, подальше от земли, которую мы считали виноватой в наших временных недомоганиях. Вряд ли я запомнил бы, что с нами в океан последовало несколько комаров, не останься один из них, словно прессованный цветок, в четвертой книге моего дневника, на странице, повествующей о нашем отбытии из Азии.
Ночью снова подул попутный северный ветер. Огни пароходов и суши канули в море. Могучие волны говорили о действия сильного течения. Вскоре над океаном пахнуло зеленой листвой, словно мы подошли к джунглям. Где-то за горизонтом слева простирались кишащие насекомыми дебри в дельте Инда. Медленно отступал каверзный район, не дающий скучать спасателям на «Язоне». Нам не терпелось уйти от него совсем, по дельта была достаточно велика, чтобы незримо сопровождать нас день-другой, по меньшей мере. Пока что мы думали только о том, чтобы править в океан, оставляя за кормой все берега. На северо-восточный муссон не приходилось рассчитывать. Мы уже знали, что он бастует второй год подряд. А еще портовые власти Карачи сообщили, что в этой области самая коварная, чреватая штормами погода выпадает на конец января и первую половину февраля. Нам предстояло проверить, так ли это: мы вышли из гавани 7 февраля.
На второй день северный ветер прибавил, и шипящие волны понесли нас в нужную сторону, прочь от Восточного Пакистана и северо-западных берегов Индии.
Еще через день пришлось убрать топсель, потому что ветер приблизился к штормовому. Потом лопнул грот, и мы укрепили два гребных весла в помощь рулевым, чтобы лучше выдерживать курс. Снова к ладье стали подходить акулы.
Десятого февраля наступило затишье перед бурей. Дул слабый восточный ветер. Мы починили грот и стали обсуждать, куда теперь править. При таком направлении ветра риск быть выброшенными на берег Индии заметно уменьшился.
Всем не терпелось послать родным успокоительные радиограммы. Работая на передатчике, выданном консорциумом, Норман никак не мог добиться толку, но любительская рация позволила ему связаться с коллегами в ФРГ и США. Велико было наше удивление, когда мы узнали от них, что ходит слух, будто мы решили после Карачи идти на восток, пересечь Тихий океан и таким путем достигнуть Америки! Черт знает что! Вздор какой-то! Как раз этот вариант был совершенно неосуществим. До Дальнего Востока мы, пожалуй, еще добрались бы, но пересечь Тихий океан маршрутом, обратным пути «Кон-Тики», было невозможно. Сколько ни было таких попыток, все кончались неудачей, зато плывшие по следам «Кон-Тики» неизменно добивались успеха, а кое-кто дошел даже до Австралии
[69].
Я всегда подчеркивал, что примитивные суда тоже мореходны, но и камышовой ладье не под силу то, чего не смогли свершить испанские каравеллы. Не может судно старинного типа пробиться вдоль экватора на восток в тропическую Америку. Тихий океан занимает половину поверхности нашей планеты, и в этом гладком полушарии океанские течения и пассаты строго подчинены вращению Земли. Вдоль всего тропического пояса вода и воздух, непрерывно двигаясь от Перу и Мексики в сторону Индонезии и китайских морей, служили неодолимым препятствием для аборигенных мореплавателей. Путь в Америку для них пролегал в субантарктических широтах, и только со стороны Америки могли они проникнуть в центральную часть Тихого океана. Конечным пунктом для мореплавателя, вышедшего из долины Инда на восток, был Китай. Любая наша попытка пройти на примитивном судне из Азии через островное царство в центре Тихого океана была бы обречена на неудачу, как это было с испанскими и португальскими каравеллами, а также с современными копиями старинных джонок, когда они пытались следовать из Китая на восток.
Пробиваясь на юг при неустойчивых восточных ветрах, мы еще долго возмущались ложными сообщениями о нашем дальнейшем маршруте. И ведь не в первый раз средства массовой информации распространяли небылицы о нашем плавании. Возможно, это объяснялось тем, что базирующийся в Лондоне телевизионный консорциум, которому принадлежали исключительные права на публикацию новостей с «Тигриса», не очень-то преуспевал в обработке того, что мы пытались передать по врученной нам рации; в то же время Норману было строго-настрого запрещено сообщать что-либо слушающим нас любителям. Когда мы благополучно высадились на берегу Ормарской бухты, средства информации объявили, что «Тигрис» потерпел крушение. Западногерманские газеты напечатали ужасающую новость, будто японского члена команды сожрала акула, а потому руководитель экспедиции вынужден прекратить эксперимент.
Чтобы разобраться в путанице на суше и умерить растущее негодование одиннадцати членов экспедиции, консорциум отрядил своего миротворца. Из Лондона в Карачи прилетел Питер Кларк, славный малый, которого никак нельзя было винить во всем этом сумбуре. До того мы видели его лишь несколько минут в Ираке, когда проходили через Басру и он явился на борт «Тигриса», чтобы пожелать нам доброго пути. На этот раз он прибыл перед самым нашим отплытием из Карачи. Ему поручили заверить нас, что отныне все сообщения о нашем плавании будут точны. Выразив свое восхищение тем, что «Тигрис» такой же целый и невредимый, каким он его видел на Шатт-эль-Арабе, Питер Кларк попрощался и вылетел обратно в Лондон с утешительным отчетом. А три дня спустя, в тот самый день, когда мы услышали дурацкое известие, будто «Тигрис» пойдет маршрутом, противоположным пути «Кон-Тики», через Бахрейнское радио поступил тревожный запрос другого отдела все того же лондонского консорциума: «Почему у «Тигриса» отвалилась корма?»
Чушь какая-то! Мы попросили Нормана выключить рацию. Если два отдела на берегу не могут сговориться через коридор, мы и подавно бессильны что-либо сделать через океан.
В тот день исполнилось три месяца, как «Тигрис» лег на воду. Веретенообразные бунты-близнецы погрузились всего наполовину, и высота надводного борта была больше, чем на «Ра II» после трех недель плавания. Мы уже не опасались, что ладья вдруг начнет быстро терять плавучесть. Никто из ребят не запросил смены в Пакистане, хотя им был обеспечен бесплатный билет домой и мы выходили из Азии к неведомой цели. Команда знала, что в любую минуту на нас может обрушиться шторм, а то и циклон, но никто не боялся, что ветер или волны разрушат камышовый корпус. Только стальной пароход или приморские скалы смогли бы распороть тугие пружинистые бунты.
Появился туман. За день несколько раз нас накрывал дождь; кругом громоздились все новые тучи. Было тепло и душно. Я записал в дневнике:
«В полдень передвинули стрелки часов еще на час назад. Лежа на матрасе, вижу через дверные проемы распаханный валами океан по обе стороны ладьи. При боковой качке волны ныряют под днище с одной стороны, чтобы тут же вырасти выше рубки с другой, и наоборот. Не припомню такой сильной качки на «Ра I» и «Ра II», но ведь тогда мы шли вместе со стихиями, а по наперекор им! Теперь мы правим к определенной цели или в обход опасных берегов и пароходных магистралей.
Куда мы пойдем на этот раз? Никто не знает. Мадагаскар, Красное море или любая точка африканского побережья между ними всего вероятнее и заманчивее».
Мы собрались вокруг большого стола, чтобы обсудить дальнейший маршрут. Норман, только что дочитавший книгу об одном яхтсмене, который, не скупясь на эпитеты, расписывал ужасы Красного моря, ратовал за то, чтобы идти на Сейшелы — современный островной рай, если верить книгам. Юрий уговаривал нас плыть прямиком до Кении; ему очень хотелось посетить замечательные кенийские заповедники. Карло был за Красное море: если древние египтяне в самом деле общались с народами Индской долины и Двуречья, их водные пути должны были смыкаться. Все мы видели в Багдадском музее целый зал, наполненный изумительными египетскими поделками из слоновой кости, раскопанными в Ираке. А Герман очень уж увлекательно рассказывал о волшебном подводном мире Красного моря. Других конкретных пожеланий не было, наши новички просто-напросто наслаждались жизнью на борту камышовой ладьи и радовались простирающейся впереди безбрежной сини. Решать надо было мне.
Экспедиция сложилась не совсем так, как я предполагал. Поначалу мне представлялось главным проверить плавучесть шумерского
ма-гур из заготовленного в надлежащее время года
берди. Никакого четкого маршрута я не замышлял. Будет держаться на воде — пересечем с муссоном Индийский океан; сохранит плавучесть и дальше — можно спуститься на юг вдоль берегов Африки, даже еще раз пройти через Атлантику до тропической Америки. Заключительный этап от Южной Африки был бы самым легким: всю дорогу попутный ветер и течение, как это было во время дрейфов на обеих «Ра». На самом же деле мы прошли по торговым путям шумерских купцов. Осмотр древних памятников Бахрейна, Омана и Пакистана отнял столько времени, что мои финансы были на исходе. И проверка «Тигриса» на плавучесть уже показала, что камышовой ладье не страшны никакие расстояния. Принципиальная возможность совершать дальние переходы через океан была доказана в предыдущих экспедициях; править к определенной цели оказалось куда посложнее. Пока что мы курсировали между легендарными Дильмуном, Маканом и Мелуххой, которые посещались шумерскими купцами-мореплавателями. По другую сторону Индийского океана находился «рог Африки», Сомали, где ученые помещают мифическую страну египетских путешественников — Пунт. Если сумеем дойти до тех берегов, кольцо будет замкнуто. Мы свяжем три великих цивилизации Старого Света на судне той самой конструкции, которой пользовались они. В предыдущих экспедициях мы соединили Африку с Новым Светом на папирусной ладье; еще раньше было доказано, что Новый Свет мог сообщаться с центром Тихого океана, причем ближайшей сушей на этом пути был остров Пасхи с его каменными изваяниями и образцами нерасшифрованной письменности, весьма похожей, по мнению некоторых исследователей, на письменность Индской долины. Хотя остров Пасхи и долина Инда антиподы, разделяющее их расстояние было вполне преодолимо для древних судов, догоняющих солнце при помощи направленных в ту же сторону быстрых и удобных природных эскалаторов — ветров и течений. И разве для строителей пирамид, которые поклонялись солнцу и изучали его священные трассы, не естественно было стремиться на запад вслед за своим богом и прародителем!
Совещание за длинным столом прервалось, когда мелькавшие поодаль молнии внезапно с грохотом раскололи черные тучи над нашей мачтой. Ветер сместился от оста к зюйду и подул сильнее. Мы находились за пределами пароходных магистралей, за весь день видели только одну парусную
дау из Индии. Свободные от рулевой вахты предпочли забраться в рубки и опустить брезенты, защищающие тростник. Распоротые молниями низкие тучи протекли, словно бурдюки из козьих шкур, и снова на окутанный кромешным мраком «Тигрис» обрушились каскады чистой питьевой воды. Хорошо было знать, что в эту непогоду никто не посягнет на наше одиночество. В рубке было слышно все, что кричали друг другу двое вахтенных. Но ребята на мостике, оглушенные ревом ветра и волн, совсем не слышали нас, хотя я запросто мог просунуть палец в щели между стеблями и пощупать спущенный сверху тонкий брезент.
Так началась ночь, описанная мной в первой главе. Ночь, когда я спрашивал сам себя: стал бы я выходить в плавание, если бы знал наперед, что нас ожидает? Так начался свирепый шторм, который пронесся над Индийским океаном и дошел до восточной части шумерского залива, вызвав неистовые песчаные бури в Дубаи и Абу-Даби. Ладью бросало через водяные горы, как игрушечный кораблик, и те из нас, кто еще ухитрялся спать, были разбужены криком:
— Все наверх!
Кричал Норман, и даже сквозь гул стихий была слышна тревога в его голосе.
В тусклом свете качающихся фонарей зыбились и курились пеной и брызгами маленькие вулканчики сталкивающихся гребней волн. Когда сломалась толстая стеньга и половина грота стала волочиться по морю, словно наполненный водой парашют, мы испугались, как бы это не кончилось бедой: груз, равный весу небольшого кита, грозил лишить нас такелажа, и дрейфуй тогда на тяжелой плоскодонке с одними лишь гребными веслами в роли движителей. Двойная мачта вполне могла оборвать найтовы, крепящие ее к бунтам; хорошо еще, говорили мы себе, что наш камышовый катамаран достаточно широк и устойчив — вверх дном не опрокинется. В самом деле, солидный вес бунта не позволит поднять его на воздух, а плавучесть не даст волнам притопить его. Команды с мостика не доходили до ушей ребят, но каждый и без того старался вовсю, и общими усилиями нам удалось освободить парус от воды и втащить его на борт. Нептун остался без добычи.
Шторм бушевал всю ночь. Ветер выл и свистел в голых снастях, давил на закрытые брезентом рулки. Подобно Ною, мы забились в свои убежища, ожидая, когда уймется непогода. Вахтенные покинули мостик, прочно привязав рулевые весла. Нам оставалось только отсиживаться в рубках. Приятно было сознавать, что под нами сплошные бунты, а не хрупкий дощатый корпус. Не надо опасаться течи, не придется откачивать воду. Правда, при убранном парусе элегантно изогнутая корма не защищала нас — неуправляемое суденышко разворачивалось боком к ветру, и многотонные массы воды обрушивались на палубу, захлестывая лавки. Но уже через мгновение пенные каскады вокруг рубок исчезали, просачиваясь сквозь камышовое сито, и ладья, влажно поблескивая в свете фонарей и переливаясь алмазными искорками прилипшего к связкам планктона, снова поднималась на гребне, будто всплывающая подводная лодка. Немудрено, что именно эта самооткачивающаяся конструкция первой позволила древним судостроителям спокойно выходить в море и проторила путь для создания более сложных и изощренных плавучих средств.
К утру шторм унялся, подуло от ост-зюйд-оста. Но изредка налетали дождевые шквалы, и теплый ветер снова принес явственный запах джунглей. Скрытая далеко за горизонтом Индия щекотала ноздри пряным благоуханием тропического дождевого леса. Что еще удивительнее: вместе с ветром через море к нам прилетела туча насекомых. Жуки, муравьи, несколько крупных бабочек, стрекоза и довольно крупные пауки присоединились к нашим давним спутникам — кузнечикам, которых заставил на время примолкнуть шторм. За ночь к ладье примкнули семь акул, и они явно не собирались уходить. Без паруса нас и после шторма трепала жуткая бортовая качка. Я засек время: каждые две с половиной секунды ладья содрогалась от мощного удара, как будто нас грубо сталкивали в глубокую канаву. На фоне серого утреннего неба голая мачта с перекладинами смахивала на скелет. Когда пришла пора завтракать, нам стоило великого труда усидеть на лавках за столом. Спасибо мышке — самим нам вряд ли удалось бы очистить тысячи стеблей
берди под нами от всего, что падало и проливалось со стола. Размножившиеся и подросшие крабы-безбилетники тоже помогали содержать ладью в чистоте, орудуя клешнями, словно зубочистками.
Мы еще не избавились до конца от подхваченных на суше бактерий. Поливаемые дождем и волнами, продрогшие на ветру, четыре члена команды основательно простудились. Юрий нашел у них повышенную температуру и прописал постельный режим.
Подняв грот до основания сломанной стеньги, мы ухитрялись идти довольно устойчивым южным курсом, хотя северо-восточный муссон упорно продолжал бастовать. Ветер кочевал от ост-зюйд-оста до зюйд-веста, так что приходилось уваливаться и поворачивать кругом, чтобы наполнить парус и снова выходить на нужный курс. Ладья подчинялась нам. Будь у нас больше шверцов, дело пошло бы еще лучше, но и без того наше плавание никак нельзя было назвать дрейфом. Мы не отступали перед встречными ветрами, и нам удавалось даже идти курсом бейдевинд, принимая ветер под углом до 80°, по наблюдениям Нормана. В качестве шверцов приторачивали к бортовым связкам широкие доски и гребные весла; в проемы между бунтами на носу и на корме опускали
гуары. Любое усиление килевого эффекта, создаваемого рулевыми веслами и продольной ложбиной между бунтами, помогало умерять ветровой снос. Маневрирование
гуарами на носу и на корне тотчас отражалось на курсе. Но если на южноамериканских бальсовых плотах и, возможно, камышовых лодках такие доски играли важнейшую роль, то наша ладья достаточно хорошо слушалась рулевых весел, а шверцы и
гуары примерно одинаково влияли на курс.
Первые четыре дня после шторма Норман и Эйч Пи почти не слезали с верхушки двуногой мачты. Непросто было, качаясь наверху, выковыривать долотом нижний конец сломанной стеньги, которая была глубоко врезана в деревянный брусок, соединяющий мачтовые колена. Толстенная стеньга из твердой древесины переломилась поперек и расщепилась так, что обломки уже ни на что не годились. По совету Карло Асбьёрн аккуратно обтесал одно из ясеневых гребных весел. Новая стеньга сразу позволила нам побыстрее идти южным курсом в непрерывной борьбе с переменными ветрами.
Больные скоро оправились от простуды, и настроение у ребят было лучше, чем когда-либо. Все хотели плыть до тех пор, пока ладья держится на воде.
На второй день после шторма небо совсем расчистилось и море присмирело. Когда мы вставали из-за обеденного стола, высокорослый Норрис удивленно воскликнул:
— Смотрите! Что это такое?
Справа по носу мелкие волны вдоль голубого горизонта отливали кровью. Мы забрались на мачту. Цветная полоса узкой рекой пересекала море, сколько хватало глаз. Асбьёрн и Эйч Пи накачали воздухом резиновую шлюпку и пошли проверять, что там ожидает наши камышовые бунты.
Вернувшись, разведчики доложили, что необычная жидкость по густоте приближается к краске, но на химический продукт не похожа. Некоторое время мы шли вдоль оранжево-красной полосы, потом решились пересечь ее. Даже в рубках был слышен странный запах, отдающий рыбой. В ширину полоса не превышала двух саженей, зато в длину протянулась по прямой от горизонта до горизонта, в направлении от норд-норд-веста на зюйд-зюйд-ост. Мы пересекли ее несколько раз, однако так и не смогли определить, что же это такое. Мне приходилось наблюдать в районе Рима подобный «красный прилив» водорослей, вызванный загрязнением прибрежных вод. Но здесь до берега было далеко. И как только умудрялась эта полоса не расплываться в океане, уподобляясь красной ковровой дорожке длиной в много миль? Мы следовали вдоль нее всю вторую половину дня, не видя ни начала, ни конца. Кое-где небольшие пятна краснели рядом с дорожкой, в целом же она смотрелась как пересекающая синюю морскую гладь, четко оконтуренная золотисто-красная река. Зачерпни эту жижу стаканом — любой мог бы принять ее за густой апельсиновый сок, если бы не рыбный запах.
Присмотревшись, мы обнаружили, что сама полоса и море по бокам на всю видимую глубину изобилуют почти
незримыми крохотными волоконцами и пушинками, как от размокшего хлопка. Попадались также комочки мазута, но не чаще того, что мы уже привыкли наблюдать, да и величиной они не шли ни в какое сравнение с большими черными мячиками, которые мы вылавливали посреди Атлантики. В красной жиже плавали в большом количестве короткие слизистые лепты зеленовато-серой икры, мелькали отдельные перышки, и было очень много маленьких мертвых кишечнополостных — совсем как в сильно загрязненных нефтью поясах, пересеченных нами на «Ра».
Было похоже, что эта красная полоса — творение не одной только природы. Время от времени море у берегов Северного Перу окрашивается в красный цвет; там это зловещее явление обусловлено массовым мором рыбы и морской птицы, а мор вызывается тем, что теплое течение Эль-Ниньо у берегов Эквадора в отдельные годы, проникая необычно далеко на юг, вторгается в область биотопа, приспособленного к богатому кислородом, относительно холодному течению Гумбольдта. Но по соседству с красной полосой, которую мы встретили в Индийском океане, не было никакого температурного перепада.
Вечером мы ушли от загадочной дорожки и больше ее не видели. Напоследок к «Тигрису» стремительно приблизилась здоровенная — вдвое длиннее любого из нас — молот-рыба. Метнулась ракетой к плывущему за кормой спасбую, не сбавляя скорости, описала несколько зигзагов вокруг ладьи и умчалась прочь вдоль красной полосы, рассекая воду спинным плавником.
Полыхающие молниями грозовые облака еще два дня ходили вдоль горизонта, преимущественно в сторону Индии. А с началом второй половины февраля все штормовые тучи исчезли, как и предсказывали портовые власти Карачи. Но муссон по-прежнему блистал своим отсутствием. Мы плыли навстречу образованной небом и морем сфере в голубом мире, где всякая суша крылась глубоко под водой. И день за днем ни кораблей, ни самолетов. Мы были в этом мире единственными людьми, но не единственными живыми существами.
Нам не встретилось ни одно рыболовное судно — принято считать, что в здешних водах нечего ловить, и некоторые океанографы называют их морской пустыней. Возможно, это так и есть. Но если мы шли по морской пустыне, то наш камышовый корабль был поистине плавучим оазисом. Заплывшие в эти края скитальцы, видимо, примечали тень, которую отбрасывала ладья, скользившая беззвучно, как облако, над просвеченной солнцем голубой толщей. С каждым днем наш плавучий эскорт возрастал, появлялись все новые виды морской фауны, к ним примыкали родичи, и безжизненные поначалу воды наполнились живностью до такой степени, словно «Тигрис» попал на рыбоводный пруд.
Не только нашим подводным спутникам, но и нам самим, когда мы ныряли под днище ладьи, «Тигрис» представлялся плавучим островком, своего рода опрокинутым зеленым лугом. Широкая, грузная, уютная, сплошь из растительного материала, без всяких там винтов, с удобной ложбинкой взамен обычного для судов острого киля, помавая весенней зеленью водорослей, наша ладья шла со скоростью, которая устраивала даже самых ленивых обитателей моря. Маленькие крабики свободно цеплялись за стебли
берди, чувствуя себя среди прядей морской травы так же уютно, как блохи в бороде Нептуна. Нельзя придумать травы зеленее, сочнее и приятнее для глаза, чем нестриженый газон на днище «Тигриса», где, словно грибы, росли морские уточки, а крабики и мальки сновали, будто жуки и кузнечики. Немудрено, что единственный на много голубых километров плавучий сад привлекал всяческих бездомных скитальцев. Да и мы готовы были сколько угодно любоваться подводным царством, свесив голову через борт или плывя на буксире около кишащих живностью желтых стеблей. Со времени выхода из Омана белые морские уточки подросли, сравнявшись в обхвате с голубиным яйцом. Стоят на длинном черном стебельке и ритмично взмахивают ветвистыми ножками, точно желтыми крылышками, загоняя в домик богатую кислородом воду и корм. Степенное движение ладьи позволяло нам созерцать непрерывный спектакль: будто колонны миниатюрных знаменосцев шествовали через море, окруженные морскими желудями, белеющими среди зелени наподобие миниатюрных палаток, между которыми патрулировали одетые в броню крабы с ноготь величиной, а приметят спускающуюся с неба гигантскую голову человека, тотчас юркнут в щели между стеблями. Кое-где словно пучки золотой проволоки сверкали в солнечных лучах. На самом деле это были черви; они все время пребывали в спутанном состоянии, становясь все толще и толще, и никакого движения не приметишь. Но главная диковина — аплизии, они же морские зайцы. В прежних плаваниях мы с ними совсем не встречались, теперь же сразу два вида неторопливо паслись на наших подводных лугах. Один поменьше, величиной с большой палец, желтый, как банан; второй подлиннее и потучнее, зеленовато-бурой окраски. Если не считать двух пар придатков на голове, напоминающих заячьи уши, у этих брюхоногих моллюсков не было ничего, что оправдывало бы родовое наименование. Неуклюжие, медлительные, тупомордые, с бугорчатой кожей на бесформенном теле, они скорее смахивали на мини-бегемотов, когда ползли вверх по бунтам, а оказавшись выше ватерлинии, вертели головой, соображая, куда двигаться дальше. Спугнешь — съеживаются и прячутся в раковину, уподобляясь финику.
За исключением крабов, никто из наших подводных пассажиров не решался выходить за пределы влажной зоны. Возможно, крабиков заманили на палубу летучие рыбы. Мы находили не всех рыбок, залетавших ночью на борт ладьи, но крабы безошибочно выслеживали не замеченную нами добычу среди бунтов и груза. Примостившись на горе еды, двурукие и восьминогие шельмецы очищали от чешуи подходящий участок и принимались жадно уписывать даровое угощение.
Наш морской огород был утехой не только для глаз. Набрав котелок крупных морских уточек, Детлеф варил их с чесноком, иракскими специями и сушеными овощами; лучшей ухи мы в жизни не ели, особенно если добавить в нее летучей рыбы.
Эта рыба — благо для всякого, кто идет на плоту в теплых водах. По вкусу она не уступает отборной сельди, а как наживка превосходит самые дорогие искусственные приспособления. Разновидность, встреченная нами в Индийском океане, была не из крупных — всего около восемнадцати сантиметров в длину, и если мы утром подбирали две-три такие рыбки, этого было маловато на завтрак для одиннадцати мужчин. Зато, наживив крючок одной рыбкой, можно было тотчас выловить метровую корифену, которой вполне хватало на обед всей команде. А когда мы посвятили самого страстного рыболова на борту, Асбьёрна, в древнейший секрет — как приманивать летучих рыб, он стал на ночь зажигать все наши керосиновые фонари и выставлять их вдоль рубок. Рыбки градом сыпались на палубу. Идя на юг, мы по утрам собирали все более богатый урожай. Во время ужина летучие рыбки иной раз проносились над столом, награждая нас тумаками и приземляясь в мисках и котелках. Тростник и брезент пестрели метинами из серебристой чешуи. Не раз и не два мы просыпались ночью оттого, что холодная рыба шлепалась прямо в постель к нам и принималась отчаянно бить длинными грудными плавниками, но снова взлететь не могла, потому что стартовую скорость этим летунам придает энергичное движение хвоста в воде. Я спал у дверного проема, и меня чаще других будило холодное прикосновение рыбы, протискивающейся в спальный мешок. Помню случай, когда лежавший рядом Карло сел и со смехом глядел, как я тщетно пытаюсь найти ночного гостя, устроившего пляски на моей постели. Утром Карло обнаружил его мертвым в своем спальном мешке.
В иные дни кок выдавал на завтрак каждому по три жареных летучих рыбки. После того как очередной утренний сбор дал сорок штук, мы бросили считать, принимая летучие дары моря как нечто само собой разумеющееся. Детлеф, большой любитель историй Мюнхгаузена, назвал окружающие нас воды Морем Ленивцев.
Первой на крючок с летучей рыбой всегда бросалась корифена — неутомимая охотница и верный спутник плотов в теплых водах. Корифена, она же золотая макрель, она же махимахи, была мне знакома по прежним экспедициям, особенно в Тихом океане. Когда мы выходили из Пакистана, наш эскорт насчитывал всего две-три корифены.
На удочку они не шли, и только Асбьёрн и Детлеф ухитрялись бить их острогой. Но с того дня, как мы стали наживлять крючки летучей рыбой, обед нам был обеспечен, и сколько бы корифен мы ни вылавливали, на другой день их было еще больше.
Шестнадцатого февраля я записал, что никогда еще не видел в море столько рыбы. Восемнадцатого февраля Герман и Тору нырнули под днище «Тигриса», чтобы поснимать присоединившихся к нам различных рыб, и насчитали двадцать корифен. К вечеру следующего дня их было уже свыше тридцати. В свете фонариков мы легко отличали корифен от других рыб. Мы продолжали заниматься рыбной ловлей, и я снова и снова писал в дневнике, что сегодня нас сопровождает больше рыбы, чем когда-либо.
В ночь на 26 февраля я вылез из рубки, чтобы заступить на полуночную вахту, протер глаза и оторопел при виде невероятной картины. Поднявшийся раньше меня Тору посветил фонариком на море, и луч света, вместо того чтобы уйти в черную толщу, отразился от заполнившей поверхность сплошной массы призрачных рыбьих тел. Они казались неподвижными, хотя плыли с той же скоростью и тем же курсом, что наша ладья. Корифены. Но в каком-то невообразимом количестве. И они не сновали вокруг нас, как обычно, а шли плотным строем, точно отряд лыжников в белом, скользящий вниз по склону, засыпанному черным снегом. Обычно мы без опаски купались в обществе дружелюбных корифен, по этот безмолвный непрошеный кортеж производил такое грозное впечатление своей численностью и сплоченностью, что я со страхом подумал — не дай бог свалиться за борт.
Утром строй корифен рассыпался, но едва зашло солнце, как они снова собрались вокруг ладьи. Через два дня количество их перевалило за три сотни. Такие яркие днем, ночью они становились бледными призраками. Широкие в профиль, но совсем тонкие, если смотреть сверху, корифены располагались на расстоянии вытянутых грудных плавников друг от друга, всегда у левого борта «Тигриса», и всегда первая шеренга чуть отступала от носа ладьи, словно предоставляя нам лидерство. И они точно выдерживали нашу скорость, как бы мы ни шли. Днем корифены резвились, носились взад-вперед; при сильном волнении развлекались, полным ходом взмывая на самый гребень, чтобы потом съехать вниз по крутому скату.
В конце месяца в дневнике появилась такая запись: «Мы настолько срослись с морской средой, что я ощущаю себя пастырем корифенового косяка. Стоит нам изменить курс или скорость, и корифены тотчас повторяют наш маневр, чтобы не отстать. Они прижимаются так близко к левому борту ладьи, что хвостовые плавники подчас рассекают воду рядом с бунтом и, светя фонариком, можно во всех подробностях рассмотреть голову рыбы. Днем они нередко плавают, раздвинув белые губы, словно ловят планктон, видно даже розовый язык. И расправленные, словно крылья бабочки, грудные плавники отливают такой яркой голубизной, что кажутся светящимися. Сперва замечаешь эти плавники, а потом уже саму рыбу. Серебристые ночью и после смерти, эти морские хамелеоны днем поражают богатой расцветкой: спина почти коричневая, голова травянисто-зеленая, хвостовой плавник желто-зеленый, остальное тело переливается разными оттенками зелени в зависимости от освещения. Сколько ни смотрим, не можем налюбоваться на такую красоту. Идут за ними, будто овцы за пастухом; невольно напрашивается сравнение с кротким добродушным стадом».
На нашем пути попадались течения, богатые планктоном. Ночью вся поверхность моря фосфоресцировала, и светящаяся пленка облекала соприкасающихся с микроорганизмами рыб и стебли камыша. Организмы покрупнее мерцали обособленными искорками. Выловив их мелкоячеистой сетью, мы установили, что это веслоногие рачки с большими черными глазами.
Бывало так, что море не отличишь от неба. В темноте корифены напоминали плывущие по черному небосводу бледные продолговатые облака; в то же время фосфоресцирующий след от хвостового плавника превращал их в этаких огромных светящихся головастиков. А веслоногие рачки выступали в роли звезд.
Ветер усилился, и мы пошли быстрее. Корифены тоже прибавили скорость; особенно хорошо это было видно ночью по удлинившемуся световому следу, когда они напоминали уже не столько головастиков, сколько электрических угрей. Сядешь после вахты на лавку с левого борта и подолгу любуешься изумительным ночным спектаклем. Если нескольким рыбам приходило в голову поменяться местами в строю, начинался удивительный балет, длинные кометные хвосты перекрещивались и сплетались, образуя восхитительные узоры.
На рассвете строй рассыпался, но остатки косяка, словно толком еще не проснувшись, продолжали кружить около ладьи и под ней. Остальные плавали поодаль по две, по три, выскакивая боком из воды в погоне за сверкающими летучими рыбками. Иной раз целыми днями нас сопровождали олуши. Смотришь, летит впереди охотящейся корифены, чтобы в нужный момент спикировать и перехватить спасающуюся от погони летучую рыбку. А обманутый охотник растерянно мечется в разные стороны, тщетно поджидая пропавшую в небе добычу.
Мы ломали себе голову, почему охотники на ночь неизменно возвращались к нам и возобновляли свое лунатическое шествие. По мнению Карло, они обнаружили, что на «Тигрис» ночью падает дождь из летучих рыб. Корифены шли с разинутой пастью таким плотным строем, что не застрявшая на ладье летучая рыба неизбежно доставалась какой-нибудь из них. Но почему сбор непременно у левого борта? Потому ли, что именно с этой стороны вечером, перед тем как эскорт погружался в сон, наш золотистый кораблик озаряла восходящая луна? Мы терялись в догадках. Одно было очевидно: на ночь корифены для безопасности сбивались в стаю, подобно животным прерий. Вероятно, «Тигрис» представлялся им надежным могучим защитником, и каждая корифена рассчитывала, что кто-нибудь из соседок поднимет тревогу, став жертвой внезапной атаки на дремлющую компанию. В Море Ленивцев у корифен были враги, способные проглотить их целиком так же запросто, как сами они могли съесть полдюжины летучих рыбок.
Однажды ночью, когда мы плыли в сопровождении нашего скопища светящихся призраков, я стоял у румпеля и дремал, прислонясь к перилам мостика. Внезапно меня заставил очнуться какой-то переполох возле борта ладьи. Фосфоресцирующие корифены метались в панике, словно Кто-то выпустил по ним торпеду. А вот и сама лучезарная торпеда! Она была и подлиннее, и потолще своих жертв. Спасаясь бегством, корифены тянули за собой искрящийся след, и казалось, на поверхности моря извиваются морские змеи, однако живая торпеда внесла сумятицу в световые узоры. Когда же тусклые огни пропали вместе с корифенами, мы рассмотрели в черной толще трехметровую молот-рыбу. Она уходила от ладьи, выписывая торчащим спинным плавником нервные зигзаги, словно недовольная доставшейся ей добычей.
Через минуту после того, как огромный хищник скрылся, корифены снова собрались вдоль левого борта ладьи, и строй их казался нам плотнее прежнего.
Молот-рыба — безжалостный охотник. Обычно эти акулы являлись ночью, когда легче было застигнуть врасплох корифен, но и днем вели себя активно. Однажды мы увидели, как с полдюжины корифен, спасаясь от погони, выскочили из воды, словно в подражание летучим рыбам. Последнюю в ряду подбросила вверх широкая молотовидная голова. Потеряв ориентацию, корифена упала прямо в грозную пасть подстерегавшего ее чудища.
Среди встреченных нами акул молот-рыба выделялась непостоянством. В отличие от большинства своих сородичей, она не была склонна подолгу сопровождать ладью. Явится вдруг, обследует окружение «Тигриса» и снова исчезает. В одно прекрасное утро, когда я, стыдливо прикрывшись камышовой ширмой, безмятежно восседал в забортном гальюне в левой части кормы, с мостика раздался крик:
— Большая акула за кормой!
Глянув под ноги, я увидел картину, безобразнее которой не узришь ни в одном гальюне. Пониже моей кормы постепенно возникла страховидная широкая голова здоровенной молот-рыбы. Впервые в жизни мне представился случай хорошенько рассмотреть свирепую физиономию этой безобразной твари. Более гротескного расположения глаз невозможно себе представить. Длиннейшие боковые выросты молотовидной головы напрашивались на сравнение с пышными усами, если бы не маленькие глазки по краям и расположенные поблизости ноздри. Отнесенная назад здоровенная пасть в нижней части головы неторопливо проглотила туалетную бумагу, меж тем как разбежавшиеся глаза воззрились на меня, как бы примеряясь к главному блюду. То ли кандидат в людоеды был близорук, то ли я ему приглянулся так же мало, как он мне, — так или иначе, он поплыл дальше. Я не решался поджать ноги, чтобы не привлекать к себе внимания. Трехметровый мышечный жгут в серой коже медленно, очень медленно проскользнул ниже моего седалища. Я мог бы свободно коснуться спинного или хвостового плавника, когда они поочередно проследовали под забортным загончиком, однако не посмел даже встать за плавками, покуда хвост не исчез из поля зрения.
После этого чудовище надумало поиграть с плывущим за нашей кормой резиновым спасбуем. Ребята не мешкая привязали к буксирному канату здоровенный крюк на короткой цепочке, Карло наживил его маленькой акулкой, и, к нашему общему восторгу, молот-рыба схватила приманку. После долгого поединка мы закрепили канат за кормовой брус; рыбина ответила тем, что развернула ладью на двадцать градусов, основательно взбила пенистую воду, потом стала нырять в разные стороны. Когда она поднырнула под ладью, канат зацепился за кормовой шверт, и он стал дергаться взад-вперед. Мы вытащили шверт. Несколько минут акула дубасила днище «Тигриса», и в кильватерной струе появились крошки камыша. Наконец возня прекратилась, но, сколько мы ни тянули, наших объединенных сил не хватало, чтобы вытащить канат.
Эйч Пи сделал еще раньше из бамбука и веревок маленькую водолазную корзину вроде той, какая была на «Кон-Тики». В плавках я чувствовал себя увереннее, а потому смело полез в корзину, когда ее спустили за борт. Ко всеобщему разочарованию — и к моему облегчению, — оказалось, что крюк пуст, просто он глубоко вонзился в камышовое днище. Меня окружал наш обычный эскорт, включая менее крупных белоперых акул, которых мы давно перестали опасаться. Молот-рыба исчезла, проглотив солидную наживку, но сперва она словно решила обыграть свое название: вбила крюк в камыш так основательно, что нам лишь с великим трудом удалось его выдернуть.
Еще со времен «Кон-Тики», когда акулы повседневно окружали нас со всех сторон, я прочно усвоил, что они могут быть так же добродушны и так же свирепы, как люди без мундира и в мундире. Невозможно предугадать, как поведет себя акула через минуту. Правда, в кортеже «Тигриса» были только симпатичные акулы. Во всяком случае, эти представители одного из наименее популярных хищных отрядов и внешностью, и поведением являли разительный контраст молот-рыбе, и мы прониклись к ним теплым чувством.
Акулы с самого начала навещали нас, по только после Карачи мы наладили с ними настоящий контакт. Число их менялось день ото дня, но в целом неуклонно росло; так, в день схватки с молот-рыбой мы насчитали семнадцать штук. Длина — метр-полтора, иногда больше, и поначалу мы выступали в роли хищников, а они были жертвами. Однако ловить акул слишком легко и неинтересно, не то что отбивающихся корифен. И на вкус они не так уже хороши, даже если вымочишь их, чтобы не отдавали аммиаком. Прошло немного времени, и наши самые ревностные рыболовы виновато смотрели на товарищей, если по ошибке вылавливали небольшую акулу. Нам больше нравилось подкармливать акул рыбьими головами, костями и прочими объедками.
В один погожий день, когда неторопливый ход «Тигриса» благоприятствовал любителям купания, мы увидели, как Герман, первым нырнувший с палубы, преспокойно лежит на воде в обществе десятка акул, не проявляющих ни малейших признаков враждебности. С той поры мы совершенно забыли о страхе перед нашими повседневными спутницами. Некоторые члены команды, особенно молодежь, даже хватали через край в своей дерзости, полагая, что уходить из воды стоит лишь в тех случаях, когда появляются голубые и тигровые акулы или молот-рыба.
Как-то раз я примостился на резиновой шлюпке, когда она шла на буксире у «Тигриса». Лежа на животе, погружал голову в воду и смотрел, сколько хватало воздуха, на двух длинных тонких барракуд — достаточно коварных рыб, подозреваемых в людоедстве. Эта неразлучная пара уже несколько дней ходила в глубине под нами, скаля унизывающие нижнюю челюсть грозные зубы. Поправив маску, которая не очень уживалась с отросшей за время плавания бородой, я сделал глубокий вдох, снова опустил голову в море и принялся искать взглядом барракуд. Вдруг что-то коснулось моих волос. Я поднял глаза — передо мной была образина не менее удивленная, чем моя собственная. Широкая плоская голова акулы не была для меня новинкой, однако я впервые глядел на нее в упор. До этого дня я не мыслил себе, чтобы у рыбы могло быть какое-то выражение, но у этой акулы оно было, честное слово, — дружеское любопытство, смешанное с удивлением. Возможно, меня, более привычного к собакам, отчасти ввели в заблуждение слегка повиливающий хвост и опущенные уголки плотно сомкнутого рта — словно акула испытывала недоумение от представившейся ей картины. Что видел я? Акулу! Она же видела этакую здоровенную круглую черепаху (днище шлюпки) с бородатой человеческой головой. После этого случая я произвел рыб в разумные существа, немногим уступающие теплокровным животным.
Но раза два наше мирное сосуществование с прирученными акулами чуть не обернулось бедой.
Однажды Карло, оседлав лопасть рулевого весла за кормой и держась одной рукой за страховочный леер, промывал застарелую язву на ноге. Он убедил себя (но не нашего врача Юрия), что ежедневная обработка соленой водой полезна для язвы. Герман перед тем смывал с себя мыло, держась за второе весло, теперь же он стоял на корме и высыхал на солнце. Внезапно Карло услышал его крик:
— Акула!
Маленькая общительная акулка уже несколько минут болталась под ступнями Карло, и он спокойно ответил:
— Знаю, я ее вижу.
— Акула! Акула! Поднимайся! — продолжал кричать Герман, приметив плавник трехметрового людоеда, который быстро шел прямиком на занятого целительной процедурой Карло.
К счастью, в этот момент хищница повела себя как-то странно: начала взбивать хвостом воду, словно вызывая противника на бой. Карло поднял глаза и увидел, что акула нацелилась как раз на его ногу. Могучей рукой многоопытного альпиниста он подтянулся на леере кверху, другой рукой взялся за бортовую связку и вскочил на палубу. Стоявшие на корме ребята определили, что всего лишь один акулий корпус, или, что то же самое, одна секунда, отделял нашего товарища от ампутации ступни.
А уже вблизи берегов Африки сам Герман без моего ведома пошел на непростительный риск. Все, кроме рулевых, воздав должное вкусным корифенам, забрались подремать в тенистые рубки, а Герман натянул гидрокостюм, надел маску и обвязался длинным страховочным концом, решив поснимать смешанную компанию, которая следовала за нами в кильватере. Белоперые акулы и прочие рыбы подплыли к нему и начали вертеться перед камерой. Некоторые из них до того привыкли к нам, что Тору брал с собой во время купания мешочек с мелкими кусочками рыбы и кормил их из рук. Плескаясь в одиночестве на изрядном расстоянии от ладьи, Герман заметил в глубине крупного людоеда. Акула, в свою очередь, заметила его и двинулась вверх, описывая плавные круги. Герману приходилось снимать акул как в своем родном Карибском море, так и в большинстве других морей нашей планеты, где водятся эти хищницы, и он давно научился определять, с какими намерениями они направляются к человеку. Предельно осторожно он стал подтягиваться к ладье. Большинство ребят дремали в рубках, а Эйч Пи и Рашад обменивались шутками на мостике, не подозревая, что в это время происходит в океане за их спиной. Акула по спирали поднималась к Герману, Герман, перехватываясь по веревке, приближался к «Тигрису». И некому помочь ему, выбирая веревку с другого конца. Одно неосторожное движение или резкий звук — и акула устремилась бы в атаку. Она была совсем близко, когда он ухватился за правое рулевое весло и влез на палубу. Несколько дней после этого нелепого приключения Герман ходил бледный, молчаливый, удрученный, коря себя и огрызаясь на других. Акула акуле рознь...
Среди добровольных обитателей открытого аквариума под «Тигрисом» были элагаты и спинороги — два вида, с которыми мы не встречались в прежних океанских экспедициях. Англичане называют быстрого, как ракета, стройного красавца элагата радужным бегуном, и его окраска вполне оправдывает такое прозвище. Две голубые и две желтые продольные полосы, чередуясь на боках, отделяют серебристое брюхо от ярко-синей спины; хвостовой плавник — золотисто-желтый. Обычная длина элагата — около полуметра, мясо очень вкусное, напоминает и скумбрию, и пеламиду. Подчас эти рыбы собирались около ладьи в таком количестве, что был случай, когда я предложил Асбьёрну угомониться после того, как он за несколько минут выловил более десятка элагатов. Мы не раз видели элагатов в обществе акул. Смотришь, рядом с «Тигрисом» идет здоровенная, в рост человека, хищница, а по бокам ее — два элагата, да так близко, словно их к ней приклеили.
А спинорога я бы назвал комиком морей. И вид у него неуклюжий, и плавает как-то потешно; ему бы не в океане жить, а в банке с водой. Правда, специалисты по биологии моря считают спинорогов в основном мелководными рыбами, обитателями рифов, однако не все спипороги отвечают этой характеристики. Мы встретились с ними в открытом океане, где глубины достигали трех тысяч метров.
Первое знакомство началось с того, что мы приметили нечто вроде пузыря, описывающего петли на поверхности воды. На самом деле это был круглый белый рот небольшой дородной пятнистой рыбы. Коротышка с высоким телом плыла очень забавным способом, синхронно помахивая похожими на занавески спинным и анальным плавниками, словно расположенными в вертикальной плоскости крыльями. Если «Тигрис» при хорошем ветре прибавлял скорость, этим чудакам было трудно поспевать за ладьей, и в своем старании не отстать от нас они подчас заваливались на бок, будто пьянчужки. Семейство спинорогов включает около тридцати видов, и среди них есть ядовитые, так что мы воздерживались от употребления в пищу тех двух видов, которые шли с нами. В итоге их численность неимоверно возросла к тому времени, когда мы приблизились к берегам Африки. Ковыляя под днищем и около борта, они состязались с морскими зайцами в кормежке на нашем подводном лугу. Когда «Тигриса» качало на высокой волне, случалось, что спинорог, не желая выпустить лакомую травинку, вместе с ней оказывался на воздухе. Шлепнется навзничь в воду, перевернется усилием плавников и опять спешит на пастбище.
Самый крупный из пойманных нами спинорогов насчитывал в длину сорок два сантиметра, но большинство было величиной с ладонь. Они умели управлять своей окраской: выловишь спинорога — по всему телу наливаются яркой синью обычно едва заметные пятна. Но главное свойство этой рыбы (отсюда ее название) — способность маневрировать шипами на спине и на брюхе. Тело спинорога покрыто костными чешуями, а перед мягким спинным плавником помещаются две, иногда три длинные колючки. Передний шип, самый длинный, запирается второй колючкой в вертикальном положении, и это позволяет рыбе надежно зацепиться в коралловом убежище. Сколько мы ни старались, не могли его согнуть. А стронешь служащую курком вторую колючку — сразу механизм выключается, и шип ложится на спину. Естественно, сама рыба управляет этим остроумным устройством изнутри. Спинороги тоже безбоязненно ходили рядом с акулами, будто знали, что тем не улыбается заполучить в глотку такой подарок.
Перед носом ладьи и под днищем плавали полосатые лоцманы. Правда, их было куда меньше, чем в Тихом океане, — может быть, потому что мы редко вылавливали крупных акул, которых они обычно сопровождают. Однажды мы приметили полутораметровую акулу с эскортом из шести лоцманов. Стали вытаскивать ее на палубу и с удивлением увидели, что не шесть, а два десятка лоцманов вьются около хвоста своей повелительницы, словно вознамерились последовать за ней. Карло оставил акулу лежать на борту, и нашим глазам представилось неожиданное зрелище: два лоцмана затеяли какой-то диковинный изящный танец у свешанного в воду акульего хвоста. Одинаковой величины, но разной окраски: одни — зеленовато-желтый с бурыми поперечными полосами, другой — голубоватый в темно-коричневую полоску, они, держась бок о бок, исполняли свои на так согласованно, словно были связаны друг с другом.
Странно, бывало, проснуться среди ночи оттого, что кто-то сморкался так энергично, что будил даже тех, кого не беспокоил самый громкий храп. Сядешь, выглянешь в дверной проем и видишь в лунном свете нечто вроде огромного лакированного ботинка, но с широким дыхалом, по которому нетрудно определить, что рядом с твоим ложем всплыл самый настоящий кит. Одно дело дивиться на китообразных в разных там маринариумах, совсем другое — пробудиться от сна бок о бок с водным млекопитающим в его родной стихии. Не в пример полицейским катерам, которые вторгались в рубку, сотрясая весь наш кораблик с его такелажем, могучие киты ни разу не задели камышовые бунты, даже в самую темную ночь не столкнулись с «Тигрисом», хотя нередко всплывали на расстоянии вытянутой руки от борта или проходили под ладьей. Обычно нас навещали дельфины с покатой спиной и низким спинным плавником, но встречались и куда более крупные представители китообразных, с почти прямой спиной.
Киты и днем подходили к ладье выяснить, что это за диво. Пять-шесть огромных млекопитающих ныряют под днище «Тигриса», а ты с палубы глядишь им прямо в дыхало. Или начнут пускать фонтаны — словно морская пожарная команда затеяла упражняться. Среди любителей выпрыгивать из воды во весь рост мы распознали косатку с ее великолепным черно-белым окрасом и высоким спинным плавником. В одном районе, кишевшем серебристыми рыбешками, мы наблюдали совместную охоту косаток и дельфинов. Здесь же рассекали воду высокие острые плавники, явно принадлежащие меч-рыбам.
Несколько раз на борту «Тигриса» отмечались дни рождения. Сколько плаваю на лодках-плотах, никогда еще не было в моей команде столько выдающихся и изобретательных коков. Никогда не подозревал, что из сырой рыбы можно приготовить такое количество вкусных блюд, какое предлагал нам знаток японской кухни Тору; недаром дома у себя он держал ресторанчик, специализирующийся на рыбе. Невозможно забыть уху Детлефа, блины Нормана, рис в обработке Карло, вяленых элагатов Юрия, сушеное мясо с перцем в исполнении Германа. И кто бы подумал, что молодые скандинавские студенты сумеют испечь столько дивных пирожков и пудингов из арабской фасоли, гороха, муки и яиц. Однако всех превзошел Рашад, творец блюда «маринованная летучая рыба по-тигрисски». Как-то утром я прокрался на камбуз и записал рецепт: на две очищенные и нарезанные кубиками летучие рыбы — три четверти чашки уксуса, четверть чашки морской воды, немного оливкового масла, долька чеснока, вдоволь нарубленного лука, полторы ложки сахарного песку, две чайные ложки соли, полчайной ложки перца и по щепотке припасенных Рашадом арабских специй.
Как раз с этой закуски начался обед в честь Юриного дня рождения. Далее последовала корифена на разные лады: жареная, вареная, сырая; за корифеной — особый макаронный пудинг Асбьёрна и Эйч Пи. Эти озорники просверлили по секрету дырочку в столе и воткнули в пудинг шланг от насоса, которым мы накачивали резиновую шлюпку. Только мы приготовились взять себе по куску, как Эйч Пи с самым серьезным выражением лица объявил, что за неимением дрожжей особый Юрин праздничный пудинг нуждается для пышности в нескольких каплях водки. После чего спрыснул водкой свое кулинарное изделие, и пудинг начал расти на глазах у изумленных зрителей. Никто не заметил, что Асбьёрн потихоньку качает воздух ступней. Все прочие чудеса, виденные нами в плавании, померкли перед этим. А пудинг все рос и рос, пока сверху не высунулось нечто вроде распухающего пальца. Опомнившись от удивления, мы дружно рассмеялись и запели «С днем рождения» по-английски.
В эту минуту явились нежданные гости. Три черные косатки, всплыв на поверхность, направились прямо к ладье. Потом вокруг «Тигриса» с разных сторон замелькали черные спины здоровенных млекопитающих, и мы решили, что их все-таки не три, а больше. Впервые за несколько недель выбежала из укрытия наша мышка, словно узрела в обращенном вниз окошечке нечто такое, что побудило ее предпочесть общество поющих людей и кузнечиков.
Видимо, косаткам мы были обязаны тем, что к нам примкнули самые крупные прилипалы, каких мы когда-либо встречали. Эти вялые, уродливые черные рыбы с овальной присоской наверху головы предпочитают не затрачивать много сил на плавание, ограничиваясь сменой транспортных средств.
Роль попутных машин выполняют гладкокожие акулы и киты, а также черепахи. Выберет объект, прикрепится к нему присоской и подбирает крохи со стола хозяина. Большинство прилипал, катавшихся на наших бунтах, были длиной в палец, но две из них, длиной с руку, явно перешли к нам от китов.
Однажды Асбьёрн поразил нас тем, что голыми руками извлек из волн морских черепаху. Правда, она и без того, похоже, направлялась в гости к нам. Мы держали ее некоторое время на палубе, толкуя о черепашьем супе и нежных отбивных, но в конце концов единодушно постановили отпустить на волю. Для древних мореплавателей Индийского океана черепахи, наверно, были желанной добавкой к столу, состоящему по преимуществу из рыбы и сушеного мяса. В наши дни морские черепахи почти совсем истреблены, и все же мы несколько раз видели торчащие над водой черепашьи перископы.
Три дня спустя после удачной охоты Асбьёрна, пользуясь тихой погодой, Рашад решил искупаться и тоже сумел ухватить за панцирь здоровенную черепаху. Ловец и добыча были одинаково хорошими пловцами, и зрители на борту ладьи долго не могли определить, то ли черепаха тащит Рашада, то ли он, уходя с головой под воду, толкает ее к ладье. Лишь когда молодой араб торжествующе приподнял машущую передними ластами черепаху над водой, стало ясно, кто победитель.
На обеих пойманных нами черепахах сидели по две прилипалы; кроме того, по панцирю, совсем как по днищу «Тигриса», сновали зеленые крабики. Вторую пленницу поражение привело в такую ярость, что она принялась рвать камыш и бамбук своим попугаячьим клювом, и мы поспешили вернуть ее в родную стихию. Только она всплыла на поверхность метрах в ста от ладьи, как Юрий крикнул с крыши рубки:
— Ее схватила здоровенная акула!
В самом деле, среди пены и брызг мелькали ласты и плавники. Потом море разгладилось, и кто-то пробурчал, что лучше уж было оставить черепаху себе.
Вскоре Асбьёрн надумал опять применить собственные руки как орудие лова, но на этот раз ему меньше повезло. Правда, и объект охоты был необычный. Море плавно колыхалось, и в одном месте гладкую поверхность рябило нечто вроде человеческих пальцев. Асбьёрн быстро подгреб туда на шлюпке, не подозревая, что настиг Нептупа, а точнее, существо, известное под названием Neptunus.
— Попался! — крикнул он, перегибаясь через борт, и чуть не шлепнулся в воду при виде диковинной добычи.
— А-а-а-й-й! — услышали мы в следующий миг.
Асбьёрн отчаянно тряс вскинутой вверх рукой, силясь сбросить с нее какую-то разлапистую красную тварь. Большой краб! Только тут мы заметили, что ладью окружают полчища красно-бурых крабов величиной с кулак. Одни бегали по поверхности моря, как по зеркалу, другие ныряли, уходя в синюю толщу. Это была паша первая встреча с крабами-плавунцами Индийского океана, представителями вида Neptunus. Жертва Асбьёрна ущипнула ему палец до крови, и он поспешил вернуться в ладью за дуршлагом, в котором Карло промывал макароны. Остроумное приспособление позволило Асбьёрну и Детлефу в два счета выловить с десяток сердитых крабов — таких сердитых, что, очутившись в одном котелке, они перекусывали ноги друг другу. У наших ловцов тут же появились конкуренты. Корифены тоже решили поохотиться на крабов и с разбега хватали их перед носом шлюпки, подпрыгивая с добычей высоко в воздух. А там и одна полутораметровая акула ринулась вдогонку за крабом, который во всю прыть улепетывал от нее. Настигла жертву и тоже в лихом прыжке выскочила из воды. До тех пор мы ни разу не видели прыгающих акул.
Маленькие забияки, наименованные в честь бога морей, спокойно лежали на поверхности, уписывая обеими клешнями планктон, пока их кто-нибудь не спугивал. Трудно придумать что-нибудь чуднее этих миниатюрных роботов с человеческими повадками. Стоило черным глазам на стебельках приметить врага с дуршлагом, как краб мгновенно принимал позу борца — передние конечности согнуты, клешни раскрыты. Правда, оценив размеры дуршлага, крабы заключали, что всего благоразумнее будет отступить. И улепетывали боком-боком с невероятной скоростью, согласованно перебирая пятью парами ног. Обе клешни повернуты влево, правая согнута для обтекаемости, левая вытянута назад в качестве рулевого весла. Последние суставы задних ног сплющены наподобие лопасти, чтобы лучше грести, и снабжены для большей эффективности целой системой шарниров; остальные три пары конечностей просто бегут по воде. Безошибочно действующие замысловатые части маленького робота в твердом карапаксе, от чувствительных антенн до движителей и рулей, хочется назвать чудом инженерного искусства. А ведь они всего лишь крохотная безделка в океане, где киты искони ныряют, пользуясь природным локатором, превосходящим любые радары, где кальмары могли прыгнуть к нам на борт, включив реактивный движитель, а спасаясь от врага, ставили дымовую завесу. В городе человек чувствует себя царем природы, но очутившись на просторах океана среди существ, появившихся задолго до человека и внесших свой вклад в его возникновение, и атеист иной раз спросит себя, точно ли Дарвин определил силу, которая движет видообразование по открытому им пути.
Два дня мы плыли в тихих водах, изобилующих красными крабами, потом ветер усилился, ладья прибавила ходу и вместе со своей морской отарой вошла в район, где преобладали изумительные небесно-голубые улитки. Они плавали брюхом кверху, защищенные гроздьями тонких, словно пластиковых, пузырьков, выполняющих роль паруса. Однако парус не спасал их от спинорогов. Развив предельную скорость, эти тихоходы настигали улиток и заглатывали их вместе с раковиной.
Древнейшие философы почитали людей потомками моря и неба. Современная наука приходит примерно к такому же выводу. В самом деле, откуда еще могли произойти населяющие Землю виды? Ночью в океане даже звезды казались ближе, снова становились частью нашего мира, какими их воспринимали люди, которые первыми дали имена звездам и пользовались ими как надежными указателями, странствуя в безбрежных просторах. И нас вновь посещало своеобразное чувство, доступное человеку лишь вдали от всех городов: как будто понятие времени теряло свой смысл и прошлое сливалось воедино с настоящим. Время подразделялось не на века, а только на дни и ночи.
Стоя ночью на мостике или лежа на крыше рубки и глядя, как стеньга рисует круги среди знакомых созвездий, мы все более сближались со вселенной, забытой всеми, кроме астрономов и астронавтов. Звезды перестали быть для нас хаотическим скоплением блестков, вроде морского планктона. Мы узнавали их, запоминали время и пути их следования над носом и парусом ладьи. Из ночи в ночь — одна и та же последовательность, одна и та же скорость. Не удивительно, что люди Двуречья и Древнего Египта — стран, отличающихся широкими просторами, — становились замечательными астрономами, точно знали периоды обращения главнейших небесных тел, правили по ним и передали нашим предкам упорядоченный календарь.
Бывали ночи, когда «Тигрис» представлялся мне ракетой. Голубые от фосфоресценции бунты разбрасывали пляшущие искорки, за рулевыми веслами тянулись яркие световые дорожки, которые напоминали лучи от фар, а еще дальше сливались как бы в раскаленную реактивную струю, толкавшую наш черный парус вперед среди скопища звезд.
Первого марта в дневнике записано: «Мы вышли в плавание в ноябре, теперь март, и мы все еще на борту. Невероятно, но факт: вчера и сегодня море у левого борта пахло рыбой! Возможно ли, чтобы морские обитатели, издающие явственный запах над водой, могли воздействовать на наше обоняние, скопившись в большом количестве у ее поверхности?»
Спустя несколько дней мы были исторгнуты из царства рыб и древнего человека. Норману удалось наладить надежную радиосвязь со все еще далеким от нас современным миром. Отчетливо слыша голос Фрэнка с Бахрейна, мы с удручающей регулярностью принимали очередные новости. Вдруг оказалось, что «Тигрис» вышел на курс, ведущий к столкновению с политическими событиями. Через четыре месяца после старта камышовой ладьи в Ираке и через четыре недели после отбытия из Пакистана возникли серьезные навигационные трудности. Не потому, что «Тигрис» отказался слушаться руля, а потому что обширные области прямо по нашему курсу стали запретной зоной.
Мы наметили пройти от Мелуххи до Пунта, нынешнего Сомали, поскольку египетские источники упоминают этот плодородный уголок Африки, посещавшийся купцами и мореплавателями из Египта. Запросив разрешение на заход в Сомали, мы получили через Бахрейнское радио первое предостережение из Лондона: «Вчера не было телефонной связи с Сомали, так как эфиопские войска заняли крупный город. Весьма настоятельно советуем воздержаться от попыток пристать к этим берегам».
Сомали начала военные действия. Яхты, заходившие в сомалийские воды, перехватывались, и команды заточались в тюрьму. Отсюда следовало, что 2400 километров африканского побережья к югу от Аденского залива закрыты для нас. Что направляясь к Красному морю, мы должны сторониться «рога Африки» и править севернее, подальше от африканских берегов и поближе к аравийским берегам залива.
Но тут же из Лондона поступило предупреждение, что аравийский берег также запретная зона. Южный Йемен закрыл свои границы.
Правительство Народной Демократической Республики Йемен, занимающей 1600-километровую полосу Аравийского полуострова от Омана до Северного Йемена, который расположен на побережье Красного моря, обороняло свои рубежи от капиталистических соседей.
Получалось, что надо осмотрительно прокладывать курс, стараясь держаться срединной линии протянувшегося на полторы тысячи километров Аденского залива, и не подходить к окаймляющим его запретным берегам. Наше решение вызвало у лондонских членов консорциума новую тревогу: «Вы в самом деле собираетесь войти в Аденский залив и дальше проследовать в Красное море? Удастся ли вам выдерживать такой курс? Просьба помнить о политической ситуации этого района в соответствии с нашими прежними рекомендациями. Мы не можем рассчитывать на сотрудничество правительств Южного Йемена и Сомали. Все».
Мы были уверены, что сможем выдерживать нужный курс. Взяли прицел на узкий Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море из глубины столь опасного для нас Аденского залива, и тут ветер пропал. Начисто пропал. Полнейший штиль. В 1400 милях от пролива мы оказались во власти незримых океанских течений. В жизни не видел такого гладкого океана. Даже ряби не было, кроме той, которую вызывала ладья. Парус повис этаким гобеленом, и вода отражала бежевую пирамиду на фоне красного солнечного круга. Задумаешь поплавать, ляжешь на водное зеркало — куда ни погляди, ничего похожего на линию горизонта. Даже голова слегка кружилась, когда мы парили что твои космонавты возле подвешенного в безбрежной синеве «Тигриса», к тому же двойного, как на игральной карте. Красиво! Да только вот незадача: наши штурманы брали высоту солнца и звезд и докладывали, что нас несет к Сокотре.
Сокотра — большой остров, расположенный перед «рогом Африки» примерно посередине между Сомали и Южным Йеменом, которому он принадлежит. На всякий случай мы запросили разрешения зайти на Сокотру. И снова последовал обескураживающий ответ: «Обращались в посольство Южного Йемена в Лондоне с просьбой разрешить «Тигрису» при необходимости заход на Сокотру. В посольстве знают, что «Тигрис» находится вблизи острова, но объявили, чтобы «Тигрис» без письменного разрешения не пытался, повторяем, не пытался приставать к Сокотре».
Течение несло нас все ближе к острову. Лондон снова подчеркивал:
«Рискуете арестом, если высадитесь на Сокотре без разрешения».
Помимо этого, мы получили предупреждение от министерства иностранных дел одной западноевропейской страны:
«Не подходите сейчас к Сокотре, могут быть неприятности».
Кому-то понадобилось пустить слух, будто русские задумали учредить военную базу на этом острове, контролирующем вход в Аденский залив и Красное море. Будто бы самолетам и судам запрещается подходить к нему на расстояние прямой видимости. Между тем из самого Южного Йемена сообщили, что для подхода к Сокотре достаточно получить разрешение местных властей.
При полном безветрии мы беспомощно дрейфовали в сторону Сокотры, принимая по радио все новые предупреждения. Дескать, нас могут обстрелять, могут предать суду военного трибунала.
Двенадцатого марта на юго-западе, как раз на пути нашего дрейфа, возникли бледно-голубые очертания могучих гор Сокотры. Карло заметил их в ту самую минуту, когда багровое солнце коснулось горизонта на западе, и мы закричали со смешанным чувством радости и беспокойства:
— Ур-ра! Видим Сокотру! Достигли Африки!
В самом деле, здорово! Мы пересекли Индийский океан. На поверхности моря появилась легкая рябь, но ветер был еще слишком слаб, чтобы наполнить парус. А ведь нам нельзя подходить ближе к острову. Поднимаем парус, налегаем на гребные весла... Солнце скрылось, и все потонуло во мраке. Шлем новую радиограмму: подходим к запретному острову вопреки собственному желанию.
Тринадцатое марта. Солнце взошло в легкой дымке; ленивый бриз по-прежнему был слишком слаб, чтобы ладья слушалась руля. К полудню мгла поредела, и я различил вдали слева какую-то формацию, высвеченную солнцем. Словно айсберг, которому природа придала вид сидящего белого медведя. Потом вокруг светлой формации появились темные контуры более крупного массива. Судя по всему, остров еще приблизился, но толком разобрать, что скрывается за мглой, мы не могли. К «Тигрису» подлетела чайка. Ребята выловили кустики плавающих водорослей.
Норман доложил по радио, куда нас занесло. Ему ответили, что лондонские посольства стран, представленных в команде «Тигриса», пока не получили от Южного Йемена положительного ответа.
Солнце зашло.
Четырнадцатое марта. Вскоре после полуночи ветер прибавил, и ладья стала слушаться руля. Только оба паруса наполнились, как ветер с веста отошел на зюйд-вест, потом на зюйд, потом вильнул обратно. Всю ночь мы возились с парусами и гребными веслами, возвращая «Тигриса» на нужный курс, и каждый раз ветер заходил с другой стороны. Ладья выписывала петли и зигзаги; мы совершенно выбились из сил; в темноте я боднул бамбуковое стропило и разбил голову в кровь. А выбравшись из рубки в седьмом часу утра, обнаружил, что нос ладьи смотрит прямо на скалистый берег Сокотры... Белый медведь оказался огромной песчаной дюной на склоне образованного пригорком центрального мыса. Определившись по карте, мы установили, что перед нами протянулся на сто с лишним километров северный берег острова. На восходе нас отделяло от него всего двадцать миль, на закате — четырнадцать. И это после того, как мы весь день трудились без передышки, чтобы увеличить или хотя бы сохранить дистанцию.
Нос ладьи вертелся в разные стороны, и наши корифены растерянно метались по кругу. Остров ощетинился шпилями и пиками, которые выглядели выше и неприступнее всех гор, виденных нами с начала плавания. Дежуривший на рации Норман принял сообщение, что представительство Южного Йемена при ООН тоже не стало ничего решать и предложило обращаться прямо на Сокотру. Включив любительскую рацию, Норман связался с русским радиолюбителем по имени Валерий, и я попросил Юрия передать в Москву, что нас прибивает течением к Сокотре. Вскоре поступил ответ, что Министерство иностранных дел СССР направило запросы посольству Южного Йемена в Москве и Советскому посольству в Адене.
Наступил вечер, и остров снова пропал во тьме. Детлеф доложил с мостика, что мы, идя на запад против приливно-отливного течения скоростью не менее одного узла, вроде бы сохраняем дистанцию, отделяющую нас от берега. Ночью слабые порывы ветра доносили благоухание цветов, а один раз нам почудился запах жареного кофе. На несколько секунд на берегу вспыхнул яркий огонь, потом опять сгустился кромешный мрак.
Пятнадцатое марта. В полночь ветер совершенно стих, и мы снова очутились во власти течения. Сколько ни смотрели — никаких огней, ни на острове, ни в море. Когда небо на востоке из черного стало сперва ярко-зеленым, потом красным, суша показалась всего в восьми милях от ладьи. За ночь нас оттеснило назад, и мы вернулись на траверз ориентиров, виденных накануне, только теперь они были гораздо ближе. Огромный «белый медведь» придвинулся вплотную, и мы дивились, как это песок мог подняться так высоко по склону. Пригорок с дюной ограждал с востока главную гавань острова с административным центром Хадибу. В западной части бухты мы рассмотрели высокие деревья и несколько построек. Но никаких признаков жизни. Ни одного дыма. Странно, как будто остров был покинут людьми.
Вместе с нами шло более сотни спинорогов, и появились какие-то новые виды рыб. Было много крабов-плавунцов. Летали птицы. Но люди не показывались. В разных местах вода словно вскипала от полчищ серебристых рыбок: наши корифены занялись охотой. Кругом сновали дельфины. Перед мысом пускали фонтаны три кита. Но никто не выходил навстречу нам из гавани, и никто в нас не стрелял. Может быть, и впрямь политические осложнения или еще какие-нибудь причины вынудили людей покинуть остров? Норман принял новое известие с Бахрейна: «Министерство иностранных дел ФРГ рекомендует «Тигрису» не подходить, повторяю, не подходить к Сокотре во избежание серьезных затруднений (подчеркнуто)».
Слабый бриз позволил нам идти со скоростью 1,2 узла относительно поверхности воды, но течение оставалось встречным. Мы вошли в загрязненную зону, море на много миль вокруг было словно покрыто мыльной пеной. В дневнике записано:
«Во второй половине дня загрязнение усилилось, от края до края тянулись полосы, напоминающие «красный прилив»; местами плотные, как снежные заструги. Ближайшее рассмотрение показало, что эти полосы составлены бурыми комочками мазута, вроде встреченных нами в Атлантике. Комочки мы наблюдали не один день еще до появления пены. Длинными параллельными лентами тянется слизистая смесь пены с нефтяной пленкой. Отвратительная картина. Крабики снуют по этой мерзости; плавают с разинутым ртом корифены, охотясь за полчищами крохотных рыбешек. Всю вторую половину дня мы петляли, стараясь оторваться от острова, даже легли на обратный курс, задумав обогнуть восточный мыс, — все напрасно. Теперь, в шесть часов вечера, правим на высокий западный мыс, на который нацелились вчера вечером, только позиция наша намного хуже, вот-вот войдем в трехмильную зону. На душе неспокойно от такой близости. На небольшом мысу с идущей вверх по склону тропкой видно несколько армейских палаток; рядом с ними стоит нечто вроде грузовика. Видно также группу огромных современных бетонных зданий вперемешку со старыми арабскими домами. Три здания стоят бок о бок у самой воды. Если б не отсутствие окоп, можно было бы принять их за жилые дома. А так они производят впечатление ультрасовременных предприятий, резко контрастируя с окружающей дикой природой. Сказочные горы. Мы в жизни не видели более красивого острова. Нам с Норманом он напоминает остров, где мы впервые познакомились, — Таити с устремленными к небу шпилями Диадемы. Карло предложил нам попробовать наладить радиосвязь с Сокотрой или Южным Йеменом. Мы попытались, по нам не ответили. Большие здания еще приблизились. Никаких признаков жизни. Никакого движения. Никакого ветра. Положение отчаянное. Рискуем, что нас выбросит на скалы».
Ночь застала нас возле самого берега. С удивлением мы увидели, что в современных зданиях внезапно вспыхнуло множество ярких электрических огней и кругом кое-где зажглись фонари. Я заключил дневниковую запись такими словами: «От близости берега тревожно на душе. Отдал команду зажечь побольше керосиновых фонарей и направить свет в сторону суши, чтобы там знали, где мы находимся, и могли вмешаться, если нас понесет на опасный берег».
Шестнадцатое марта. Остров все там же во всей своей впечатляющей красоте. Мы снова очутились перед входом в бухту, где располагался административный центр Хадибу и где, во всяком случае прежде, помещалась резиденция султана. Сопровождаемая двумя китами ладья заметно углубилась в трехмильную зону. Я сказал ребятам, чтобы убрали свои кино- и фотокамеры. Если кто-нибудь выйдет к нам, объясним причину наших затруднений. Не выйдут — сами подойдем на шлюпке к берегу и принесем свои извинения.
Когда настал час завтрака, из-за горизонта вынырнула небольшая моторная
дау, которая шла к острову со стороны Южного Йемена. Изменив курс, она направилась прямо к нам. В нескольких стах метрах от ладьи остановилась, и четыре чернокожих члена команды воззрились на «Тигриса». Открытое суденышко было до краев нагружено огромными молотоголовыми акулами. Я послал Рашада и Эйч Пи с поручением узнать что-нибудь об этом таинственном острове. Вернувшись, Рашад сообщил, что чернокожие рыбаки встретили их очень приветливо, говорят на арабском диалекте и настоятельно советуют войти в залив, поскольку здесь единственный удобный для высадки берег. Никакие опасности нам не грозят, народ здесь гостеприимный. По словам Рашада, рыбаки сказали, будто на острове находятся русские и китайцы. Мы с улыбкой выслушали это сомнительное известие. Рыбаки запустили мотор,
дау описала широкую дугу и скрылась вдали за восточным мысом.
Ободренный спокойствием рыбаков, я был готов подойти к берегу — все равно ведь мы давно вторглись в территориальные воды. Собрал команду на совещание. Напомнил, что у нас было договорено: если позволяет время, выслушивать каждого члена команды перед принятием важных решений. Мой голос решающий, но при условии, что меня поддержит хотя бы один человек: вдруг я свихнусь. Затем я поставил на голосование свой план — высадиться на берег Сокотры. Рашад говорит по-арабски, Юрий по-русски. Никто не стрелял по «Тигрису», и уж наверно не станут обстреливать безобидную шлюпку, если мы подойдем в открытую под флагом ООН и объясним, в какое затруднительное положение попали. Либо нас примут, либо выведут на буксире в море.
Я не агитировал ребят, был уверен, что это единственный разумный выход и все согласятся со мной, как соглашались до сих пор. Остров чудесный, говорил я себе, здесь, наверно, можно запастись свежими фруктами, кокосовыми орехами, птицей, мясом, молоком, пресной водой. Если на берегу и впрямь есть русские, Юрию обеспечен дружеский прием, тем более что он может сослаться на телеграммы своего Министерства иностранных дел. Надо думать, на таком крупном острове, расположенном на морских путях, остались следы древних мореплавателей. Его земля так и напрашивалась на исследование. Однако вслух я ничего этого не сказал, только вкратце изложил свой план и подчеркнул, что вот уже полчаса дует слабый бриз, позволяющий нам войти в бухту и бросить якорь или пристать к берегу.
Первым после меня взял слово Норман. Я никогда не подозревал в нем ораторского таланта, умения говорить так горячо и убедительно, что при желании он запросто победил бы на выборах в президенты США. К моему удивлению, Норман заявил, что, принимая справа этот слабый бриз, мы вполне можем следовать вдоль острова, миновать западный мыс и продолжать плавание без остановок. Есть полный смысл сделать такую попытку, говорил он. Незачем без крайней нужды прерывать самый длинный этап в нашем переходе через Индийский океан, когда есть шанс побить свои собственные рекорды безостановочных плаваний на судах такой конструкции. У нас вдоволь провианта и воды, мы ни в чем не нуждаемся. Если войдем в бухту, придется либо просить, чтобы нас потом отбуксировали в море, либо нанимать дополнительных гребцов. К тому же на берегу кто-нибудь из команды непременно заболевает. Так что в интересах руководителя экспедиции и всех членов команды не прерывать здесь наше плавание.
Карло ловил каждое слово Нормана. Как он восторгался, когда увидел крутые горные шпили Сокотры, а тут вдруг утратил всякий интерес к восхождениям. Дескать, очень уж затянулось наше плавание. Лучше рискнуть, попробовать обойти западный мыс и взять курс на Красное море, где и закончим экспедицию.
Юрий был убежден, что на острове нам ничего не грозит, но, если, как полагает Норман, при нынешнем ветре в самом деле можно миновать западный мыс, он тоже за такую попытку.
Норрис молчал, однако мы слышали знакомую икотку его «младенца»: кинооператор снимал и записывал все, что делалось и говорилось. Выждав, когда многонациональная команда определила свое отношение к самой важной за всю экспедицию проблеме, он в конце концов тоже проголосовал против высадки. Дескать, вряд ли на острове может быть что-нибудь интересное, иначе Тур с самого начала предусмотрел бы его в своих планах. Одна нация за другой выступили против моего предложения: США, Италия, СССР, ФРГ, Ирак, Япония, Мексика, Дания. Ни одного голоса «за», только мой соотечественник Эйч Пи согласился со мной, что более интересного места мы уже не встретим, а потому стоит высадиться.
Я был огорошен. Такое поражение. Возможно, меня избаловало то, что до сих пор мои предложения всегда одобрялись командой, за исключением того случая, когда я решил прервать плавание первой «Ра», а все остальные настаивали на том, чтобы продолжать. Тогда я принял единоличное решение. Жизнь людей дороже научного эксперимента. Ответ на поставленные задачи уже был получен, и я мог построить еще одну ладью для повторного испытания. На этот раз я располагал нужной поддержкой одного голоса. И меня вовсе не волновали рекорды дальности. К тому же шансов благополучно миновать западный мыс Сокотры было столько же, сколько напороться на рифы и скалы. В мореходном справочнике Индийского океана этот мыс характеризовался как весьма коварный, подчеркивалось, что около него мореплавателей подстерегают сильные течения, высокая волна и порывистые ветры. Опыт последних четырех дней показал, что ветер может в любую минуту изменить направление или пропасть, а тогда нам крышка. Дальше на запад — ни одной бухты, ни одного ровного участка, где могла бы спокойно отстояться камышовая ладья. Сплошные скалы и одна-две выемки в береговой линии, наглухо забаррикадированные коралловыми рифами.
Да, ситуация... Я не видел никакого смысла в том, чтобы рисковать жизнью, идя при боковом ветре мимо скалистого берега, когда можно было спокойно войти в пленительную бухту, отдать якорь, установить контакт с местными жителями и рассказать о наших невзгодах. Тем не менее, учитывая позицию команды и принятые по радио предупреждения, я решил пойти на компромисс.
Ветер с моря прибавил, гребни воли закурчавились барашками. Я объявил, что согласен на эксперимент: будем два часа идти дальше, проверяя с мостика пеленг на западный мыс. Если через два часа окажется, что наш курс позволяет благополучно миновать мыс, продолжим плавание. В противном случае мы еще успеем развернуться и, принимая ветер с другого борта, возвратимся к Хадибу.
Все были довольны, только у меня на душе кошки скребли — очень уж опасным казался мне этот эксперимент.
И вот мы плывем на запад мимо нелюдимых черных скал с белой оторочкой прибоя, вызванного усилившимся ветром. Риск есть риск... А когда истекли два часа и Детлеф соскочил с мостика, чтобы доложить, как обстоит дело с пеленгом, Норман выбрался из рубки с новыми радиопосланиями. Оставив Германа у румпеля, мы в тревоге окружили Нормана, и он прочитал вслух:
— «Представительство Южного Йемена при ООН связалось со своим правительством, чтобы объяснить положение «Тигриса». Надеемся получить разрешение».
Второе послание гласило:
— «Норвежское посольство в Лондоне уведомляет, что Южный Йемен не против вашей высадки на Сокотре».
Послышались крики «ура!», кто-то из ребят предложил тотчас поворачивать обратно и править на бухту Хадибу. - Я попросил Детлефа доложить обстановку. Он сказал, что мы идем против встречного течения с абсолютной скоростью два узла, выдерживая курс, с учетом сноса, 278° — на 18° правее торчащего вдали западного мыса.
Детлеф готов был тут же возвращаться на мостик, чтобы развернуться курсом на Хадибу.
— Теперь-то мы точно знаем, что в нас не будут стрелять! — радовался он.
Но тут уже я воспротивился.
— Нет. Мы единодушно постановили проверить, может ли «Тигрис» миновать этот мыс. Ответ получен, ответ утвердительный, теперь надо плыть дальше, не то получится, что мы попусту затеяли рискованное дело.
Норман поддержал меня. Нам следует продолжать плавание. Ни шумеры, ни египтяне не стали бы приставать к здешним берегам, зная по предыдущим заходам, что на острове нет ни золота, ни других ценных товаров. Правда, большинство ребят теперь явно сожалели, что упущена возможность войти в бухту Хадибу и заняться увлекательным поиском ответа на неразгаданные тайны Сокотры. Провожая взглядом уходящие назад пейзажи, мысленно мы взбирались на горы, чтобы исследовать окаймленные суровыми пиками долины.
Карло и Герман достали несколько бутылок красного вина, припасенного для особых случаев, и мы продолжали идти вперед. Нос ладьи смотрел правее мыса, четко вырисовывающегося на фоне золотистого вечернего неба. Солнце садилось в причудливые облака, которые мы сперва приняли за другие острова из группы Сокотры.
Слева нас неотступно сопровождали дикие скалы, а до последнего мыса надо было еще плыть и плыть. Мы приметили нехитрые каменные постройки на ровных площадках над скалами, потом все пропало во мраке, только и видны бородатые физиономии членов экспедиции, окружившие керосиновый фонарь. Все так же пели среди стеблей кузнечики; около наших босых ступней ковыляли крабики.
Наш маленький отряд не разучился наслаждаться бытием на борту шумерского
ма-гур. Я уже простил ребятам, что не поддержали меня на утреннем совещании. Как-никак целью экспедиции было испытать наш кораблик, а их уверенность в нем служила высшей оценкой. Древняя конструкция, которую ученые почитали ненадежной за пределами рек Месопотамии, пронесла нас через шумерский залив, от Бахрейна до Омана, от Омана до Пакистана, от Пакистана до острова у берегов Африки, вполне сохранив свои мореходные качества, так что команда предпочла не останавливаться на Сокотре, хотя знала, что нам предстоит одолеть еще тысячу миль и пройти сквозь строй запретных берегов, прежде чем представится следующая возможность причалить к суше.
Глава XI. Пять месяцев для нас — пять тысячелетий для человечества
Молодой месяц словно обозначил новую фазу путешествия, когда мы ушли от Сокотры — первого на нашем маршруте клочка африканской земли. Ночь принесла крутую волну и переменные ветры, и в скудном свете тонкого лунного серпа мы с Норманом, как нам показалось, совсем близко рассмотрели черные контуры уходившего назад высокого западного мыса. Прощай, Сокотра! Некоторое время вдалеке за кормой переливались яркие лучи прожекторов. На рассвете весь возвышенный западный берег острова остался позади, и вскоре мы снова очутились наедине с океаном и нашими морскими спутниками, большинство которых остались нам верны.
Через два дня мы с хорошей скоростью миновали необитаемый остров Каль-Фарун с птичьим базаром. Высокая скала, напоминающая акулий зуб, блестела от помета. Отметив, что в лоции перепутаны местами изображения Каль-Фаруна и Джазират-Субуния
[70], мы заключили, что вряд ли эти воды с мощными приливно-отливными течениями и противотечениями между скалистыми островками привлекают какие-либо суда. Однако как раз в это время, когда небо и солнце окрасились в закатный красный цвет, мы увидели два судна. Они догоняли нас, следуя сходящимся курсом, причем одно из них появилось со стороны Сокотры. Похоже было, что ладью собираются взять в клещи, и мы подняли флаг ООН. В ответ поднялись советские флаги, а затем мы прочли названия на железных корпусах: «Анапский» и «Ачуевский». Два советских рыболовных траулера, явно нуждающиеся в свежей покраске после долгого пребывания в море. Юрий влез на крышу рубки и радостно запрыгал там, размахивая фуражкой. Его жестикуляция нисколько не смутила птиц, которые пикировали на рыбу около ладьи. Да и выстроившиеся вдоль поручней моряки, по три десятка на каждом судне, поначалу реагировали довольно вяло. Тем временем солнце зашло, и траулеры озарились электрическими огнями. Замедлив ход, они как бы эскортировали нас с двух сторон, чуть отстав от «Тигриса», и один траулер поприветствовал нас сиреной. Асбьёрн живо накачал резиновую шлюпку, вместе с Юрием они подошли по черным волнам к «Ачуевскому», и Юрий поднялся на борт. Через полчаса он вернулся с дарами и вручил нам огромного замороженного групера, десятикилограммовый мешок с обезглавленными морожеными креветками, большой мешок картофеля и русские карты залива, к которому мы направлялись. Два дня мы объедались чудными креветками, торопясь управиться с ними, пока не протухли на жаре.
Траулеры ушли курсом на Аден, и мы снова остались одни. В последний раз нам выдалась возможность поваляться на крыше рубки и поразмышлять о далеких временах, когда в этих водах плавали основатели древних цивилизаций и свободной торговли. Историк Плиний Старший в первом веке нашей эры отмечал широкий размах морской торговли между Египтом и Цейлоном, который, в свою очередь, был связан «со страной китайцев». Плиний недвусмысленно заявляет, что сведения о здешних морских путях римляне получили от древних египтян и что те точно знали, когда, куда и как ходить под парусами в этой части Индийского океана. Благодаря Плинию и заведовавшему Александрийской библиотекой древнегреческому ученому Эратосфену, трудами которого пользовался римский историк, нам было известно, что «Тигрис» далеко не первый корабль подобного рода, совершивший этот несложный переход. Плиний записал, что египтяне в свое время плавали «на судах из камыша, оснащенных подобно нильским лодкам» не только на Цейлон, но и к индийскому материку, торгуя с прасиями на реке Ганге. Он приводит точный навигационный путь, сообщенный Эратосфену египетскими купцами, и отмечает, что суда выходили из портов Красного моря летом, когда на небе показывался Сириус. Далее он пишет: «В обратный путь из Индии мореплаватели отправляются в начале египетского месяца Тибис, что отвечает нашему декабрю, и во всяком случае, до шестого дня египетского Мешир, то есть до 13 января по нашему календарю»
[71].
Мы на «Тигрисе» покинули район Инда только 7 февраля, зная, что запаздываем, поплатились сломанной стеньгой и все равно дошли до африканских вод. Не времена года были для нас главной помехой, а историческая эпоха. Мы опоздали на несколько столетий, и нам не разрешили высаживаться в Пунте. Идя в опасной близости от запретного берега, надо было маневрировать предельно осторожно, чтобы не оказаться в виду венчающего «рог Африки» мыса Гвардафуй, после которого восточное побережье материка сворачивает круто на вест-зюйд-вест, окаймляя Аденский залив.
— По-моему, нам лучше всего держаться к югу от середины залива, — сказал Норман. — От нас требуется величайшая точность. Ширина промежутка между Азией и Африкой всего каких-нибудь пятнадцать миль, и мы должны попасть в эту щель.
В это время на политическом небе появился первый просвет. Мы получили разрешение на заход от Джибути, крохотной африканской республики в глубине Аденского залива, у самого входа в Красное море. Это новорожденное государство, клочок засушливой земли вокруг хорошо оборудованного порта, соблюдало нейтралитет.
Мы миновали мыс Гвардафуй за пределами видимости. Там за горизонтом наиболее развитые представители современной цивилизации выгружали новейшие изобретения для убоя людей. Три с половиной тысячи лет назад корабли египетской царицы Хатшепсут приходили сюда за миртовыми деревьями для украшения Фив. Когда плывешь от континента к континенту на камышовом корабле, времени для размышлений хоть отбавляй...
Если не считать человеческой природы, за последние пять тысяч лет многое изменилось на всех материках. Все быстрее преображается наша среда обитания. Ожидающий нас путь так же неизведан, как большая часть пройденного, и чем лучше мы постигнем прошлое, тем вернее сможем предсказать будущее. Поскольку наша родословная совсем недавно отодвинулась на два с лишним миллиона лет назад, будущие раскопки сулят массу нового. Величайшее открытие последних лет — уразумение того, как мало, невероятно мало нам пока известно о прошлом человеке, о начале всех начал. В первые десятилетия после Дарвина и открытия неведомой прежде шумерской цивилизации нам казалось, что мы получили ответ на все вопросы: родина человека — леса, родина цивилизаций-близнецов — Египта и Двуречья — две широкие плодородные речные долины. Вроде бы все сходилось.
В том, что две замечательные цивилизации возникли бок о бок на Ближнем Востоке около 3100 года до нашей эры, не видели ничего удивительного. Ведь там помещались Сады Эдема, и Адам с Евой родились всего за несколько тысячелетий до того. Но затем последовали открытия в долине Инда. Сперва были обнаружены хорошо сохранившиеся города-близнецы Мохенджо-Даро и Хараппа. Потом археологи и здесь раскопали следы работы первых цивилизованных градостроителей, датируемые примерно 3000 годом до нашей эры. Три великие цивилизации в областях, окружающих Аравийский полуостров, предстают нашему взору в высокоразвитом обличье, с организованными династиями, удивительно схожие между собой. Можно подумать, что объединенные родством священные правители прибыли откуда-то извне вместе со своими приближенными и утвердились на землях, населенных сильно-уступавшими им в культурном развитии племенами.
Как объяснить впечатляющий, чуть ли не внезапный одновременный расцвет трех разных областей, если не взаимосвязью явлений? Вопрос этот напрашивался и раньше, он тем более уместен теперь, когда оказалось, что 3000 год до нашей эры отнюдь не обозначает некую срединную точку в расселении и эволюции человечества. Жители Двуречья, Египта и прочие представители рода людского по меньшей мере два миллиона лет независимо друг от друга шли по пути от первобытного палеолита до цивилизации бронзового века. Зная это, вправе ли мы полагать, что три народа-судостроителя в одно время начали странствовать в поисках олова и меди, чтобы выплавлять бронзу и придавать ей заданную форму восковым литьем? И можно ли говорить о естественной связи между литьем бронзы и, скажем, изобретением письменности или колесной повозки? Тем не менее три названные цивилизации вдруг обзавелись важнейшими элементами материальной культуры и верований, словно инспирировали друг друга или же черпали из общего источника.
Признавая, что в древности достижения цивилизации распространились от обширных нив Египта и Шумера сначала по всему Ближнему Востоку, затем на Крит, Грецию. Рим и наконец на остальную Европу, мы стоим на прочной исторической основе. Известно, что влияние Индской цивилизации, с ее совершенными портами в приморье, проникло в самые отдаленные уголки Индии. Коль скоро Плиний показывает, что Цейлон в древности торговал с Китаем, кто мог помешать представителям хараппской цивилизации делать то же самое и обогащать важными импульсами великую китайскую цивилизацию, расцвет которой наступил вскоре? В селении Ормара мы видели маленькие примитивные
дау, регулярно доставляющие вяленую акулу на Цейлон. Для этих людей естественной дорогой было море, а не джунгли. Располагая географическими промежуточными звеньями в лице Цейлона на востоке и Бахрейна на западе, люди Индской культуры, начав бороздить моря, вряд ли пребывали в неведении о крупных государствах приморской Азии.
Хронологически все известные нам великие цивилизации древности выросли одна за другой сразу после рубежа, обозначаемого 3000 годом до нашей эры. В основе их лежит исторический прорыв в трех ключевых приречных областях. Однако при всей его важности этот прорыв еще не обозначает точку отсчета, подлинное начало цивилизованного человека. Устоявшиеся представления рухнули в который раз, когда пересмотр и уточнение радиокарбонных датировок показали, что до того, как сложились первые династии в трех великих речных долинах, цивилизованный человек развивал свою деятельность в самых неожиданных местах. Примечательные каменные сооружения возникли на островах вокруг Великобритании, на Мальте и Бахрейне раньше, чем где-либо еще. Общепризнанные доктрины о зарождении цивилизации ныне найдены несостоятельными.
Наука озадачена. Ученые еще не успели внести исправления в устаревшие учебники. Да и не принято заменять старые тексты, прежде чем на это дадут свое благословение большинство ученых. Сейчас можно встретить утверждения, что цивилизация зародилась независимо на различных островах за тысячу или более лет до того, как она возникла в поречье на континентах. И что стимулом прогресса, вероятно, были не импульсы извне, не массовая организация и не обильные урожаи зерновых, а обусловленные изолированным положением мир и безопасность. На это возражают, что подобные гипотезы противоречат фундаментальным положениям исторической науки. Что бедные почвами и прочими ресурсами острова не обеспечивают необходимых предпосылок для рождения цивилизации. К тому же цивилизация не возникает вдруг: если она существовала на островах вокруг Британии к IV тысячелетию до нашей эры, значит, сюда пришли уже цивилизованные племена или же острова задолго до того были заселены первобытными людьми и у них было время, чтобы подняться на следующую ступень.
В обоих случаях у начала стоят мореходные суда. Целые семьи — первобытные или цивилизованные — пересекали море. Это согласуется со свидетельствами фресок Сахары и петроглифов области Красного моря: когда началось строительство пирамид, судостроение насчитывало не один век. Когда леса преграждали путь, реки и океаны были открыты для человека.
В наших знаниях о прошлом зияет огромный пробел между костями жившего два миллиона лет назад гоминида, найденными в озерных отложениях Африки, и вдумчивыми строителями, которые плавали на своих судах по обе стороны Гибралтара всего шесть-семь тысяч лет назад. Еще один пробел отделяет этих строителей от внезапно появляющихся на берегах Нила и Инда, в устье Тигра и Евфрата самодержцев с многочисленной свитой искусных ремесленников, зодчих и астрономов. Известные нам даты — не более чем редкие вехи на огромном пути. Большая часть нашего прошлого потеряна, забыта; кое-что еще сохраняется, сокрытое от взгляда под песком, илом, землей, вулканическим пеплом. За время существования человека лик планеты менялся снова и снова. Льды приходили и уходили. Суша рождалась и исчезала. Древние почвы в лесах и поречьях перекрыты периодическими отложениями. Наступающие пустыни погребли некоторые из важнейших областей обитания древних людей. Подводная археология только-только родилась, а ведь семьдесят процентов поверхности нашей планеты занимает вода!
Следует считаться с возможностью открытия под песком еще неведомых цивилизаций. В 1975 году при раскопках городища Мардих в Сирии обнаружена столица современного Вавилонии огромного ханаанейского царства; здесь найдено, в частности, около 15 тысяч глиняных плиток с письменами. Не только шумеры и творцы цивилизации Хараппы оставались неизвестными, пока на них не наткнулась лопата археолога, — все следы хеттов, ольмеков и многих других динамических культур Старого и Нового Света скрывались под землей. И все они оказались прототипами и катализаторами последующих исторически известных культур. Помпея и санторинский Акротири обнаружены в толще вулканического пепла.
Когда заходит речь о возможности открыть что-то под водой, мы дружно смеемся. Смеемся, как смеялись над Лики, над Вегенером, который несколько десятилетий назад впервые выдвинул гипотезу о дрейфе континентов. Позволительно смеяться над версией о затонувшей Атлантиде: слишком много небылиц накручено вокруг этого предания, и затонувшие народы столь же непопулярны в среде ученых, как пришельцы из космоса. К сожалению, фантастов больше манит погружаться в море и посещать очередную Атлантиду, чем зарываться в песок к шумерам. А археологам легче копать песок, чем работать под водой.
Но где гарантия, что, кроме затонувших судов, все прочие следы человека сосредоточены на тридцати процентах поверхности планеты, занятых ныне сушей? Каждый шаг вперед науки о происхождении и развитии человеческого общества — плод острых споров. Подбросим же и мы немного дров в костер полемики.
Человек каменного века охотился за лесным зверем там, где теперь плещутся волны Северного моря и траулеры поднимают со дна наконечники стрел. На месте Атлантики, в отличие от Тихого океана, в давние времена тоже была суша. До сих пор не установлено, когда затонули последние отрезки Срединно-Атлантического хребта. Предположительные датировки допускают совпадение во времени с эпохой древнего человека. Известно, однако, что в Атлантике произошла чудовищная катастрофа как раз тогда, когда отмечается заметное оживление человеческой активности. Во всяком случае, эта катастрофа должна была отразиться на творцах островных культур вокруг Британии — ведь дно океана расколола огромная трещина, которая пересекла даже лесистую Исландию. Здесь в заполненную лавой расщелину упало дерево, и радиокарбонная датировка показывает, что это случилось около 3000 года до нашей эры.
С поправкой на ошибки метода все равно получаем время, близкое к эпохе, когда в области трех поречий появились великие династии. Археологи установили также, что около 3000 года до нашей эры были заброшены неолитические поселения на Кипре, видимо в связи с каким-то катаклизмом
[72]. К той же дате относят конец неолитической фазы и начало нового важного периода на Мальте
[73]. И на Крите археологами найдены свидетельства пространных смещений пластов на рубеже III тысячелетия до нашей эры, когда люди искали убежища в пещерах, а затем обосновались на возвышенностях
[74].
Предание об Атлантиде было похоронено и, казалось бы, прочно забыто наукой. Но затем оно внезапно возродилось в новом облике в среде ученых. Недавнее открытие погребенной островной цивилизации на острове Санторин между Грецией и Критом оживило старую тему. Многие серьезные исследователи обратились к древнегреческим текстам, пытаясь отождествить Санторин с Атлантидой. Возможно, говорили они, в основе древнего предания лежат какие-то искаженные сведения, дошедшие от египтян. Так Атлантида была открыта вновь — поблизости от Греции и высоко над водой.
Чем объясняется такое возрождение отвергнутой легенды? И почему она становится более правдоподобной оттого, что Атлантиду помещают не в Атлантике и не под водой? Санторин не тонул, и расположен он не к западу от Гибралтара — отпадают два основных момента атлантической версии. Санторинский вулкан взорвался и засыпал пеплом город Акротири около 1400—1200 годов до нашей эры, но остров оставался на виду, когда греческие историки плыли мимо него в гости к своим египетским информаторам, которые, по их словам, располагали письменными сведениями о гибели Атлантиды. Для египтян историческая традиция начиналась с народа, который жил за Гибралтаром задолго до фараоновых времен, а не у берегов Греции во времена Нового Царства, когда произошло извержение санторинского вулкана.
Борясь за плавучесть построенного в Египте папирусного корабля «Ра I» в тех самых водах, где, как полагали древние египтяне, затонула Атлантида, мы не скупились на шутки. Дескать, наша задача — попытаться выяснить, как далеко могла распространиться древнейшая средиземноморская цивилизация, а не искать место, где она родилась по мнению египтян!
В отличие от экспериментов на «Ра», «Тигрис» вышел на поиски начала начал согласно шумерским преданиям. Так мы очутились в Дильмуне, где, по рассказам шумеров, поселились их предки после того, как большая часть человечества утонула вследствие всемирного катаклизма.
Задолго до проникновения в Элладу христианства у древних греков бытовали три версии о катастрофическом наводнении. В их собственном мифе о потопе человечество покарал верховный бог Зевс; затем, также в дохристианские времена, они восприняли от эллинистических иудеев их вариант шумерского предания; наконец, тесно общаясь со страной на Ниле, они узнали египетскую версию.
Примерно за четыре века до начала христианской эры древнегреческий философ Платон написал свои диалоги «Тимей» и «Критий», в которых Критий рассказывает Сократу о путешествии Солона в Египет. Платон вкладывает в уста Крития такие слова:
«Выслушай же, Сократ, сказание, хоть и очень странное, но совершенно достоверное, как заявил некогда мудрейший из семи мудрых Солон».
Дальше Критий сообщает, что в Египте, в самом начале дельты Нила, есть область, называемая Саисской, с главным городом Саис. Жители этого города относились с большим расположением к афинянам, почитая их родственным народом. Прибыв сюда, Солон был принят с великими почестями. Расспрашивая наиболее сведущих жрецов, он убедился, что сам он и все его соотечественники почти ничего не знают о древности. Чтобы вызвать жрецов на беседу о древних временах, он принялся рассказывать им про греческую старину, как Девкалион и Пирра спаслись после потопа и кто были их потомки, и по числу поколений пытался определить, сколько времени прошло с той поры. Тогда один очень старый жрец сказал ему:
«О Солон, Солон! Вы, эллины, всегда дети и старца эллина нет... Все вы юны душой... потому что не имеете вы в душе ни одного старого мнения, которое опиралось бы на древнем предании, и ни одного знания, поседевшего от времени».
Старый египтянин объяснил это тем, что в течение веков человечество подвергалось многим великим бедствиям. И самое большое бедствие — это когда бог очищает землю потопом. В Средиземноморье, продолжал жрец, это случалось не один раз, и больше всех страдали греки и их соседи. Всех живущих в городах этой области смывало в море, спасались только скотоводы и пастухи в горах. А потому в памяти греков остался лишь последний потоп, и рассказы Солона о древних родах мало чем отличались от детских побасенок. Но «что бывало прекрасного и великого или замечательного в иных отношениях у вас, или здесь, или в каком другом месте, о котором доходят слухи, то все с древнего времени записано и сохраняется здесь в храмах. У вас же и у других каждый раз, едва лишь упрочится письменность или другие средства, нужные <для этой цели> городам, как опять чрез известное число лет, будто болезнь, низвергся на вас небесный поток и оставил в живых только неграмотных и неученых, так что вы снова как будто молодеете, не сохраняя в памяти ничего, что происходило в древние времена».
Затем старый жрец рассказывает Солону о древнейших событиях, запечатленных на хранящихся в храме священных записях, относя эти события к девятому тысячелетию до прибытия Солона в Саис.
«Записи говорят, какую город ваш обуздал некогда силу, дерзостно направлявшуюся разом на всю Европу и на Азию со стороны Атлантического моря. Тогда ведь море это было судоходно, потому что пред устьем его, которое вы по-своему называете Геракловыми Столпами, находился остров. Остров тот был больше Ливии и Азии, взятых вместе, и от него открывался плавателям доступ к прочим островам, а от тех островов — ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт. Ведь с внутренней стороны устья, о котором говорим, море представляется <только> бухтой с чем-то вроде узкого входа, а то <что с внешней стороны> можно назвать уже настоящим морем, равно как окружающую его землю по всей справедливости
— истинным и совершенным материком. На этом Атлантидском острове сложилась великая и грозная держава царей, власть которой простиралась на весь остров, на многие иные острова и на некоторые части материка. Кроме того, они и на здешней стороне владели Ливией до Египта и Европой до Тиррении».
Описание городов, храмов и каналов Атлантиды ставит их вровень с наиболее внушительными сооружениями фараонов и насыщено египетским ароматом, но заслуживает внимания характеристика порта: «... водный проход и большая из гаваней кишели судами и прибывающим отовсюду купечеством, которое в своей массе день и ночь оглашало местность криком, стуком и смешанным шумом».
Судя по всему, египетских жрецов и греческого повествователя особенно занимало подробное описание Атлантиды, ее могущества и величия ее культуры, тогда как история драматической гибели острова нарисована очень скупыми красками: «Впоследствии же времени, когда происходили страшные землетрясения и потопы, в один день и бедственную ночь, вся ваша воинская сила разом провалилась в землю, да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследимым: плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров»
[75].
По другую сторону Атлантики жрецы ацтеков и майя тоже делали записи иероглифами. Большинство этих записей было сожжено испанцами, но от них нам известно, что мексиканские аборигены рассказывали о великом потопе и об острове, затонувшем в Атлантическом океане. Ацтеки назвали себя по имени этого острова (на их языке — Ацтлан), говоря о нем как о своей исконной родине. В основе всех их верований лежало убеждение, что правители ацтеков произошли от схожих с испанцами светлокожих бородатых людей, которые прибыли из осевшей в море страны и научили местных дикарей поклоняться солнцу. От них же дикие предки ацтеков восприняли достижения цивилизации: письменность, возделывание хлопчатника, календарь, зодчество, включая строительство городов и пирамид.
Поразительно точный календарь майя начинается датой
4 Ахау 2 Кумху; в переводе на нашу систему это 12 августа 3113 года до нашей эры. Удивительное совпадение с радиокарбонной датировкой возникновения всех великих цивилизаций Старого Света... Астрономические часы майя были точнее наших приблизительных радиокарбонных датировок. Майя достигли такого совершенства в астрономии, что исчисляли астрономический год в 365, 2429 дня. Это дает потерю всего лишь одного дня за пятитысячелетний цикл, тогда как наш современный календарь за тот же срок дает разницу в плюс полтора дня. Выходит, майя были на 8,64 секунды ближе к истине, чем мы.
Никто пока не смог удовлетворительно объяснить, почему майя вели отсчет именно от указанной даты. Предполагают связь с каким-то астрономическим явлением, но это лишь догадка. Допускают также, что дата выбрана наугад. Да только уж очень это непохоже на методичных майя! Все прочие календари — буддистов, иудеев, христиан, мусульман — ведут отсчет от появления основателя данной религии. Основателем религии майя был Кукулькан, священный правитель и жрец, который прибыл со стороны Атлантики и научил дикарей строить храмовые пирамиды и поклоняться солнцу.
Майя и ацтеки представляли относительно молодые цивилизации доколумбовой Америки. Оба народа восприняли основу своей высокоразвитой культуры, включая письменность, от давно исчезнувших ольмеков, чья изумительная цивилизация пребывала в безвестности, пока уже в нашем веке не была открыта археологами на берегах Мексиканского залива. Нам неизвестно происхождение веры майя в Кукулькана, но она сродни вере ацтеков в культурного героя Кецалкоатля: оба описываются как светлокожие бородатые люди, приплывшие на судах из Атлантики, имена обоих составлены из названия птицы и слова, означающего «змей», и пернатый змей служил символом этих пришлых священных правителей и их божественных предков. Крылатые и пернатые змеи, символизирующие обожествляемых правителей, занимают в резьбе и на фресках Мексики столь же видное место, как на перуанской керамике, на египетских фресках, в хеттской скульптуре, на шумерских печатях. Вместе с птицечеловеком пернатый змей обозначал теряющиеся в безвестности начала царских династий, служа связующим звеном между воображаемым родоначальником — Солнцем — и первыми правителями-полубогами, которые были похожи на прибывших впоследствии испанцев.
Мы не знаем, почему ацтеки и майя связывают начало своей истории с судами, пришедшими из-за океана, и почему календарь майя начинается с 12 августа 3113 года до нашей эры. Но мы знаем, что у них, как и у древнейшей известной нам африканской цивилизации, бытовало предание о некоем атлантическом катаклизме, с которого начинаются первые воспоминания человечества. Дальше того истоки теряются во мгле суеверий, связывающих царские генеалогии с Солнцем. В какую дверь ни загляни, всюду нам предстает примерно одна и та же дата пятитысячелетней давности, обозначающая одновременно начало и конец. Спросим полемики ради: почему бы не взять 12 августа 3113 года до нашей эры за точку отсчета для известных пределов нашей истории? Как раз около этого времени в областях, где до того цивилизация только-только формировалась, а то и вовсе не существовала, появляются письменность, системы счета времени, первые династии.
Если все, что нам известно о наших началах, внести в книгу, где каждая страница отвечает одному тысячелетию истории человечества, мы увидим 1995 чистых страниц, а на пяти страницах будут разрозненные строчки об уже зрелых замечательных цивилизациях.
... — Посмотрите на луну! — донесся с мостика удивленный голос Германа.
Я отложил свои книги и записи и выбрался на палубу посмотреть, что его так поразило. Эйч Пи нырнул в рубку и схватил астрономический ежегодник Нормана. В небе — ни облачка, однако лунный диск потускнел, уподобляясь затерявшемуся аэростату, потом и вовсе стал исчезать. Жутковатое зрелище.
— «Двадцать четвертого марта 1978 года — полное лунное затмение над частями Азии и Индийского океана», — прочел Эйч Пи.
Классическая картина, которую древние истолковали бы как дурное предзнаменование. Мы отнюдь не страдали суеверием, однако в ту ночь и у нас на душе скребли кошки, когда мы с хорошей скоростью и с предельной осторожностью шли вдоль берегов Пунта, следя за тем, чтобы нас не занесло в военную зону.
Три дня спустя на носовой штаг опустилась прилетевшая из Африки роскошная птица с ярким хохлом. Это был удод, которого викинги считали вестником войны и называли «ратной птицей». Карло рассказал, что в Италии удод известен под названием «марсова петушка» — по имени римского бога войны. Не слишком ли много дурных примет для мореплавателей, идущих по следам древних? Мы шутя спрашивали друг друга, как все это было бы истолковано нашими предшественниками, которые, в отличие от нас, не знали наперед, что за горизонтом и впрямь идет война.
Ночью Тору крикнул с мостика:
— Слышите?!
Да, мы слышали. Слышали в рубке доносившиеся слева звуки перестрелки.
А на другой день до нашего слуха дошел нарастающий гул самолета.
— Черт возьми, он прямо на нас идет! — крикнул дежуривший на мостике Детлеф.
Мы выскочили под палящие лучи аденского солнца в ту самую минуту, когда двухмоторный военный самолет промчался над заменившим стеньгу веслом так низко, что парус заполоскал от внезапного вихря. Я едва успел остановить Детлефа, который уже занес ногу над перилами, готовясь прыгнуть в воду.
Мы подняли флаг ООН. Самолет развернулся и снова пошел к нам бреющим полетом.
— Опять летит!! — заорал я.
Рашад прокричал, что это самолет таможенников, принял нас за контрабандистов, сейчас будет бомбить. Асбьёрн предположил, что летчики облюбовали нас в качестве тренировочной мишени.
— Ур-ра! Это американская морская авиация! — перебил их ликующий голос Нормана.
Он весело прыгал и махал руками на крыше рубки, приветствуя проревевший над нами самолет. Из кабины кто-то помахал ему в ответ. Мы облегченно вздохнули. Никто на нас не покушается...
Заснявший этот эпизод Норрис включил звукозапись, и все, кроме меня, снова выскочили на палубу, услышав мой возглас: «Опять летит!» — и рев мотора. Раздался дружный смех, однако он тут же оборвался: запись вроде бы кончилась, а мотор продолжал звучать с нарастающей силой и в какой-то другой тональности. Глянув на небо, мы увидели летящий к «Тигрису» вертолет. Норман крикнул, что это не американец.
Мы все приготовились прыгать за борт, но люди в зависшей над самой мачтой тяжелой военной птице козырнули нам и показали на свою эмблему. Французы! Едва эта машина растаяла в синеве, как с двух сторон появилось еще по вертолету. Мы снова насторожились. Они встретились над нами, и у нас отлегло от души: один был американский, другой французский. Пилоты снимали нас с воздуха, но ведь они могли и не только снимать. Мы вошли во внутреннюю область Аденского залива. Слева простиралась северная часть Сомали и фронтовая линия. Справа — Южный Йемен с древним портом Аденом; на границах этой страны тоже было неспокойно.
Норман был за то, чтобы воспользоваться благоприятной позицией и следовать прямо на Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы войти в Красное море. Но, поскольку ни одна из стран на берегах этого моря не отозвалась на наши запросы, мы единодушно постановили изменить курс и идти в Джибути, крохотное государство перед проливом, которое предложило нам свое гостеприимство.
Двадцать восьмого марта мы увидели синие горы Африки и ночью правили ориентируясь на береговые огни. Задолго до восхода миновали маяки у входа в гавань Джибути и отдали якорь. А когда рассвело, оказалось, что наш ближайший сосед на рейде — огромный военный корабль. С появлением солнца навстречу нам вышла из порта яхта, и следом за ней мы прошли под парусами между кораблями французского флота в Индийском океане. Древний порт был битком набит военными судами, призванными охранять нейтралитет мини-республики, которой Франция совсем недавно предоставила независимость.
На всех палубах выстроились офицеры и матросы, приветствуя «Тигриса». Я скомандовал: «Убрать паруса!» — и повернул румпель, заходя на стоянку. Норман влез на мачту и, оседлав рею, лихо съехал с ней на палубу; остальные тем временем взялись за гребные весла, шесты и якоря.
По поручению Би-би-си встретить нас и принять наши пленки в Джибути прибыли Брюс Норман и Рой Дэвис. Они привезли из Лондона известие, что мы не сможем зайти в Эфиопию через Красное море. В районе порта Массауа, через который я вывозил заготовленный на озере Тана папирус для «Ра I» и «Ра II» и в котором именно поэтому рассчитывал дней через пять закончить плавание, шли бои между эфиопскими правительственными войсками и сепаратистами. Однако тут же Рой с победным видом вручил мне два письма — одно от посла Йеменской Арабской Республики в Лондоне Мухамеда Абдуллы эль-Эриани, другое от полномочного министра Мухамеда эль-Махадхи. Посол подчеркивал интерес Северного Йемена к нашей экспедиции, горячо желал нам успеха и ссылался на министра. Министр писал: «Могу заверить Вас во всестороннем сотрудничестве, поскольку экспедиция д-ра Т. Хейердала представляет собой замечательнейшее и похвальное предприятие. Искренне Ваш...»
Такое событие следовало отпраздновать. Получалось, что мы можем несколько дней отдохнуть, а потом пройдем через пролив и высадимся в Северном Йемене. Конечно, это не Массауа, другая сторона Красного моря, ну да ладно.
Мы сошли на берег, где нас встретили приветливые черные африканцы, и разместились в отеле «Сиеста». Никогда не забуду роскошную сочную отбивную, от которой меня оторвал телефонный звонок. Новая директива Лондона. «В целях безопасности» Северный Йемен отменил разрешение входить в его воды. На борту «Тигриса» не было даже пистолета, стало быть, они не нас опасались. И вообще, из предыдущих любезных посланий можно было заключить, что йеменцы озабочены не своей, а нашей безопасностью. Тихоходный
ма-гур под флагом ООН, с интернациональной командой, мог стать сооблазнительной мишенью для налетчиков. Мы подошли к одной из горячих точек современного мира.
Выходит, нам теперь некуда плыть... С научной точки зрения, тот факт, что нам не придется добавить пять дней к экспедиции, длившейся пять месяцев, не играл ровным счетом никакой роли. Но вот ведь что обидно: мы возвратились в свой собственный мир, к современникам — и натолкнулись на плоды двадцати веков прогресса, счет которым ведется от времен миролюбивого моралиста. Вернулись в мир, где прекрасных людей учат убивать друг друга эксперты, владеющие самой изощренной методикой, придуманной человеком на исходе пятого тысячелетия известной нам истории.
Я не стал делиться плохими новостями с окружившими праздничный стол товарищами. Потихоньку ушел и провел эту ночь на борту «Тигриса», лежа в уютной рубке, глядя в тростниковый потолок и размышляя, как быть дальше. Мы вынуждены закончить здесь экспедицию и оставить корабль, это ясно. До сих пор мы не задумывались над тем, как поступить с «Тигрисом». Даже храбро обещали оставаться на борту, пока ладья будет держаться на воде. Что ж, она отлично держится на воде, высота надводного борта равна той, что была у «Ра I» и «Ра II» на старте.
Наружная плетенка потрепалась и пострадала от загрязнения, но изготовленные болотными арабами сорок четыре внутренние связки в полной сохранности, как и пальмовые черешки, которыми мы залатали нос. «Кон-Тики» и «Ра II» после экспедиции привезли в Осло; они выставлены с поднятыми парусами в музее «Кон-Тики». Но после постройки нового зала для «Ра II» музею уже некуда расширяться. Оставить «Тигриса» в загрязненной гавани Джибути — веревки быстро сгниют, и чудесный камышовый корабль развалится. С разных концов света поступали предложения от дельцов купить «Тигриса»; последним в ряду желающих был пакистанец, который отбуксировал нас в море из гавани Карачи. Но мне претила мысль о том, что нашу гордую ладью будет возить напоказ какой-нибудь охотник за наживой. К тому же на душе было скверно от кошмара современной войны и несчастных беженцев, с которыми мы столкнулись. Внешний мир, как и мы до последних дней, не очень-то представлял себе, что здесь происходит, — ведь война вдали от собственных рубежей воспринимается лишь в виде строчек последних известий.
Я принял горькое решение. «Тигрис» заслужил более почетную кончину, чем медленное гниение в порту. Пусть станет факелом, призывающим разумных людей отстоять мир в области земного шара, где впервые утвердилась цивилизация. Предадим огню камышовые бунты у входа в Красное море в знак пламенного протеста против гонки вооружений и боев в Африке и Азии.
Утром, когда команда вернулась на борт и мы сели завтракать, я известил ребят о своем решении. Они были потрясены, однако дружно поддержали меня.
В тот день меня принял во дворце президент Джибути Хасан Гулед Аптидон — пожилой руководитель молодого государства, мудрый, дружелюбный, человечный представитель чернокожей Африки. Я попросил разрешения закончить экспедицию в его стране, рассказал, как тщательно мы маневрировали, чтобы прийти в этот нейтральный уголок.
— Вам посчастливилось, — произнес он, улыбаясь. — Ваше судно смогло уйти от войны. А моя маленькая страна должна оставаться на месте, хотя кругом идет война и нам постоянно грозит вторжение.
Президент добавил, что мы вполне можем покинуть здесь свою ладью, только надо учесть, что в страну нахлынули беженцы, все магистрали, связывающие Джибути с внешним миром, закрыты, единственная железная дорога на Аддис-Абебу взорвана. Самолеты привозят мясо из Найроби, все прочие продукты доставляются по воздуху из Парижа, так что из-за высоких цен джибутийцам приходится туго. Порт — единственный источник доходов республики: окружающие город земли представляют собой пустыню.
Сердечный прием ожидал меня также у французского контр-адмирала Дарье на борту транспорт-дока «Ураган»; очаровательная американская чета Чантл и Уолтер Кларк, не менее нас удрученная мрачной ситуацией, устроила обед в нашу честь. Временный поверенный в делах США Уолтер Кларк еще не успел открыть посольство в новорожденной республике.
Никто не знал о нашем решении, только капитан порта был предупрежден, иначе на пожар примчались бы портовые пожарники и военные вертолеты. Нам хотелось остаться наедине с «Тигрисом».
После оформления положенных документов ладью отбуксировали из гавани, и с поднятыми парусами «Тигрис» стал на якорь перед маяком на маленьком коралловом островке Муша. Прежде чем спускать флаг ООН, я послал телеграмму человеку, который предоставил нам право плыть с этим символом Объединенных Наций. Но сперва я ознакомил с текстом телеграммы всех членов команды, чтобы услышать их мнение.
«Генеральному секретарю Курту Вальдхайму.
Организация Объединенных Наций.
Поскольку многонациональная команда экспериментального камышового судна «Тигрис» сегодня заканчивает испытательное плавание, мы благодарим Генерального секретаря за разрешение плыть под флагом ООН и с гордостью докладываем, что двойная задача экспедиции выполнена, к нашему полному удовлетворению.
Мы предприняли путешествие в прошлое, чтобы изучить мореходные качества судна, построенного по древнешумерским образцам. Но это было также путешествие в будущее, с целью показать, что люди, стремящиеся к общему выживанию, могут мирно сосуществовать даже на самом тесном пространстве. Нас одиннадцать человек, представляющих страны с разными политическими системами. Вместе мы прошли на маленьком судне-плоте из хрупких стеблей и веревок более шести тысяч километров от республики Ирак, с заходами в Бахрейнский эмират, Оманский султанат и республику Пакистан, до недавно родившегося африканского государства Джибути. Рады доложить, что, несмотря на разные политические взгляды, мы, живя в стесненных условиях, в полном взаимопонимании и дружбе, плечом к плечу боролись со штормами и штилями, постоянно сохраняя верность идеалам Объединенных Наций: сотрудничество во имя совместного выживания.
Ступая в ноябре прошлого года на борт нашего камышового судна «Тигрис», мы знали, что вместе утонем или вместе выживем, и это сознание скрепило нашу дружбу. Разъезжаясь ныне, в апреле, по домам, мы испытываем глубокое уважение и симпатию к странам каждого из членов экипажа, и наше послание обращено не к какой-либо одной стране, а к современному человеку вообще. Мы показали, что в создании ранних цивилизаций земного шара древним жителям Двуречья, Индской долины и Египта, вероятно, помогали взаимные контакты на примитивных судах, которыми они располагали пять тысяч лет назад. Культура развивалась благодаря разумному и полезному обмену идеями и товарами.
Сегодня мы сжигаем наше гордое суденышко с абсолютно целыми парусами, такелажем и корпусом в знак протеста против проявлений бесчеловечности в мире 1978 года, в который мы возвратились из открытого моря. Нам пришлось остановиться у входа в Красное море. В окружении военных самолетов и кораблей наиболее цивилизованных и развитых стран мира, не получив разрешения на заход от дружественных правительств, руководствующихся соображениями безопасности, мы были вынуждены высадиться в маленькой, еще нейтральной республике Джибути, потому что кругом соседи и братья уничтожают друг друга, пользуясь средствами, предоставленными теми, кто возглавляет движение человечества по пути в третье тысячелетие.
Мы обращаемся к простым людям всех индустриальных стран. Необходимо осознать безумные реальности нашего времени, которые для всех нас сводятся к неприятным заголовкам в «новостях». С нашей стороны будет безответственным не требовать от тех, кто принимает ответственные решения, чтобы современное оружие не предоставлялось народам, которых наши деды корили за их секиры и мечи.
Наша планета больше камышовых бунтов, которые пронесли нас через моря, и все же достаточно мала, чтобы подвергнуться такому же риску, если живущие на ней люди не осознают неотложной необходимости в разумном сотрудничестве, чтобы нас и нашу общую цивилизацию не постигла участь тонущего корабля.
Республика Джибути, 3 апреля 1978 года»
[76].
Все поставили свои подписи. Тур, Норман, Юрий, Карло, Тору, Детлеф, Герман, Асбьёрн, Рашад, Эйч Пи, Норрис. Все одиннадцать членов команды. После этого мы в последний раз сели за дощатый стол между рубками. Вяленый элагат Юрия. Маринованная летучая рыба Рашада. Галеты. Нам было что вспомнить... Норман заметил, что ладья прошла 6800 километров. «Тигрис» провел на воде 143 дня, или двадцать недель и три дня — добрых пять месяцев.
Норрис, поглядев на часы, показал на свою камеру и на солнце. Близился закат. Скоро солнце уйдет за синие горы Африки, оканчивающиеся тупым мысом у входа в Красное море. Все, кроме Эйч Пи, Асбьёрна и меня, переправились на шлюпке на коралловый островок. Маленькая яхта укрылась за островом. Бывший сапер Эйч Пи загодя купил в джибутийском фотомагазине нехитрый часовой механизм. Пробил час «Тигриса»... Асбьёрн, отвечавший на борту за керосиновые фонари, знал, где взять горючее; Эйч Пи знал, где его разлить. Спускаясь в шлюпку, я в последний раз поглядел на пустой стол. Сегодня никто не стал его драить после трапезы. Месячный запас провианта на одиннадцать человек, одеяла и прочее имущество было доставлено на берег и передано для беженцев.
Мы выстроились на берегу. Говорить не хотелось.
— Снимите шляпы, — вымолвил я наконец, когда языки пламени вырвались наружу через дверной проем главной рубки.
Парус вспыхнул, рассыпая искры под треск лопающегося бамбука и пылающего тростника. Ребята молчали. Еле слышно я произнес:
— Славный был кораблик.
Океан всегда соединял человечество
Не правда ли парадоксально, каждый год все больше и больше отделяет нас от бронзового века или неолита, но вместе с тем приближает нас к пониманию древнего мира, расширяет и углубляет наши знания о нем.
Археологические раскопки, дешифровка таинственных знаков, исследования этнологов и историков приносят данные о событиях минувших тысячелетий. Открываются целые цивилизации, о существовании которых еще вчера мы и не подозревали. Так, в долине Инда была открыта весьма развитая цивилизация, а в Междуречье найдены предметы материальной культуры, принадлежащие шумерам — предшественникам вавилонян и ассирийцев. Однако эти цивилизации — ровесники древнеегипетской культуры — отнюдь не самые ранние. При раскопках холма Эль-Убейд в том же Междуречье найдены следы дошумерской цивилизации. Также до Древнего Египта существовало на Бахрейнских островах и на части Аравийского полуострова государство Дильмун. А если вспомнить о мегалитических сооружениях, найденных на острове Мальта и в некоторых других местах земного шара, то мы должны быть готовы к восприятию другой, более полной модели древнего мира.
При исследовании связей давно исчезнувших цивилизаций, их взаимного влияния и контактов (часто межконтинентальных), а также при анализе миграций народов в минувшие тысячелетия неизбежно возникает вопрос о роли океана, вопрос о древнем мореплавании.
Для некоторых специалистов в области исторических наук эти вопросы решаются просто: океан был непреодолимой преградой для древнего человека, ибо он вряд ли мог пуститься в далекое плавание на примитивном плоту или лодке. Поэтому они считают, что когда-то существовали гипотетические материки, или островные мосты, по которым мог перебираться человек на другие континенты или отдаленные острова.
Для некоторых специалистов-историков свойственна другая крайность: в тиши кабинета они передвигают по океанам народы, словно шахматные фигуры, не задумываясь, на чем и как мог плыть человек в те далекие времена.
Здесь нам пора сказать об ученом и исследователе, счастливо избежавшем этих крайностей и разработавшем глобальную концепцию о возможностях древнего мореплавания, о наиболее вероятных морских путях древнего человека. Речь идет о замечательном норвежском ученом — Туре Хейердале. Он ратует за историческую модель древнего мира, согласно которой океан не разъединял, не изолировал человечество на долгие годы, а, напротив, объединял его с самых древних времен.
Наверное, самое ценное в творческой деятельности Тура Хейердала то, что он соединил теоретическую и практическую сторону дела: выдвинутую гипотезу он неизменно подкреплял экспериментом.
Истоки этой кипучей деятельности лежат в самой первой экспедиции норвежского ученого на затерянный в Тихом океане островок Фату-Хива, состоявшейся более сорока лет назад. Ровно через десять лет Тур Хейердал после серьезной теоретической проработки своей гипотезы о заселении Полинезии доказывает ее экспериментально, совершив экспедицию на плоту «Кон-Тики». Во время плавания моделировались не только древнеперуанское мореходное судоходство на плоту из бальсовых бревен, но и исторические события (миграция южноамериканских индейцев), а также реконструировался древний морской путь от Южной Америки в Восточную Полинезию.
Перед началом экспедиции Хейердал раздумывал: на чем плыть? Ведь в древней империи инков для мореходства использовались не только плоты из бальсы, но и камышовые суда. Предпочтение тогда было отдано внешне более солидному плоту. Однако хрупкая на вид камышовая лодка отнюдь не забыта. Напротив, исследуя доисторическое искусство Северной Африки, Западной Азии, Южной Америки, изучив в музеях разных стран и непосредственно на стенах древних храмов или в руслах высохших африканских рек многочисленные изображения камышовых судов, в том числе с мачтой и парусом, Тур Хейердал приходит к выводу о важнейшей роли таких судов в мировом мореплавании. Он обращает внимание, что камышовые суда еще сохранились до наших дней в водах, примыкающих к центрам крупнейших древних цивилизаций: в Южной Америке — на высокогорном озере Титикака, в Африке — на озере Тана в верховьях Нила и у развалин города Ликс в Марокко, в Азии — на реках Тигр и Евфрат, на Бахрейнских островах и индийском озере Нал, вблизи руин древнего Мохенджо-Даро.
По концепции Хейердала, именно на камышовых судах, которые на заре мирового мореходства имели неоспоримое преимущество перед деревянными судами того времени, были совершены первые трансокеанские плавания.
Экспериментальное доказательство этой глобальной идеи было осуществлено Туром Хейердалом в Атлантическом океане в 1969 и 1970 годах на папирусных лодках «Ра I» и «Ра II». В этих экспедициях была доказана не только мореходность папирусных ладей, но и что такие суда древних жителей Средиземноморья могли совершать трансокеанские плавания.
Дальнейшее развитие моделирования древнего судоходства — экспедиция на «Тигрисе», сооруженном из камыша берди, о которой вы только что прочитали. Экспедиция дала богатейший материал для размышлений.
В прежних экспедициях Тура Хейердала моделировались миграционные пути древних народов. Плавание совершалось большей частью в открытом океана в условиях свободного дрейфа. Главным было — прибытие в конечный пункт назначения.
В последней экспедиции реконструировались торговые пути исчезнувших цивилизаций. Совершалась она в несравненно более сложных условиях прибрежного плавания. И одной из основных целей экспедиции было научиться управлять древним судном.
Экспедиция показала практически неограниченную мореходность шумерского камышового судна, и, пожалуй, не так-то фантастична мысль Хейердала, высказанная на страницах книги о более дальнем плавании, чем в треугольнике древнейших цивилизаций: из Персидского залива в Атлантику.
Как видим, Тур Хейердал верен избранному более сорока лет назад научному пути, проникая все глубже в недра тысячелетий. В научных кругах многих стран, в том числе и у нас, отдается дань плодотворной научной деятельности норвежского ученого. Недавно Академия наук СССР присвоила Туру Хейердалу звание доктора исторических наук honoris causa.
В. Войтов
Тур Хейердал
Фату-Хива
Возврат к природе
Прощай, цивилизация
Возврат к природе? Прощай, цивилизация? Одно дело — мечтать об этом, совсем другое — осуществить мечту. Я сделал попытку вернуться к природе. Разбил часы о камень, перестал стричься и бриться. Лазил за пищей на пальмы. Оборвал все нити, которые связывали меня с современным миром. Решил босиком и с пустыми руками обосноваться в дебрях, слиться воедино с природой.
Сегодня меня прозвали бы «хиппи» — волосы ниже плеч, усы видно со спины. Я бежал от бюрократии, техники, от железной хватки двадцатого столетия. Единственная одежда, когда я вообще был одет, — цветастая набедренная повязка; жилище — сплетенная из золотистого бамбука хижина. Деньги не нужны, ведь у меня не было расходов: я возвратился в мир, где звери и босоногие люди могли сами добывать себе все необходимое, не задумываясь о завтрашнем дне.
Чем не мечта хиппи? Путешествие в другой, совсем другой мир… Но путешествие без наркотиков. Реальное, настоящее, тщательно продуманное и подготовленное.
И начал я готовиться к этому отчаянному предприятию еще в школе. Тогда я жил в увитом плющом беленьком доме, в маленьком городке у выхода из Ослофьорда. Ни тебе смога, ни загрязнения. Никакого стресса — ничего такого, что побуждало бы человека к бегству. Никаких хиппи. Самые большие здания в городе — деревянная церковь да принадлежащая отцу кирпичная пивоварня. Воздух чистый, речка прозрачная. В лесу спокойно можно пить из любого ручья.
В гавани тоже вода как стеклышко. Мальчишки любили посидеть с удочками на пристани, глядя на стайки рыбешек, которые подходили понюхать насадку. Видны камни и водоросли на дне. А поодаль стояли суда китобойной флотилии. Они привозили домой тысячи тонн жира, добытого далеко на юге, где в морях еще ходило несметное множество китов-великанов. Китобойный промысел, вывоз леса — маленький Ларвик процветал.
Между тем назревали перемены. Современная техника настолько облегчила бой китов, что промысловики загребали большие деньги. Пришло время подумать об осторожности. Океан казался безбрежным, ни начала у него, ни конца, оба полюса окружил… Но ведь и люди всюду проникли. Не выйдет ли так, что чело— век с его техникой истребит всех китов? Нет, не может быть. Ведь мир кита безбрежен. Голубой океан так же бесконечен, как голубое небо, они сливаются и вместе составляют частицу безграничного мироздания.
Взрослые как раз начали всерьез осваивать необозримый воздушный океан. На глазах мальчишек сказка становилась былью. Люди взмывали в небо с земли, будто ведьма на помеле или волшебник на ковре-самолете. Вместе с другими ребятишками я карабкался по черепице на самый конец крыши, чтобы покричать и помахать руками, когда ветер доносил рокот самолета, крохотной точкой парившего на краю неба. И мы дружно бросались к забору, чтобы посмотреть на первого шофера, который отважился подняться на своей машине по крутой улочке до самого нашего дома. Вот здорово! Только запах противный, совсем не такой, как от лошади.
На мощеных улицах Ларвика по-прежнему мерно цокали копыта, гремели железные ободья. А зимой и вовсе кругом бело и тихо; правда, к перезвону бубенцов иногда примешивались автомобильные гудки. Утром отец с удовольствием шел пешком в контору, после работы с наслаждением шагал домой, где его ждал мирный обед в кругу семьи и долгий послеобеденный сон. Никакой гонки, люди носили большие карманные часы, на них цифру от цифры отделяли широкие просветы.
Вечерами мы с отцом часто ходили на пристань посмотреть, какой улов взяли рыбаки. Полные ящики омаров, крабов, креветок, всевозможной рыбы — живность ползала, корчилась, билась, распространяя запах водорослей и соленого моря. Доставят тебе на дом свежий улов — язык проглотишь. Замороженную рыбу гурманы не признавали.
Из двух высоких окон моей спальни на втором этаже открывался великолепный вид на фьорд и спускающийся уступами город. Сквозь деревья просвечивали белые стены и красные крыши, на задних дворах горланили петухи. В противоположной стороне — невысокие лесистые пригорки, зеленые дали, ель и сосна, дуб и береза и даже единственная в стране большая буковая роща. Соскочил с кровати — и к окну. Зимой одно окно на ночь оставалось приоткрытым, и я спешил юркнуть под теплую перину, ограничившись одним взглядом на мерцающие фонари и летучие снежинки. Летом оба окна были распахнуты, и, когда взрослые думали, что я давно сплю, на самом деле я сидел и грезил на подоконнике. Услышу далекий звук рынды на отчаливающем судне — и стремглав к окну! Мысли уносили меня вслед за пароходом к выходу из фьорда, дальше, дальше, в сказочные тропические края где-то там за скалами, которые были словно ворота в открытое море. За этими воротами простирался огромный, необозримый мир, еще не до конца изведанный людьми.
Да, многое еще оставалось неизвестным. Амундсен дошел до Южного полюса незадолго до моего рождения; теперь он участвовал в соревновании — кто первым достигнет Северного полюса на самолете: ведь плавание Нансена на «Фраме» через Северный Ледовитый океан показало, что макушка нашей планеты покрыта дрейфующими льдами. Другие экспедиции, в более теплых широтах, передвигались пешком, как во времена Кортеса и Писарро, стирая белые пятна с карты мира.
Спасательные отряды пробивались в таинственные области Бразилии, где исчез полковник Фосетт, где бродили племена охотников за черепами. Африка и Азия были для меня не просто другими континентами, а чужими мирами, там жили странные люди, они вели себя иначе и думали не так, как мы…
Какой огромный мир окружал тогда человека! Ребятишки из соседнего дома вместе с родителями уехали в США. Америка — не одна неделя пути за далекий горизонт. Их провожали так, как теперь провожают астронавтов. Мы были уверены, что никогда больше о них не услышим.
Путешественникам, исследователем — вот кем я буду! Проникну в неизведанные области нашего неохватного мира пешком, на коне, на верблюде.
Планета Земля еще не успела заметно убавиться в объеме. Правда, Америка стала в четыре раза ближе, чем была во времена Колумба, но и то путь немалый. Три дня уходило у нас с родителями на то, чтобы из Ларвика по узкоколейке и на подводе добраться до нашей горной хижины за Лиллехаммером. И я был потрясен, когда друзья показали мне какую-то штуку под названием «радио» — квадратный ящик с дырочками; в эти дырочки мы втыкали провод от наушников и долго спорили, кто из нас на самом деле слышал чтото вроде далекой музыки.
Мир вступал в новую эпоху. Мои родители приветствовали ее с гордостью и радостным предвкушением. Отец уповал на разум, дарованный нам всевышним. Мать верила Дарвину и не сомневалась, что человек все время совершенствуется и сумеет сделать свою планету еще лучше. Мировая война — она разразилась в тот год, когда я родился, — больше никогда не повторится. Наука и техника помогут людям добиться прочного мира, и жизнь станет идеальной.
Я разделял пламенную любовь отца к природе и страстное увлечение матери зоологией и «примитивными» племенами, однако не понимал, почему родители так восхищаются стремлением современного человека порвать все узы, связывающие его с природой. От чего бежать? Или люди испугались обезьяньего предка, которого нарисовал им Дарвин? Всякое изменение мира вчерашнего, в чем бы оно ни заключалось, взрослые приветствовали и называли «прогрессом». Но «прогресс» означал отрыв от природы. Взрослые настолько увлеклись изобретениями и преобразованиями, что жали на всю катушку, не задумываясь, к чему это может привести. Видимая цель — мир, преобразованный человеком. Но кто главный архитектор? В моей стране я его не видел. Король английский и президент американский тоже не подходили к этой роли. Каждый изобретатель, каждый промышленник, кому только хотелось участвовать в строительстве будущего мира, совал кирпич или шестеренку куда и как попало, предоставляя следующему поколению судить о результатах.
В школе нам рассказывали про человеческий мозг. Дескать, к двенадцати годам заканчивается его формирование. А с нами и в шестнадцать лет обращались так, словно у нас только половина мозга. Как будто рассчитывали, что шестнадцатилетние станут лучше думать после того, как их свежие мозговые извилины пропустят через образовательную машину и напичкают до краев старыми догмами. Но ведь мы должны думать теперь. Должны уже теперь составить себе представление о том, что происходит на свете, не то придется нам слепо подчиняться и занимать отведенные нам места в поезде взрослых, поезде без машиниста.
Школа заведомо мошенничала, толкуя о развитии и прогрессе. Нам внушали, что после Эдема шел сплошной, непрерывный прогресс. В моем представлении учителя балансировали на канате, держа в одной руке Библию, в другой — Науку. И ухитрялись уйти так далеко, что не видно, — и не поймешь, добрались они до конца каната или нет. Нам говорили, что Бог сотворил человека. Дескать, Дарвин уточнил, как это происходило. Сперва были созданы обезьяны. Еще нам говорили, что Бог сотворил мир со всеми живущими в нем тварями за шесть дней. Дарвин считал, что на это ушло гораздо больше времени, но разве не сказано в библии, что для Бога один день равен тысяче лет и тысяча лет что один день. И ведь Эйнштейн установил, что время — вещь относительная. Так что тут у взрослых не было расхождения. К тому же естествоиспытатели соглашались с тем, что более двух тысяч лет назад писал автор Первой книги Моисея: жизнь зародилась не на суше, а в море. Лишь после того, как в соленом океане развелись полчища рыб и гигантских зверей, после того, как воздух наполнился летающими тварями, на суше закопошились всякие ползучие и иные животные. Современные исследователи подтверждали вывод неизвестных древних мудрецов о такой именно последовательности, подтверждали и то, что человек последним явился в мир, где уже были сотворены все растения и животные. Конструкция действовала полным ходом еще до того, как человек получил готовенькие легкие, сердце, органы чувств и мозг и начал размножаться.
В сложной структуре Эдема все было совершенно. В этом наука и библия тоже сходились. Бог был вполне доволен своим творением. Настолько доволен, что перестал творить и предался отдыху на седьмой день, между тем как люди бродили нагишом в райском саду. Нагишом, но всем обеспеченные, подобно всяким растениям и тварям.
Библия говорила, что Бог был милостив и не хотел, чтобы сотворенный им род человеческий голодал. Наука утверждала, что человек не выделился бы из животного царства, если бы природа не благоволила ему, не наделила его щедро всем необходимым.
Но на этом единогласие взрослых кончалось. Дальше учителя как бы пропадали вдали. Дальше начинался конфликт. Конфликт между творцом и творением, между правой и левой рукой балансирующих на канате преподавателей. Бог-то был доволен своим произведением, а вот человек — нет. Бог не сомневался, что даровал человеку совершенную среду, земной рай. Человек не соглашался с этим. Бог предался отдыху — человек принялся за работу. Человек стремился к прогрессу. Эдем его не устраивал.
Люди тоже трудились шесть дней, а на седьмой отдыхали, чтобы угодить Богу. Правда, они спорили между собой, какой день отводить отдыху — воскресенье, субботу или пятницу. Но и христиане, и иудеи, и мусульмане на восьмой день снова принимались за дело, усердно продолжали совершенствовать мир. Так шло сотни, тысячи лет. Пока Бог отдыхал, люди изобрели тачку и автомобиль. До динамита Бог тоже сам не додумался. Уразумел ли творец, глядя на нас, что не так уж он и всесилен? Не раздражало ли его, что все сотворенное им мы переделываем на свой лад? Верующие взрослые явно считали, что Бог возложил на нас ответственность за судьбы планеты, с тем чтобы мы строили и рушили, торжествовали и ошибались, радовались и страдали, всецело руководствуясь дарованным нам разумом и совестью. Если верно сказано, что Творец вознаградит нас или покарает в последующей жизни, смотря по нашему поведению, значит, мы и впрямь не застрахованы от ошибок. Но вот что меня озадачивало: взрослые твердят, что Бог создал природу, а сами ведут себя так, словно им грозит ад, если они не обрубят все узы, связывающие человека с природой. И даже безбожники, заявляющие, что человек создан самой природой, вели себя так, будто видели в природе кровного врага людей.
К шестнадцати годам мной овладело смятение. Вера во взрослых начала колебаться. Выходит, они вовсе не умнее нас, детей… Цепляются за окостеневшие идеи и ни в чем не согласны друг с другом. Волокут нас за собой неведомо куда, без ясной цели, лишь бы уйти подальше от природы. Давно ли бушевала ужасающая война? А они уже изобретают новое оружие, страшнее прежнего. Политика, мораль, философия, религия — кругом разногласия. Разве можно спокойно следовать по дорогам жизни за такими проводниками? Не лучше ли поискать более надежную тропу? Я чувствовал себя, будто узник в тюремном вагоне — узник, который исподволь готовится соскочить с поезда, идущего по неверному пути.
…Начинались тридцатые годы. В то время не было никаких хиппи. Ни один уважающий себя подросток не вздумал бы бунтовать против родителей, против школы. И каждый парень считал предельным унижением для себя в чем-то походить на девочку. Мой интерес к естествознанию непрерывно рос. Мне открывалась не только красота, но и замечательная мудрость в конструкции мира, унаследованного человеком. При каждой возможности я отправлялся в поход — в лес, в горы, вдоль фьорда. Стремление цивилизации оторвать человека от его исконной среды озадачивало меня. Нет, взрослые определенно затеяли что-то безумное…
Захотелось поделиться со сверстниками своими растущими подозрениями. Однажды, после урока физкультуры, задумавшись в раздевалке над этими вопросами, я брякнул своему товарищу, который натягивал «рубашку: — Эти машины… Не по душе они мне!
— В самом деле? — ухмыльнулся он, просунув голову в воротник.
В его голосе звучала такая издевка, что я был готов провалиться сквозь землю. Мои слова только смешили других… И я решил: больше об этом — никому.
Однако нашелся в классе парнишка, с которым явно можно было поделиться своими сокровенными мыслями. Рослый, плечистый, такой
же любитель бродить по лесу, как и я. И спорт не был для него всем на свете, он много читал, писал стихи, любил погрезить, пофилософствовать. Звали его Арнольд. Мало-помалу я открыл ему свои замыслы. Он слушал с великим вниманием. Я говорил, что задумал порвать с этой средой. Порвать начисто. Хочу вернуться к природе. Поселюсь где-нибудь в тропиках, где можно питаться тем, что растет на деревьях. Не желаю, став взрослым, жить в Европе, где за каждым углом нас подстерегает катастрофа. Вавилонская башня двадцатого века либо рухнет, либо родит новую ужасную мировую войну. Лучше убраться отсюда подальше.
С Арнольдом можно было отвести душу.
Но как провести мечту в жизнь? Нужна тщательная подготовка. Прежде всего физическая тренировка и закалка, ведь я никак не мог назвать себя крепышом, а впереди — трудные испытания. Один из моих друзей, Эрик, отчаянный сорвиголова, после средней школы ушел в море. И за два года развил как раз такую мускулатуру, какая была мне нужна. Эрик тоже не оченьто верил в современный прогресс. Он грезил об идеальном обществе в дебрях Африки или Мату-Гросу в Бразилии. Я так далеко не замахивался. Мне бы только найти девушку, которая согласилась бы вместе со мной осуществить задуманное.
Вместе с Эриком и его друзьями я впервые занялся спортом. Мы бегали в лесу, зимой становились на лыжи. В зимние каникулы устраивали походы, какими тогда в Норвегии мало кто увлекался: запряжемся в сани с палаткой и продуктами, уйдем на лыжах в горы и неделями ночуем там, вдалеке от людей. Потом мы отказались от палаток, брали с собой только теплые спальные мешки из оленьих шкур и либо зарывались в снег, либо сооружали иглу на эскимосский лад. Иллюстрированные репортажи о наших приключениях покрывали все расходы. Когда я получил здоровенную эскимосскую собаку в подарок от Мартина Мерена, который только что пересек на лыжах неизведанный еще массив Гренландии, мы стали забираться в горы дальше прежнего. Казан — так звали пса — тащил наш провиант, и мы с Эриком строили свои иглу на вершинах и ледниках нагорий Рондане и Ютюнхеймен. Сидя на «крыше мира», мы любовались упоительными видами, когда заходило солнце или всходила луна.
Наряду с книгами по естествознанию и истории первобытных культур из обширной библиотеки моей матери такое общение с природой давало мне больше, чем школьные учебники. Отметки у меня были средние, но я от этого не страдал. Меня занимало одно: как найти общий язык с природой? Как люди и звери в прошлом ладили с породившей нас средой?
Девушки… Они меня очень интересовали, но знакомиться я стеснялся. Под давлением родителей я учился в школе танцев, но все равно воспринимал девочек как людей другого вида, не представлял себе, что с ними можно разговаривать о чем-нибудь серьезном. Тем не менее возврат к природе я представлял себе только в обществе одного из этих заманчивых созданий.
По-настоящему жил я лишь во время каникул, когда забирался куда-нибудь в дебри. Под голубым небо — сводом выше границы леса я чувствовал себя куда увереннее, здесь-то я и решился преступить рубеж между полами — познакомился с очаровательной загорелой обольстительницей, которая тоже любила лыжные походы. Золотоволосая деревенская девушка, дочь местного пристава. Мы целую ночь проговорили у камина в горной избушке. Она была вовсе не против того, чтобы, окончив школу, вместе со мной возвратиться к природе.
И вот окончена школа, она отправилась в столицу, чтобы учиться дальше. И тотчас пала жертвой нравов большого города: губная помада, магазины, развлечения… Сам виноват, разве можно было делать ставку на деревенскую жительницу! Надо искать среди городских, которым уже надоела цивилизация. Летним вечером на горной тропе я встретил молодую цыганистую танцовщицу из Национального театра. Общие друзья познакомили нас. Ловля форели… Танцы у костра… Как она смотрит на то, чтобы покинуть город и вместе со мной возвратиться к природе? Согласна! Бурный восторг. Я нашел спутницу! А через несколько недель она начала поторапливать меня — надо скорее покупать билеты, ей не терпится стать королевой на каком-нибудь полинезийском острове! Как по мановению волшебного жезла, она перестала существовать для меня. Нет, девушки решительно не способны меня понять.
И тут, на вечере по случаю окончания школы, я встретил Лив. Все шутили, веселились. Прощай, школа! Все танцевали. Кроме меня. Я сидел один у открытого окна и глядел на фьорд, где за лодками переливался лунный след. Неожиданно я обнаружил, что рядом стоит мой товарищ и незнакомая девушка из другого города. Густые светлые волосы, улыбчивые голубые глаза. «К сожалению, я не танцую». Может быть, прогуляемся? Нет? Ну, тогда просто поговорим. Мы разговорились. Начали с анекдотов, перешли к философии. До чего же умные у нее глаза! Стоит рискнуть…
— А как ты смотришь на возврат к природе? — спросил я вдруг.
— Только чтобы по-настоящему, — ответила она твердо, не раздумывая.
Ее слова меня убедили. Она меня поняла.
Она достойна того, чтобы участвовать в эксперименте. Мы условились встретиться после летних каникул. На самом деле нам удалось увидеться вновь лишь после того, как Лив приехала в Осло, чтобы начать занятия в университете. Я выбрал зоологию и географию, за нее выбрал отец, выбрал, к моему ужасу, политическую экономию.
В моем выборе зоологии как главного предмета отразилось детское увлечение природой. А география должна была помочь мне подготовиться к эксперименту, найти место, где будет лучше всего проводить его в жизнь. Мой интерес к первобытным народам и другим культурам не ослабевал. Теперь внимание сосредоточилось на Полинезии. На неолитическом народе, заселившем далекие острова на востоке Тихого океана. Но какой университет ни возьми, на этнологию Полинезии отводилось всего несколько часов. Мне фантастически повезло. Лучшее в мире частное собрание книг и ученых трудов о Полинезии принадлежало одному состоятельному виноторговцу в Осло. Бьярне Крэпелиен провел счастливейшие годы своей жизни в семье полинезийского вождя Терииероо на Таити. Возвратившись в Европу, он принялся собирать все издания о Полинезии и полинезийцах, где бы и когда они ни печатались. Мои сокровенные планы заинтересовали Крэпелиена. Он разрешил мне пользоваться своей богатой библиотекой, принимал меня в своем доме, как сына. И хотя я формально занимался зоологией, все свободные чаеы я рылся в книгах удивительной его библиотеки, читал про Полинезию и ее обитателей.
Занятия по зоологии не оправдали моих надежд. Нам очень мало говорили о диких животных, об их взаимоотношениях с природой. Мы разрезали внутренности и разглядывали их в микроскоп. Отсекали ножки саламандрам и пересаживали на спину. Проверяли закон Менделя, выращивая в банках тысячи банановых мушек и подсчитывая число волосков у них на спине. Выходили на лодках в залив и ловили тралом всевозможных морских животных, но не затем, чтобы изучать их взаимоотношения со средой, а затем, чтобы определять и зубрить латинские наименования. Средой занимались в самом узком смысле, схематически, микроскопически. Кто же в конечном счете лучше познавал природу — мы или зоркие, пытливые полинезийцы? Они делали упор на то, что приносило больше пользы человеку. Мне же полагалось подходить к природе так, как подходят ученые, а не полинезийцы. Добывать знания, не задумываясь над их пользой и целью.
Лив годом позже меня приехала в Осло. Она по-прежнему была готова участвовать в моей попытке осуществить возврат к природе. Но перед нами стояли немалые трудности. Минул год, минул другой, а мы все ходили каждый по своим университетским лестницам, нагруженные учебниками по совершенно различным темам.
Только отец мог дать мне денег на поездку в тропики. Только мать могла уговорить его сделать это. Только мои профессора могли убедить ее, что это толковая идея. Только продуманная программа исследований могла побудить моих профессоров одобрить план, подразумевающий далекое путешествие поездом и пароходом на противоположный конец земного шара. Я должен был получить теоретическую подготовку, чтобы потом написать дипломную работу на какую-нибудь специальную тему, связанную с облюбованным мной далеким краем. Подготовка требовалась не только для того, чтобы попасть в желанные широты, но и чтобы по возвращении я мог содержать жену и детей, если против всех ожиданий нам все-таки придется вернуться в цивилизованный мир.
После семи семестров и после консультаций со специалистами в Берлине я составил проект, который получил поддержку моих профессоров — зоологов Кристины Бонневи и Ялмара Броха. Отправлюсь на изолированный остров в Тихом океане и попытаюсь выяснить происхождение его животного мира. Как развивалась фауна настоящего океанического острова, не связанного ни с какими материками, выросшего, так сказать, из морской пучины. Сперва над водой поднялись стерильные потоки раскаленной лавы. Лишь после того, как лава остыла, на нее могли попасть разные живые твари — кто вплавь, кто по воздуху, кто с помощью ветров и течений, а кто и на лодках вместе с человеком. Преобладающие ветры и течения, несомненно, играли важную роль; здесь очень кстати пришлись мои занятия географией.
Вот как получилось, что на четвертый год занятий мои профессора убедили мою мать, а мать убедила моего отца ссудить меня деньгами на долгое путешествие. Расходы на месте в счет не шли, ведь главная идея как раз в том и заключалась, чтобы вести такой же образ жизни, какой вели первобытные племена.
Итак, препятствия на моем пути стали исчезать. Настал черед Лив, а она была сильно привязана к своим родителям в Бревике. До сих пор ее терзания ограничивались стертыми ногами — я уговорил Лив ради нашего общего дела летом ходить в лесу босиком, чтобы подготовить кожу к предстоящим испытаниям в дебрях. Я добился разрешения родителей уехать, теперь дело было за ней. Но легко ли махнуть рукой на политэкономию, на которую потрачено столько собственного времени и отцовских денег. И без согласия родителей она никак не могла уезжать, так как еще не достигла совершеннолетия.
Моя мама только обрадовалась, когда я сказал, что собираюсь взять с собой Лив. В самом деле, со мной будет девушка, которую она хорошо знает, которая ей нравится. Это совсем не то, что отпускать сына в одиночку на другой конец света, на острова, прославившиеся легкомысленными представительницами женского пола. Не столь романтично настроенный отец смотрел на дело иначе, опять-таки из-за полинезийских прелестниц. Но и он в конце концов не устоял против красноречия мамы и обаяния Лив.
Самое трудное наступило, когда Лив села писать письмо своим респектабельным родителям. В обертке из красивых фраз жестокие слова: прощай, политэкономия, прощай, цивилизация. Выхожу замуж и уезжаю на Маркизские острова. Мама Лив с ужасом прочитала письмо вслух. Отец тяжело оторвался от кресла и проследовал к книжной полке. Энциклопедия… «М» — Маркизские острова… Господи! Чуть ли не в центре Тихого океана. К тому же старая энциклопедия сообщала, что жители Маркизских островов известны людоедством и безнравственным поведением.
Гром и молния. Понадобилось Немало времени, понадобились новые письма плюс посредничество моих родителей, прежде чем возмущенный будущий тесть смирился и дал согласие на то, чтобы какой-то неизвестный студентишка умыкнул его единственное чадо.
Лив было только двадцать лет, мне двадцать два, когда мы вдруг ощутили себя вольными птицами. Кругом зеленый свет. Ничто не мешает нам осуществить свою мечту. Прощай, цивилизация. Здравствуй, природа.
Об окончательном выборе места назначения рассказано в книге о наших приключениях, которая вышла два года спустя. Вышла в Норвегии незадолго перед тем, как Европа была ввергнута во вторую мировую войну. Войну, которую мы предвидели, которой мы опасались…
В тысячный раз склонились мы над пятнистой картой Южных морей. В тысячный раз пристально вглядывались в океанские просторы, надеясь высмотреть точку, которая нас устроит. Одну нетронутую точку среди тысячи рифов и островков! Точку, которую мир еще не заметил, крохотное пристанище, где можно укрыться от железной хватки цивилизации.
Но заманчивые точки одну за другой, одну за другой перечеркивали маленькие крестики. Долой, не годится! Об этом говорили и объемистые труды, и краткие очерки.
Раротонга — крестик: вдоль всего побережья проходит шоссе.
Моореа — крестик: отели, туристы.
Мотдне — крестик: нет питьевой воды.
Хутуту — крестик: нет плодовых деревьев.
Крестик тут (военно-морская база), крестик там (остров мал и густо населен). И вот уже весь лист испещрен крестиками, словно карта звездного неба. И такой же бесполезный для нас.
Чтобы жить, как наши предки, добывая себе пищу голыми руками, требовались совсем особые условия: цветущий край и полное безлюдье. Но все плодородные земли заняты людьми. А там, где нет населения, без помощи цивилизации не обойдешься. Вот почему материки — страна за страной, область за областью — сплошь покрылись крестиками. И теперь настала очередь островного мира Южных морей. Со всех сторон в него вторгались крестики, и кольцо смыкалось все уже.
У самого экватора, где красными стрелками мчится по карте пассат, раскинулись тринадцать островов Маркизского архипелага. Тринадцать крестиков… И когда на карте не осталось ни одной незачеркнутой точки, сюда, к этим удивительным островам, потянулся ластик.
Нуку-Хива, Хива-Оа, Фату-Хива. Это главные, самые большие. Фату-Хива — живописнейший, благодатнейший остров Южных морей! Мы готовы были без конца читать о нем, разглядывать заманчивые картинки.
Некогда на Маркизских островах было сто тысяч жителей. Теперь осталось две тысячи, да и то часть из них — белые пришельцы. Полинезийцы вымирают с ужасающей быстротой.
А Фату-Хива — благодатнейший остров Южных морей!
Девяносто восемь тысяч исчезли — значит, место есть… Неужели среди древних развалин не найдется уединенного уголка, неужели нет клочка земли, куда не проникли болезни, где не привилась цивилизация и в заброшенных, одичавших садах зреет множество плодов?
Хорошо бы найти необитаемую долину, или маленькое горное плато, или живописный уголок на берегу. Соорудить себе жилье из ветвей и листьев. Добывать пропитание в лесу. Питаться плодами, яйцами, рыбой. Кругом — природа. Пальмы и кустарники. Птицы и звери. Солнце и дождь.
Там мы могли бы осуществить эксперимент — вернуться в дебри. Расстаться с современностью, с цивилизацией, с культурой. Сделать прыжок на тысячи лет назад. Познать образ жизни первобытного человека. Познать истинную жизнь во всей ее простоте и полноте.
Возможно ли это? Теоретически — да. Но что нам теория, мы хотим проверить это на деле! Попробовать, сможем ли мы двое, мужчина и женщина, жить так, как жили наши далекие предки. Сможем ли мы совершенно отречься от своей нынешней искусственной жизни и во всем — да, во всем — обходиться собственными силами, совершенно не пользуясь достижениями цивилизации, всецело уповая на природу.
Заманчивый Фату-Хива… Уединенный гористый островок. Богатый солнцем, фруктами, пресной водой. Почти безлюдный. А белых и вовсе нет. Мы обвели Фату-Хива жирным кружком.
С моря на город полз зимний туман…
Вот как получилось, что мы в морозное рождественское утро, провожаемые леденящим ветром, отбыли в свадебное путешествие на остров Фату-Хива.
Над морем вырастал Таити. Мы обоняли аромат тропического края. Теплое, благоухающее, пряное веяние дошло до нас еще до того, как над горизонтом на западе поднялись окутанные дымкой вершины. Пассажиры из девятнадцати стран, которым за полтора месяца изрядно приелся запах судовой машины и соленого океана, толпились вдоль борта, вдыхая ласковый воздух и пытаясь рассмотреть берег у подножия голубеющих гор. Полтора месяца на огромном пароходе, отчалившем из Марселя. Тогда это был единственный способ попасть на Таити, если не считать маленького норвежского сухогруза, который изредка заходил на остров из Сан-Франциско. Таити — далекие дали, край света. А Маркизские острова — еще дальше, неведомая земля для всех бюро путешествий.
Когда мы в бюро Кука показали на карандашный кружочек, обрамлявший Фату-Хиву, соединенными усилиями удалось выяснить, что ближайшее от острова место, куда можно купить билет, — Таити. А уж дальше остается только надеяться на какую-нибудь местную шхуну торговцев копрой.
И вот из моря поднимается Таити, окропленный соленой влагой, каскады прибоя так и пенятся на коралловом рифе. Зазубренные пики акульими зубами впиваются в бегущие через небо пассатные облака. Знаменитые вершины Диадема и Онохона (первыми на них поднялись Бьярне Крэпелиен и вождь Терииероо) вздымались на две тысячи метров над зелеными холмами и отороченным пальмами пляжем. Гоген, Мелвилл и Голливуд нисколько не преувеличивали. Здесь сама природа ударилась в гиперболы. Глаза не верили, что возможна такая восхитительная красота.
И мы запели мелодичный и плавный гимн Таити, сочиненный кем-то из местных королей: «Э мауруру а вау» — «Я счастлив». Поэты и живописцы, дельцы и чиновники, туристы и искатели приключений — всех нас объединяло чувство, что мы приближаемся к утерянному раю, вновь обретенному среди океанских просторов. Навстречу нам плыли райские кущи, свежие, прохладные, ярко-зеленые, точно корзина цветов качалась на волнах.
Мы услышали рев прибоя во всей его мощи. Увидели красный церковный шпиль, пронзивший плотный полог тропической листвы. Дома, дома… Папеэте, столица Французской Океании
[77]. Пароход убавил скорость. Мы проскользнули через просвет в коралловом рифе, между стенами ревущего прибоя. Маленькая спокойная гавань. Огромный пакгауз с железной крышей, полная пристань людей. И хотя бы один человек в набедренной повязке… Все были одеты, как мы. Многонациональный отряд пассажиров пел и ликовал. Пусть знают, что мы люди дружелюбные, такие же простые и свободные, как они! В невозмутимой толпе на пристани кто-то поднял шляпу в знак приветствия, кто-то помахал рукой; на трапе таможенники и одетые в белые мундиры представители эмиграционных органов взяли под козырек. Сладкий, чересчур сладкий запах копры из пакгауза наполнял теплый воздух. Тысячи мешков с копрой ждали отправки, это за ними пришел наш пароход.
В то время на Таити насчитывалось около двадцати тысяч жителей, большинство — полинезийцы, чистокровные или с какой-нибудь примесью. Маленькую столицу Папеэте заполонили китайские торговцы, им принадлежали все мелкие лавки и несколько ресторанчиков, не считая множества тележек на улицах, в которых продавались сладости и другие товары. Остальную часть города составляли губернаторский дворец, почтовая контора, горсточка французских магазинов и колониальных учреждений, кинотеатр из бамбука, церкви, две простенькие гостиницы и несколько улиц, застроенных деревянными домами. Дальше лес и покрытые папоротником крутые склоны предгорий Диадемы, господствующей со своими пиками над центром острова. А влево и вправо от города тянулась окаймляющая весь остров узкая полоса плоской низменности с цитрусовыми, кокосовыми пальмами, банановыми плантациями, могучими хлебными деревьями, манго, папайей. Тут и там между деревьями приютились домики коренных таитян. Мы не собирались задерживаться в маленькой столице, нас манил мир экзотики…
После нескольких ночей в гостинице, где соседи, встав на кровать, могли заглянуть к нам через перегородку, мы решили совершить вылазку за город. К тому же выяснилось, что шхуна с далеких Маркизских островов ожидается не скоро.
Открытый автобус — на подножке и на крыше людей, поросят, кур и бананов больше, чем на деревянных сиденьях, — затрясся по узкой грунтовой дороге, протянувшейся в обе стороны от города вдоль тихой лагуны, обрамляющей часть острова. Дорога обрывалась в густом лесу, кольцо вокруг Таити еще не сомкнулось. На северном берегу, в пятнадцати километрах на восток от Папеэте, раскинулась долина Папеноо. Она довольно круто спадала от одетых папоротником гор до береговой равнины, где вливалась в море одноименная речушка. Защитный барьер кораллового рифа в этом месте расступался, и прибой с грохотом обрушивался на рокочущую гальку. Великолепный дикий сад, Гаити в полном блеске… Здесь жил повелитель семнадцати таитянских вождей Терииероо а Терииерооитераи, друг Бьярне Крэпелиена. Здесь было посеяно зерно, из которого выросла столь хорошо известная мне библиотека. Здесь Крэпелиен познакомился с дочерью Терииероо, Туиматой. И сам же похоронил ее, когда тысячи таитян-крепышей скосила испанка, разразившаяся на острове вскоре после первой мировой войны. Крэпелиен вместе с другими вывозил полные телеги покойников. Его собственная книга о Таити заканчивается у могилы Туиматы. Тут, писал он, похоронено мое сердце. Сам он решил больше никогда не возвращаться в Полинезию, но послал с нами подарки своему старому другу Терииероо.
Вождь Терииероо встретил нас перед хижиной — огромный и благодушный, сильный и тучный. Его супруга, по всему видно, хорошая хозяйка, держалась в двух шагах позади и улыбалась так же добродушно. Оба босые, на обоих — пестрая пареу, у мужа от пояса вниз, у жены от плеч. Нас еще не представили, а мы уже ощутили излучаемое ими расположение.
Бьярне Крэпелиен! Бьярне! Мы друзья Бьярне? Полный восторг. Нас чуть не на руках внесли в дом, никто и слышать не хотел, когда мы заговорили о том, что автобус ждет, мы думали на нем вернуться в Папеэте… Нас буквально похитили в долине Папеноо, и мы с Лив почувствовали себя как дома. И ведь у нас с ней до сих пор не было своего дома. Терииероо обещал, что его друзья в Папеэте дадут нам знать, когда какой-нибудь капитан соберется идти на Маркизы. Возможно, это будет в следующем месяце. Возможно, позднее. На эти отсталые Маркизские острова отправляются только тогда, когда капитан посчитает выгодным для себя совершить рейс за копрой. Тамошние жители не ахти какие работяги, а что за резон капитану отправляться в долгий путь, если нет уверенности, что он привезет груз высушенной на солнце мякоти кокосовых орехов.
Терииероо был в наших глазах могущественным островным королем, благородным и справедливым человеком. Так смотрели на него в общем и все островитяне, хотя подлинная власть была сосредоточена в руках французского губернатора в Папеэте. Терииероо получил орден Почетного легиона за лояльность к Франции. Однако он не страдал честолюбием, хотя считал делом чести утверждать радость и справедливость в своем непосредственном окружении и среди друзей своих друзей. И ему доставило большое удовольствие пригласить друзей и попотчевать их роскошным полинезийским обедом, который радовал и глаза, и желудок. Все, что подавалось на стол, было собрано или поймано самолично Терииероо и его сыновьями, а превращено в украшенные цветами лакомые блюда его супругой Фауфау Таахитуэ.
В Папеноо мы вплотную познакомились с полинезийским образом жизни. Здесь не знали таких явлений, как безработица, скука, стресс или расточительство. Земля, океан и река снабжали маленькую общину всем необходимым, и никому не приходило в голову ради быстрой наживы усилить использование природных ресурсов. Благосостояние в долине Папеноо измерялось иначе, чем у нас, не наличным имуществом, а душевным комфортом. У моих новых друзей я увидел то, о чем читал раньше: в Полинезии, если хочешь доставить радость себе и завоевать уважение других, делись, не скупясь, материальными благами, которыми ты располагаешь. Просто удивительно, как мало полинезийцы дорожили личной собственностью.
Терииероо был не только чудесным человеком, но и превосходным оратором. Во время празднеств он вставал во весь свой могучий рост и произносил великолепные речи на французском и полинезийском языках. А для меня он, знаток практических сторон зоологии и этнографии, о которых я не мог узнать из книг, стал к тому же новым учителем. Настоящий полинезиец, каких уже тогда оставалось совсем мало, Терииероо в отличие от многих своих соотечественников гордился древней культурой предков. Он вовсе не был склонен считать, что новый, европейский образ жизни принес островам только благо. И наш замысел пожить так, как жили первобытные люди, тотчас увлек вождя. Ударив по столу ладонью, он объявил жене, что, честное слово, отправился бы с нами на Маркизы, будь он помоложе. Эти острова под экватором
— совершенно особенный мир. Один его друг побывал там. До ста орехов на одной кокосовой пальме! В долинах — обилие диких плодов, особенно на самом южном острове, Фату-Хиве. В лесах сколько угодно апельсинов, не то, что на Таити, где за ними надо лезть в горы. Даже феи — любимые красные бананы Терииероо — там растут внизу, в долинах. На Таити только опытные скалолазы, у которых пальцы ног цепкие, как у обезьян, собирают феи на крутых горных склонах и продают на базаре в Папеэте. И европейская бурая крыса еще не добралась до Маркизских островов, там нет надобности обивать пальмовые стволы жестью, чтобы уберечь орехи от этой новой нечисти. Вождь не сомневался, что на Маркизах по-прежнему жили так, как некогда на Таити. Ведь и здесь в прошлом феи и другие, ставшие редкостью, разновидности бананов росли в долинах. Теперь бесполезно даже пробовать их сажать — тотчас гибнут от болезни.
За едой Терииероо и Фауфау молчали. Как и дети, участвовавшие в трапезах. Приличия требовали наслаждаться пищей и не мешать другим болтовней. Рыгнуть раз-другой после еды не только полезно, но и позволительно, чтобы выразить свое удовольствие. А потом можно и побеседовать.
В первый день все пользовались вилками и ложками. Но когда вождь услышал про наш замысел, вилки и ложки убрали, и он показал свои пальцы. Чистые. Этикет предписывал мыть руки перед едой. Тремя пальцами Терииероо отломил кусок печеного плода хлебного дерева, окунул в густой белый кокосовый соус, отправил в рот и размял языком. И объяснил, что вот так положено наслаждаться вкусом изысканного блюда. Дескать, вы, европейцы, до того привыкли металл в рот совать, что уже и не замечаете, как портите и перебиваете вкус еды. Следом за ним и мы принялись есть пальцами и начали склоняться к мнению, что совать в рот холодное железо в самом деле варварство.
Пока моя невеста, обливаясь потом, шуровала ветками и сучьями в открытой земляной печи Фауфау, учась делать съедобными и лакомыми невкусные, подчас даже несъедобные полинезийские плоды и корнеплоды, вождь водил меня вверх по реке и вдоль берега моря и показывал, где происходит сбор продуктов. В реке — речные раки, в лагуне — множество всякой рыбы и ракообразных, каракатицы и прочие живописные твари, которых можно было бить копьем, ловить сетью, на крючок или просто руками. Съедобные корни опознавались по торчащим над землей листьям. Не все, что манило взгляд, было полезно для желудка. Попадались ядовитые рыбы, корни, плоды. Мясо акулы невкусное, а то и вредное из-за мочевины, но нарежь его и вымочи в воде — и на другой день получится отменное блюдо. Для приготовления рыбы и прочих продуктов моря не обязательно было разводить огонь, достаточно нарезать их мелкими кубиками и залить на ночь лимонным соком. Красные горные бананы сырыми не ели. И плоды хлебного дерева тоже, разве что закопать их в землю и дать перебродить. Опасный корень — маниок, его полагалось искрошить и отфильтровать яд. Чтобы развести огонь трением, лучше всего взять два сухих сучка гибискуса, один заточить наподобие карандаша и долго тереть им по желобку второго, расщепленного вдоль.
Терииероо считал, что мы спокойно можем отказаться от всех благ цивилизации; только два предмета даже он считал необходимыми: котелок и длинный нож — мачете. Без котелка многие из продуктов леса будут несъедобными для современного человека, а без ножа мы не сможем даже заострить кол, который нужен, чтобы содрать с кокосового ореха толстую защитную кожуру.
На камнях в реке сидели улитки в колючих раковинах, напоминающие маленьких морских ежей. Нам объяснили, что на них лучше не наступать, особенно европейцам, у которых подошвы ног совсем тонкие — не то что у наших полинезийских друзей, снабженных от природы толстой кожаной подошвой. И я внимательно смотрел под ноги, когда однажды утром отправился на речку за раками. Может быть, у другого берега больше раков? Проверю… Посередине река была довольно глубокая, и течение быстрое, дно не разглядеть. Ой! Я со всего маху наступил на колючую улитку и потерял равновесие. Стремнина не давала подняться на ноги, и бурное течение увлекло меня к устью. Даже самый посредственный пловец справился бы с течением, да только я не принадлежал к их числу. К моему величайшему стыду, я вообще не умел плавать. В детстве я однажды бултыхнулся в воду с пристани и попал в водоворот под скалой; в другой раз зимой пошел ко дну, прыгнув на льдину среди широкой проруби, где рабочие отцовой пивоварни заготавливали лед для холодильника. После этих приключений я боялся глубоководья. Меня невозможно было убедить, что я буду держаться на воде, если научусь правильно двигать руками и ногами.
И вот теперь, под пальмами Таити, я снова во власти воды… Барахтаюсь, хватаю ртом воздух, размахиваю руками, а течение несет меня, словно мешок картошки, прямо к яростному прибою, который буйными каскадами обрушивается на гальку, как будто тысячи танков наступают на берег с моря. Все ближе и ближе оглушительная канонада, ревущий накат, рокот перекатываемой гальки. Там я живо превращусь в фарш… Быстрее соображай! Не позволяй панике парализовать тебя — думай! Овладел собой? Так, спокойно. Размеренно двигая руками, я поплыл. Я ведь знал, как надо плыть, просто никогда еще не пробовал. Легко выбрался из стремнины на берег, предоставив гальке скрежетать зубами в белой от пены, разинутой пасти моря. Долго стоял я на траве и смотрел на беснующиеся волны, от гнева которых сумел уйти. Тропическое солнце обжигало кожу. Я прошел вверх по реке, нашел тихую заводь, нырнул и поплыл по кругу, словно лягушка. Появился Терииероо, тоже нырнул и стал рассекать воду кролем. Здорово! Я не сказал ему, что еще никогда в жизни не плавал.
Вес Терииероо не позволял ему самолично показать мне, как полинезийцы взбираются на кокосовую пальму. Зато его внук Биарне, названный в честь старого друга вождя, уперся в ствол руками и ногами, выгнул спину дугой и пошел вверх так же легко, как я шагал бы по столбу, положенному на землю. Вспомнив, как мы, ребята, взбирались на гладкий ствол сосны, я обнял пальму и полез в лучшем скандинавском стиле, прижимаясь к дереву грудью. К моей радости, оказалось, что лезть на кокосовую пальму легче, чем на сосну — до самой кроны, напоминающей папоротник, ствол окружала частая и мелкая кольцевая насечка. Добравшись до верха, я гордо помахал рукой моим друзьям и попытался сорвать кокосовый орех. Куда там! Плодоножка тугая, словно кожаный ремень. Я быстро запыхался и почувствовал, что пора слезать. Не тут-то было, острые кромки насечек были обращены вверх. Курам на смех: вишу на макушке пальмы и не знаю, как спуститься… Я отчаянно цеплялся за голый ствол. Попробовал выгнуть спину на полинезийский лад, но едва не сорвался и поспешил обнять пальму на скандинавский лад. Что делать? Окончательно выбившись из сил, я подчинился закону тяготения и ракетой скатился вниз. Ощущение того, что часть моей кожи осталась на стволе, заглушило боль в седалище. Словно по мне сперва прошлись спереди наждаком и рашпилем, а напоследок врезали кулаком сзади. К тому же Терииероо увидел, что у меня наполовину оторван ноготь на большом пальце ноги. Взял клещи, вложил все свои сто тридцать килограммов в мощный рывок и избавил меня от ногтя.
Прошло две недели, прежде чем я научился правильно влезать на небольшие пальмы и, держась за ствол, преодолевать упорное сопротивление плодоножки, соединяющей орех с пальмой. А ведь еще надо было следить, чтобы не растревожить какое-нибудь осиное гнездо или огромных тысяченожек.
Гордостью Папеноо была автомашина Терииероо. Машины, тогда вообще были редкостью на острове, и у нас подчас уходило больше времени на то, чтобы крутить ручку, копаться в моторе и толкать злосчастный экипаж, чем дойти пешком до Папеэте. Но Терииероо, который легко отмерял десятки километров по горам, предпочитал ездить в Папеэте на своем автомобиле. Понять его было нетрудно, и мы присоединялись к нему. Бродить по лесам и холмам Папеноо было сплошным удовольствием, ведь там мы обходились легким пареу, и теплый воздух только ласкал кожу. А для поездки в город полагалось одеваться на цивилизованный лад. В белом костюме Терииероо с лихо закрученными усами напоминал банкира начала века. Страшными словами поносил вождь огромные теннисные туфли, которые нещадно жали его растопыренные пальцы, а галстук он повязывал с видом висельника, который сам себе надевает петлю на шею. Я никак не мог удовлетворительно объяснить ему, в чем смысл этого давнего изобретения. Превратившись из веселых полинезийцев в серьезных граждан этого французского филиала моего собственного мира, мы крутили, и толкали, и тряслись пятнадцать километров, отделявших нас от улочек Папеэте.
У Терииероо были дела в колониальной администрации; мы с Лив бродили по улицам в толпе торопливых китайцев. На пути к живописному рыбному рынку нам однажды встретился Ларсен. Ларсен из Норвегии. Худощавый человек в соломенной шляпе и полосатых шортах подошел и сказал, что по акценту узнал в нас земляков. Мы как раз мобилизовали все наше школьное знание французского языка, пытаясь побольше выведать о представителях фауны, выставленных для продажи тем, кто пришел не просто полюбоваться красочным зрелищем. Ларсен представился: в прошлом учитель, теперь один из здешних старожилов. Мы не против встретиться сегодня вечером с его друзьями дома у него, за городом в Фаутауа?
Мы пришли и познакомились с Калле Свенссоном из Швеции и Чарли Хэллигеном из Англии. Сидя на самодельных скамейках за столом на террасе Ларсена, мы угощались пивом при свете керосиновой лампы, который озарял ближайшие растения тропического сада.
— Ну и как вам нравится Таити? — прозвучал первый вопрос.
— Природа нравится. Мы даже не представляли себе, что может быть такая красота.
— Одной красотой не проживешь. Кстати, в Швеции тоже красиво, — заметил Свенссон, вылавливая из кружки большого мотылька.
— Не так, как здесь, — возразил я, указывая кивком на огромные банановые листья, которые поглаживали темное звездное небо.
Луна освещала тяжелые зеленые гроздья. Теплый воздух был напоен густыми запахами. Плодородие. Цветение. Красота.
— Конечно, после стольких лет разлуки вам все на родине представляется краше, чем есть на самом деле, — продолжал я. — Вы уже не воспринимаете здешнюю сказочную природу. А мы только что расстались с туманами бесснежной зимы, можем сравнить свежие впечатления.
Мы с Лив принялись перечислять повседневные проблемы нашей родины. И до чего же все великолепно здесь, на Тайги! Нам хотелось, чтобы они по-настоящему осознали, как им хорошо тут, в островном раю, о котором мечтает весь мир.
Но плечистый Свенссон стоял на своем. Его тянуло домой. Домой в Швецию, вместе с женой-таитянкой и детьми. Пока они еще не испорчены местной безнравственностью. Напрасно мы пытались разрушить его иллюзии.
— Вы здесь новичок, — добавил он. — Погодите с месяц, сами увидите. Вы ослеплены, как все новички. Таити — потерянный рай.
Хэллиген опустошил свою кружку. У маленького, тихого, немногословного англичанина тоже наболело.
— Рай обретает тот, — спокойно произнес он, — кто возвращается на родину.
Он уже двадцать лет жил на Таити.
— А вы откуда родом? — удивился я.
Хэллиген родился в Лондоне. В Лондоне!
— Вот-вот, — восторженно подхватил Ларсен. — Вы только подумайте — в Норвегии растет крыжовник.
Крыжовник? Я опешил. Он серьезно? Толкует о крыжовнике здесь, где деревья гнутся от тропических плодов. Я показал на его одичалый сад. На каждом дереве, на каждом кустике — экзотические фрукты или цветы. Вон лимонное дерево, а совсем рядом с моим локтем свет лампы озарял красные кофейные ягоды.
— Куда им до крыжовника. Только подумать: стоишь в саду и не сходя с места ешь крыжовник до отвала!
Бывший учитель из Мосса сдвинул шляпу на затылок, и лампа озарила его мечтательное лицо.
— Но ведь вы побывали на Таити еще до того, как приехали насовсем, — заметил я. — Почему же вы вернулись сюда, если вам здесь не нравится?
— Молодой человек, — сказал Ларсен, — тогда Таити был совсем не тот, что сегодня. Каких-нибудь четыре года назад белый еще что-то представлял собой на острове. Теперь все переменилось. Островитяне смеются над нами за нашей спиной. Я-то понимаю язык и слышу, как они прохаживаются на наш счет. Все эти восторженные туристы, эта реклама, которая расхваливает Южные моря, избаловали их, они зазнались. Каждый, кто приезжает на Таити, пишет книгу о своем путешествии. Чтобы книгу покупали, в ней непременно надо расписывать рай. А иначе кто станет ее читать? Людям нужна романтика, чтобы было, куда уноситься в мечтах. Таити — воплощение такой романтики. Полинезию положено преподносить американцам и европейцам такой, какой она была во времена капитана Кука. Мы занимаемся самообманом и снабжаем гавайскими гитарами народ, который до прихода европейцев вообще не знал струнных инструментов, привозим цветастые набедренные повязки из Франции и лубяные юбочки из США. Сочиняем чувствительные песенки для островитян, чтобы они исполняли их в бамбуковом кинотеатре Папеэте для искателей рая. Таити обязан прикидываться примитивным, чтобы привлекать туристов, чтобы книги находили сбыт, чтобы удовлетворять посетителей кино. И чтобы нас не мучила совесть при мысли о том, что сделали европейцы со здешними островами.
Наступила тишина. Я понимал, что слова трех старожилов не пустая болтовня.
Терииероо заехал за нами, и мы покатили в Папеноо, обуреваемые смешанными чувствами. Вид ночного Таити с пальмами, с огромными листьями на фоне светлой лагуны был прекрасен, как всегда, но нам казалось, что мы сидим в театре, где оперные декорации оставили на сцене, чтобы использовать для эстрадного представления…
У нас отлегло от души, когда мы вернулись в бунгало Терииероо. Папеноо резко отличался от Папеэте. Конечно, со времен капитана Кука и тут наступили перемены, однако мало что изменилось после Крэпелиена и Поля Гогена. Дом-то европейский, зато атмосфера полинезийская. Смесь, но смесь без подделок, а хорошая или дурная, это уже другой вопрос. На всем Таити мы нигде не видели старинных построек. Ни одной кровли из пальмовых листьев. Все дома, даже самые маленькие и бедные, — из дорогих привозных досок, с крышей из рифленого железа. Терииероо ворчал, считая, что старые дома из бревен или бамбука, крытые плетенкой из пальмовых листьев, куда лучше подходили к здешнему климату. Никаких расходов, надежная защита от дождя, прохладно и уютно. Деревянный дом Терииероо был таким же неприглядным, как остальные, и духотища в нем такая же. Днем тропическое солнце накаляло железную крышу так, что мы чувствовали себя вареными, а ночью нас будила барабанная дробь дождя. И что это вождю вздумалось строить себе такое жилье, если он знает, насколько лучше старые таитянские постройки? Терииероо только улыбался в ответ. Разве может он допустить, чтобы люди говорили: вот, дескать, человек живет дикарем на цивилизованном Таити.
Тогда я не подозревал, что через десять лет вернусь на Таити вместе со своими товарищами по экспедиции «Кон-Тики». К тому времени один богатый американский искатель рая выстроил себе на острове огромный, крытый пальмовыми листьями бамбуковый дворец в голливудском духе, который приводил в восторг всех туристов. Романтически настроенные иностранные поселенцы, а также некоторые владельцы ресторанов и мотелей последовали его примеру, так что желтые бамбуковые стены под косматыми лиственными крышами перестали быть уникальным зрелищем. Еще через десять лет я попал на Таити в третий раз, теперь уже вместе с археологами, которых привлек к раскопкам в Восточной Полинезии. И увидел, что сами полинезийцы тоже начали строить красивые и здоровые дома из бамбука и пальмовых листьев. Не совсем такие, какие застал капитан Кук, но намного лучше дощатых сараев с железной кровлей, которые успели выйти из моды. Современные посланцы Голливуда помогли окольными путями вернуть Таити исконную архитектуру, тесно связанную с природой.
Месяц гостили мы в доме Терииероо. Наконец стало известно, что капитан Брандер на шхуне «Тереора» собирается плыть на далекие Маркизские острова. Взяв ручку, Терииероо написал послание мсье Пакеекее, маркизскому уроженцу, который учился в протестантской миссии на Таити и здесь познакомился с вождем.
Религия всегда играла важнейшую роль в жизни полинезийцев. Храмовые сооружения и прочие культовые постройки, жрецы, ритуалы, табу — все это исстари занимало центральное место в каждой полинезийской общине, поэтому европейским миссионерам не стоило труда заменить поклонение старым незримым богам новому незримому богу, лишь бы сохранялись привычные для островитян категории: священники, ритуалы, места религиозных собраний. Многие миссионеры ликовали, видя, как легко обратить полинезийцев в свою веру. Ликовали, но и тревожились: ведь кто поручится, что представитель какой-нибудь конкурирующей веры с такой же легкостью не привлечет новообращенных на свою сторону…
По воскресеньям семейство Терииероо посещало расположенную поблизости от дома протестантскую церковь. Супруга вождя, Фауфау, проследила, чтобы Лив, идя в божий храм, надевала надлежащую шляпу. Это была огромная плетеная конструкция, которая под тяжестью давивших на поля гирлянд из раковин упорно сползала на нос Лив. Вместе с тремя поколениями семейства Терииероо мы выходили на дорогу. Получалось целое шествие: впереди — вождь и я в белых костюмах и тапочках, за нами — наши вахины в огромных шляпах и широких таитянских платьях до земли.
Пели в церкви — как и всюду в Полинезии — великолепно. Ради одного пения стоило туда ходить. К тому же церковь была единственным местом, где собирались люди; только бамбуковый кинотеатр в Папеэте мог с ней конкурировать. У нас создалось впечатление, что наши друзья-островитяне обожают свой храм так же преданно, как норвежские болельщики — свои футбольные команды. В первый же день Терииероо спросил, какой веры мы придерживаемся. Услышав, что в Скандинавии почти все от
рождения протестанты, он просиял. Свои люди! Мы узнали от него, что на Таити протестанты в большинстве.
И вот теперь он написал в таком духе рекомендательное письмо, адресованное его далекому знакомцу — Пакеекее на Фату-Хиве. Если бы мы знали, какие последствия повлечет за собой это послание!
За неделю до отплытия на террасе Терииероо состоялся небывалый праздник. Длинный ковер из плотных зеленых банановых листьев, посыпанный благоухающими цветами, играл роль скатерти-самобранки. Венки и гирлянды из папоротника и белых цветков тиаре услаждали обоняние и глаз. Когда мы с Терииероо вернулись с реки, неся полную корзину беспокойных раков, нас встретил заманчивый запах жареных поросят и цыплят, испеченных в выложенных камнем земляных печах. Женщины наловили рыбы, накопали корней; дети и внуки лазили на огромные деревья за хлебными плодами и манго, чтобы в этот особенный вечер не было недостатка ни в чем, что только может порадовать гурмана.
Самый роскошный и дорогостоящий банкет, устроенный знатоками этого дела, не сравнится с благоухающим, сочным полинезийским уму, запеченным в зеленых листьях и поданным ликующему сборищу могучих едоков под открытым тропическим небом. Кулинарное искусство всегда занимало видное место в полинезийской культуре. То, что предлагают в современных «южноморских» ресторанах, лишь жалкое подобие блюд, которые нельзя воспроизвести в мире пластика и бетона. Полинезийская кухня требует тропической земли и дымящихся поленьев борао.
В тот вечер Терииероо нарушил одно из своих правил. Мы уже погрузили пальцы в праздничное угощение, когда он взял слово и произнес речь. В любимом пареу, обвешанный цветными гирляндами, он встал во весь свой могучий рост над зеленой лиственной скатертью и показал на меня и Лив. Мы сидели в другом конце, на корточках, как принято в Полинезии. Сначала на таитянском, потом на французском языке Терииероо напомнил гостям, что его жены, включая покойных, принесли ему 29 детей. Но теперь он решил усыновить еще двоих. Следовательно, им надо дать новые имена, потому что старые, норвежские, таитянину выговорить никак невозможно. Вот попробуйте сказать «Лив» или «Тур»? Все по очереди попробовали, получалось «Риви», «Тюри». Общий восторг вызывала каждая неудачная попытка.
И вот Терииероо и Фауфау усыновили нас, наделив новыми именами, которые шутя выговаривались всеми присутствующими, кроме нас самих: Тераиматеататане и Тераиматеатавахине. Весь остаток вечера мы заучивали новые имена и при этом изрядно повеселили гостей. Наконец освоили произношение и ударение, правильно разделили слова, составляющие имя: Тераи Матеата Тане и Тераи Матеата Вахине.
Господин и госпожа Синее Небо. Теперь мы могли сойти за приличных людей в Полинезии.
Возврат к природе
Острова нашей мечты поднялись из волн вместе с утренним солнцем. Восток зарделся зарей, когда над горизонтом на севере растопыренными голубоватыми тенями возникли первые из группы Маркизских островов. Крутые, дикие, грозные горные массивы вздымались над гладью океана все выше и выше по мере того, как мы приближались к ним. Волны с ревом и грохотом обрушивались на кусочки тверди в этом мире вечно живой, бушующей воды. Издалека острова отнюдь не казались гостеприимными. Мы подходили к ним с юго-запада, и первым нас встретил Хуа-Пу. Окутанные дымкой стройные пики торчали из океана, будто опрокинутые сосульки, но, когда мы приблизились, холодная голубизна перешла в теплую лесную зелень. Еще ближе, и создалось впечатление, что перед нами осажденные волнами развалины крепости, а клочки облаков были точно клубы дыма над башнями. Затем показались пляжи с рядами пальм, и мы заскользили вдоль изумительного южно-морского острова, пусть меньше Таити, зато еще более дикого и очаровательного.
Новый остров вырастает над морем, а предыдущий скрывается за горизонтом. Здесь от острова до острова далеко. Между ними простиралась всех оттенков синева Тихого океана, но около берега вода была окрашена в травянисто-зеленый цвет полчищами микроскопического фитопланктона, который питался нескончаемым потоком минеральных веществ, вымываемых волнами из рыхлой вулканической породы. К этим вечнозеленым океанским пастбищам устремлялись рыбьи косяки, преследуемые кувыркающимися дельфинами и крикливыми морскими птицами. Птицы сопровождали и маленькую шхуну, пикируя на рыбу, польстившуюся на заброшенные с кормы крючки.
Немного градусов отделяло нас от экватора, и, огибая острова, мы снова и снова видели, что здесь плодородие Южных морей особенно велико. Долина за долиной открывали нашему взгляду свои тайны, прежде чем скрыться за кормой. Глубоко врезанные в горный массив, они поднимались к пикам в середине острова. Лишь на отвесных стенках не смог зацепиться лес, и красные бараньи лбы нависали над хаосом пышной зелени, которая скатывалась по крутым склонам к пальмам на дне долины.
Не один тропический зной был причиной редкостного плодородия. В глубине острова высокие вершины останавливают редкий, но непрерывный поток летящих на запад пассатных облаков. Свежая дождевая вода непрестанно сбегает с гор бурлящими ручьями и речушками, пронизывает темные леса и светлые долины и вливается в зеленый океан. Зуб времени жадно точит рыхлые вулканические породы. Пещеры и подземные потоки, каменные шпили и причудливые скульптуры превращают каждый остров в фантастическую, сказочную страну.
В этом экзотическом краю нам предстоит сойти на берег… Мы углубимся в диковинный лес, а «Тереора» вернется в двадцатое столетие. После высадки на Фату-Хиве у нас не будет связи с внешним миром. Никакого радио, никаких известий, пока через много месяцев не придет какая-нибудь случайная шхуна. Если разразится война, мы и знать не будем. На Таити нам рассказывали: когда во время первой мировой войны Папеэте подвергся обстрелу, на Маркизских островах не подозревали, что идет война. Лишь много времени спустя явилась шхуна с известием, что мировая война кончилась.
По прямой линии до Таити было около полутора тысяч километров, но шхуна потратила целых три недели. В пути мы заходили на атоллы Такароа и Такопото в архипелаге Туамоту и видели, как цивилизация, от которой мы задумали скрыться, постепенно распространяется из Папеэте в прилегающие области Океании. Торговая шхуна была источником прибыли и переносчиком достижений цивилизации. В трюмах лежали самые разнообразные товары, и, сбывая их за высокую цену, владелец удваивал свою прибыль, ведь к нему возвращались деньги, полученные островитянами за копру и погрузочные работы.
— Нелепо все это, — говорил капитан Брандер, добродушный седой англичанин с красным носом, который обожал свое виски и здешние острова, хотя ни разу не ступал на берег.
Этакий дед-мороз Южных морей. На Таити нам рассказывали, что в молодости он бросил университет, порвал со всем, что его окружало, однако так и не нашел искомого. Почтенный ветеран и сам откровенно признавался в этом.
— Нелепо это. Но они сами так хотят, им подавай все то, что есть у других. Мне противна наша цивилизация, потому я и торчу здесь. И сам же распространяю ее с острова на остров. Стоит им немного отведать — подавай еще. И ничто не спасет их от этой напасти. Ничто и никто, во всяком случае не я. Ну зачем им швейные машины, трехколесные велосипеды, нижнее белье, лосось в банках? Совершенно ни к чему. Нет, хочется сказать соседу: «Смотри, у меня стул, а ты дома сидишь на корточках на полу». После чего сосед бежит покупать стул, а заодно прихватит что-нибудь, чего нет у других. Растут запросы, растут расходы. Приходится выполнять работу, к которой у них совсем не лежит душа. Ради денег, которые им вовсе ни к чему.
Как обычно, старина Брандер не сходил на берег, когда «Тереора» бросала якорь в лагунах двух атоллов архипелага Туамоту, в 450 с лишним километрах к северу от Таити. Всеми сделками на берегу занимался его опытный казначей, таитянин Теодор. Брандер заботился только о том, чтобы привести шхуну в нужное место. Вместе с Теодором мы спускались в шлюпку и подходили на веслах вплотную к атоллу, шлепая вброд последний отрезок. Нам интересно было посмотреть, как идет торговля. Под знойным солнцем островитяне выгружали железо и оконное стекло. Обратно на шлюпку они несли тяжелые мешки с копрой. Когда мы воспользовались любезным приглашением укрыться в хижине от полуденного зноя, Теодор торжествующе показал на старую, бракованную железную печь. Ни трубы, ни дымохода не было, ведь в таком жарком климате топить незачем. Ржавая железка просто украшала помещение как образец драгоценного европейского инвентаря.
На другом атолле не успели мы ступить на берег, как толпа восторженных полинезийцев увлекла нас с собой в пальмовую рощу. На прогалине, на колючей коралловой крошке стоял высокий старый автомобиль, напоминая неуклюжего жеребенка, у которого вот-вот разъедутся ноги. Шины спущены. Дорог на острове никаких. За скромную плату нас усадили на этот четырехколесный престол, гордость всего острова. Под завистливыми взглядами земляков владелец каким-то чудом сумел завести мотор и в сопровождении пляшущих пешеходов не столько прокатил, сколько основательно потряс нас по кругу между пальмами и обратно на стоянку.
На Маркизских островах мы ничего такого не увидели. Первый заход — на Нуку-Хиву, главный остров, расположенный на крайнем севере этого обширного архипелага. Здесь помещалась резиденция главы французской администрации; он же был единственным на весь архипелаг врачом. Но обслуживать остальные острова он не мог, потому что отсутствие гаваней вынуждало пользоваться только маленькими лодками. На Маркизских островах много пляжей с галькой или черным вулканическим песком, но глубоких заливов нет, а скалы так круто вздымаются со дна Тихого океана, что здесь в отличие от Таити коралловым полипам не удалось обнести берега защитными барьерами.
Перед отплытием из Европы мы заручились разрешением французского министерства по делам колоний посетить уединенные Маркизские острова. Французский закон запрещал гостям проводить на берегу больше двадцати четырех часов. Во имя защиты островов? Или посетителя? Нам так никто и не смог объяснить причину.
От Нуку-Хивы «Тереора» взяла курс на юг, чтобы зайти на другие острова архипелага, прежде чем возвратиться в Папеэте. Шхуна шла под парусами, но на случай безветрия на ней был установлен мотор. Мы спали на крыше каюты в два ряда, в обществе полинезийских пассажиров и всякой домашней живности. В каюте было слишком тесно и душно, а чтобы нас в сильную качку не смыла какая-нибудь шальная волна, мы привязывались веревкой, пропуская ее под мыш— ками. Тучные мужчины с трубами и гитарами, смешливые красавицы, кудахтающие куры, плачущие ребятишки и насмерть перепуганная полинезийская свинья помогали ветру и волнам заглушать стоны тех пассажиров, которых укачивало под палубой.
Днем, лежа на животе, мы рассматривали в бинокль скользящую мимо сплошную зеленую стену дождевого леса. Нам все было интересно. Ведь нам тут жить! Красиво и внушительно. Правда, местами пейзаж производил гнетущее, мрачноватое впечатление.
Брандер поглядывал на нас, увлеченных новыми видами. Мы чувствовали себя совсем маленькими рядом с могучими горами, и все-таки они нас манили.
— Мрачно и неуютно, — приговаривал капитан Брандер. — Этот лесной массив, эти горы подавляют человека.
Он уговаривал нас вернуться на Таити. Но мы не соглашались.
Следующий заход — Хива-Оа, второй по величине остров группы, последний перед Фату-Хивой. Брандер уверял, что уж если где сходить на берег, то здесь, только здесь. Хоть будет связь с внешним миром. На Хива-Оа есть маленькая радиостанция, нам составят компанию французский жандарм, английский купец и таитянин-санитар. В долине на другом конце острова развел кокосовую плантацию еще один европеец, из Норвегии. И на Хива-Оа провел свои последние два года Поль Гоген, мы сможем осмотреть его уединенную могилу. Нет! Нам хотелось на остров, который мы обвели жирным кружком. На Фату-Хиву.
Когда мы проснулись на другое утро, шхуна рассекала гладкую воду под прикрытием горной гряды. Фату-Хива напоминает очертаниями фасолину; с севера на юг его делит на две части острый гребень, и с подветренной стороны две главные долины дугой спускаются на запад.
— Ну, где вас высаживать? — пробурчал капитан Брандер, когда мы подошли к кручам северного мыса.
Он признался, что совсем не знает этот остров, а от его морской карты нам, сухопутным крабам, было мало проку. Никаких подробностей — только береговая линия и якорные стоянки у двух главных заливов. Решили идти возможно ближе к берегу, пока мы не присмотрим себе подходящее место.
Матросы убрали паруса, заработал мотор, шхуна тихим ходом приблизилась к суше. Голые скалы висели чуть не над нашими головами, обрываясь прямо в прибой. Но затем словно кто-то отдернул каменный занавес, и одна за другой пошли райские долины. Извиваясь, они терялись в зеленой чаще. Сильнее прежнего мы ощутили запах дождевого леса. Фату-Хива. Оранжерея между каменными стенами.
На этот раз Брандер и Теодор вместе с нами стояли у поручней. Они совещались на полинезийском языке с одним из матросов, уроженцем Маркизов, который вроде бы кое-что знал о Фату-Хиве. Важно подобрать такое место, чтобы мы могли прокормиться. Главное условие — питьевая вода. В это время нашему взгляду открылась широкая долина. Неправдоподобная картина — будто театральная сцена с оттеняющими пальмовую рощу красными кулисами. Эти сказочные кулисы казались вырезанными из фанеры искуснейшим художником, не верилось, что на самом деле перед нами источенный зубом времени и тропическими дождями рыхлый вулканический туф. Выше галечного пляжа, среди пальм стояли бамбуковые постройки с лиственными крышами: сараи для лодок.
— Ханававе, — кивком показал Брандер. — Сколько угодно воды в реке, полная долина фруктов. Парень говорит, в здешней деревне живет с полсотни человек.
Лив была в восторге, ей не терпелось сойти на берег, но Брандер покачал головой.
— Нездоровый климат. Слишком влажно, воздух насыщен испарениями. Жители поражены разными хворями, того и гляди, вас заразят. Сильнее всего здесь зверствует слоновая болезнь.
С немым благоговением смотрели мы, как могучий занавес закрывает от нас долину Ханававе. Никогда впоследствии не довелось нам видеть более прекрасный пейзаж. Дальше пошли узкие теснины и ущелья, наполненные до краев непроходимыми зарослями. Слишком узкие, чтобы можно было рассчитывать на достаточное количество диких плодов. Но вот опять приветливый, темный песчаный пляж, за ним пальмы и плодовые деревья.
— Аоэ те ваи, — объяснил наш полинезийский гид. Нет питьевой воды.
Долинка за долинкой проплывали мимо, разделенные могучими скалами и обрывами. То нет воды, то слишком темно и мрачно.
И снова красивая долина, даже с водопадом. Но здесь, в Ханауи, обитала пожилая чета с ногами, как у бегемота. Мы не отважились сойти на берег, хотя и знали, что микроскопический возбудитель слоновой болезни переносится комарами, при прямом общении с больным не передается.
Последняя перед южным мысом долина — Омоа. Светлее и шире других, которые мы уже видели на Фату-Хиве, она широкой дугой уходила в самое сердце острова. Песелая и живописная, хотя и не такая красивая, как Ханававе. Сколько угодно диких плодов и питьевой воды. В бинокль было видно речку, катившую свои воды через галечную полосу в залив. «Тереора» замедлила ход, готовясь стать на якорь. Наш гид рассказал, что в деревне у берега живет около сотни островитян. Дальше долина совсем безлюдная.
— Здесь либо нигде, — заключил Брандер, когда якорь лег на дно. — Вы все посмотрели, выбирайте. Может, все-таки вернетесь со мной?
— Мы видели только подветренную сторону, — возразил я, показывая на зубья длинной горной гряды, которая выступала над островом наподобие спины исполинского ящера. — А как восточное побережье?
Брандер и Теодор вместе с гидом поспешили объяснить, что ни одна шхуна не подходила еще к восточному берегу. Там нет якорных стоянок, даже на шлюпке не высадишься. Последняя попытка кончилась тем, что шлюпку разбило. Могучий океанский накат всей мощью обрушивается на восточный берег, пройдя на запад без помех шесть тысяч километров от Южной Америки. И вообще там голо и безлюдно. Населявшие в прошлом ту сторону племена вымерли, и никто не ходит туда через горы заготавливать копру.
Я еще раз посмотрел на приветливую зеленую долину, на горы над ней. Захочется на восточное побережье — сами потом как-нибудь переберемся…
Ладно, высаживаемся в Омоа. Шлюпка спустилась на воду, мы простились с нашими попутчиками. Брандер в последний раз попробовал отговорить нас оставаться на Маркизах. И обещал забрать нас следующим рейсом, может быть, через несколько месяцев, может быть, через год. Волны покачивали шлюпку, вторгаясь в открытый залив отголоском грозного прибоя, который с ревом разбивался о темные скалы южного мыса. Гребцы-крепыши навалились на весла, и волны понесли нас прямо к влажной гальке. Четверо полинезийцев прыгнули в воду и ухватились за борта шлюпки, чтобы не дать откату увлечь ее за собой; еще четверо помогли нам выбраться вброд на берег с нашим багажом. Шлюпка едва не опрокинулась, и не успели мы опомниться, как восьмерка провожающих снова дружно взялась за весла, спеша вернуться на «Тереору».
Так в несколько минут многолетняя мечта стала реальностью. Придя в себя, мы проводили глазами «Тереору», которая подняла паруса и вышла в море. Маленькая двухмачтовая шхуна быстро превратилась в точку и затерялась среди венчающих океанские валы барашков.
Стоим на гальке на незнакомом берегу, рядом лежат наши вещи. В двух больших чемоданах — свадебное платье Лив, мой костюм и всякие наряды, какие полагается брать с собой пассажирам первого класса в долгое свадебное путешествие. Все это нам теперь ни к чему. В нескольких ящиках — бутылки, пробирки, химикалии для консервации зоологических образцов. Ничего съедобного. Я посмотрел на обрамляющие пляж кокосовые пальмы. Орехи. На душе стало легче. Голод нам не грозит. Я сделал глубокий вдох и перевел взгляд на Лив. Мы улыбнулись и взялись за чемоданы. Не стоять же здесь вечно.
Нас согревало солнце, подбодряло пение тропических птиц. На песке за галечным пляжем пестрели в траве благоухающие цветы, и нами овладело ощущение счастья и большой романтики. Вдруг мы заметили людей среди деревьев. Много людей. Они смотрели на нас. Молча и неподвижно. Одни в набедренных повязках, другие в изношенной европейской одежде. Здесь были представлены все разновидности полинезийской расы, разные оттенки кожи — от медного до темно-коричневого. Лица в большинстве более суровые, чем у дружелюбных обитателей Таити и атоллов Туамоту. Зато несколько молодых женщин и почти все дети показались нам удивительно красивыми.
Первой, видя наше замешательство, проявила инициативу одна старуха. Она выкрикнула какие-то слова, сплошные гласные, так что речь ее звучала мягче таитянского диалекта. Я ничего не понял. Только пожал плечами и улыбнулся. Морщинистая бабуля покатилась со смеху. Остальные присоединились к ней. Сопровождаемая соплеменниками, старушка направилась к нам. С испугом я смотрел, как она подходит к Лив. Подошла, облизнула тонкий указательный палец и потерла им щеку моей юной жены. Та онемела от неожиданности, а старушка посмотрела на свой палец и одобрительно кивнула.
Позднее выяснилось, что мое лицо у них не вызвало сомнения, а вот Лив они приняли за вырядившуюся и загримированную таитянку. Почему-то старушка считала, что в Европе вовсе нет женщин. Когда к острову подходили с коротким визитом суда, на берег высаживалось много белых мужчин и ни одной белой вахины. Часто белые мужчины искали себе смуглых девушек на острове, но никто не помнил случая, чтобы в поисках смуглого мужчины приехала белая женщина.
Во всей этой суматохе куда-то пропал наш багаж. Спрашивать было неловко, да и не больно-то мы в нем нуждались. И мы спокойно пошли следом за островитянами, которые провели нас через пальмовую рощу на поляну, где высился обнесенный каменной скамьей огромный баньян. Кругом раскинулись хижины, а ближе всего к баньяну стоял крытый железом большой дощатый дом того самого типа, к которому мы уже успели проникнуться острым отвращением. Молодой и несколько робкий человек европейского вида, говоривший по-французски, встретил нас у входа, пригласил войти в дом, и мы увидели на полу наш багаж. Встречавшие нас на берегу островитяне молча сгрудились у открытой двери.
Приветливый хозяин был довольно скуп на слова, будь то французские или полинезийские, но все же удовлетворил наше любопытство и рассказал, что его зовут Вилли Греле, он сын европейца, родился и вырос здесь, на острове. Отец, швейцарец, женился на местной девушке. Единственным другом отца был Поль Гоген, да и то они виделись очень редко, потому что жили на разных островах. Вилли производил впечатление нелюдимого и одинокого человека, он явно смотрел чуть свысока на жителей деревни, которые почитали и уважали его. Как мы потом смогли убедиться, он был предельно честным человеком, хотя любил деньги и не упускал случая пополнить свои сбережения. Его можно было назвать богатым, вот только не на что тратить богатство. Между сваями, на которые опиралось бунгало, Вилли устроил своего рода лавку, где островитяне могли выменять разные товары за копру; похоже было, что вся продукция копры таким образом собиралась в его руках. Скромный ассортимент лавки Вилли Греле включал небольшой запас муки, риса, сахара, спичек и маек. Сверх этого его бунгало ничем особенным не могло похвастать, да и лавка открывалась только на закате, когда Вилли возвращался со своей собственной плантации кокосовых пальм. Помимо работы у него была одна страсть — охота. Охотился он на бродивший по лесам и горам одичавший скот, а поэтому знал остров лучше, чем кто-либо другой.
За день солнце до того накалило железную крышу, что о сне нечего было и думать. В открытых дверях теснились смуглые зрители, другие плющили широкие носы об оконное стекло, да и Вилли явно не спешил ложиться. Далеко за полночь просидели мы втроем вокруг его керосиновой лампы, обсуждая наши планы. В глазах хозяина мы явно были самыми странными из всех посетителей, которые когда-либо сходили на берег острова, но к нашему замыслу он отнесся с пониманием. По его словам, мы могли найти желаемое в верхней части долины, в глубине острова: туда редко заходят островитяне, и лес давно поглотил заброшенные сады предков.
Часть ночи ушла у нас на то, чтобы составить словарик. При первой встрече на берегу мы обошлись улыбками и смехом, но, чтобы продвинуться дальше, надо было знать хотя бы несколько слов. У меня был заранее подготовлен длинный список самых нужных слов на норвежском языке, теперь я перевел его на французский, а Вилли — на полинезийский. Отличие от таитянского диалекта бросилось в глаза с первой же фразы. На Таити «добрый день» — «иа ора на», здесь же говорили «каоха». Местная речь не изобиловала согласными, и нам нелегко было различать слова:
нет — аоэ они — ауа я — оао два — эуа ты — оэ кто — оаи он — она дождь —
эуа
Или такие названия, как Оау и Уиа. «Хорошо» — панхаканахау, «плохо» — аоэхаканахау. Полинезийский язык назывался словом, которое в буквальном переводе означало «человечий язык», — пережиток той давней поры, когда предки принимали белых пришельцев за богов.
Полинезийские слова продолжали звучать в моих ушах вместе с комариным писком, когда мы улеглись спать под защитой большого полога. С берега доносились мерные громовые раскаты, прибой напоминал нам, что мы находимся на уединенном южноморском острове вдалеке от нашего собственного мира.
Когда господь изгнал Адама и Еву из Эдема, они, наверно, испытывали чувства, прямо противоположные тем, которые обуревали нас, когда мы на рассвете следующего дня отправились вверх по зеленой долине Омоа. Они покинули рай, мы вступили в него. Вместе с маркизской кукушкой другие яркие тропические птицы устроили утренний концерт. Насыщенный лесными ароматами сам воздух казался зеленым. Что бы ни ожидало нас впереди, в эти минуты мы словно вступили в цветущий потерянный рай. Никаких оград, никаких стражей — приходи и владей. Это был словно дивный сон.
Старая королевская тропа вела нас в глубь острова. Деревня осталась позади. Устремленный к небу красный зубчатый гребень в верховьях долины пропал из виду, как только полог леса сомкнулся у нас над головой. Напоминающие огромный папоротник молодые кокосовые пальмы уступили место могучим деревьям с бородатыми от висячих лиан и паразитирующих растений мшистыми ветвями. Лишь кое-где солнечные зайчики пробивались сквозь листву верхнего яруса, которая кишела пищащими, кричащими, скрипящими тварями. Жизнь била ключом, хотя наши глаза видели только порхающих пичуг и бабочек да улепетывающих с тропы ящериц и жуков. Нам не терпелось поскорее углубиться в густые, всепоглощающие дебри, уйти подальше от всяческих болезней, вызванных полным пренебрежением гигиеной.
Выходя из деревни, мы помахали ее жителям. Они помахали в ответ, крикнули «каоха» и что-то еще, непонятное.
— Добрый день, — отозвались мы на их языке. — Хорошо, хорошо, добрый день.
И все вместе засмеялись. Несмотря на болезни, островитяне производили впечатление веселых и довольных людей, а ведь некоторые из них с трудом передвигали толстые, как бревно, ноги. Слоновая болезнь проникла на остров, когда белые, сами того не зная, завезли комаров.
Последними нам помахали несколько женщин. Не раздеваясь, они вошли по пояс в мутную реку и мылись, между тем как другие ниже по течению набирали питьевую воду в калебасы. Такие понятия, как гигиена и инфекция, были незнакомы жителям Фату-Хивы.
Выше деревни вода в реке была совершенно чистая, без мути. Тропа следовала вдоль берега, местами пересекая гладкий камень, местами вгрызаясь в ржаво-коричневую почву. Поначалу широкая, расчищенная от наступающей со всех сторон зелени, она дальше заметно сужалась, и нам все чаще приходилось пускать в ход длинный мачете. Вилли послал с нами проводником своего родича Иоане, который обещал показать хорошее место — площадку, где жил последний король острова
[78].
Прапрабабка Иоане была последней королевой перед тем, как остров аннексировали французы. По ее линии Иоане унаследовал ту часть острова, куда мы теперь направлялись. Вилли рассказал нам, что, хотя в глубине долины все жители вымерли, на острове не найдется клочка, который не принадлежал бы кому-нибудь из фатухивцев. Земля поделена между родами и переходит из поколения в поколение, и, каким бы запущенным ни выглядел тот или иной участок леса, худо будет тому, кто возьмет хоть один банан на чужой земле. Увидят — о краже тотчас станет известно деревенскому старосте.
Там, где речка сузилась в стремительный ручей, тропа и вовсе пропала. Мы простились с ручьем, пересекли груды камней и полезли вверх по склону, продираясь сквозь густой подлесок между исполинскими деревьями. В зарослях тут и там укрылись поросшие мхом следы каменной кладки. Искусственные террасы… И всюду было видно, как упорно сопротивляются садовые деревья наступающим лесным великанам. Стены из многотонных глыб были взломаны искривленными корнями, питавшими стволы такой толщины, что втроем не обхватить.
Наконец Иоане остановился. Из-под мшистых камней перед нами пробивался чистый, холодный родник; рядом простерлась мощеная площадка, покрытая такой густой и высокой порослью, что не только долину, но вообще кругом ничего не было видно. Королевская терраса, здесь жила последняя королева. Не очень-то приветливое место, но мы разглядели в чаще стволы кокосовых пальм и хлебного дерева, огромные листья банана и на редкость большое лимонное дерево, которому множество золотистых плодов придавало сходство с рождественской елкой.
Если это место было облюбовано королевским родом, вряд ли мы найдем что-нибудь лучше! Мы дали понять Иоане, что останемся здесь; он весело попрощался и исчез в дебрях. С Вилли у нас было договорено, что мы арендуем принадлежащую Иоане часть долины, с правом расчищать и строить, а также собирать все потребные нам фрукты и орехи. Плата невысокая — столько, сколько в Европе стоил чемодан. Сверх того, мы уплатили налог старосте, тоже сущие пустяки.
Для первой ночевки мы захватили маленькую палатку, нечто вроде просторного мешка с молнией, и еще до захода солнца я расчистил для нее площадку под сплошным лиственным пологом. Когда спустилась ночь, мы в последний раз воспользовались спичками. Будем беречь угли, присыпая их золой, а если потухнут, разведем огонь трением, используя ветки гибискуса. На ужин Лив испекла несколько бананов феи и — впервые — хлебный плод величиной с детскую голову. Счастливые, как дети, мы заползли в маленькую палатку. В этом раю не было даже змея, если не считать комаров.
В палатке чувствуешь себя почти как под открытым небом. Когда природа отделена от тебя лишь тонким полотнищем, слышишь малейшие звуки, особенно в новом, незнакомом лесу. За ночь мы кое-что узнали о природе, которой предстояло стать нашим домом. Правда, мы далеко не все понимали. Что это с такими жуткими звуками прыгает по полотнищу? То квакает, точно лягушка, то скрипит, будто старая дверь. Кто-то копошился в камнях поблизости. Дикая свинья? Выше в долине словно филин ухает… А у самой нашей террасы явно мяукал кот.
Внезапно мы услышали приближающиеся шаги. Шорох сухой листвы, хруст ломаемых сучков… И тишина. Долго стояла тишина. Снова шаги, кто-то подкрался вплотную к палатке… И опять мертвая тишина, а мы лежим и слушаем с бешено колотящимся сердцем.
Кому это понадобилось подкрадываться среди ночи? Нам представился островитянин с распухшими ногами: стоит над палаткой и держит в поднятых руках острогу или здоровенный камень. У местных жителей нет оснований любить белого человека, который навлек на их голову лютые болезни. Если верить старой энциклопедии, эти невежественные островитяне до недавнего времени занимались людоедством. Исчезнем с лица земли — и никто не узнает, как, когда и где это произошло
[79].
Главное, не позволить застать себя врасплох… Бесшумно поднявшись на колени, я с диким воплем выскочил наружу. А там, ошалело таращась на палатку, стоял одичавший белый пес. Мой маневр поверг его в такой ужас, что бедняга стрелой метнулся в заросли и побежал вниз по склону. Больше мы его никогда не видели.
Однако и после этого для нас не наступил покой.
Шелест ночного ветерка заглушал доносившиеся с разных сторон ружейные выстрелы, по большей части издалека, но некоторые совсем близко. Странно… На этом острове ни у кого, кроме Вилли Греле, не может быть ружья. Да и разве в дебрях среди ночи что-нибудь разглядишь? Мы выбрались из палатки и прислушались. В просветах в листве мерцали звездочки. Вдруг совсем рядом что-то громко ударилось о землю; звук как от настоящего выстрела. Подкатилось ко мне, и я увидел большой, тяжелый кокосовый орех, формой и величиной напоминающий мяч для регби. Скорлупа одета в толстую защитную кожуру, которая не дает ореху расколоться при падении с высоченной пальмовой кроны. Кокосовые пальмы на Маркизах достигают весьма внушительного роста, их солнцелюбивые кроны торчат выше лесного полога. И когда там, в высоте, ветер принимался качать пальмовые листья, тяжелые от сока зрелые орехи срывались и падали на землю со стуком, который глухо отдавался в ночной тишине. Как раз над нами вздымалась к звездам высоченная пальма, за нее была привязана одна из растяжек нашей палатки. Мы поспешили перенести палатку на более безопасное место. Упади с эой пальмы орех, он прорвал бы полотнище и пришиб нас не хуже бомбы. Кое-как я расчистил в темноте другой клочок, мы расстелили палатку на земле и забрались в нее, даже не растягивая, лишь бы защищала от комарья.
Когда над горой Тауауохо поднялось солнце, ни один луч не просочился на нашу площадку. И лесная чаща не пропускала даже самого слабого ветерка, который разогнал бы назойливых комаров. Мы решили расчистить всю террасу и соорудить хижину, просторную и достаточно прочную, чтобы в нее не могли забраться лесные звери.
На завтрак я принес гроздь бананов, таких спелых, что мушки уже успели их отведать. Подойдя к палатке, я увидел, что Лив трясет большое дерево, увешанное плодами, напоминавшими лесной орех. Вода в Королевском роднике была чистая, холодная и удивительно вкусная, не то что в водопроводе дома. От радости душа пела не хуже щебечущих кругом пичуг, и нам не терпелось приступить к работе.
После завтрака я взял мачете и принялся, будто саблей, косить окружающую зелень. Острое лезвие с одного удара рассекало сочные стебли бананов, точно луковицу; даже твердая древесина хлебного дерева не могла ему противостоять. Знакомые плодовые деревья падали на землю вперемежку с неведомыми нам местными видами. Я чувствовал себя так, словно расправлялся с соседским садом. Лив вырывала руками дикую ваниль, папоротник, кофейные кусты, потом ухватилась за некое подобие увешанной картофелинами веревки. По мере того как расширялся просвет в зеленом пологе над нами и расступались окружающие кусты, сверху прорывалось все больше солнечных лучей, освещая старинные мощные стены, сложенные не одним поколением прилежных строителей. А там и ветерок подул. Мы очистили от ила и гнили лужицу рядом с палаткой, вбили в землю кусок бамбука с руку толщиной, и вода Королевского ручья наполнила небольшой каменный бассейн.
Затем наступил черед деревьев на нижней террасе, и постепенно открылся чудесный вид на долину с пальмами и тропическими исполинами, на противоположный склон с отвесными обрывами и красными зубцами. Прямо напротив на красном фоне у самого гребня двигались белые точки. Козы… Одичавшие домашние животные, как и все млекопитающие на этих островах. Над зеленым пологом у подножия скал торчали поросшие тростником и желтым бамбуком круглые бугры. Направо на много километров вниз уходила долина, но деревушка и море были закрыты лесной чащобой.
То и дело нам попадались старые предметы обихода. Разного вида великолепно отшлифованные каменные топоры из плотной, тяжелой породы. Каменная ступа, напоминающая колокол, такой совершенной формы и отделки, словно ее обрабатывали на станке. Пятнистые раковины каури со срезанной макушкой, служившие терками для овощей. Зубчатые пластины из жемчужниц, которыми измельчали ядро кокосового ореха. Круглые камни, игравшие роль молотков. И даже великолепная, хотя и потрескавшаяся от времени, деревянная миска. Кое-что из этого пригодилось и нам. Мы расчистили большое удобное каменное кресло, с которого, возможно, сам король обозревал свою террасу. Растущие пальмы взломали длинную скамью, обложенную плоскими гладкими камнями. Что могли, мы отремонтировали и постарались сохранить возможно больше полезных и декоративных растений, в том числе чудесный куст, усеянный землянично-красными цветками.
За три дня упорного труда мы в основном управились с расчисткой, после чего принялись заготавливать ветки и пальмовые листья для строительства. В это время на тропе появился Иоане, неся два чемодана, которые мы оставили в деревне. Нарочно оставили, ведь в них не было ничего нужного нам теперь. Мы попытались объяснить Иоане, что чемоданы должны храниться у Вилли. Он дал нам понять жестами и словами, что Вилли опасается воров, и попросил разрешения посмотреть, что лежит в чемоданах. До чего же он удивился, когда увидел, что у людей, которые ходят босиком и в одних пареу, есть и костюмы, и длинные платья, туфли разных цветов, белые рубашки, пижамы, белье, галстуки, бритвенный прибор, пудреница. Иоане поспешил заверить нас, что готов немедленно нести чемоданы обратно в деревню. На всякий случай мы оставили их у себя, а пока убрали в палатку.
Между тем у Иоане пропало желание уходить. Он дал нам понять, что задуманная нами лачуга сопреет и развалится, нас зальет дождь, будут топтать дикие лошади, искусают всякие ползучие твари. Обуреваемый внезапным стремлением помогать нам, он повел меня вверх по склону в бамбуковую рощу. Здесь бамбук был толщиной с мою ногу, стволы его вздымались вверх, будто соединенные между собой водопроводные трубы, и венчались султанами из длинных узких листьев, развевающихся наподобие пушистых страусовых перьев. Одного сильного удара мачете было достаточно, чтобы перерубить полый зеленый ствол, но срубленный бамбук не валился на бок, как обычно валится дерево. Острый, как долото, косой срез копьем впивался в землю; только поспевай убирать руки и ноги, если не хочешь, чтоб их проткнуло насквозь. И когда мы с Иоане, нагрузившись связками бамбука, вернулись на каменную террасу, одно предплечье у меня было обернуто листьями, из-под которых сочилась кровь.
Лив успела собрать целую кучу спелых апельсинов, а Иоане, хотя он был далеко не молод, мигом влез на огромное хлебное дерево, откуда совсем по-обезьяньи перебрался на высоченную кокосовую пальму. Я даже со здоровой рукой не смог бы повторить этот трюк. Вручив нам свою добычу, он знаками объяснил, что ему пора идти, солнце спустилось совсем низко.
Нам был симпатичен этот босоногий старый плут в белых шортах и элегантной соломенной шляпе, который всячески убеждал нас, что и впрямь является потомком последней королевы. Мы понимали далеко не все, что он говорил, но это не мешало Иоане смеяться и улыбаться, и его смуглое лицо бороздили сотни лукавых морщинок.
На другой день, едва рассвело, он явился снова, на этот раз вместе с женой и еще четырьмя островитянами. Они принесли нам ананасов и вызвались показать, как надо строить бамбуковую хижину. Но сперва всем им, включая Иоане, хотелось посмотреть наши сокровища. Начали с палатки, этого удивительного свертка материи, который мгновенно превращался в водонепроницаемую хижину. Словно на волшебство глядели они, как я застегивал и расстегивал замок-молнию. Затем Иоане настоял на том, чтобы мы открыли чемоданы. Восхищению зрителей не было предела, ведь для них внешний мир олицетворяла только торговая шхуна с ее грузом. До сих пор они видели доски и кровельное железо, тушенку и консервированную рыбу, эмалированные кастрюли, спички да трусы. И наши друзья кричали от восторга, поднося к глазам бинокль, который «передвигал горы». Портативный микроскоп превратил насосавшегося крови комара в чудовище, при виде которого жена Иоане завизжала от страха. А зеркало для бритья увеличивало и без того широкие носы, и островитяне покатывались со смеху, разглядывая свое отражение и делая причудливые гримасы. Однако сильнее всего очаровали Иоане мои наручные часы. Правда, он не умел определять по ним время, но я понял по его жестам, что ему хотелось бы получить что-нибудь в этом роде, только размерами побольше. И он долго рылся в наших чемоданах в тщетной надежде найти желаемое.
Позже мы узнали, в чем дело: в бунгало Вилли на стене висели большие часы, на которые заглядывались все островитяне. Привези мы с собой такие, могли бы получить за них на Фату-Хиве целое королевство.
Отдохнув после утомительного развлечения, островитяне приступили к работе. У них были мачете в самодельных кожаных ножнах; двое влезли на кокосовые пальмы, и вниз полетели перистые листья трех-четырехметровой длины. Длинный черешок листа разрезали вдоль, и женщины, сидя на корточках, сплетали половины между собой. На остов дома пошли жерди, связанные лубом гибискуса, а сплетенные листья уложили сверху, словно черепицу. Сантиметрах в тридцати над землей укрепили пол из жердей; настил сделали из мастерски выполненной плетенки, на которую пошли волокна расщепленного камнями бамбука. Закончив крышу и пол, строители сплели из того же бамбука стены — две квадратные и две продолговатые. Готовые секции подняли, привязали к остову, и вышла уютная однокомнатная хижина примерно два на четыре метра. Посреди стен вырезали прямоугольные отверстия, а вырезанные куски укрепили на лубяных петлях; получились дверь и два окна.
Пока продолжалось строительство, произошел один случай, после которого островитяне стали относиться к нам с еще большим почтением. Я только что поймал редкостного кузнечика, посадил его в пробирку и намочил ватку эфиром, чтобы законсервировать зоологическое сокровище; в это время на тропе показался тощий долговязый островитянин. Голова его склонилась на плечо под тяжестью флюса, какого мне еще никогда не доводилось видеть. Бедняга выглядел так потешно, что его товарищи, забыв про работу, покатились со смеху. Жалобным голосом он обратился ко мне за помощью, и все с надеждой уставились на меня.
«Эфир», — подумал я. Сам я никогда не страдал зубной болью, но бутылочка в моих руках напомнила мне, что от этого недуга есть простое средство. Обильно смочив ватку, и положил ее на гнилые зубы страдальца. Он криво усмехнулся, пожевал… Потом вдруг закачался и заморгал глазами.
— Дыши носом! — крикнул я по-норвежски и помог ему закрыть рот.
Казалось, мой пациент вот-вот рухнет на землю. Восхищенные зрители замерли. Может быть, я перестарался? Хотя я стоял в одной набедренной повязке, у меня было такое чувство, словно шею сжал тесный воротничок. Я поднял руку, чтобы расстегнуть его, и Лив поняла, что мне самому дурно. Кривая усмешка, бедняги сменилась блаженной улыбкой, я совсем испугался и завопил:
— Выплюнь!
Он послушался, потом шумно задышал, распространяя вокруг пары эфира, словно дракон какой-нибудь. Видя, что пациент приходит в себя, я усадил его в каменное кресло и повторил процедуру. Лечение помогло, и впоследствии долговязый Тиоти стал нашим вернейшим другом.
На какое-то время мы как бы превратились в шаманов. Гости из деревни несли нам свинину и кур. В теплом дождевом лесу мясо хранить было невозможно, так что изобилие приношений породило настоящую проблему. Отказаться от подарка нельзя, делиться — не с кем. И чтобы нам не докучал запах тухлого мяса, мы уносили излишки подальше от хижины и закапывали в землю. Надо же было мне так основательно напугать злополучного пса, что он больше не отваживался приблизиться к нашей террасе!
Пока шло строительство, мы воспользовались случаем пополнить свой запас полинезийских слов. Внизу, в деревне, Вилли в первый же день предупредил нас, что Маркизы — часть Французской Океании и если мы кого-то будем нанимать, то плата не должна превышать установленной на
Таити цифры — 17,6 франка в день. На маркизском диалекте семнадцать с половиной франков обозначались одним словом «этоутемониэуатевасодисо». Это мудреное слово наши строители произносили с радостной улыбкой каждый вечер перед тем, как уйти по тропе вниз, домой. Но одно — слова, совсем другое — дело. Когда пришла пора рассчитываться, островитяне дали понять, что предпочли бы деньгам костюм, не говоря уже об удивительном бинокле.
Строительство затянулось на много дней: надо было воздать должное приносимым из деревни съестным припасам, а после доброго пира тянуло поспать под лесным пологом. А тут еще такой неувядаемый аттракцион — осмотр содержимого чемоданов… Все же бригада Иоане наконец завершила работы и удалилась. А с ней удалились и наши чемоданы со всем содержимым. Мы отдали свадебное платье и все такое прочее, оставив себе лишь палатку, два пледа да еще кое-какие самые необходимые предметы на тот случай, если когда-нибудь вздумаем отправиться в долгое путешествие обратно, к нашей цивилизации.
Одно меня огорчало: Иоане ухитрился выпросить наручные часы. Сколько лет предвкушал я тот день, когда, обосновавшись в собственной хижине в дебрях, положу часы на камень и прихлопну их сверху хорошим булыжником, чтобы осколки и колесики полетели во все стороны. Это зрелище и сопутствующие ему звуки должны были стать символической фанфарой, знаменующей великий миг воссоединения с природой.
Я говорил себе, что человек — раб маленького механизма, который отмеряет время и твердит: пора делать то-то и то-то, торопись, не мешкай. В нашем мире я только и слышал: время — деньги. У островитян времени было сколько угодно. Значит, они — богачи. И они обходились без часов. А мы прикованы к часам, которые похищают у нас время. Я не мог простить Иоане и себе, что позволил ему спасти часики от расправы, что моя заветная мечта так и не исполнилась. Я сказал себе, я говорил другим, я даже эту книгу начал со слов о том, что разбил часы. Это неправда. Часики достались Иоане. Но он их вскрыл и так основательно покопался в механизме, что они никак не могли похищать у него время.
В тот день, когда наши друзья из деревни завершили строительство, получили расчет и ушли, для нас началась новая жизнь. В долине царил мир и покой. Мы убрали палатку и вселились в новую, зеленую обитель. Больше никто не носил нам еду, так что пришлось самим заняться снабжением и строить кухню. Я взял мачете, срубил четыре прямых гибискусовых жерди и вбил их в землю рядом с хижиной. Сверху примостил плетенку из пальмовых листьев, и этот навес стал нашей кухней с выложенной камнем земляной печью на полинезийский лад.
Обставить хижину было несложно. Иоане уже смастерил нары вдоль одной короткой стены, причем когда я, измерив все рулеткой, опустил задранное вверх изножье, он снова поднял его: глазомер вернее! Правда, это не помешало ему потом выпросить у меня и рулетку. Уж очень забавно лента убегала в свой «домик», когда он нажимал кнопку. Лежать на бугристых нарах из круглых жердей было примерно так же удобно, как на бильярдных шарах, и мы настелили толстый матрац из банановых листьев. Связав лубом палки, я сделал две табуретки, стол (столешницей служила бамбуковая плетенка) и маленькую полку. Весь прочий инвентарь тоже был в стиле Робинзона Крузо. Тарелками служили большие жемчужницы, которые отсвечивали на солнце всеми цветами радуги. Роль чашек исполняли скорлупы кокосовых орехов на кольцах из бамбука. (Если снять с ореха защитную кожуру и постучать острым камнем по средней линии, скорлупа распадается на две аккуратные половинки, будто распиленная.) Для стаканов я использовал колена зрелого, золотистого бамбука; из того же твердого материала сделал ложки и черпаки. Воду мы носили в бутылочной тыкве, вычищенной изнутри и высушенной над слабым огнем. Из оставленного островитянами куска коровьей шкуры я сшил длинные ножны для своего мачете, да еще хватило на прочные петли для двери и ставней, потому что лубяные петли быстро высыхали и рвались. С пледами мы не расстались: после тропического дня ночи казались нам достаточно прохладными.
Трудно представить себе резиденцию лучше той, которую мы заняли на королевской террасе. Поселите в такую обитель издерганного стрессами человека — отдохнет и душой, и телом. Простой и гармоничный образ жизни помогал отвлечься от всяческих проблем; бамбуковые стены снимали малейший намек на нервное напряжение. Красивая зеленая плетенка становилась все живописнее по мере того, как бамбук дозревал и на зелени пламенели все новые золотисто-желтые полоски и пятна, создавая впечатление ожившего гобелена. Одновременно и крыша из пальмовых листьев стала менять свой ярко-зеленый цвет на красновато-коричневые оттенки. А распахнешь бамбуковые ставни — за окном, будто королевский сад, простирается вся верхняя часть долины Омоа.
Время обрело совсем другое измерение теперь, когда никакие часы не рубили его на секунды и минуты; на смену часам пришли солнце, птичий щебет, наш собственный аппетит. То ли отсутствие часов сказывалось, а может быть, тот факт, что мы жили насыщенной жизнью в совершенно новой для нас среде, где требовалось постоянно быть начеку, чтобы не споткнуться, не порезать ногу, не подставить голову под падающий сверху кокосовый орех, — во всяком случае нам некогда было скучать, и каждый день был так богат впечатлениями, что недели казались месяцами. Вспоминая теперь год, проведенный на Фату-Хиве, я готов по содержательности приравнять его к двадцати обычным годам.
День начинался с того, что красочная, словно попугай, маркизская кукушка звонкими трубными звуками будила дремлющий лес. Тотчас все прочие лесные птицы одна за другой включались в ликующий хор, в разных концах долины звучали разные мелодии, каждый исполнитель по-своему толковал тему любви. Просыпаешься веселый, счастливый и наслаждаешься чудесным утренним концертом, который начинался, как оперная увертюра перед открытием занавеса, *И набирал силу вместе с рассветом медленно, постепенно, чтобы наше пробуждение не было слишком резким. Сквозь бамбуковые ставни просачивался дневной свет, сопровождаемый последними порывами прохладного ночного ветерка. В ту самую минуту, когда свет достигал полной силы, пронизывающий холодок сменялся приятным теплом. А как не залюбоваться темными зубцами над противоположным склоном: кругом царит сумрак, а они розовеют, розовеют, и вот зарделись петушиным гребнем в солнечных лучах. Звучание лесного хора достигало полного крещендо, причем многих птиц явно притягивала лужайка вокруг нашей хижины, где на земле легче было разглядеть личинок и мурашей. Голубая с желтыми и зелеными пятнышками кукушка предпочитала густую листву могучего хлебного дерева перед нашими окнами, а пальмы кишели крохотными порхающими певцами, многие из которых были похожи на канареек.
Лучшее время суток — этот первый утренний час, когда солнечные зайчики бегали по золотистой бамбуковой плетенке. Природа особенно бодра и безмятежна, и мы — ее частица. По мере того как солнце поднималось к зениту, щедро поливая своими лучами тропические дебри, все живое словно погружалось в дрему. Но зной не становился нестерпимым, потому что вечный пассат с востока уносил восходящий поток тепла и проветривал остров. Не жара умеряла нашу подвижность к полудню, а скорее атмосферное давление отнимало излишки энергии. Мы не страдали от жары в долине Омоа.
К тому времени, когда кончался утренний концерт, мы уже были на ногах, на берегу прохладного источника. Часто мы заставали там очень славного дикого кота, отпрыска домашних кошек, и он быстро привык к нашему обществу. Заберешься в воду и словно прозреваешь: с глаз спадает пелена, все вокруг преображается, становясь восхитительно красивым. Органы восприятия работали особенно остро и чутко, мы все видели, обоняли и слышали, точно дети, очутившиеся в мире чудес. А речь шла о самых обыденных мелочах. Скажем, о влаге, которая собиралась на зеленом листе, готовая сорваться с него каплей вниз. Поймаешь каплю, и катится по ладони, сверкая драгоценным камнем в лучах утреннего солнца. Мы были богачами, зачерпывая полные пригоршни, и сотни маленьких брильянтов сбегали между пальцами, а из толщи горы текли новые и новые тысячи.
Наша ванна была рогом изобилия, сокровища переливались из нее через край, образуя искристый ручеек, который бежал в долину, смеясь, приплясывая и радуясь встрече с солнцем после долгого заточения в темных недрах. Встряхнешь ветку, и прямо в ванну падают розовые цветки гибискуса. Мы направляли их в ручей, и они кружились, преодолевая маленькие порожки из скользких камней. Наши посланцы морю, волшебному котлу, где зародилась жизнь, где возрождается все умершее. Грязь и сгнившие растения, испражнения животных и помои из деревни — все это собирала речушка на своем пути к морю. Но океан — великое очистное сооружение планеты. Как ни мутна была вода в устье около деревни, все примеси годились в пищу океанской флоре и фауне. Все проходило через планктонный фильтр, а солнце вновь поднимало кристально чистую влагу к небесам, чтобы она окропила лес, окропила нас и пополнила истоки нашего родника.
До чего хорошо было, выйдя из ванны, ступить на мягкий ил, шелковистую глину или согретый солнцем твердый камень. С того дня, как наши местные помощники оставили нас одних, установился полный контакт с природой. Мы воспринимали ее кожей. Чудесный климат позволил нам в. облегчением сбросить одежду, которую белые люди, жители холодных стран, всячески навязывали островитянам и которая прилипала к распаренному солнцем телу, словно мокрая бумага. С таким же облегчением сбросили мы обувь; и ведь здесь, где мы ступали не на педали велосипедов и не на асфальт, а на мокрую глину или на острые камни, ей постоянно требовалась бы починка. Без обуви и одежды мы чувствовали себя свободнее и живее. Привычная к покровам кожа на первых порах была очень чувствительной, как у змеи, которая после линьки вынуждена прятаться, пока не затвердеет эпителий. Но постепенно лес перестал царапать, свежие листья и мягкие ветки только гладили нас. Как ни враждебны тропические дебри к чужакам, они ласковы к своим, обороняют своих питомцев. Мы не чувствовали себя чужаками. Нас радовало прикосновение ветра, солнца, леса вместо вечно липнущей к телу одежды, мы наслаждались, ступая на прохладную траву, на горячий песок, на продавливающуюся между пальцами жидкую грязь и в лужицу, где пальцы снова становились чистыми. Куда приятнее, чем ощущать подошвой одни только надоевшие носки! Раздетые и босые, мы чувствовали себя богачами, ведь наше тело облекала вся вселенная. Вместе со всем окружающим мы были частицами единого целого.
Мы поселились в самой плодородной части долины и, глядя на зеленое изобилие, думали о том, как мудрые люди умели укрощать дебри. Здесь не покушались на гармонию среды для разбивки больших однообразных плантаций. Где позволяли место и почва, дикие деревья заменяли более полезными. И хотя люди ушли, облагороженный ими лес остался — остался не памятником истребленному врагу, но монументом труженикам, павшим жертвой теневых сторон цивилизации. Не борьба с природой сгубила этот народ, а стремление белого человека навязать ему свою культуру.
Дети города, мы вряд ли выжили бы в дебрях без наследства, оставленного нашими предшественниками. Земля терпеливо продолжала производить пищу, хотя никто не удобрял и никто не собирал урожай, кроме диких животных, птиц и мурашей.
Позади нашей хижины росли преимущественно высокие бананы и феи. Без плодов их сразу и не различишь: сочные зеленые стволы, словно цветочные стебли, но в сечении шириной с тарелку. Их венчают тянущиеся вверх широченные, длинные листья вроде пальмовых. Но стебель феи у корня красноватый, и если на банане гроздь зеленых или желтых плодов свисает с макушки, напоминая люстру, то красные плоды феи торчат, будто звезда на рождественской елке.
Как и говорил Терииероо, драгоценный горный банан феи, который на Таити можно было найти лишь в труднодоступных ущельях, здесь, на Фату-Хиве, окружал нас со всех сторон. Он стал нашим основным и любимым блюдом. Сырой феи несъедобен, но мы пекли его на углях и макали в соус, выжатый из натертого кокосового ореха. Этот жирный соус, напоминающий сливки, был у нас не только универсальной приправой, но и косметическим средством. Готовили мы его очень просто: измельчали орех зубчатой ракушкой и полученную массу отжимали кокосовым волокном. У печеного феи куда более изысканный аромат, чем у печеного банана. А кокосовый соус придавал желто-зеленой мякоти совершенно особенный вкус, который нам никогда не приедался. Помимо феи кругом росли обычные бананы семи разных сортов — от маленького, с яйцо величиной, вкусом напоминающего землянику, до огромного, чуть не в руку длиной, лошадиного банана. Сваришь или испечешь его — получается нечто похожее на печеные яблоки.
Не так уж часто удавалось нам найти спелые бананы. Схватишь рукой желтый плод, а это всего лишь пустая кожура, как палец от перчатки. Мякоть съедена либо маленькими плодовыми крысами, либо ящерицами, либо желтыми банановыми мушками. Впрочем, плодов всем хватало. Только мы брали гроздья, которые едва начинали желтеть, и подвешивали перед окном на хлебном дереве, где они за день-два дозревали на солнце и неизмеримо превосходили вкусом покупные бананы в Европе: ведь те собирают за много недель до естественного созревания, чтобы они выдержали долгую перевозку.
Нам объяснили, что незачем лезть за банановой гроздью по скользкому зеленому стеблю. Перерубил его сильным ударом мачете — и спеши поймать гроздь, чтобы не упала и не расквасилась. Казалось бы, варварский способ, но дело в том, что ни феи, ни собственно бананы не плодоносят дважды. На Фату-Хиве новый стебель вырастал из зеленого пенька чуть не на глазах. Из напоминающего луковицу среза тянется вверх внутреннее кольцо, за ним следуют остальные, и к концу второй недели пенек превращается в подобие цветочного горшка, над которым торчит побег в рост человека, увенчанный, словно зеленым знаменем, первым огромным листом. Скорость роста определялась средой: не слишком медленно, но и не чересчур быстро, не преступая грань между естественным и волшебным. Долго ли озадачить человека, если растение и впрямь будет тянуться вверх у него на глазах! Живой пенек перекачивал соки земли в кольца, они набухали, шли в рост и развешивали бананы высоко у нас над головой. За год на месте старого растения поднимался новый великан, который безмолвно предлагал голодному прохожему гроздь чудесных плодов.
Почти столь же видное место в нашем повседневном меню занимал кокосовый орех. Большинство кокосовых пальм около хижины были настолько высокими и гибкими, что я и не помышлял о том, чтобы влезть на них, но спелые орехи можно собирать на земле. У орехов, пролежавших на земле две-три недели, в одном конце торчал росток, будто голова страусенка из яйца, а в другом конце
— корешок, который буравил почву в поисках опоры. Ядро такого переспевшего ореха почти все растворено в соке; получается похожий на мозги губчатый белый мяч, вполне съедобный, но отличающийся от нормального ореха сладковатым; вкусом. Даже сердцевина молодой кокосовой пальмы, напоминающая огромный хрустящий сельдерей, годится в пищу.
Большинство пищевых растений плодоносили круглый год. На одной и той же ветке колючего апельсинового дерева можно было увидеть рядом благоухающие белые цветки, зеленую завязь и спелые золотистые плоды. Такая же картина с лимонным и лаймовым деревьями. Иное дело — хлебные деревья, они считались с временем года. Большинство старых хлебных деревьев были настоящими гигантами, не обхватишь и не влезешь, если нижние сучья выше пределов досягаемости. Могучую крону составляли листья, похожие на дубовые, только намного шире, и под корявыми ветками висели зеленые плоды величиной с детскую голову. Испечешь такой плод на углях — и плотная шершавая кожура лопается, отстает от волокнистой белой мякоти. Получалось сытное, богатое крахмалом блюдо, по вкусу нечто среднее между свежим хлебом и молодым картофелем. Мякоть можно было разламывать пальцами, как хлеб, можно было нарезать и жарить в кокосовом соку на плоском камне, можно было закопать в землю на несколько месяцев или на год, дать перебродить и есть получившееся пюре.
Из корнеплодов в лесу самым важным было таро, больше всего похожее на картофель. Раньше его выращивали на Орошаемых участках, а когда люди исчезли, таро продолжало расти на сырой почве ниже ручья. Над каждым корнем, словно зонт, простирался большой сердцевидный лист; рядом росли другие листья такой же формы, но еще шире. Под ними можно было спрятаться от дождя, ими же мы прикрывали тело, если гости из деревни заставали нас в разгар купания.
Но и этим не исчерпывались богатства леса. Грушевидные плоды папайи величиной с дыню. Удивительно вкусные манго чуть больше сливы. Дикий ананас. Красные карликовые помидоры. Пандан с гроздьями плодов, напоминающих ядро ореха. Огромные бугристые сине-зеленые плоды тапо-тапо. Большое дерево было увешано великолепными плодами, вкусом и видом похожими на землянику, только величиной с кочан цветной капусты.
Мы пили минерализованную воду из прохладного источника и свежий сок апельсинов. Пили лимонный сок с мякотью, подслащенный сахарным тростником, и сок зеленых кокосовых орехов, которые не без труда удавалось сорвать на относительно молодых пальмах на склоне выше хижины. На Таити Фауфау научила Лив заваривать чудесный чай из сухих апельсиновых листьев. Сразу за хижиной в чаще росли кофейные кусты, и нередко мы заводили речь о том, чтобы собрать и прожарить их красные ягоды, однако настолько пристрастились к апельсиновому чаю, что руки так и не дошли до сбора кофейных плодов.
Не только растения пережили своих владельцев. В лесу и на горных лугах бродили полчища псов, кошек, лошадей, овец и коз, чьи предки были ввезены на острова европейцами, а также длинномордые косматые дикие свиньи, доставленные самими полинезийцами. Маленькие плодовые крысы — забавные чистенькие зверьки, любимое блюдо полинезийцев, привезших их с собой на лодках, — лазили по деревьям перед нашими окнами и воровали апельсины. Точнее, спасали их от нас, двуногих воров. Если не считать птиц и китов, этим исчерпывался перечень теплокровных животных, которые добрались до здешних островов. Не было даже летучих мышей. Кстати, и змей не было.
По утрам далеко вверху в долине раздавалось кукареканье. Еще до прихода европейцев на большинстве полинезийских островов держали кур. На Фату-Хиве после смерти владельцев они часто уходили в лес и дичали. Иоане поделился с нами курами, но у нас не было для них загона, а обрезать им крылья мы не стали — попадут в лапы диким кошкам. И летали они себе на воле, словно дикие гуси, спали на высоких деревьях и спускались только поклевать объедки с нашего стола. Яйца откладывали где попало, так что чаще всего мы находили их, когда уже было поздно.
Подвесив на коромысло сплетенные из пальмовых листьев корзины, я большую часть дня бродил по лесу в поисках пищи. Одновременно я, выполняя задание моих прежних профессоров, собирал всякую мелюзгу, которую затем консервировал в пробирках, чтобы изучать пути миграции и микроэволюцию. Сам я не думал о возвращении в цивилизованное общество, но предполагал отправить с какой-нибудь шхуной зоологическую коллекцию специалистам для подробного изучения.
Наземная фауна Полинезии в целом и Фату-Хивы в частности была очень бедна по сравнению с животным миром материковых и континентальных островов. Но и то, что было, могло о многом порассказать. Под камнями, под сухими листьями, в зеленой чаще кишела всевозможная живность. Яркие тропические жуки и бабочки, большие и маленькие пауки, бесконечное разнообразие улиток в красивых многоцветных домиках. На разных склонах одной и той же долины или по обе стороны высокого гребня и улитки разные. Различия в фауне были обусловлены вариациями флоры. Я еще никогда не видел, чтобы растительность так заметно отличалась на сравнительно небольших расстояниях.
По мере того как наше знакомство с островом перестало ограничиваться долиной Омоа, мы осознали определяющую роль горной гряды Тауауохо для всей местной флоры и фауны. Чередование вершин и перевалов определяло движение облаков; от рельефа зависело, где выпадут дожди. Фату-Хива, как и вся Полинезия, расположен в полосе пассата, и облака в основном всегда идут в одном направлении — от Америки в сторону Азии. Там, где невысокие плато и перевалы свободно пропускали тучи, преобладала сухая погода. Основным элементом ландшафта в таких местах была саванна, кое-где попадалась даже полупустыня с желтой травой и папоротником. И тут же поблизости — густые заросли, а то и непроходимый дождевой лес. В середине острова, где высокие пики и гребни останавливали облака, где прохладный воздух на высоте конденсировал испарения над пропеченной солнцем землей, во второй половине дня горы накрывала облачная пелена и на пышную зелень обрушивался тропический ливень. Конечно, бывало, что шторм приходил со стороны океана, но вообще-то дождь был чисто местным, островным явлением. Как будто горные вершины для того и рвались вверх, чтобы доить скользящие в синем небе белые тучки, заставляя их день за днем поливать одни и те же места. Постоянное направление облаков и ветра определяло состав растительного и животного мира. Мы ни разу не видели, чтобы облако двигалось со стороны Азии к Америке. Путь в Азию шел, так сказать, под гору; я ощущал это буквально на собственной коже. И это же явление определило курс, по которому я много лет спустя следовал в своих плаваниях в Тихом океане.
Мы убедились, что верховья долины Омоа и прилегающие склоны непроходимы. За тысячи лет бурелом образовал сплошное сплетение, покрытое толстым слоем мха, паразитных папоротников и других травянистых, из которого росли молодые деревья и лианы. Пробираешься через такой участок, вдруг мшистый ковер под ногами расступается, и ты летишь вниз, на землю, исчезая с головой. Осторожно карабкаясь по скользким и гнилым стволам, мы порой тратили целый день на то, чтобы преодолеть ущелье шириной в несколько сот метров. Прокладывая себе путь ударами мачете, следовало все время быть начеку, чтобы не провалиться в коварную яму.
В таких местах даже древние полинезийцы, мастера покорения дикой природы, ничего не могли сделать. Недаром там не было никаких следов человека. В окрестностях нашей хижины лес был куда приветливее, тут мы, как только освоились, передвигались совершенно свободно и на каждом шагу встречали следы человеческой деятельности, чаще всего в виде обросших каменных террас и платформ паэ-паэ, которые служили фундаментом для жилищ. Попадались нам и останки людей: в пещерах и трещинах лежали плесневелые черепа и кости, а кое-где каменные плиты окружали охраняемые табу участки с целыми грудами черепов. На тщательно обтесанных плитах ограды можно было увидеть высеченные фигуры с согнутыми коленями и поднятыми над головой руками, явно призванные отгонять злых духов и незваных гостей. Находили мы также идолов — каменные или деревянные скульптуры, изображающие толстого демона с круглыми глазищами, широченным ртом, короткими ногами и сложенными на животе руками. У реки на камнях были высечены люди и морские животные, большие глаза, концентрические окружности и ямки с блюдце величиной. А огромный камень высоко на склоне над домом был обтесан в виде обозревающей долину черепахи. Возможно, эта черепаха служила жертвенным алтарем. Тогда ни один археолог еще не работал на Фату-Хиве. Покойный отец Вилли встречался с немецким исследователем Карлом фон Штейненом, когда тот в 1897 году посетил Маркизы, собирая этнографический материал для Берлинского музея. Три американских этнолога из музея Бишоп на Гаваях — Э. Хэнди с женой и Ральф Линтон — изучали культуру важнейших островов Маркизского архипелага, но раскопками никто не занимался.
Что ни шаг — новое открытие. Под нашими нарами быстро скопилась груда великолепно отшлифованных каменных орудий, маленьких фигурок и украшений из камня, раковин, черепахи или человеческой кости.
Только наши голоса звучали в долине. Мы чувствовали себя единственными уцелевшими после забытой катастрофы. Пробовали представить себе повседневную жизнь наших предшественников, их труд и праздники, радости и проблемы. Раньше мне были знакомы лишь безжизненные экзотические изделия, о которых я читал в Осло или которые рассматривал в берлинском Музее народоведения. Теперь я находил эти вещи там, где они были в обиходе; их форма и функция отвечали нашим собственным потребностям, и мы убеждались, что прежние владельцы решали свои проблемы самым естественным способом, который стал естественным и для нас тоже. Творцы древних орудий перестали быть для нас неведомыми чужаками, мы узнавали в них Терииероо и Фауфау, наших друзей в деревне на берегу, самих себя. Или вернее: мы, современные люди, привыкли считать себя совершенно отличными от людей прошлого, а на самом деле — ничего подобного, пусть даже мы живем иначе, потому что сделали какие-то изобретения и начали по-другому одеваться. И я стал смотреть на антропологические науки уже не так однобоко, как смотрел дома, за письменным столом, когда пытался осмыслить противоречивые гипотезы исследователей, подчас не видевших ни одного пассатного облака и не бывавших ни на одном полинезийском острове. Вопрос о том, как обыкновенные полинезийцы, мужчины и женщины, за много столетий до знаменитых путешествий капитана Кука, Колумба, Марко Поло добрались до этих уединенных островов, начал занимать меня куда сильнее, нежели миграции каких-то жучков и улиток.
Шли недели. И в мозгу запечатлевались не столько маркизские изделия искусства и насекомые, сколько сознание того, что ты неотъемлемая, опекаемая частица природы, а не воюющий с ней беглец. Цивилизованный человек объявил войну среде, битва развернулась на всех материках и грозила охватить самые далекие острова. Сражаясь с природой, человек мог рассчитывать на победу в любом бою, кроме последнего, решающего. Потому что такая победа для нас равнозначна гибели: не может жить плод, обрубивший пуповину. Остальные живые организмы обойдутся без человека, как обходились раньше. Но человек не мог явиться на свет без них и не сможет жить, если они исчезнут. Жизнь на природе показывала нам ярче любого учебника биологии, что все живые существа взаимозависимы друг от друга. В городе мы пользовались благами среды косвенно. Теперь же стали частью среды и особенно остро ощутили, что природа
— большой коллектив, члены которого, сознательно или нет, служат единому целому. Идет всеобъемлющее сотрудничество друзей и врагов, прямо или косвенно обеспечивающее существование всех партнеров. Сотрудничество объединяет все звенья эволюции, и только человек выступил в роли одинокого бунтаря. Все, что ползает и цветет, все, что мы, люди, опрыскиваем ядами или закрываем асфальтом, добиваясь чистоты на улицах и в домах, так или иначе молчаливо служит нашему благу. Все это необходимо, чтобы билось сердце человека, чтобы мы могли дышать и есть.
Плетеные стены хижины пропускали лесной воздух, наполнявший наши легкие. Дома, когда нам был нужен свежий воздух, мы открывали окно или включали вентилятор. Теперь еще включают кондиционер. Кто при этом вспоминает о мельчайших организмах, творящих столь нужный нам кислород? Пекарь снабжает нас хлебом, крестьянин — молоком, а воздух — он кругом, он доступен всем бесплатно. Но большие города и промышленные предприятия не могли бы существовать, не будь зеленых дебрей, не будь скрытых под землей корней, превращающих черную почву в зеленые листья, которые с утра до вечера производят кислород. Крохотные растения, почти незримые для невооруженного глаза, плавают зелеными былинками на поверхности всех морей. Вода вокруг скалистых берегов Фату-Хивы была окрашена ими в зеленый цвет, и рыбы паслись на морских пастбищах, а жители деревни ловили рыбу, хотя и не знали о роли планктона. Планктон — это ночесветки, переливающиеся драгоценными камнями в ночи. Но эти драгоценные камни не купишь и не продашь. И никто не рассказывал людям, живущим в устье реки, чем же нам дорог планктон.
Никто не рассказывал им, что все живое обязано своим существованием этой зеленой пыли. До того, как фитопланктон принялся производить первые молекулы кислорода, в море не было рыб. И пока тот же невзрачный планктон не накопил над поверхностью океана достаточно кислорода, чтобы планету окутала атмосфера, не могли существовать никакие летающие, ползающие, прыгающие, лазающие или шагающие существа. Цивилизованный человек узнал об этом благодаря современной науке. Мы помним об этом, однако наше знание не повлияло на наше поведение. Непросвещенные жители островной деревушки загрязняли чистую воду реки, впадающей в море. Точно так же, только в гораздо больших масштабах, загрязняют реки современная индустрия и города всего мира. Все, независимо от степени ядовитости, спускается в море. Океан представляется нам таким же бесконечным, каким он представлялся невежественному дикарю, хотя Колумб доказывал обратное. Дышать — это так естественно, где уж тут задумываться о судьбах планктона и лесных дебрей.
Лежа на нарах в щелеватой хижине, мы ощущали животворное теплое дыхание девственных дебрей. Что выдыхал дождевой лес, то мы вдыхали, и наоборот. Мы были объединены с окружающей нас средой в общей пульсации, в одном часовом механизме, в бесконечном процессе, в неведающем остановок поточном производстве. Кусты и деревья позволяли животным дышать; в ответ животные, включая и нас, поставляли углекислый газ и удобрения. Щедрее всех удобряли землю Фату-Хивы крупные травоядные, но и маленький дикий пес старательно поднимал ножку около ствола, чтобы ни одна капля не пропала даром. Жуки и черви не хуже прилежного земледельца перекапывали почву, прокладывая путь для голодных корней, которые вслепую тянулись вниз/ Прилежные санитары разного рода — от двуногих птиц и четвероногих млекопитающих до шестиногих насекомых и безногих бактерий— уничтожали падаль и содержали дебри в чистоте. Они удаляли все зловонное, и цветы наполняли воздух чудесным благоуханием.
Девственный лес обеспечен уходом, и красота его выполняет ту же роль, что благоухание, она бодрит и привлекает. Красоту в тысячах проявлений мы наблюдали повсюду, от земли до высоких крон. Даже самый пресыщенный человек восхитился бы зрелищем великолепных орхидей, облепивших мшистые ветви, а стройные гибискусы развесили над рекой букеты розовых, красных и синих цветков. Крохотные летуны с трепетными усиками и с глазами на стебельках тоже отзывались «на красоту, когда обольстительный цветок манил восхитительными красками и приятной трапезой в обмен за маленькую услугу — перенести немного цветочной пыли и способствовать размножению того, кто сам не способен передвигаться. У каждого цветка был свой хитроумный способ заставить насекомых коснуться тычинок на пути к нектару.
Мы кормились с того же стола, что бабочки и прочие животные, пища сыпалась нам на голову, стволы и ветви подавали блюда, приготовленные из соков земли. И мы не заставляли себя упрашивать, ели все, что нас привлекало, воспринимая пищу как нечто само собой разумеющееся, как воздух, которым дышали. Лишь иногда сознание словно пробуждалось от дремоты, навеянной гипнотическим воздействием окружающей природы, и мы в отличие от наших шестиногих и четвероногих компаньонов задавали себе наивные вопросы. Уплетаешь лакомый плод — вдруг твой взгляд останавливается на подарившем его недвижимом дереве, и ты спрашиваешь себя, как это получается, что этот ствол производит деликатесы, совершенно отличные по виду и вкусу от тех, что вызревают на соседнем дереве. Щепка апельсинового дерева мало чем отличалась от щепки манго или хлебного дерева, и почва та же самая, однако на своем пути от корней к макушке ее отфильтрованные соки превращаются в совершенно различные продукты. Стволы, заурядная древесина, кормили нас не хуже самого искусного шеф-повара. Сырье — то же самое, из которого ребенок лепит «пирожки», играя на дворе. Лучший в мире повар, дай ему любые приправы и специи, не смог бы превратить глину в разнообразные вкусные блюда, какими нас потчевали безмолвные деревья. Такое под силу только волшебнику. В лесу волшебники окружали нас со всех сторон.
Однажды, возвращаясь с тяжелой, хотя и привычной уже ношей феи, я присел отдохнуть под цветущим деревцом. Солнечные зайчики играли на блестящих листьях, и я заметил маленького яркого паучка, он спускался вниз на тонкой шелковистой нити, которую сам же и производил. Не добравшись до земли, он как будто передумал и торопливо полез обратно на лист, оставив блестящую нить покачиваться на слабом ветерке. Казалось, паучок чего-то терпеливо ждет. Но разве одна нить может служить ловушкой? Я никогда не любил пауков, воспринимал их как убийц и гангстеров в мире животных: сидят в засаде, вооруженные смертоносным оружием, и набрасываются на ни в чем не повинных букашек, нимфами порхающих в воздухе. Однако на Фату-Хиве мой взгляд переменился. Здесь в роли нимф выступали рои комаров, а они день и ночь нещадно жалили нас, так что мы перестали сметать паутину под потолком — она заменяла липкую бумагу. Мы научились быть благодарными паукам и крохотным ящеричкам, которые прятались в плетенке из пальмовых листьев и помогали нам сражаться с комариными полчищами. Если разобраться, то чем паук хуже красивой кукушки или маленьких безобидных вьюрков, живущих точно такой же добычей? И коли уж на то пошло, что было бы с нами, если бы прирост лесного населения никак не регулировался? Все виды размножились бы сверх всякой меры, и часовой механизм природы остановился бы из-за перенаселенности.
Дуновение ветра было едва заметно, но невесомой шелковистой ниточке и того было достаточно: она вытянулась почти горизонтально и вскоре зацепилась за ветку на другом деревце. Паучок-легковес тотчас побежал по нити, словно канатоходец. Я решил, что он хочет освободить зацепившийся конец. Ничего подобного! Натянув задними ногами нить потуже, паук хорошенько закрепил ее. У него явно был намечен какой-то план. По натянутой нити он вернулся на пер— вое деревцо и поднялся чуть выше, на другую ветку. При этом он тянул за собой вторую нить, которую и закрепил над первой. Закрепил — снова в путь. Тщательно и планомерно выбирая точки для закрепления нити, маленький искусник довольно скоро натянул раму, и можно было приступать к плетению ловушки для лакомой крылатой добычи.
С разных точек верхней нити паучок спускался вниз, соединяя все горизонтальные нити. При этом он сдвигался чуть влево или вправо, закрепляя новую нить в заранее рассчитанной точке так, что все нити перекрещивались в центре, будто спицы на оси. Казалось, крохотный ткач пользуется точнейшими инструментами. Я помнил из зоологии, что эти нити не липкие, паучок может спокойно бегать по ним. Но вернувшись затем в центр паутины, он приготовился включать другие железы. Теперь паучок пошел по спирали, разматывая нить из вязкого секрета, на которую он избегал ступать. Он удалялся от центра, и закрепленная за спицы спираль становилась все шире. Закончив плетение паутины, паучок вернулся на ветку и принялся ткать укрытие в виде трубочки. Здесь создатель хитрой ловушки мог сидеть и ждать «поклевки».
Кто скажет, что происходило в мозгу крохотного создания, засевшего в уютной водонепроницаемой норке? Паук притаился, точно рыболов с удочкой, и ждал награды за свой труд, сплетя ловушку не менее злокозненную, чем сеть рыбака или жердь с клеем в руках птицелова.
Я вернулся в хижину, испытывая зверский аппетит. У меня тоже была задумана ловушка. Последние дни мы с Лив заметили, что нашим желудкам, привычным к европейской пище, мало одних только фруктов да орехов. От перемены пищи сосало под ложечкой. Мы не были по-настоящему голодны, а были просто избалованы. Дурацкое чувство: наешься до отвала, на бамбуковом столе остаются лежать хлебные плоды, таро и кокосовые орехи, а все равно хочется есть. Дары леса не приедались, но и не насыщали, сколько ни набивай ими живот. Однажды ночью мне приснился сочный бифштекс, и я даже рассердился, когда Лив разбудила меня.
Надо было принимать меры. Я нацепил на пояс мачете и пошел вверх по склону за тонким бамбуком. Он понадобился мне для верши, чтобы ловить в реке раков. Они были очень пугливые — может быть, из-за диких кошек. Держа в левой руке любимое лакомство рака — кусочек кокосового ореха, выманиваешь его из норы, но только хочешь схватить правой, как он вильнул хвостом и был таков. Кажется, уже протянул за приманкой свои здоровенные клешни, этакие окаменелые варежки, но глаза на стебельках все примечают, не позволяют твоей руке обмануть его. И я сплел из бамбуковых прутиков свою первую неуклюжую вершу. Приманка — кокосовый орех; теперь можно прятаться в свое укрытие и ждать поклевки.
На другое утро я исполнил восторженный танец, обнаружив, что верша битком набита шурщащими серо-черными раками длиной с палец, не считая клешней. Я переложил их в корзину, отнес под навес, где Лив, сидя на корточках, пекла феи, и мы устроили настоящий пир. Это кулинарное событие запомнилось нам навсегда. Сперва мы съели хвост и брюшко, потом принялись разгрызать сочные клешни, запивая их содержимое лимонным соком. Феи с кокосовым соусом показались нам вкуснее, чем когда-либо. Мы по-настоящему насытились и были счастливы. К нашим услугам был новый источник пищи. Река кишела раками, а заодно с ними в вершу попадали маленькие голубые рыбки.
Солнечные зайчики веселее прежнего играли на золотистых стенах бамбуковой хижины. У нас было все, мы ни в чем не нуждались. Тем более — в цивилизации.
Белые люди, черные тени
Полный покой. Белые голуби подчеркивают атмосферу гармонии. Они парят вокруг высокой пальмы, которая отбрасывает тень на мою спину: я стою на коленях в прозрачной речушке, примащивая бамбуковую вершу между скользкими камнями.
Внезапно я ощутил чье-то присутствие, выбрался на берег и поспешил прикрыть наготу набедренной повязкой. Хрустнула галька, и сквозь высокий папоротник я разглядел черную челку и тонкое древко копья. Вдоль берега, пригнувшись, крался незнакомый человек. Лицо недоброе, черты скорее меланезийские, чем полинезийские: широкий нос, короткие вьющиеся волосы, почти черная кожа.
Он был настолько поглощен своим делом, что не заметил меня. Держа в одной руке большой калебас, в другой — двухметровое копье, он не спеша шагал по воде и выплевывал в речку разжеванный кокосовый орех.
Вот замахнулся копьем, ударил, и на острие забился польстившийся на приманку крупный рак. В калебасе его уже ждали другие раки.
— Каоха нуи, — крикнул я чужаку, старательно выговаривая полинезийские слова.
Островитянин поднял голову и подошел ко мне.
— Бонжур, мсье, — спокойно приветствовал он меня, подавая с вежливым поклоном руку.
— Ты говоришь по-французски?
— Немного. Я — Пакеекее, протестантский священник.
Пакеекее, приятель Терииероо по миссионерской школе на Таити! У меня хранилось адресованное ему письмо таитянского вождя. Как-то раз я попытался выяснить у Иоане, где можно найти Пакеекее, но тот лишь пожал плечами и покачал головой. Я решил, что Пакеекее покинул остров. А он вот стоит передо мной! Я привел его к нашей бамбуковой хижине и отдал письмо. Обрадованный, но и озадаченный, Пакеекее с моей помощью разобрался в витиеватом почерке Терииероо; письмо содержало просьбу уделить нам особое внимание, ведь мы не только усыновлены вождем, но принадлежим, подобно самому Пакеекее и Терииероо, к протестантской церкви.
Пакеекее очень серьезно воспринял просьбу Терииероо и удалился, чтобы продумать, как лучше выполнить просьбу своего таитянского друга. Он попросил на подготовку два дня, после чего нас пригласили на роскошнейший пир. Торжество состоялось в деревне, в дощатой лачуге Пакеекее. Три дня длилось великолепное пиршество с ритуальным оттенком. Завтрак, обед, ужин. Не успеешь встать из-за стола и, пошатываясь, отойти в сторонку, как тебя снова зовут есть. Священник и его семейство заготовили припасы в курятнике, в свинарнике, на деревьях и на море; теперь женщины и дети, вооруженные длинными палками и огромными листьями, хлопотали на кухне, и сквозь щели в бамбуковых стенах сочился дым и распространялся заманчивый аромат.
Кроме нас и священника за столом сидел всего один человек — пономарь. Женщины и дети ели на полу. А пономарем оказался не кто иной, как Тиоти, тот самый долговязый чудак с больным зубом и соломенной шляпой. Радость свидания с этим дружелюбным весельчаком была обоюдной. Он обнажил щербатый рот в широкой улыбке, и лицо его избороздили добрые складки.
Священник не скрывал, что праздник в его доме предназначен только для протестантов. Местные католики торчали за оградой и глядели, как мы уписываем жареную свинину и курятину. Среди них был наш друг Иоане, заметно чем-то удрученный.
— А много здесь, на Фату-Хиве, протестантов? — вежливо справился я, когда хозяин громкой отрыжкой подвел итог первой трапезе.
Пакеекее вытер губы, подумал, посчитал по пальцам.
— Нет, — с сожалением произнес он. — Католиков больше. Когда патер Викторин навещает остров, он раздает людям много сахара и риса.
— Ну а сколько же все-таки протестантов? — настаивал я.
Священник снова посчитал по пальцам.
— Один умер, — сказал он. — Остаемся мы с пономарем.
Он смущенно улыбнулся и добавил:
— Раньше был еще один, но он переехал на Таити.
На третий день мы были уже не в состоянии есть, да и припасы на кухне кончились. Мы с трудом поднялись на ноги. Тиоти принес трубу, сделанную из огромной раковины с отверстием в одном конце. Выйдя на тропинку, он потрубил раз, другой, третий… Три протяжных сигнала, таких громких, что они отдались в ближних склонах. Потом вернулся, и мы сели ждать.
Странная церемония повторилась еще два раза. Наконец священник встал и объявил, что ему и пономарю пора в церковь, сегодня воскресенье. Рядом с дощатой хижиной Пакеекее приютилась лачуга из бамбуковой плетенки без окон, крытая пальмовыми листьями. Это и была протестантская церковь. Священник и пономарь зашли туда, а мы с Лив двинулись вверх по долине, унося в зеленых корзинах прощальные подарки. Почему-то нас в церковь не пригласили. Поблизости от пляжа стояла дощатая церковь
католиков — беленая, с железной крышей и настоящим шпилем. Католики на Фату-Хиве явно преуспели больше, чем протестанты.
Пакеекее положил в наши корзины кроме того, что осталось на столе, еще и различные диковины. С удивлением обнаружил я в одном мешочке большой обломок белого коралла. Учебники утверждали, что здесь не может быть кораллов: дескать, во всей Маркизской группе нет барьерных рифов. Маркизские пляжи как раз были знамениты черным вулканическим песком в отличие от белых коралловых пляжей других полинезийских островов. Тем не менее Тиоти утверждал, что коралл найден им на Фату-Хиве, и есть место, где его даже очень много. Зоологическая загадка!
И вот через несколько дней в обществе долговязого Тиоти и его милой маленькой супруги мы на рассвете отправились на пустынный пляж с белыми кораллами, который, по их словам, назывался Тахаоа.
Путь был сложный и утомительный. Выйдя из бухты Омоа, надо было лезть через большие камни, которые громоздились у подножия обрыва. Справа прибой разбивался о камни, и вода бурлила у нас под ногами; слева к синему небу вздымалась ржаво-красная стена. Каждый день, особенно после дождя, сверху на узкий проход сыпались обломки. Волны бодали стену, и кое-где нам приходилось спасаться на высоких глыбах, но и там нас обдавали соленые брызги. Наконец осыпь кончилась, и мы ступили на узкую полочку из застывшей лавы. Вода и вулканизм изваяли причудливые конструкции и гроты. Мы пробирались по естественным мостикам, заглядывали в трещины, из которых фонтаном била вода, нагнетаемая ревущим накатом. В одном месте будто незримый поезд с гулом несся в толще горы, а из отверстия над нашими головами вырывался форменный гейзер.
Мы с Лив тщательно выбирали опору, чтобы не порезать ноги об острую лаву, а наши друзья лихо прыгали, словно на пружинном матрасе. С такими ступнями, как у них, хоть по битому стеклу ходи.
Около полудня, обогнув выступ скалы, мы соскочили на красивый пляж. Тахаоа… Я не верил своим глазам. Вдоль открытого берега на километр тянулся ослепительно белый песок с белоснежными глыбами коралла. Пляж омывала широкая полоса мелководья; неровное дно представляло собой лабиринт из рифов и заводей. Нависающие горы подступали к воде почти вплотную, оставив место лишь для редких пальм и кустарников.
Красивое место, но и жуткое. Сплошной каменный барьер преграждал путь внутрь острова, вынуждая гостей жаться к морю. Единственным укрытием от камнепада служила неглубокая пещера. Я приметил ее как возможное убежище, не подозревая, что много месяцев спустя мы и впрямь будем искать здесь спасения, правда, не от камнепада, а от других опасностей.
Удивительно светло было в Тахаоа. Солнечные зайчики на зеркальных заводях и сверкающий песок с отшлифованными водой коралловыми глыбами буквально слепили глаза. Сахарно-белый песок образовался из крошек коралла и миллионов ракушек. Бушующие каскады прибоя, перехлестывая через барьерный риф, пополняли свежими ручейками красно-желто-зеленый бассейн вдоль пляжа, похожий на аквариум, — но какой аквариум! Мы в жизни не видели ничего подобного.
На берегу лежали груды больших и малых раковин: цвета леопардовой шкуры, гладкие, похожие на тюрбан, на конус, на пузырь, двустворчатые, зубчатые, домики морского ушка и множество других. Одни лишь тропики способны создать такое пестрое разнообразие. В кишащих жизнью соленых заводях копошились моллюски, окруженные морскими ежами, звездами, ракообразными. Водоросли и морские анемоны образовали живой гобелен всех цветов радуги. Подводный сад и палитра живописца соединились тут. Всюду сновали, лежали, метались рыбы самой различной окраски и формы: пятнистые и полосатые, толстые, как груша, и тонкие, как палочка, даже плоские, словно блин. Наверно, художник, который делал наброски для этого сказочного мира, и изобретатель, воплотивший их в жизнь, располагали неограниченными ресурсами и неистощимым чувством юмора. Не все ли равно, как называть гения, добившегося таких результатов: аллах, создатель, законы эволюции…
Это здесь наш друг, пономарь Тиоти, нашел огромную раковину, в которую он трубил, призывая протестантов Омоа в бамбуковую церковку Пакеекее. Привлеки его сигнал протестантов и католиков в Тахаоа, они очутились бы в храме, стены которого вздымались до самого неба, а убранство было выполнено во вкусе единого творца. Вера в разных богов рождается там, где их заточают среди стен и изображений, сделанных людьми…
На рифе Тахаоа нами овладело какое-то приподнятое, воскресное настроение. Может быть, потому, что обитатели заводей смахивали на курортников, которые неторопливо прогуливаются взад-вперед в нарядных одеждах. И так же неспешно парили в небе над ними морские птицы. У каждого вида — свой облик, своя расцветка, каждый обладает особым хитроумным органом, присущим только ему одному. И наряды до того роскошные, что взгляд невольно искал на рифе некоего венценосного зрителя, на которого, казалось, и была рассчитана эта сказочная демонстрация красоты.
Недавний студент-биолог, я тотчас обратил внимание на стабильное и тонкое равновесие между видами в этом морском сообществе, не ведавшем вмешательства человека. За миллионы лет ни один вид не стал единоличным властелином за счет других. Все рыбы, все моллюски выглядели здоровыми и упитанными. Если бы численность какого-то вида возросла чрезмерно, избыток тотчас был бы автоматически сведен на нет. То ли нехваткой корма для данного вида, то ли временным ростом плодовитости другого вида, которому он служил пищей. Жизненно важное равновесие между видами обеспечивалось приспособлениями для защиты и нападения. Прочные раковины, играющие роль брони и щита, суставчатые латы с шипами и колючками, хитроумные способы бегства и камуфляжа, кинжалы и копья, пилы и крючья, клещи и пинцеты, силки и капканы, присоски, электрические заряды, парализующие химикалии — вот часть бесчисленных вспомогательных средств, которыми располагало морское сообщество. Все это было дано от рождения и служило надежной гарантией существования коллектива, где каждый зависел от других.
Мы знали, что за полосой прибоя ходят огромные акулы. Но по мелким заводям можно было бродить спокойно, не боясь нападения людоедов. Только старайся не наступать на ядовитых черных морских ежей да остерегайся свирепых мурен — они достигали изрядных размеров на Маркизах. Правда, Тиоти заверил нас, что мурен на рифе не так уж много. Лив удивилась. Почему? Почему весь риф не заняли хищные твари, достаточно сильные и прожорливые, чтобы прикончить снующих на мелководье маленьких симпатичных созданий?
Я напомнил ей: в тропическом океане действует тот же закон природы, что в норвежских горах. Занимаясь в университете зоологией, я особенно интересовался механизмом, который обеспечивает постоянное равновесие между популяциями хищников и мелких грызунов в горах Скандинавии. Вместе с несколькими однокурсниками, увлеченными этим вопросом, я во время экскурсий и на каникулах изучал вариации фауны; мы чертили кривые, отражающие численность популяций. В иные годы лемминг размножался в таких несметных количествах, что стада этого крохотного грызуна отправлялись в свои знаменитые странствия. Самка лемминга способна приносить по восьми детенышей каждые три недели; в свою очередь новое поколение достигает половозрелости на пятнадцатый день. В урожайные годы полчища золотистых в черную крапинку короткохвостых грызунов бесстрашно идут вперед, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Пересекая озера и реки, многие из них тонут и загрязняют воду. У полевых мышей известны годы интенсивного размножения, когда они становятся угрозой для всего окружающего. Но тут наглядно вступает в силу неписаный и до сих пор не объясненный до конца природный закон равновесия. Обилие корма вызывает повышенную плодовитость хищных зверей и птиц. Растут пометы лис и ласок, ястреб и сокол откладывают больше яиц. Некоторые животные приносят два помета в сезон вместо обычного одного. Прибавляется хищников — они уничтожают избыток грызунов, и на следующий год кривые снова показывают нормальное количество мышей и леммингов. Возросшим популяциям хищных птиц, лис и других животных приходится усиленно искать корм, но его не хватает, и численность популяции возвращается к норме. Среда автоматически восстанавливает равновесие между видами.
— Только человек с его современным оружием и орудиями лова может нарушить равновесие среды, — говорил я. — Мурена на это не способна. Она довольствуется тем, что мечет икру и ловит ровно столько, сколько нужно, чтобы заполнять нишу, отведенную ей со времен Адама, Лив и я радовались тому, что мир так велик. Казалось, нас отделяет бесконечное расстояние от наших семей в Норвегии. В наиболее цивилизованных странах человек почти совсем истребил дичь в лесах и рыбу в озерах, но необозримым дебрям Африки и Бразилии ничто не угрожало, и безбрежный океан представлялся нам неисчерпаемым. Мы очутились так далеко от цивилизации, словно исследовали другую планету.
Лив внимательно выслушала мою краткую лекцию о контроле рождаемости в мире животных, потом поинтересовалась, как это животные настолько точно соблюдают закон равновесия, что у каждой пары в среднем вырастает два детеныша. Она ведь изучала социальные науки и усвоила: чтобы численность населения держалась на одном уровне, в семье должно быть двое детей. Если у каждой пары животных будет выживать больше двух детенышей, наступит перенаселение, если меньше — вид вымрет. Одна рыба выметывает до ста тысяч икринок. Откуда мурена знает, что съела ровно 99998?
Да, задала она мне задачу… В моих учебниках не было ответа на этот вопрос.
Я нагнулся к самой воде, присмотрелся. Красные рыбешки тотчас почуяли опасность, метнулись в сторону и замерли над пучком красных водорослей, где их было труднее увидеть. Я попробовал поймать рукой несколько голубых рыбешек. Они мигом укрылись между торчащими иглами ядовитого черного морского ежа. Каким-то образом они знали, что здесь надежно защищены от врага. Каждая игла оканчивалась коварной зазубриной, обломится в ранке — ни за что не вытащишь. Почуяв приближение моей руки, раковины спешили сомкнуть створки — пальцами не откроешь. Маленький испуганный осьминог дал задний ход, прячась за собственной дымовой завесой, потом включил свой реактивный двигатель и ракетой унесся прочь.
Мне удалось схватить краба, который махал клешнями и усиками, тараща на меня глаза робота. Он продолжал копошиться в моей руке, словно заводная игрушка, и норовил ущипнуть своими окаменевшими рукавичками. Вернулась Лив с таким лицом, как будто нашла ларчик с сокровищами. Она принесла в подоле своего пареу сверкающих жемчужниц, морское ушко и каури. Но ее опять ждало разочарование: хоть я изучал зоологию, однако ничего не мог рассказать о брачных церемониях этих диковинных созданий. А также о том, как они различают нужную им пищу.
— Инстинкт, — сказал я.
— Инстинкт, — повторила она. — Пустое слово.
— Наука должна как-то обозначать словами даже то, чего мы не понимаем,
— ответил я. — Возьми силу тяготения. Мы не знаем, что за сила позволяет нам ходить в противоположных концах круглой планеты, но называем ее силой тяготения. Да, неизвестное тоже надо как-то называть.
— Вот и «инстинкт» этот — одна маскировка, — настаивала Лив. — Ученые прячутся за термин, чтобы скрыть от людей, что не знают ответа.
Крабы и голожаберные, говорила она, ни за что не выжили бы, если бы руководствовались в своих действиях данным им рассудком. Но коль скоро господин Краб не способен рассуждать, значит, за него кто-то рассуждает. Назови это святым духом — религия, назови инстинктом — наука.
— Вот именно, — согласился я. — Важно найти для неведомого подходящее слово.
Тем временем Тиоти пронзил деревянным копьем большую красно-зеленую рыбину и принялся нарезать ее маленькими кубиками. Его жена положила эти кубики в лаймовый сок, который выдавила из плодов в ямку на камне. Полежи они в соку ночь, вышло бы отменное лакомство, потому что лайм перебивает вкус сырой рыбы, а так для Лив получилось все же сыровато. Она тайком опустила свой кубик в море и проводила его таким взглядом, словно ждала, что он сейчас сам поплывет.
Жена Тиоти разбила камнем несколько морских улиток величиной с грецкий орех. Окунешь такую улитку в лаймовый сок, получится не хуже отборной устрицы. Однако подлинным испытанием явилось для нас третье блюдо. Нам подали по колючему морскому ежу! Шипы угрожающе шевелились: попробуй, тронь… Мы уже привыкли есть пальцами, но как подступиться к этим живым булавкам? Я поглядел на Тиоти. Он ловко поднял своего ежа за длинный шип и одним ударом разбил его о белый коралловый стол.
— Этот не ядовитый, — объяснил он, засовывая палец внутрь разбитой раковины.
Ее зеленое и розовое содержимое видом напоминало тухлое яйцо. Я отведал, потом посоветовал Лив собраться с духом и представить себе шпинат и яичницу с томатным соусом. Она пренебрегла моим советом и сказала своему ежу: «Кш!» — словно пушистого котенка прогоняла. После чего предложила мне отведать голожаберного моллюска и представить себе, что я ем сосиски…
Через несколько дней после первой экскурсии Тиоти пришел к нам с новым заманчивым предложением. Он заметил, что нас заинтересовала живность в заводях Тахаоа. Не хотим ли мы теперь посмотреть на большую и'а те кеа — каменную рыбу? Самодельный словарик помогал нам постепенно осваивать местный язык, но Тиоти для полной ясности положил ладонь на камень, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Мы решили, что он знает место, где водятся морские черепахи, однако Тиоти изобразил пальцем на плоской поверхности камня очертания рыбы.
На вулканическом острове — древние окаменелости? Невероятно! Все же было бы глупо пренебречь предложением Тиоти — как-никак, он показал нам кораллы там, где их, по мнению ученых-знатоков, быть не должно. Итак, я взял мачете, и мы с Лив отправились с пономарем в новую экскурсию для знакомства с биологической диковиной. Роль проводников исполняли два других островитянина, которые первыми нашли загадочную рыбу.
Чокк! Чокк! Чокк!
Мачете рубит ветви и ползучие растения, мы прокладываем себе путь по старой, заросшей тропе в дебрях. Вверх по долине, в сторону от моря и живых рыб. Впереди, над горами Тауаоуохо, нависли черные тучи. Царила небывалая духота, мы обливались потом. Устроили привал на старой расчистке, где высоко над пологом леса поднимались стройные кокосовые пальмы. Пономарь в соломенной шляпе обнял ближайшую пальму, выгнул спину дугой и пошел вверх по стволу, словно по стремянке. Мшистый ствол достигал высоты пятнадцатиэтажного дома, крона развевалась в полусотне метров над землей. Не успели мы освежиться сладким соком небесных плодов, как листва зашуршала от резкого порыва ветра, предвещавшего тропический ливень. Точно падающие сверху каскады воды теснили застоявшийся воздух. Птицы спешили укрыться от катящего вниз по долине шумного ливня, и мы поторопились вооружиться зелеными листьями-зонтами. Внезапно похолодало, мы стучали зубами и не знали, горевать или веселиться. Столько осадков, сколько в умеренных широтах выпадает за несколько суток, здесь обрушилось на лес сразу. Вскоре сквозь тающий туман выглянуло солнце и нарисовало мирную радугу над пальмовыми кронами.
Мы отбросили зеленые зонты и стали пробиваться дальше через мокрые заросли. Впереди показался склон, под склоном журчала речушка. Деревья тут стояли не так густо: могучий лесной великан, рухнув на землю, при падении захватил соседей. Мы услышали, что это было священное дерево, давным-давно посаженное предками. У вывороченного корня, под прикрытием кофейных кустов, лежали две огромные каменные плиты.
Тиоти показал: глядите, рыба!
В самом деле. На одном камне было высечено двухметровое изображение рыбы — голова, плавники, все, как положено. Не окаменелость, а первое наскальное изображение, обнаруженное на Фату-Хиве. И единственное в своем роде во всей Полинезии. На других островах Маркизской группы найдены наскальные изображения небольших человеческих фигур, но тут была огромная рыба, украшенная ямками и символическими знаками. Ее окружали напоминающие глаз солнечные символы — точка и концентрические круги. Я снова пустил в ход мачете. Общими силами мы расчистили корни и дерн, затем прутьями и папоротником смели мусор с камня. Обнажились другие изображения.
— Тики, — торжественно прошептал Тиоти, глядя на них округлившимися глазами. — Менуи тики.
Боги. Много богов.
Древние магические большеглазые лики снова увидели дневной свет. Над спинным плавником рыбы был высечен демон с глазом в виде концентрических кругов. У некоторых ликов были намечены только глаза и рот; по всему камню таращились обозначенные кольцами огромные глаза. Встречались и человеческие фигуры с согнутыми руками и ногами; кроме того, я увидел черепаху, непонятные символы и еще одно изображение, которое много лет оставалось для меня совершенной загадкой: серповидное судно с непомерно высокими носом и кормой, двойной мачтой и рядами весел. Современные нам маркизцы пользовались плоскодонными долбленками и бревенчатыми плотами. Серповидное судно скорее напоминало папирусные и камышовые лодки древнего Египта и Перу, а не прямую полинезийскую пирогу, хотя в прошлом пирогам для украшения наращивали корму и нос. Разбросанные по камню изображения глаза тоже указывали на древнюю Америку. Один немецкий исследователь изучал распространение этого символа и пришел к выводу, что он говорит о давних контактах между островами Полинезии и Америкой, ведь во всей Тихоокеанской области этот орнамент встречается только в двух указанных местах, притом в совершенно одинаковом виде
[80].
Вечерело, в изменившемся освещении тени заполнили малейшие углубления в камне, и мы вдруг увидели глаза, высеченные на боковой грани алтареподобной платформы поблизости. Лес притих после дождя. Возле нас над лесным пологом вздымался шпиль из красной лавы, словно охраняющий древнюю загадку кинжал. Наши проводники заторопились домой.
Луна озаряла мокрые пальмовые кроны в долине, когда мы, сидя на нарах в своей хижине на королевской террасе, принялись обсуждать сделанное в этот день открытие. Меня не покидало чувство, что нас окружают незримые ключи к давней загадке. Кто высек на камне глаза-символы и необычное судно? Почему все исследователи расходятся во мнении о прародине полинезийцев? Каждый судит по-своему, хотя лица большинства исследователей обращены в сторону «далекой Азии. Но если древние маркизцы вышли из Азии, их лодкам пришлось обогнуть треть земного шара, борясь при этом с встречными ветрами и течениями.
С новой силой вспыхнул мой давний интерес к неразгаданной тайне происхождения полинезийцев. Может быть, именно каменная рыба Тиоти — не окаменелость, а наскальное изображение — оказалась последней каплей, которая на всю жизнь переключила мое увлечение из области зоологии в область антропологии. Естественный шаг — от трансокеанских странствий животных до трансокеанских странствий людей. С того дня, добывая в лесу хлеб насущный, я искал под камнями и листьями не столько жуков и улиток, сколько наскальные изображения и заброшенные жилища. Мелюзги в пробирках и банках почти не прибавлялось, зато росла моя коллекция мелкой каменной скульптуры и других археологических находок. Пришлось обратиться к Вилли за ящиками для громоздившейся у нас под полом груды костей и обработанного камня.
…Под вечер, после долгого похода за плодами в верхнюю часть долины, мы с Лив решили освежиться в речушке. Удобно сидя каждый в своей заводи, мы уписывали апельсины и сочные горные манго. Широченные листья на берегу прикрывали нас от жгучего солнца, и мы наслаждались жизнью. Птицы, цветы… Мы спрашивали друг друга: чего еще нам не хватает? И оба были согласны, что у нас есть все, чего душе угодно. Мыли ноги кокосовым маслом, оттирали пемзой налипшую на руках смолу.
Освеженные купанием, мы вылезли на берег и пошли наверх к хижине. Я нес полную вершу раков, Лив надергала из земли крупные корни таро. Все, что надо для обеда.
В это время на тропе позади нас появился одинокий всадник. Он направлялся вверх по долине за плодами хлебного дерева и взялся передать нам от Пакеекее аккуратно завернутую в зеленые банановые листья свинину. Больше недели мы не видели никого из островитян. Всадник был бледный, изможденный, говорил хриплым голосом. Нас будто холодом обдало, когда он спросил, не дошла ли до нас чума. Да-да, шхуна «Моана» пришла в Ханававе за копрой и привезла с собой чуму, которая распространилась на весь остров. В Омоа ее занесли на лодке люди из Ханававе. Многие умерли. Самому всаднику повезло, уже поправляется. Сворачивая на тропинку, уходящую в глубь леса, он криво усмехнулся и успокоил нас: мол, мы живем далеко от берега, до нас чума не скоро доберется.
На мгновение мы потеряли дар речи. Посмотрели на свои руки, на зеленый сверток со свининой. Вот тебе и земной рай! На острове чума. Доберется и до нашего убежища.
Мы поспешили еще раз хорошенько вымыться. Сожгли банановые листья и зажарили мясо. Но аппетит пропал. Даже раки нас не соблазняли. Долго мы сидели молча и глядели на луну, потом легли спать.
Несколько дней прошло в ожидании. Затем появились первые симптомы, и мы приготовились к худшему. Однако у меня все дело свелось к легкой ангине, а Лив вынуждена была частенько бегать в лес. И только. Возможно, у нас слегка повысилась температура, но без градусника мы не могли ее измерить. Вот так чума. Мы смеялись. Обыкновенный легкий грипп.
Вскоре в дверь нашей бамбуковой хижины постучался неунывающий пономарь. Однако на сей раз Тиоти не улыбался. Он еле держался на ногах. Мы едва узнали нашего долговязого весельчака: лицо бледное, кашель, воспаленные глаза.
Держа в руках свою шляпу, он спросил, не могу ли я спуститься в деревню и сфотографировать его последнего сына? Чума унесла всех детей…
Сутулясь, Тиоти медленно повел нас вниз по тропе.
В деревне царил траур. Люди резали поросят, в большинстве хижин шли поминки. Настроение было унылое, мрачное. Исчезли красочные пареу. Несмотря на жару, мужчины ходили в брюках и рубашках с длинными рукавами, женщины — в длинных мешковатых платьях. Только ступни оставались голыми. С солнечной улицы — на нары в темной хижине. Никаких врачей. Никаких медсестер, лекарств. Никакой возможности покинуть остров. Никто не рассказывал островитянам про вирусы, про инфекцию, они не имели понятия о гигиене. Страшно было войти в лишенную окон дощатую или бамбуковую хижину, где молодые и старые валялись вперемешку на полу и умирающие кашляли в лицо соседу. Я представил себе, что выпало на долю Терииероо и Крэпелиена, когда испанка косила людей на Таити. В разгар эпидемии они возили полные телеги трупов в общие могилы. А тут — обыкновенный грипп…
В лачуге Тиоти стало как-то просторнее и светлее. На пандановой циновке на полу лежал аккуратно обернутый в белое малыш. Остальные дети пономаря (сколько их было, мы так и не узнали) уже покоились в земле. Малыш тоже был мертв, и меня попросили сделать фотографию вроде тех, что островитяне видели на стенах у Вилли.
Мы не могли ничем помочь, кроме как прочитать лекцию о гигиене и пользе кипяченой воды. Однако наш рассказ о вирусах никого не убедил. Им легче было представить себе невидимого, бесплотного злого духа, чем крохотную невидимую злую бациллу. Протестанты и католики наслышались о дьяволах и ангелах, но никто не пробовал просветить их насчет микробов и вирусов.
Потрясенные этой трагедией, мы покинули объятую скорбью деревню и направились к своему домику в дебрях. Нас ждала просторная бамбуковая хижина
— и нас угнетало чувство вины. Это нам, европейцам, следовало бы проводить ночи в обществе своих микробов в душной лачуге из привозного железа и досок. А им, полинезийцам, — спать в бамбуковой хижине под кровлей из пальмовых листьев. Нечестно сложилась меновая торговля белого человека с островитянами. У нас не было причин гордиться своим племенем. Стоит ли гордиться белой кожей, когда от нее на других падает черная тень?..
Грипп обернулся таким бедствием, потому что поразил народ, чье здоровье уже было подточено другими привозными недугами — туберкулезом, венерическими заболеваниями, проказой, слоновой болезнью. Эти недуги, а также оспа начали косить ранее здоровых островитян после их первых контактов с носителями культуры с материка. Трудно винить белого человека в том, что здоровый народ не приобрел иммунитета. Но в наши дни сильно сократившееся островное население страдало не столько из-за малой сопротивляемости, сколько из-за малой осведомленности о том, как избежать инфекции и бороться с болезнями. Тут вина белого человека очевидна.
Веди мы в наших всесторонне защищаемых городах и поселках такой образ жизни, какой навязали фату-хивцам, у нас было бы еще меньше шансов выжить, чем у них. Со всех сторон островитян подстерегала инфекция. Большинство страдало тем или иным хроническим заболеванием. Особенно широко распространились туберкулез и венерические болезни. Бросались в глаза проказа и слоновая болезнь. Родильная горячка и выкидыши давали наибольшую смертность. Сколько раз, здороваясь с островитянином, мы замечали, что у него нет пальцев или части уха. А идя по деревне, перед каждым домом видели мужчину или женщину с толстыми, как бревно, ногами. Видели предплечья толщиной с бедро. У одного мужчины мошонка раздулась, словно тыква. Местные жители с детства привыкли к таким картинам. В их представлении болезнь не была чем-то ненормальным. Она составляла неотъемлемую часть их существования.
У нашего старого друга Иоане, с которым мы давно уже не встречались, было полно хлопот. Он был деревенским плотником и гробовщиком. Если больной уже не мог подняться с циновки, Иоане приходил со своим материалом и принимался сколачивать гроб на глазах у бедняги. Надо признать, что полинезийцы не боятся смерти. Они воспринимают ее как возможность встретить столь почитаемых легендарных предков, увидеться вновь с умершими друзьями и родственниками.
При жизни фатухивцы никогда не носили обуви. Ступни их были слишком велики. Даже священник, который все три дня устроенного для нас пиршества ходил в смокинге и шортах, при этом оставался босиком. Но после смерти, когда обувь больше не жала и ногам не было больно, на них надевали новые белые тапочки. Сохранился старый обычай хоронить покойного вместе с его имуществом. В старых склепах мы находили куски сгнивших деревянных чаш, резные серьги из человеческой кости. При нас одного фатухивца захоронили вместе со старой гармошкой, а другому положили карточную колоду — видно, покойный очень ею дорожил. Вера в загробную жизнь существовала здесь до введения христианства, и считалось в порядке вещей захватить с собой на тот свет что-нибудь такое, что могло бы развлечь языческих предков.
Наедине с дебрями, в пронизанной лунным светом бамбуковой хижине мы легли на шуршащие банановые листья, немало озадаченные всем увиденным. В глуши, вдалеке от людей мы чувствовали себя в безопасности. Но что-то терзало нас, что-то оказалось совсем не так, как мы себе представляли. Мы прибыли на этот остров, чтобы совершенно порвать с цивилизацией, в которую перестали верить. А увидели в деревне людей, остро нуждающихся в достижениях культуры. В лекарствах. В познаниях о микробах и о гигиене.
— Лекарства — это цивилизация, — коротко заметила Лив. — Без микроскопа Хансен не открыл бы возбудителя проказы.
Мне нечего было ей возразить. Лекарства — одно из благ цивилизации. Одно из многих, разумеется. Но я твердо считал: кроме музыки и изящных искусств, все блага цивилизации призваны исправить беды, вызванные разрывом с природой. Да и музыка, говорил я, нужна постольку, поскольку она компенсирует разнообразие чувств и впечатлений, утраченное человеком, когда он расстался с первозданным лесом. Среди листвы и мшистых камней предостаточно чудесной музыки, причем я подразумевал не щебет птиц и журчание ручья, а музыку, которую ухо не слышит. Флейты и скрипки созданы нами для того, чтобы будить отклик не в барабанной перепонке, а в душе, куда прежде доходили мелодии природы.
Лив охотно согласилась: дома она не могла жить без музыки, обожала свои граммофонные пластинки, часто ходила на концерты, а здесь ни капли не тоскует по музыке. Куда ни пойди, куда ни повернись — новые впечатления, ощущения, настроения. Свет, краски, звук, запах, форма, прикосновение — во всем бесконечное разнообразие, словно в душе играл огромный оркестр. Столько музыки, что больше и не воспринять. Дома четыре стены, несменяемый интерьер, неизменный электрический свет вызывали в нас голод по музыке, чтобы жизнь не совсем заглохла там, в глубине за барабанными перепонками. Здесь же, в лесных дебрях, музыка и реальная жизнь виделись нам как два равноценных способа обогащать свой духовный мир.
Иное дело — медицина. Природа обрушила на нас болезни, и люди, защищаясь, изобретали лекарства. Вирусы и бактерии — продукты природы, говорила Лив. Наука открывает их и пытается уничтожить.
Я соглашался, однако подчеркивал, что не следует забывать, почему природа обрушила на человека больше болезней, чем на других живых тварей.
— Потому что мы ведем нездоровый, неестественный образ жизни, — признавала Лив.
— Не только поэтому, — добавлял я. — Больше всего потому, что мы посягнули на самый главный, пожалуй, закон биологической среды — равновесие между видами.
Снова я прочел луне и Лив свою любимую лекцию о мелких грызунах и лисах. Люди думают, что играют роль лисы, а на самом деле они оказались в роли мыши. Природа напустила всех своих ястребов на двуногую мышь. Пять тысяч лет назад мы, люди, принялись разрушать ландшафт на огромных территориях ради каких-то избранных видов растений и облюбованных нами животных. Мы загнали сами себя в обнесенные стенами города. Начали преображать мир по своим собственным меркам. И посягнули при этом на множество частей перпетуум-мобиле, созданного природой, сложнейшего механизма, безупречный ход которого зависит от каждого колесика в отдельности. До того, как человек начал необъявленную войну против природы, он вел более или менее кочевой образ жизни, родовые коллективы были разбросаны далеко друг от друга в необъятных просторах, и холерная бацилла просто не могла вызвать эпидемию. Но когда люди начали собираться в городских общинах, когда, нарушая исконное равновесие, развели несметные стада домашнего скота и возделали обширные поля, природа — хотя тогда мы этого не поняли — пустила в ход скрытые средства обороны — организмы, которые втайне ждали своей очереди сыграть отведенную им роль нейтрализаторов вредного преобладания того или иного вида животного мира. Как только горожане стали выбрасывать за стены мусор и отходы в таком количестве, что природа не поспевала за ними убирать, вступили в действие безобидные прежде вирусы и микробы, насекомые и паразиты. Они размножились и набросились на человека, на его поля и скот, как лисы и ястребы набрасываются на мышей и леммингов.
Наученные горьким опытом, люди вскоре начали защищаться. Сначала — травами и кипяченой водой. Потом — наукой. Одного за другим они распознавали своих крохотных и часто неразличимых простым глазом мучителей, вооружились пилюлями и мазями, вакцинами и дезинсекталями и приняли вызов природы. Но природа обладает неограниченными резервами и ресурсами. Один вид терпит поражение — его место занимает другой, а некоторые крохотные члены полицейских сил окружающей среды приспособились настолько, что стали невосприимчивы к контратакам человека. Так и продолжается борьба, растущим полчищам гомо сапиенс дают отпор все новые охранные отряды природы, единственная цель которых — восстановить равновесие в разлаженном перпетуум-мобиле природы.
Окружавшие нас плодовые деревья выглядели прекрасно. Даже такое нежное и уязвимое растение, как феи, прижилось в чаще. На Таити, где быстрое обогащение прельщало людей больше, чем прочный достаток, где возникли обширные плантации монокультур, феи не устояло против болезней.
Природа автоматически принимает меры, когда возникает избыток представителей одного вида.
— Некоторые антропологи считают, что агрессивность человека против своих собратьев у нас тоже от природы, — заметила Лив, обратившись за доводом к знакомой ей области общественных наук.
— В таком случае, — сказал я, — природа заставляет человека выступать в роли ястреба и микроба против себе подобных.
Хотя вообще-то мне не верилось, чтобы человек от роду жестокостью превосходил обезьян. А ведь обезьяны не убивают друг друга. Может быть, чрезмерное размножение делает зверей и людей агрессивными? При виде полчищ грызунов ястребы и лисы спешат произвести на свет второй помет. Императоры и президенты не могут заставить своих жен совершить такой же подвиг, они бегут к генералам и мобилизуют огромные армии молодых людей. Поощряют родителей, которые помогают увеличивать численность населения, ведь для войны против полчищ тоже нужны полчища.
Может быть, в человеке заложен некий импульс к убийству, который срабатывает только при аномальных обстоятельствах, например когда людей становится чересчур много. Возможно, агрессия стимулируется страхом, жадностью и завистью. В те далекие времена, когда отдельные роды кормились тем, что собирали на деревьях, у них не было побуждения убивать друг друга, как нет его у обезьян. Воинственный инстинкт проявляется, когда люди, безудержно размножаясь, сталкиваются с другими такими же многочисленными группами
[81].
— Что касается равновесия в животном мире, — говорила Лив, — то я готова с тобой согласиться. Но мне все равно невдомек, почему цивилизованные люди подчиняются любому приказу убивать. В этом я вижу самый большой порок цивилизации.
Мы уже засыпали, вдруг Лив вспомнила флюс Тиоти. Что это — тоже вмешательство саморегулирующейся природы?
И сама же ответила прежде, чем я успел собраться с мыслями. Зубная боль, неполадки с печенью, повышенное давление — не оружие природы. Эти недомогания человек сам на себя навлекает неправильным образом жизни. Гусь не жалуется на печень, у слонов и жирафов отличные зубы и с давлением все в порядке. Физические недуги развиваются, когда человек рвет связи с природой. В эту минуту прокукарекал дикий петух, он тоже был согласен с Лив.
Пора и поспать немного, скоро солнце взойдет…
Солнце вовсю припекало, когда мы встали и направились к ручью. Потом сели на табуретках у открытого окна пожевать кокосового ореха. Но великолепный вид нас не радовал. Сознание происходящего в деревне словно окутало зеленую долину серой мглой. Можно гордиться лекарствами белого человека, но роль переносчика культуры он выполнял скверно. Изображая глобальных филантропов, белые явились со своими священниками на эти острова, чтобы сбывать те плоды нашего изобилия, которые сулили наибольшую прибыль.
Мы учим беспечных островитян сносить жилища предков, чтобы они покупали у нас привозные строительные материалы. Мы отговариваем их защищать тело от тропического солнца лубяными одеждами, чтобы продавать им нашу мануфактуру, подбиваем втискивать здоровые ступни с естественной подошвой в покупную обувь. Учим их есть хлеб и тушенку вместо кокосового ореха и свежей рыбы, чтобы они зависели от импорта зерна и консервов. Побуждаем их работать на нас, чтобы они могли оплатить то, что мы стремимся им продать. Хотя мы в этом не признаемся, но белый человек пришел сюда для того, чтобы изменить обстановку в свою пользу.
С верой в собственные слова мы говорим каждому новому торговому партнеру, что по нашим стопам идет прогресс. Мы не видим другого способа жить разумно и осмысленно. Ведь другие культуры, пусть даже древние и классические, здоровые и простые, отстали от нас в развитии техники — значит, им следует учиться у нас. Какие бы страны мы ни открывали, всюду сознательно уничтожаем существующую культуру и сеем тут и там между развалинами обрывки собственной цивилизации. И удивляемся, когда из этого винегрета выходит упадок вместо прогресса. Тешим себя выводом, что эти люди отсталые, раз не умеют извлечь пользу из благ нашей культуры.
Сами-то мы ее извлекаем… Есть таблетки, чтобы расслабиться, есть спиртное, чтобы подбодриться. Наши врачи пропишут, сколько калорий и витаминов нужно для нормального питания. Куда как далеко ушли мы от полинезийцев, которые по невежеству пили и ели то, что им давала природа, а потому без малейших потуг сохраняли отменное здоровье. Прежде, когда полинезийке наставала пора рожать, она пряталась за кустом и выходила оттуда с ребенком. И если сегодня здесь так распространена родильная горячка, это потому, что полинезийцы не замедлили обзавестись нашими болезнями, но не торопятся строить собственные больницы.
Мы видели, как на Таити прибыли первые автомобили, видели машину среди пальм Такапото. Они воплощали одну из любимых теорий белого человека: все, что сберегает нам мышечные усилия, — на благо. И чтобы не напрягаться, мы присобачиваем моторы к велосипедам, лодкам, газонокосилкам, бритвам и зубным щеткам. Высиживаем сверхурочные часы, чтобы оплатить все эти предметы, потом бежим к врачу, потому что переработали, переели и нажили стресс. Врач выписывает новый счет и советует заняться физическими упражнениями; мы покупаем велосипед без колес или лодку без дна, помещаем их в подвале и сидим, работая педалями или веслами на одном месте, чтобы обрести силы и здоровье, которыми обладали наши предки до изобретения мотора.
— Пойдем сегодня на гору, поищем спелых гуаяв выше бамбуковой рощи, — сказал я Лив.
Кстати, надо было запасти еще хлебных плодов, не сидеть же и голодать, размышляя над бедствием, постигшим деревню. И вот мы снова в плену дебрей и их волшебной музыки.
Шли дни, на острове все позабыли об опустошении, которое учинил вирус, доставленный шхуной. Полинезийцы — дети солнца, они живут сегодняшним днем, не особенно задумываясь над вчерашними проблемами, не говоря уже о завтрашних. И мы отдались во власть девственного леса в поисках пищи и в надежде на новые открытия.
В один прекрасный день, когда дерево возле нашей кухни было увешано солидным запасом корней и плодов, мы решили сходить и взять несколько старых черепов, которые приметили среди заросших развалин. Старые полинезийские черепа — ценнейший материал для того, кто стремится выяснить происхождение островного народа, ведь полинезийцы, как правило, были типичными длинноголовыми в отличие от островитян Индонезии и Малайзии, то есть Юго-Восточной Азии. В этом одна из многих причин, почему никто не мог найти убедительного решения полинезийской загадки. Полинезийцы не могли быть прямыми потомками малайцев. Кое-кто готов был считать их родиной даже Египет и Месопотамию. Другие утверждали, что они были иудеями, представляли одно из пропавших племен Израиля. В Германии политический выскочка по имени Адольф Гитлер организовал партию, которая презирала евреев и утверждала, что только арийцы достойны звания людей. После моего визита в Музей народоведения в Берлине первый антрополог Гитлера профессор Гюнтер письменно просил меня привезти ему череп с Маркизских островов, поскольку он не сомневался, что жители Полинезии — арийцы. Да и мой собственный университет заказал мне полинезийские черепа.
Поразмыслив, мы пришли к выводу, что чем собирать их тут и там по одному, лучше пойти на старое кладбище на приморской возвышенности: нам говорили, что там лежат сотни черепов.
Путь на кладбище лежал через деревню, и для приличия мы в придачу к набедренным повязкам надели рубашки. В деревне раздобыли старый мешок, после чего направились к вьющейся по склону тропинке. И с досадой заметили, что за нами увязался какой-то островитянин.
По накаленному солнцем склону мы поднялись на горку, и нам открылся великолепный вид на зеленую долину, которая терялась в горах далеко за нашим домом. В другой стороне необъятный синий Тихий океан сливался с пустынным небосводом. Высоко над морем раскинулось выжженное солнцем сухое плато, почти без растительности, если не считать нескольких кокосовых пальм. Мы ступили на него, сопровождаемые по пятам непрошеным спутником. Тщательно вы— тесанные из красного туфа прямоугольные плиты ограждали искусственные террасы. На некоторых плитах были высечены рельефные изображения человеческих фигур с расставленными ногами и поднятыми над головой руками, как будто они отпугивали злых духов и прочих незваных гостей.
Заглянув через низкую ограду, мы увидели черепа с оскаленными зубами. Будто страусовые яйца в инкубаторе, вплотную друг к другу лежало больше сотни черепов: одни — целые, побеленные лучами сильного солнца, другие — рассыпавшиеся и позеленевшие от времени. Даже без специального циркуля было видно, что большинство черепов принадлежали длинноголовым, и признак этот подчас был еще ярче выражен, чем у европейцев. И все время поблизости мелькало лицо следившего за нами островитянина. Как и многие другие чистокровные полинезийцы, он смахивал скорее на арабо-семитский, чем на арийский тип.
Удивительное собрание черепов с разнообразными характеристиками явилось для меня первым практическим подтверждением принятой большинством ученых гипотезы, по которой до прихода европейцев в Полинезии обосновались люди разных расовых типов.
Самозванный сторож глядел на нас приветливо, кроме тех случаев, когда я поднимал с земли череп, чтобы лучше рассмотреть форму костей и зубы. Отцы и скорее всего деды нынешних островитян были погребены в долине на деревенском кладбище, основанном миссионерами полстолетия назад, но и здесь, на выжженной солнцем культовой площадке, тоже лежали их родичи, обезглавленные после смерти. Не знакомые нашему спутнику, дальние родичи, судя по тому, что он не мешал мне как угодно перекладывать черепа с места на место.
— Хотя шаманы выбрали эту сухую площадку, потому что здесь разложение шло медленнее, чем в сыром лесу, всем уцелевшим черепам грозила участь тех, которые уже истлели и рассыпались на зеленые осколки. Спасти бы хоть некоторые из них и сохранить для антропологических исследований… Но наблюдателю из деревни было неведомо, что существует физическая антропология. Зато и понятие о равенстве мужчины и
женщины ему тоже было неведомо, в его глазах женщина была всего лишь вахина, существо, нужное для ведения хозяйства и продолжения рода, а мужчина — человек. Поэтому я оставил Лив с пустым мешком на площадке, а сам пошел дальше вверх по гребню. И молчаливый шпион зашагал за мной.
Когда мы вернулись на культовую площадку, Лив сидела в той же позе. Но я заметил, что мешок словно набит кокосовыми орехами.
Прежде чем уходить, мы осмотрели челюсти всех черепов на этом доевропейском кладбище, изучили также отдельные зубы, выпавшие из истлевших челюстей. Ни малейшего намека на кариес! Зубы некоторых стариков стерлись почти до корня — вероятно, из-за примеси песка в пище. Но кариеса не было.
Попади сюда череп нашего друга, пономаря Тиоти, его не стоило бы труда опознать. Невольно мы сопоставляли увиденное на старинном кладбище с тем, что наблюдали на Таити. В Папеэте, цивилизованный центр Французской Океании, каждый месяц заходило рейсовое судно, следующее из Европы в Нумеа. На берег сгружали муку и другое продовольствие. Излюбленным завтраком на Таити стал белый хлеб, размоченный в густом от рафинированного сахара кофе. Зубы таитян находились в ужасающем состоянии, у многих остались только черные пеньки. Совсем иную картину застали мы на уединенных атоллах Туамоту. Местные жители, как и прежде, обходились рыбой и кокосовыми орехами. Сахар здесь тоже употребляли, но не рафинированный. Старые и молодые жевали сахарный тростник, и зубы у них были жемчужные — совсем, как у черепов в нашем мешке.
Пришло время возвращаться. Солнце, как всегда в тропиках, быстро опускалось отвесно вниз, и тени заметно удлинились, когда мы подошли к деревне. Здесь молчаливый спутник отстал. Мы прошли почти всю деревню и приготовились нырнуть в чащу, когда нас окликнули из последней хижины.
— Хемаи те каикаи!
Голос принадлежал деревенской красавице Тахиапитиани. Согласно нашему самодельному словарику, ее призыв означал приглашение зайти и перекусить.
— Она просто так, — прошептал я, поправляя мешок на плече, чтобы не бросался в глаза. — Обыкновенная формула вежливости.
— Вене манжер! — повторила она, к нашему удивлению, на ломаном французском языке.
Кажется, всерьез зовет. Как быть? Во-первых, у нас мешок с черепами, во-вторых, в хижине Тахиапитиани недолго подхватить какую-нибудь заразу. Среди мужчин, сидевших на корточках перед дверью, нам бросился в глаза один с разбухшими от слоновой болезни ногами. А что еще нас подстерегает? Но отказаться — значит, обидеть. И мы подошли к дому.
Едва мы ступили на паэ-паэ — каменную платформу, служившую фундаментом бамбуковой хижины, — как нам стало ясно, что приглашение было всего лишь вежливой фразой вроде наших «здравствуйте» или «добрый вечер». Следовало ответить: «Спасибо, мы сыты!» — и шагать дальше.
Поздно. Нам уже подвинули деревянные миски. Осторожно, чтобы не гремели черепа, я опустил мешок на землю, и мы сели на корточках рядом со всеми. Я надеялся, что в сумраке черепа в мешке сойдут за кокосовые орехи или горные ананасы. Но красавица хозяйка поспешила зажечь маленький светильник. К счастью, свет от колышущегося язычка пламени не развеял тьму под хлебными деревьями. Зато он достаточно хорошо осветил содержимое одной из двух больших мисок, которые поставили между мной и Лив. В кокосовом соусе лежали куски сырой и далеко не свежей рыбы. Другая миска стояла в тени, но мы по запаху сразу определили, что она содержит пои-пои — главное блюдо большинства полинезийцев.
Маркизцы готовили особенно острый пои-пои. В глубокие ямы в земле закладывали плоды хлебного дерева и накрывали широкими листьями. Плодам полагалось гнить и бродить год, а то и больше. Получившееся липкое тесто извлекали из ямы и толкли шлифованным каменным пестом; при этом иногда добавляли немного воды и куски свежих плодов. Ели его сырым. Запах маркизского пои-пои так силен, что нормальный нос за несколько километров учует, где идет пир. Островитяне уверяли нас, что они с детства настолько привычны к этому кислому месиву, что не могут без него обходиться.
И вот перед нами общая миска с пои-пои. Оставалось по примеру остальных запустить туда три пальца и надеяться, что вкус окажется лучше запаха. Темнота нас выручила. Мы больше копались в миске, чем ели.
Несколько псов подкрались к нашему мешку и стали принюхиваться. Вот некстати… К счастью, негромкое рыгание возвестило, что трапеза окончена, и собаки, как всегда, поспешили наброситься на остатки.
Спало напряжение, в котором мы сами были повинны. Мимо нас промелькнуло несколько детей; затем мы увидели, как в темноте исчезают чьи-то толстенные ноги. Малыши улеглись на панданусовой циновке в лачуге, оставив нас одних с хозяином и хозяйкой. Красивая пара: она — стройная, с длинными черными волосами до бедер, он — высокий крепыш. Цвет кожи, как у арабов или загорелых европейцев. Губы узкие, тонкие, нос с горбинкой. Строением тела и чертами лица супруги отвечали обычному для Полинезии прототипу, заметно отличаясь от негроидных меланезийцев и низкорослых плосконосых индонезийцев на континентальных островах, отделяющих Полинезию от далекой Юго-Восточной Азии.
Неожиданно после еды первой заговорила женщина.
— Вео — охотник, — сказала она, кивком указывая на мужа. — Вео хорошо знает остров.
Они перешли на шепот. Вео обнаружил пять больших пещер в отвесных скалах Ханахоуа — необитаемой долины за горами, куда по суше пройти нельзя, слишком круто. Ему удалось подняться к двум из этих пещер; они напоминали большие дома. У входа, преграждая путь, стоят огромные деревянные тики; за ними Вео рассмотрел множество старинных орудий, украшений и мелких божков из дерева и камня. Зная, что старые погребальные пещеры охраняются табу, Вео не решился входить.
Подбодряемый женой, Вео вызвался за вознаграждение показать нам, где находятся пещеры. Дело в том, что в Ханахоуа можно попасть только с моря, да и то прибой на восточном побережье такой сильный, что на обычной рыбачьей лодке к берегу не пристанешь. С одной шхуны туда посылали шлюпку, но пришлось возвращаться, потому что волны грозили разбить ее о камни. Лишь большая морская пирога годится. А их на всем острове осталось только три. Если я смогу нанять такую пирогу с четырьмя сильными гребцами, Вео покажет путь.
Луна поднялась высоко над хлебными деревьями, когда мы завершили секретные переговоры и заковыляли вверх по долине с нашей необычной ношей. Придя в хижину, я сунул мешок под нары, но сперва пришлось вынуть три черепа и положить отдельно.
Через несколько дней Лив разбудила меня среди ночи.
— В доме кто-то есть! — прошептала она мне на ухо.
Лежа с краю, я приоткрыл один глаз и при свете яркой луны убедился, что в хижине, кроме нас, нет никого.
— Но я слышала шум, — настаивала Лив.
— Может быть, это людоеды под нарами ворочаются, — успокоил я ее и приготовился дальше спать.
Но тут же мы оба подскочили, сна как не бывало. Под койкой и впрямь жутко стучали кости. Мы наклонились — и не поверили своим глазам. Три черепа, положенных отдельно, качались и кивали, будто сговаривались, как выбраться из хижины.
Лив завизжала, у меня екнуло сердце. Какая-то тень юркнула в другой конец хижины. Мелькнул и скрылся под бамбуковой плетенкой тонкий хвост. Безобидная плодовая крыса… Забралась в один из черепов, потом испуганно заметалась в тесной темнице, и все три черепа начали качаться со стуком.
Мы выглянули в окно. Вознесшие свои кроны над мирным лесом, озаренные луной пальмы лукаво кивали нам,
Один в безмолвном мире. Только дебри кругом. Темно-зеленый мир, где солнечные лучи золотыми прядями свисают с макушек деревьев-великанов. Полуденное солнце в первозданном лесу. Никакого движения. Никаких звуков — ни в небе, ни на земле. Полная тишина. Лишь где-то далеко-далеко время от времени падают кокосовые орехи. Все восприятие мира сводится к тому, что голая спина ощущает прикосновение мягкой прохладной травы, а нос обоняет запахи плодородной почвы и растительности. Раскинув руки и ноги, я простерся с закрытыми глазами рядом с тяжелой ношей дров и феи и наслаждаюсь, наслаждаюсь током крови во всех частях тела и наполняющим легкие свежим лесным воздухом.
Лежу неподвижно и вижу солнце сквозь веки. Солнце одно в небе, как я один в моем мире, и такое же безмолвное, недвижимое, как все остальное. Земной шар перестал вращаться. Ни шороха, ни треска. А где то на этой планете — оживленные улицы с шумным движением. Дикая, невероятная мысль.
Еще один орех упал, подчеркивая тишину. Весь мир притих. Я повернулся на живот, чтобы убедиться, что хоть я способен двигаться и производить шум. У меня появилось общество. Коричневый муравьишка, волоча сухую соломину, пробивался сквозь чащу из травы и листьев у меня под самым носом. Другой муравей двигался зигзагами ему навстречу. На ходу погладил товарища щупиками, словно сказал: «Молодец, дружище, царица ждет как раз такую штуковину». Помочь малышу с его ношей? Да ведь непохоже, чтобы он устал. Знай себе пробивается дальше, то и дело помахивая щупиками так энергично, будто только что вышел в путь. Кто-нибудь видел хоть раз усталого муравья? Усталость, неприятная усталость-удел преследуемых животных, рабов и современных людей. Служащему так же утомительно пройти пять кварталов с тяжелым портфелем в руке, как лесному жителю пересечь долину с козлом на спине. Для того, кто годами сидел на месте, так же трудно начать лазить и бегать, как для того, кто несколько недель провел в постели, встать и начать ходить. Странно устроено наше тело: лелей его — и начнешь уставать от самой малости, упражняй его — и не будешь знать устали.
Я вскочил на ноги: внизу, в долине, заржала лошадь. Но дикие лошади паслись высоко в горах. И в долине не встретишь лошадь без всадника. Кто-то направляется вверх по долине. А Лив одна дома.
Живо вскинув на плечо коромысло, я затрусил вниз по склону со всей прытью, какую позволяли густой подлесок и босые ступни.
Лив сидела одна подле кухонного навеса и натирала кокосовый орех зубчатой раковиной, некогда обработанной для этой цели кем-то из наших полинезийских предшественников. Она ждала феи, чтобы приготовить блюдо по новому, ею самой придуманному рецепту. Хотелось есть. Я раскопал в золе угли, подложил сухие веточки, и тотчас вспыхнул костерок, словно я нажал включатель. Мы всегда аккуратно присыпали золой головешки с вечера. И не жалели об отсутствии спичек, разве что когда приходилось заново разводить костер трением острой палочки о сухую сердцевину расщепленной ветки гибискуса. Трудоемкий способ…
Только костер разгорелся, как пришлось опять засыпать угли. К хижине подъехал юный всадник с весточкой от капитана Брандера: «Тереора» бросила якорь в заливе, и кроме капитана на борту находится один наш французский приятель. Брандер настаивал на том, чтобы мы его навестили; пока мы не явимся, дальше он не поплывет.
Долбленка пронесла нас через прибой, штурмующий галечный пляж Омоа, и доставила к шхуне. Радостные и удивленные глаза смотрели, как мы поднимаемся по трапу. Удивленные потому, что мы были абсолютно здоровы и не помышляли о том, чтобы покидать остров. До южной части архипелага неведомыми путями дошли слухи, будто нас поразила слоновая болезнь и мы только и ждем, когда нас заберут. Брандер даже по-отцовски рассердился и обиделся, когда все попытки уговорить нас следовать обратно на Таити оказались напрасными. Мы вручили ему пачку писем, адресованных нашим родителям, и попросили заверить вождя Терииероо, что никогда еще не чувствовали себя так превосходно и не собираемся возвращаться к современной цивилизации. Ни в коем случае.
На палубе «Тереоры» удобно устроился французский художник по фамилии Алло, который запечатлевал на полотне райские пейзажи. Старый знакомый: он прибыл на Таити тем же пароходом, что и мы.
Когда мы сели в лодку, чтобы вернуться на берег, Алло попросил взять его с собой и показать ему наше жилище в дебрях. Однако песчаные мухи и комары заставили его быстро передумать. Он поспешил дезинфицировать комариные укусы и вернулся к кистям и палитре на шхуне, где ветер отгонял всех крылатых посетителей и где он мог без помех писать подлинный рай. Нам вспомнились слова учителя на Таити: никто не рисует современному миру подлинную картину Полинезии. В самом деле, нельзя же требовать от нашего друга художника, чтобы он изображал на своих полотнах рои комаров.
«Тереора» подняла якорь и пошла дальше. Словно нас на какие-то минуты обдало напряженным дыханием далекого мира. Теперь не скоро жди следующего захода. Мы снова углубились в дебри, возвращаясь к своему мирному очагу в глубине долины, Вео обещал показать нам пещеры с сокровищами. Пономарь Тиоти вызвался помочь ему раздобыть лодку и гребцов. Мы ждали, ждали, но никто не показывался. Правда, судя по облакам над вершинами Тауаоуохо, ветер был сильнее обычного. Очевидно, на море большое волнение.
Наконец в один прекрасный день на нашей королевской террасе уже под вечер появился пономарь. Он принес свежей рыбы, и мы поняли, что море успокоилось. Деревенские выходили на лодках на рыбную ловлю.
Лив приготовила отменный ужин — жареная рыба и таро. Тем временем мы с Тиоти, сидя на каменной приступке, обсуждали наши планы. Впрочем, пономарю не сиделось спокойно, он все время ерзал и почесывал спину. Я понял: что-то неладно. И услышал подтверждение: «Тереора» доставила на остров патера Викторина. Так звали католического священника, который не один десяток лет странствовал от острова к острову в Маркизском архипелаге и у которого Пакеекее и Тиоти пытались переманивать прихожан, когда дули в огромную раковину, зазывая желающих в свою бамбуковую церковь. На беду, патер не поехал дальше на «Тереоре», а остался на Фату-Хиве. И поселился в дощатом домике возле католической церкви.
— Ну и что? — подумали мы. — Не съест же он нас.
Но Тиоти явно рассуждал иначе. Гробовщик Иоане и многие другие не замедлили доложить патеру, что в дебрях поселились двое белых, которые общаются только с протестантским священником и пономарем. Неприятная новость потрясла патера Викторина. Какие чужеземцы обычно поселяются на здешних островах? Миссионеры, готовые рисковать здоровьем и жизнью во имя своей веры. Все ясно: мы — миссионеры-протестанты, посланные помочь Пакеекее в его недостойных попытках переманить записанные в книгах патера Викторина души, которые привела в лоно христианства первая католическая миссия, действовавшая на Фату-Хиве. Мы понимали тревогу патера — достаточно было вспомнить, что рассказывал нам капитан Брандер, когда по пути сюда мы зашли на атолл Такароа. Незадолго до того на Такароа прибыли два мормонских проповедника и обратили в свою веру всех трехсот жителей атолла. Всех, кроме двух: католический и протестантский священник остались при своей религии и каждый при просторной дощатой церкви.
Смеясь, мы попросили Тиоти заверить патера, что мы вовсе не миссионеры. Мы собираем животных, а не души.
Но Тиоти продолжал почесывать спину. Он был сильно озабочен. Не французский патер его пугал, а враги из числа собственных соплеменников. Когда приезжает патер, они изо всех сил досаждают Тиоти и Пакеекее. Даже не здороваются с ними. А стоит патеру уехать, все становится на свои места. Без него люди не очень-то думают о религии.
Конечно, Тиоти преувеличивал, и все же нам стало не по себе, когда он принялся расписывать, что нам грозит. Дескать, Хаии — тот самый старик с распухшими от болезни ногами, с которым мы ели из одной миски у Вео, — однажды преподнес протестантскому священнику калебас с апельсиновым пивом, куда добавил свою мочу. Хотел заразить Пакеекее. Вот и нас ждет что-нибудь в этом роде. Да мало ли способов навредить нам, живущим вдалеке от деревни. И уж во всяком случае сейчас нечего даже думать о вылазке на восточную сторону острова.
Слова Тиоти нас обескуражили. Может быть, он ошибается? Совсем пренебречь предупреждением было бы глупо, но как поступить? Остается одно — самим проверить обстановку.
Проводив Тиоти, мы отправились в деревню, чтобы поговорить с Вео и Тахиапитиани. Тиоти был прав. Вео явно смутило наше посещение. Он объяснил, что никто не даст нам лодку за скромную плату. А главное, никто не согласится помочь с греблей. Чтобы показать, что втайне они дорожат нашей дружбой, супруги доверили нам секрет: один деревенский житель держит в коробке самку скорпиона с детенышами, задумал подбросить ее в нашу хижину.
Прежде на Маркизских островах скорпионы не водились. Но, видимо, какая-то шхуна завезла на ФатуХиву оплодотворенную самку; да я и сам находил под камнями на берегу большущих скорпионов.
Разозлившись, я хотел тотчас пойти к патеру Викторину, но Лив успокоила меня, посоветовала воздержаться от поспешных действий. Ведь нам некуда деться с острова.
Всю ночь мы лежали и прислушивались к подозрительным шорохам. И обсуждали различные планы. Наконец задолго до восхода солнца встали, отыскали свою старую палатку и уложили ее в мешок вместе с двумя пледами и железным котелком. Решили пожить на горном плато, пока не улягутся страсти в деревне Омоа.
Спустившись по тропе на берег, постучались в дом Тиоти. Собаки разбудили всю деревню; заспанный хозяин уже успел напялить свою соломенную шляпу. Он живо оседлал кобылу для Лив, потом сходил к Пакеекее за жеребцом, чтобы погрузить на него наш мешок, а также добрый запас орехов, таро и фруктов. Мы получили даже пару банок тушенки, доставленной на «Тереоре», ведь в горах можно было рассчитывать лишь на сочные плоды манго и гуаяву.
Рассвет только занимался, когда мы взяли курс через деревню к тропе, ведущей в горы. Стук копыт выманил из домов любопытных. Нас не приветствовали обычным «каоха нуи», островитяне стояли и перешептывались с презрительными и недоумевающими минами. Мы миновали домик патера; он спал.
В северном углу бухты наш маленький караван ступил на тропу, которая вилась в кишащих осами густых зарослях гуаявы. Впереди ехала Лив, за ней шли пешком мы с Тиоти, замыкал шествие Пахо, ведя на поводу вьючную лошадь. Двенадцатилетний Пахо был приемным сыном протестантского священника.
Мы медленно поднимались над окутанной сумраком долиной, одновременно поднималось солнце, а с ним и наше настроение. Мы смеялись над жителями деревни внизу — не так-то легко нас сокрушить! Правда, на какое-то время мы забыли, как прекрасна жизнь. Теперь же снова душу переполнило ликование, сознание полной свободы и счастья. В нашем распоряжении было все на свете. Солнце — наше, весь мир — наш. Наше достояние не замыкалось в границах, обозначающих частное владение. Обрубив узы, привязывающие нас к частной собственности, мы стали свободны, как горные козы и кукушка. Подобно нам, они располагали всем миром. У нашего дома не было стен, ограды. Мы не видели и не ощущали никаких границ, кроме далекого горизонта, а он отступал все дальше с каждой петлей крутой тропинки.
Румяное утреннее солнце оторвалось от земли и парило над ржаво-красным гребнем по ту сторону долины. Дул свежий, прохладный ветерок; безбрежное море простиралось вокруг острова, обнимало всю планету, словно гору Арарат во времена Ноя. Мы поднимались на вершину Арарата.
Наконец-то мы на крыше острова. Лес кончился, его сменили трава и папоротник, по которому ковровой дорожкой тянулась тропа, такая же красная, как пики, возвышавшиеся впереди дворцовыми башнями. Высоко мы забрались… Справа в зеленую расселину долины Омоа обрывались крутые склоны, зазубренные остатки кратерных стен. Наша бамбуковая хижина была скрыта далеко внизу под сплошным лесным пологом, который с высоты напоминал густой мох с торчащими над ним косматыми цветками пальмовых крон.
Воздух становился прохладнее и разреженнее. Мы очутились на открытом плато. Здесь надо было дышать глубже, и мы чувствовали себя так, словно пробуждались к реальности после лесной дремоты. Может быть, и впрямь мы дремали внизу, в дебрях? Во всяком случае теперь дремоты не было и в помине. Мы вступили в мир, который еще никем не изучался. Мир, отличный от всего, что мы прежде видели. Белое пятно на карте. Скудная литература о Маркизских островах характеризовала его как выжженную солнцем пустыню. И когда наши друзья островитяне рассказывали нам про это плато, их описания резко отличались друг от друга.
Теперь мы поняли, почему так было. Нас окружал ландшафт, подобного которому по красоте и разнообразию мы еще никогда не видели. Волнистая равнина — и отлогие бугры и холмы; глубокие ущелья и расселины, а вдали — рвущиеся к небу скалы и пики. Где же тут выжженная пустыня? Ущелья заполнял темный дождевой лес, непроходимые заросли. А торчащие холмы покрывала трава с папоротником.
На склонах и равнинах — саванна и редколесье; местами только древовидные папоротники отбрасывали тень, словно зонты. А сколько цветковых собралось здесь, чтобы поклоняться солнцу! Внизу, в долине, кроны могучих деревьев перехватывали благодатные лучи светила, не оставляя ничего цветочкам на земле.
От цветка к цветку сновали редкостные бабочки и пестрые жуки, мелкие пичуги порхали с дерева на дерево. Люди здесь не селились. Для полинезийцев было слишком холодно, а нас климат на высоте около тысячи метров только бодрил. Тиоти и Пахо дрожали и стучали зубами. Уверяли нас, что мы пропадем. На ночь тут оставаться невозможно — как только зайдет солнце, окоченеем насмерть.
Мы рассказали им про нашу родину, где вода порой замерзает так, что по ней можно ходить, ее можно разбивать, будто оконное стекло, а в холодные дни на землю и на шляпы сыплется дождь, похожий на соль или сахар. Тиоти и Пахо покатывались со смеху, продолжая стучать зубами. Пришлось сказать, что мы пошутили, не то они посчитали бы нас отъявленными лжецами.
Юный Пахо был обаятельный весельчак и неутомимый проказник. То мчится по тропе, будто ковбой, то выскакивает из-за камня с жутким криком, то мигом взбегает на высоченную пальму. Пусть он был лгунишка, воришка, гроза девчонок — все равно мы восхищались его бьющей через край энергией и весельем.
Мы продолжали двигаться по красной тропе среди зарослей папоротника и гуаявы, вдруг Пахо выпустил поводья своего коня и ринулся вниз по склону. Два шага — прыжок, два шага — прыжок, и вот уже скрылся из виду в кустах. Минутой позже мы услышали душераздирающий визг, а затем снова показался Пахо. Он прижимал к себе отчаянно отбивающуюся тварь. Так визжать мог только поросенок. Чтобы заглушить возмущенные вопли своей добычи, торжествующий Пахо, продираясь сквозь густой папоротник, сам издавал ликующие крики. Одной рукой он обхватил брюхо поросенка, другой сжимал его рыло.
Внезапно у меня перехватило дыхание. В кустах справа показалась черная спина дикой свиньи, а слева бежала еще одна. Ощетинившись, они мчались прямо на парнишку, который похитил их отпрыска.
Мы закричали, предупреждая Пахо об опасности, но, когда первая свинья, наклонив голову и оскалив торчащие вверх клыки, пошла в атаку, он не хуже матадора отскочил в сторону и пропустил разъяренного зверя мимо. Новый прыжок — вторая свинья тоже промахнулась. Пахо продолжал увертываться и не помышлял отпускать добычу. Выскочив на тропу, он с невозмутимым видом вручил нам свой трофей. Криками и камнями мы отогнали свиней, но, когда пономарь попытался связать толстячка лубяной веревкой, тот укусил его за руку и улепетнул через папоротник, подпрыгивая, будто футбольный мяч. Мне пришлось ухватить Пахо за руку и крепко держать его, чтобы не бросился в погоню.
Несколько дальше Пахо показал нам холодный источник. Всего-навсего заполненная водой ямка в красной земле, а название внушительное: Те-умукеукеу — «Козий очаг». Решив остановиться здесь, мы принялись развьючивать коня, а Тиоти и Пахо поспешили проститься с нами и двинулись в обратный путь; И вот мы разбиваем лагерь среди ландшафта, живописнее которого нельзя себе представить. Для палатки выбрали место под осыпанным алым цветом, отдельно стоящим деревом и стали рвать косматый папоротник для подстилки. Неподалеку тянулась опушка горного леса с незнакомыми нам деревьями и цветами, а над лесом возвышалась гряда, делящая остров на две части. В другой стороне простирались луга, зеленели гребни, поросшие древовидным папоротником, дальше обрывались отвесные скалы долины Ханававе, в просвете голубело море.
Вечером и впрямь похолодало. С немалым трудом разожгли мы костер; наконец над котелком поднялся душистый пар. Чашки из скорлупы кокосового ореха согрели руки и глотку чаем из сушеных апельсиновых листьев.
Когда понадобился стол для печеных плодов хлебного дерева, которые Лив выгребла из золы, я перевернул плоской стороной вверх большой камень. Под камнем притаился единственный змей этого рая — ядовитая тысяченожка длиной с мою кисть, блестящая, как золотой браслет. Она отчаянно извивалась, защищая свое сокровище — гроздь яичек. Я постарался поплотнее застегнуть замок палатки, и мы хорошенько встряхнули одеяла, прежде чем ложиться спать. Молодой месяц заступил на пост, охраняя сказочную страну Фату-Хивы.
Вскоре выяснилось, что мы не единственные обитатели этой страны. Нас разбудил топот. Кто-то мчался галопом, и, судя по звуку, не дикая свинья, а животное покрупнее. Может быть, к нам скачут островитяне? Наши лошади дергали привязь и ржали, то ли от испуга, то ли от возбуждения. Топот прекратился. Дикий скот? Одичавшие лошади? Или охраняющий свое стадо бык?.. Нам говорили, что горы кишат одичавшим скотом. Есть лошади, даже ослы. Мы лежали с колотящимся сердцем, готовые в любую секунду выскочить из палатки. Но никто не задевал растяжки. Наконец мы уснули. Когда утреннее солнце нагрело палатку, Лив выбралась наружу и раздула костер из вчерашних углей, а я сходил с котелком к роднику. Сколько мы ни смотрели кругом — никого. И все же немного погодя мы обнаружили наших ночных гостей. Три коня, три красавца, хвост почти до земли, стояли неподвижно на опушке и глядели на нас.
Не одно поколение лошадей бродило на воле в безлюдных горах. Подобно встреченным нами в лесу собакам и кошкам, они происходили от домашних животных. Когда европейцы впервые пришли на Маркизы, они застали только косматую меланезийскую свинью с клыками, как у дикого кабана. Согласно преданиям, первые здешние поселенцы не знали свинью, но потом им даровал ее мореплаватель Хаии, который доставил на Маркизские острова свиней и кур по меньшей мере за триста лет до того, как европейцы начали осваивать Тихий океан.
Поскольку маркизцы изо всех домашних животных знали только свинью, они были немало поражены, когда первые европейские парусники привезли неведомых четвероногих. Новых животных полинезийцы приняли за странные разновидности свиньи. Коза здесь стала называться «свинья-с-зубами-на-голове», лошадь — «свинья-которая-быстро-бегает-по-тропе».
После того, что мы наблюдали во время эпидемии гриппа, нетрудно было представить себе, почему домашние животные уходили в лес и дичали. Двуногие хозяева исчезали, и голод заставлял скот ломать ограду и рвать путы.
Мы спасались только встречи с дикими собаками. Большие и малые псы всевозможных пород и разных мастей охотились стаями. Лая и подвывай, они гонялись за овцами и козами, не гнушались и теленком, Если в схватке с дикими свиньями одна из собак погибала, распоротая острыми клыками, другие псы тотчас набрасывались на нее.
Дикие кошки ловили плодовых крыс на деревьях, хватали птиц, грабили гнезда. Даже плодовые крысы воровали яйца из гнезд, забираясь на самые тонкие ветки. Словом, кошки и крысы оказались подлинной грозой маркизских птиц, и многие виды пернатых стали редкостью. Морские птицы чувствовали себя спокойнее, ведь они гнездились на отвесных скалах, куда кошки и крысы не могли пробраться.
Отсутствие археологического материала в горах возмещалось фауной, которая являла собой примечательный образец экологического приспособления. Так что без дела мы не сидели, хотя еду на первое время привезли с собой, не надо тратить время на добычу пропитания, и лошадям тоже было где пастись. Да и что тут добавить к нашим припасам? Кокосовые пальмы попадались редко, бананы — еще реже, и далеко не все они плодоносили. Мы нашли несколько огромных манговых деревьев с грушевидными плодами, которые были мельче манго в долине и без такого ярко выраженного хвойного привкуса. Плоды на многочисленных кустах гуаявы напоминали желтые яблочки с начинкой из малины, но лучшие из них раньше нас собрали дикие животные.
Мы наслаждались горным воздухом. И думали о том, что в открытой местности трудно укрыться. Правда, зато и легче заметить приближающихся посетителей.
На третий день мы увидели то, чего опасались: на склоне голого холма показалась кавалькада. Медленно поднявшись на макушку, всадники остановились четкими силуэтами на фоне неба, высмотрели нашу палатку и помчались к нам галопом через саванну.
Доскакали, снова остановились. Поздоровались, не слезая с коней. Лица были отнюдь не приветливые, однако выражали скорее любопытство, чем угрозу. Явно решили проверить, в самом ли деле мы живем в горах или затеяли какую-нибудь каверзу. Скажем, спустились в долину Ханававе в роли агентов Пакеекее. Поначалу угрюмые и недоверчивые, гости явно успокоились после того, как мы показали им банки с тысяченожками, улитками, жуками и бабочками. Они хлестнули своих коней, и мы снова остались одни.
После этого визита мы почувствовали себя спокойнее. И все же старались не отходить далеко от своих лошадей, кроме тех случаев, когда изучали какую— нибудь лощину с совсем уж непроходимыми зарослями. Жеребец по кличке Туивета родился на воле в горах и был покрупнее. Жители Омоа иногда поднимались на плато, чтобы ловить арканом жеребят. Небольшие ростом, но крепкие и норовистые, дикие лошадки обладали врожденным чувством равновесия. Горные тропы нередко следовали вдоль узких полочек над зазубренными скалами или беснующимся далеко внизу прибоем. Невольно у нас щекотало под ложечкой, когда лошадь жалась к самому краю, чтобы пощипать свисающую траву. Роль поводьев выполняла обвязанная вокруг конской морды лубяная веревка, и, когда мы пытались отвернуть от края голову лошади, она принималась дыбиться и взбрыкивать над обрывом. Лучше уж предоставить упрямому четвероногому самому следить за равновесием, хотя бы при этом одна ваша нога болталась над бездной… Мы быстро усвоили, что можно слепо положиться на горных лошадок, они никогда не оступались. Даже в безлунные ночи, когда мы не видели собственных ног, лошади смело ступали по узким полочкам. Только однажды услышали мы рассказ про островитянина, который сорвался в пропасть вместе с конем. Но тропа в тот раз была мокрая и скользкая после сильного дождя.
Да и нам довелось пережить неприятные минуты на скальной полке над долиной Ханававе. Лив шла впереди, я следовал за ней, за мной выступали обе лошади. Вольнолюбивого Туивету, который нес наши вещи, я вел на поводу, а смирная кобыла сама шагала за ним. Местами полка была меньше метра в ширину, и так как мы здесь прежде не бывали, то предпочли идти пешком. В седле нам грозила опасность защемить ногу между конским крупом и отвесной каменной стеной слева, а справа — обрыв до самого дна долины. Прижимаясь к стенке, мы продвигались не спеша и наслаждались великолепным видом. Внезапно впереди показались три дикие лошади. Ни вперед пройти, ни назад податься! Первым шел жеребец, за ним кобыла и курчавый жеребенок. Кобыла с жеребенком повернули и скрылись за поворотом, а жеребец застыл, словно бронзовая статуя, приготовившись защищать свое семейство.
Туивета вскинул голову вверх и вызывающе заржал, потом решил протиснуться мимо нас к противнику. Дикий жеребец принял вызов и медленно пошел ему навстречу. Я попробовал удержать Туивету за повод, но он не обратил никакого внимания на мои жалкие потуги и поднялся на дыбы. Я крикнул Лив, чтобы прижалась к скале, и сам сделал то же самое. В ту же минуту Туивета вырвался и бросился вперед. Мы ощутили сильный толчок и увидели, как два жеребца встретились в поединке. Секунду они стояли, дрожа всеми мышцами и скрестив шеи, словно сабельные клинки. Испытав таким способом мужество противника, схватились всерьез. Кусались, брыкались, ржали, вставали на дыбы. Мы ждали, что вот-вот кто-нибудь из них сорвется в пропасть, как сорвалась на наших глазах коза, которую загнали дикие собаки. Но жеребцы держались на тропе. Хуже пришлось нашим вещам. Они взлетели в воздух и исчезли за краем обрыва. Только палатка и пледы застряли в трещине ниже тропы, все остальное скрылось из виду. Пропал наш провиант.
Туивета выиграл поединок. Дикий жеребец с достоинством отступил, дав кобыле с жеребенком достаточно времени, чтобы уйти от нас подальше. И Туивета больше не упирался, когда я отважился подойти к нему и взяться за повод. Он гордился победой — и был явно обескуражен, когда повернул голову и увидел, что вьюка нет.
Еще день мы перебивались сочными плодами манго и гуаявы, потом голод вынудил нас спуститься с гор. Фрукты отменные, нисколько не хуже груш и персиков, но организм требовал более плотной пищи. Хотелось рыбы, мяса, кокосовых орехов, хлебных плодов. Мы соскучились по нашим ракам, по нашему феи. Вспомнился толстый поросеночек, но нам больше не встречались дикие свиньи. Пусть в долине нас ждут скорпионы Хаии и прочие гадости. Голод еще хуже. Мечтая о сытной, богатой крахмалом еде, мы молча двинулись вниз по естественной красной ковровой дорожке.
В жаркую долину Омоа мы спустились обновленными, ощущая прилив бодрости. Голод голодом, а дни, проведенные в горах, дали нам заряд энергии. Мы поняли, что бежать из долины, даже не повстречавшись с человеком, который был повинен в изменившемся отношении островитян к нам двоим, побудила нас навеянная дебрями вялость. И, подойдя к деревне, направились прямиком к дому патера Викторина.
Позади католической церковки стояли два домика с тенистыми верандами, застекленными окнами, железными крышами. Один из них пустовал. В начале века, когда остров еще был густо населен и обещал стать частицей цивилизованного мира, здесь помещалась жандармерия и жил французский администратор. На открытой террасе в углу валялся барабан. В былые славные времена Иоане ходил по деревне и бил в этот барабан, когда в бухте бросала якорь какая-нибудь шхуна. Дела давно минувших дней…
Оказавшиеся поблизости островитяне удивленно воззрились на нас, когда мы привязали лошадей и направились к следующему домику, где сидел, окруженный детишками, человек в длинной сутане. Он обучал детей грамоте. Они совсем не знали букв. При виде нас он встал, и мы познакомились с патером Викторином. Маленький, щуплый патер буквально тонул в чересчур просторном облачении. Он принял нас очень вежливо и предложил сесть.
Сидим и мучаемся от неловкости. Я еще никогда не встречался с католическим патером. Да и протестантских священников знал не так уж много, фактически — одного Пакеекее. Моя мать верила только в Дарвина, отец, хоть и был верующим христианином, в церковь не ходил. Крестить-то меня крестили, но от конфирмации я, единственный из всего класса, отказался. О священниках у меня было такое же смутное и превратное представление, какое было о девочках в школьные годы. Люди, конечно, но совсем другого сорта, и непонятно, как с ними обращаться.
Человечек в черной сутане явно был смущен не меньше моего. Дело происходило задолго до того, как различные ветви христианской церкви стали на путь примирения. Широко улыбаясь, он пристально смотрел на меня и ждал, что я скажу. Наконец спросил, не из Европы ли мы? Мы рассказали кое-что о себе и дали понять, что приехали вовсе не для того, чтобы включиться в поединок между ним и Пакеекее, нас занимает, как жили островитяне до прибытия миссионеров, интересует также происхождение местной фауны.
Патер деликатно сменил тему и принялся рассказывать о своей жизни на Маркизских островах. Уже тридцать три года, как патер Викторин покинул Лозер во Франции и один странствовал здесь с острова на остров. Один тридцать три года утешал болящих и умирающих, один спал в темных лачугах, ел пои-пои и другие подозрительные блюда. Всегда один. Ни с кем из маркизцев у него нет личной дружбы. Никто не зовет его в гости. Пальмы и цветы его не радовали, здешняя природа ему, как и капитану Брандеру, казалась мрачной и угнетающей. Весь Фату-Хива сводился для него к церкви и маленькому домику, где женская рука не касалась пола и стен. Его гордостью, его страстью была книга, в которой значились души спасенных от преисподней островитян. Только двух недоставало.
Рассказывая, патер все время поправлял спускающуюся на черные сапоги сутану. Тем не менее мы заметили, что его белые ноги напоминали огромные дыни. Бедняга страдал слоновой болезнью. Патер Викторин принес в жертву все, даже здоровье, делу, которому он служил. И нам стало понятно его опасение, как бы у Пакеекее не появились помощники. Он был подобен филателисту, который боится потерять хотя бы одну марку из своего альбома.
Не без благоговения встали мы, чтобы проститься с этим маленьким человечком, у которого были такие печальные, пристальные глаза и распухшие ноги. У нас чудесный аппетит, аппетит к еде и к жизни. Нас двое, и есть наша хижина в дебрях, и впереди — неизведанное будущее. Ничего этого не было у патера Викторина. Бледный, щуплый, он грустно смотрел, как мы повели лошадей к домам Пакеекее и Тиоти. Мы жалели, что не можем сразу направиться к себе в лес. Нам вовсе не хотелось причинять ему боль. Мы ничуть не обижались на патера за то, что он невольно расстроил нашу дружбу с его прихожанами
[82].
Табу
В лучах полуденного солнца желтая бамбуковая хижина светилась, точно золотой дворец. После палатки она казалась особенно просторной, в ней можно было ходить, выпрямившись в рост, хотя рядом с могучими деревьями она выглядела кукольным домиком. Наш дом. У нас было такое чувство, словно мы здесь родились. На самом же деле мы пришли сюда ненадолго.
Насытившись хлебными плодами, таро и фруктами из одичавшего королевского сада, утолив жажду из бурливого ручья, мы последовали совету Тиоти удалиться еще на несколько дней. Тиоти ждал нас на море со своей долбленкой; хоть и маленькая, но у подветренной стороны острова она вполне могла выдержать вес троих.
Тиоти сам выдолбил ствол и оснастил его на полинезийский лад аутриггером — острым бревнышком, которое укрепляется параллельно лодке на двух поперечных жердях. Лодка была всего лишь вдвое длиннее обычной ванны и наполовину уже, так что мы с трудом втиснулись в нее со своими припасами.
Лив полулежала на корме, придавленная тяжелыми банановыми гроздьями, а мы с Тиоти плавно взмахивали каждый своим веслом, аккуратно погружая его в длинные, пологие океанские валы. Озаренный утренним солнцем красный скалистый остров казался объятым пламенем. Высоко над головой, словно клубы дыма, плыли пассатные облака; из-за мыса дул слабый ветерок, морщиня гладкую поверхность могучих волн.
Сегодня пономарь был разговорчивее обычного, однако суть его речей сводилась к тому, чтобы убедить нас в могуществе не столько христианского бога, сколько всевозможных местных демонов. Бог был один, и, хотя Тиоти вслух об этом не говорил, он явно представлял себе, что этот бог надежно заточен в бамбуковой церкви Пакеекее. А вот демоны кишели по всему острову. Простейший способ встретиться с ними — посетить какой-нибудь участок, охраняемый табу. Несколько поколений назад все островитяне запросто общались с демонами, сообщил Тиоти чуть ли не с завистью в голосе.
Мы с Лив слушали вполуха. Слишком сильно увлекало нас зрелище удивительнейших рыб; словно мы оказались очевидцами того легендарного дня в истории бытия, когда живые существа впервые вышли из океана на сушу. Сейчас с подветренной стороны не было прибоя, накат лишь слегка поглаживал крутые скалы, и лодка шла вдоль самого берега. Сначала наше внимание привлекли полчища красных, серых, зеленых и черных крабов, которые сновали во всех направлениях, ныряя в трещины над водой. Светло-зеленая вода была настолько прозрачна, что позволяла рассмотреть яркие водоросли и морские анемоны на дне. Там, в глубине, ходили пятнистые рыбы, из нор выглядывали огромные, с человеческую ногу, омары, покрытые буграми и колючками, расписанные роскошными узорами. Но больше всего поразила нас рыба, которая превосходно чувствовала себя вне воды. С палец длиной, большеголовая, совершенно черная, она разгонялась на гребне волны и прыгала на камень. Присосется и скачет посуху этакой безногой лягушкой. Множество причудливых рыбок переливалось на солнце. Одни лепились к скальной стенке, другие прыгали с камня на камень, третьи блаженно распластывались на животе, словно наслаждаясь солнцем. Казалось, они сторонятся соленых брызг. Напрыгаются всласть и ныряют обратно в воду, но с очередной волной опять выходят на сушу.
Тиоти не понимал нашего интереса к рыбе, которая не годилась в пищу. Встал и тонкой трезубой острогой поразил пару живописных омаров. Его обидело, что мы не принимаем всерьез рассказ о местных демонах. Сначала мы не поверили, когда он обещал доказать нам, что на Фату-Хиве есть кораллы, потом усомнились в существовании каменной рыбы, теперь вот не верим, что он может показать настоящих демонов. Они есть, хоть и остались, так сказать, без дела, а было время, помогали предкам Тиоти, как в наши дни ему самому помогает бог. Мы никогда не слышали про Тукопану?
Нет, не слышали. И согласились внимательно выслушать рассказ о нечистой силе. По словам Тиоти, истинность рассказа нам могли подтвердить французские власти на Хива-Оа.
Тукопана был последний великий шаман, которого еще застали европейцы. Сам он жил на Фату-Хиве, но о его связях с демонами знали на всех островах архипелага.
Подойдя к главному, Тиоти от волнения даже сбился с ритма гребли.
Перед смертью Тукопана собрал всех жителей долины Омоа во главе с королем и показал два изображения демонов, высеченные им из белого камня. Один демон был побольше, другой — поменьше. Когда умру, сказал Тукопана, мой дух вселится в большого демона, и пусть он называется моим именем. А когда умрет моя любимая дочь, ее дух вселится в меньшего демона, и вместе мы будем руководить народом ФатуХивы в последующих поколениях.
После смерти Тукопаны обе статуи установили на кладбище над долиной, где мы изучали черепа. Двадцать лет назад на Маркизские острова прибыл французский губернатор. Он прослышал о красивых статуях на Фату-Хиве
и задумал присвоить себе драгоценные диковины. По его приказу четыре островитянина отнесли статуи вниз и погрузили на правительственную шхуну, которая доставила добычу в губернаторскую резиденцию в долине Атуона на острове Хива-Оа. Здесь Тукопану и его дочь, к великому ужасу островитян, поставили у входа на участок губернатора.
Вскоре на острова обрушился шторм страшной силы. День за днем лил дождь. Кончилось тем, что в горах Хива-Оа родился могучий поток, который ринулся вниз по долине Атуона. Он вырывал с корнем и разбрасывал кокосовые пальмы и огромные хлебные деревья. Поток направился прямо к дому губернатора. Сам губернатор спасся, но дом его разнесло в щепки, а когда наводнение кончилось, все увидели, что Тукопана и его дочь исчезли, словно сквозь землю провалились. Люди до сих пор тщетно ищут драгоценные статуи. А губернатор выстроил себе новый дом подальше от старого участка.
Поведав эту историю, Тиоти надолго примолк.
Продолжая работать веслами, мы переваливали через пологие волны. Рядом тянулся нескончаемый берег. Скалы то расступались, открывая взгляду маленькие долинки, то снова смыкались. Долина за долиной, пустынные, забытые. Высоко на кручах ходили пестрые дикие козы, а в одном месте на берегу стояла, похрюкивая, черная косматая свинья и близоруко смотрела на скользящую мимо пирогу. Проводив нас взглядом, она снова принялась грызть хлебный плод. Совсем необитаемыми эти долины нельзя было назвать, они кишели одичавшим скотом, оставшимся без двуногих хозяев. По словам Тиоти, люди ушли с ветром на запад. Вымершие язычники не попали на небеса. Их души последовали за солнцем, а солнце ныряет под океан и возвращается подземным ходом на свою родину на востоке.
Все старые люди рассказывали, что дом солнца находится на востоке. Там завершают свое подземное странствие солнце и души умерших, и там же бессмертное светило снова восходит каждое утро. Островитяне помнили древних мореплавателей, которые ходили в дальние плавания на легендарную родину первых богов-королей. Души-то, чтобы попасть туда, следовали за солнцем на запад, но живые путешественники предпочитали более короткий путь, плыли прямо на восток. Восточную часть горизонта здесь называли «верхним концом» океана, потому что течение и облака всегда шли с той стороны. Кроме неподвижных островов, все находилось в вечном движении «вниз», на запад. Океан, облака, солнце, звезды в ночном небе — все. Тиоти предупредил: если грести до самого вечера, мы выйдем из-под защиты северного мыса, и нас тоже понесет на запад, тогда уже нам не вернуться на Фату-Хиву.
Солнце висело прямо над головой, когда перед нами наконец развернулись сказочные декорации долины Ханававе. Широкая сцена с множеством пальм и высеченные в красном камне складчатые боковые кулисы поразили нас больше прежнего теперь, когда мы шли на крохотной долбленке, наслушавшись рассказов Тиоти про демонов, духов и предков. Могучие кулисы смахивали на хоронящихся друг за другом огромных чудовищ, и мы почувствовали себя лилипутами в заколдованном царстве. Не трудно понять, почему суеверия и черная магия так прочно владели душами людей, заточенных между этими грозными скалами.
В верховьях долины голубела горная гряда и сквозь отверстие в горе светил, будто лампа, клочок неба. Ветер и дождь прогрызли туннель. Тиоти рассказал, что в старину людоеды из долины Ханахоуа на восточном побережье пробирались через этот ход и нападали на жителей Ханававе. Люди той поры лазили по горам не хуже коз, да еще они вырубили себе ступеньки на отвесных склонах. Теперь туннель с мудреным названием «Техавахиненао» с этой стороны совсем недоступен, и говорят, будто он набит человеческими костями… Если бы тропа не осыпалась, мы могли бы проникнуть из Ханававе в таинственные пещеры Вео в Ханахоуа Перед грозной полосой пенистых бурунов, которые рокотали над отмелью у входа в залив, Тиоти приметил косяк серебристых рыб, по его словам, удивительно вкусных. Встав во весь рост, он метнул острогу, она описала в воздухе высокую дугу и упала в середину косяка. Торчащее древко затрепетало, говоря о точном попадании.
В деревне Ханававе нас встретили улыбки и обычные приглашения зайти перекусить. Мы вежливо отвечали положенной формулой — спасибо, сыты — и показывали свой улов. Здесь явно никто не был настроен против нас, но искалеченное проказой ухо одного островитянина напомнило нам слова капитана Брандера о том, что в этой долине распространены всякие заразные болезни. Ну да мы ведь и не собирались здесь жить, высадились только затем, чтобы посмотреть на обитель настоящего демона, с которым Тиоти так хотел нас познакомить.
Пономарь зашел к своему местному приятелю, тощему фатухивцу по имени Фаи, и уговорил его помочь нам нести рыбу и бананы. Сам Тиоти нес на плече острую палку, на которую наколол хлебный плод. Потом друзья о чем-то пошептались, и сразу Фаи пошел медленнее. Ему явно расхотелось идти с нами, и я на всякий случай забрал у него рыбу. Тут Тиоти принялся высмеивать его за то, что он испугался демонов. В конце концов Фаи все-таки решился нас сопровождать. Если уж мы непременно хотим, он покажет нам обитель нечистой силы, одно из немногих мест, до сих пор охраняемых табу. Из нынешних фатухивцев никто туда не ходит. Прежде было много всяких табу, теперь они почти все забыты или ими пренебрегают. Но кое-какие запреты остаются в силе. Например, не положено проходить там, где другой стоит и кормит кур. Может случиться несчастье. Еще хуже, если поставишь на голову деревянную миску вверх дном. До сих пор кое-где в лесу заправляют злые духи и демоны; забредешь туда — жди беды в ближайшие три дня. Фаи обещал показать такое место.
И когда мы вышли на берег каменистой речушки, он поднял руку, указывая направление на заколдованный участок. Тотчас Тиоти повернул назад. Ему вдруг страшно захотелось есть и загорелось найти подходящее местечко, чтобы изжарить рыбу. Чуть не бегом вел он нас по тропе обратно. Снова показалась большая светлая роща, сплошь состоящая из множества апельсиновых деревьев. Апельсины, кругом апельсины — на деревьях, на земле. Некоторые деревья, словно плакучая ива, склонили до самой травы ветви, увешанные зелеными и желтыми плодами. Мы наелись, утолили жажду да еще набрали всего впрок. В жизни нам не доводилось есть такие сочные и вкусные апельсины, как в Ханававе.
Выведя нас на опушку леса, Тиоти достал спички и, махая своей неизменной соломенной шляпой, развел костер из сучьев апельсинового дерева. Вскоре кругом распространился сладковатый запах печеного хлебного плода. Почерневшая корка лопнула, обнажив белую, как мука, мякоть. Тем временем Фаи выгреб из углей жареную рыбу и омара. К черту демонов! Могут и подождать. С каким блаженством набросились мы на жертвоприношение не демонам, а самим себе, обыкновенным людям!
Фаи рассказал, что в лачугах у моря живет всего с полсотни человек. Один из них китаец, он держит лавчонку и ведет меновую торговлю с фатухивцами, совсем как Вилли в Омоа. А некогда в долине Ханававе жили могущественные племена, возглавляемые тремя королями. Одно королевство находилось у самого подножия гор, другое — посередине длинной долины, третье
— внизу, у моря. Все три племени вместе воевали против жителей Ханахоуа по ту сторону горного туннеля. В дебрях все еще стояли каменные сиденья, с которых караульные постоянно наблюдали за проходом. Если общий враг не показывался, три короля сражались между собой. Шаманы, состоявшие в связи с демонами, умели предсказывать, — когда противник готовит нападение. К ним часто обращались за советом в немирные времена. В состоянии экстаза, одержимые тем или иным демоном, они плясали с подвешенными к поясу черепами и говорили чужими голосами. Каждое слово, слетавшее с их губ, толковалось как совет и предупреждение.
Основательно подкрепившись, мы встали и вдруг обнаружили, что нас осталось только трое. Фаи исчез. Тиоти хотел бежать вдогонку, но я вернул его и напомнил, что он ведь сам вызвался показать нам демона. Место теперь известно, обойдемся без Фаи.
Тиоти засмеялся: ему не страшны никакие табу, он пономарь, протестант. Против него демоны бессильны.
Мы вернулись к ручью, откуда Фаи показал нам заколдованное место, и перепрыгнули на другой берег. Дальше пошла такая чаща, что никак не продраться, даже ползком. Здесь явно не один десяток лет не ступала нога человека. Пришлось прокладывать себе путь с помощью моего мачете.
Вот уж правда заколдованное место. Мрак, духота, кругом густые дебри. Но нам доводилось преодолевать заросли похуже. Здесь хоть под ногами твердая опора.
Наше продвижение кончилось, когда мачете ударил о камень. Листва и вьющиеся стебли скрывали замшелую стену с меня высотой. Мох почти совершенно скрывал швы между огромными прямоугольными блоками. Теперь мы уже все трое волновались. Я влез на стену, Лив и Тиоти последовали за мной. Мы очутились на большой платформе из плотно пригнанного камня. Под сплошным лесным пологом царил угрюмый сумрак.
Мы с Лив недоумевали: как это древние строители сумели доставить сюда базальтовые глыбы, ведь все ближайшие скалы состояли из рыхлого туфа. Внезапный возглас Тиоти дал нам понять, что он что-то обнаружил. Раздвинув ветки, он показал на прислоненные косо друг к другу, наподобие двускатной крыши, большие красные плиты, наполовину заросшие корнями и дерном.
Осторожно мы принялись их расчищать. Плиты были величиной с толстый матрац, но с острыми углами и с рельефными фигурами на плоскостях. Ничего подобного до сих пор не находили не только на Маркизских островах, но и во всей Полинезии вообще.
На одной плите выстроились в ряд семь гротескных человеческих фигур. Одни словно размышляли, подперев рукой подбородок, у других обе руки были сложены на животе, третьи подняли руки над головой, подобно изображениям, виденным нами вокруг кладбищ. Огромные торчащие уши придавали некоторым из них сходство с животными. В окружении этих демонов было высечено двойное изображение: бок о бок два маленьких человечка, руки на животе, ноги на общем цоколе. На второй плите — только три фигуры, все в танцевальных позах: одна рука на бедре, вторая плавно изогнута над головой.
Обтесанная поверхность плит выветрилась меньше, чем рельефные фигуры, и мы различили врезанные линии, образующие прямоугольные лабиринты.
Тиоти избегал близко подходить к этим «тики». На Маркизских островах все древние человеческие изображения называли «тики». У предков это слово означало «бог», у Тиоти — «демон».
Проливной дождь загнал нас под широкие листья.
К великому облегчению Тиоти, ливень кончился так же внезапно, как начался. Вернувшись к плитам, мы увидели, что с одного конца между ними вставлен белый треугольный камень. Противоположный просвет был плотно замурован. Осторожно отодвинув «дверь», я увидел темную яму. Интересно! Лив затаила дыхание, когда я ногами вперед полез внутрь. Тут Тиоти не выдержал.
— Ты можешь разогнать демонов моей лампой! — предложил он, приготовившись бежать к лодке, где лежал его керосиновый фонарь.
Я сказал, что обойдусь спичками. Тиоти подал их мне, соскочил с платформы и исчез.
Вытянув руки вверх, я протиснулся через входное отверстие, нащупал босыми ногами опору, отпустил руки и приземлился на мягком полу. Ощупью я убедился, что нахожусь в маленькой камере с гладкими каменными стенами. Чтобы не заслонять вход, я продвинулся дальше вглубь, но светлее от этого не стало. Мои ступни уперлись во что-то твердое. Чиркнул спичкой — она тут же погасла в сыром воздухе, и стало темнее прежнего. Я успел разглядеть лишь кусок стены около моего локтя.
Следующая спичка вовсе не хотела зажигаться. Вся коробка намокла. Я присел на корточках и чиркнул снова, защищая пламя ладонями. На меня глянуло оскаленное белое лицо, и опять воцарился мрак. Новая спичка. Черт, не тем концом! Еще одна. Наконец-то. И снова моим глазам предстало оскаленное лицо. Я стоял на покойнике.
Присыпанный перегноем, у моих ног лежал желтоватый скелет. Не слишком древний, судя по тому, что рядом с черепом стоял европейский аптечный пузырек из цветного стекла. Вероятно, здесь был погребен последний шаман Ханававе; когда на остров впервые прибыли миссионеры, они вполне могли застать его в живых. Подобно Тукопане в долине Омоа, он призвал на помощь тики и табу, чтобы отпугивать от могилы злых духов. Самым злым духом, какой когда-либо являлся в Полинезию, был белый человек. И я выбрался наружу из заколдованного склепа, предоставив шаману спать спокойно.
Найти Тиоти не представляло трудности, он ждал нас по ту сторону ручья. К нашему удивлению, мы застали здесь и Фаи. Он заявил, что и не думал удирать, просто ходил разведать еще одно заколдованное место. Фаи указал на высокий лавовый монолит, который, словно огромный палец, торчал над лесом поблизости. Моту-нуи — «большая скала».
Подойдя к скале, мы убедились, что ее отвесные стены отшлифованы дождем и ветром. В поисках питательной почвы несколько кустиков на высокой полке опустили вниз длинные, тугие лианообразные корни. Эти корни заменили веревки троим мужчинам, которые задумали карабкаться вверх на заколдованную скалу. Как Лив ни дулась, а пришлось ей ждать внизу, на дереве, чтобы не опасаться диких свиней и собак. Скалолазание — дело мужское.
Только унизительная перспектива остаться в обществе вахины заставила Тиоти и Фаи лезть вместе со мной. Высота их не пугала, они боялись последствий нарушения табу.
Взявшись за корни, Фаи полез первым, за ним — я, последним — Тиоти. У меня кружилась голова, и я старался прижиматься плотнее к скале. Да-а, это и впрямь не девичий спорт.
Из-под моего колена сорвался камень и полетел вниз. Я увидел у себя под ногами соломенную шляпу Тиоти, крикнул, чтобы он поберегся, и зажмурился. Быть беде, конец пономарю… Не открывая глаз, я тихо спросил, как он там. Спросил просто так, не рассчитывая на ответ.
— Камень разбился о голову Тиоти, — донесся снизу спокойный голос.
Пономарь успел увернуться.
И вот мы достигли полки, которую приметили снизу. Бросив на нее один взгляд, Фаи тут же захотел спускаться. Пришлось мне протискиваться мимо него.
Уступ был заполнен скелетами. На него выходила небольшая пещера; в ней лежали истлевшие лубяные веревки, черепа и кости. Многие кости были обернуты белой тапой-материей из луба хлебного дерева или вымершего дерева эуте. Под сводом висели длинные человеческие косы. Среди выдолбленных деревянных корыт стоял сколоченный из самодельных досок ящик. Останки в этом ящике были облачены в европейскую одежду с пуговицами. След меновой торговли? Или здесь погребен потерпевший крушение моряк, который кончил свои дни среди каннибалов Фату-Хивы?
Фаи скрылся из виду, и снизу донесся отчаянный крик: он столкнулся с Лив, которая все же решила в одиночку лезть на скалу. Эта неожиданная встреча могла стать роковой. Фаи был вне себя от волнения и страха, пока не поменялся местами с Лив и продолжил спуск.
В один день столько переживаний! Я облегченно вздохнул, когда мы все четверо собрались внизу и направились в деревню. Мысль о нарушенных табу привела наших друзей в такое смятение, что от них можно было ожидать самых нелепых поступков. На каждом шагу им чудились всякие страсти. Табу нарушены
— кары не избежать…
Не очень-то крепко спалось нам в ту ночь на полу лачуги Фаи. Доносился глухой кашель из соседних хижин, слышался лай раздраженных собак, сквозь щели в стене просачивался тошнотворно-сладкий запах копры, и Тиоти вертелся юлой.
Рано утром мы спустились на черный галечный пляж. Пришла пора уезжать. Спустить лодку на воду даже с подветренной стороны острова было делом непростым. Океан никогда не успокаивался совсем. Катящие на запад валы засылали в обход северного мыса лазутчиков в открытую бухту. Здесь возникали длинные ряды бурлящих волн, которые одна за другой разбивались о черную гальку в туче соленых брызг. Полинезийцы маневрировали долбленками в полосе прибоя не хуже, чем европеец маневрирует автомобилем на оживленной улице. Подняв на руках лодку, они выжидали нужный момент и бежали вперед. Мы так и не научились определять подходящую волну. То ли она была пониже других, то ли просвет между нею и следующей был чуть больше.
И вот Тиоти, Лив и я стоим, держа на руках долбленку, и ждем подходящей волны. Слабый пловец, я чувствовал себя далеко не уверенно. Сжимая в руках поперечные жерди, готовые ринуться вперед, мы стояли на береговом валу, куда долетали только брызги. По знаку Тиоти вбежали в пенящуюся воду, вскочили в лодку и начали грести, как одержимые, чтобы перевалить через следующую волну прежде, чем она вздыбится отвесной стеной.
Несколько гребков, и вдруг я увидел нечто такое, что заставило меня живо отложить весло и упасть на четвереньки у ног Тиоти. Из круглого отверстия в дне пироги фонтаном била вода! Чертов пономарь! Когда мы вчера причалили, он вытащил пробку, чтобы вытекла накопившаяся в лодке вода, а сегодня в суматохе забыл закупорить отверстие. Пробка осталась на берегу. Волна за волной подбрасывали нас кверху; Тиоти в одиночку старался направлять нос лодки вразрез накату, чтобы нас не опрокинуло. Работая одним веслом, он уводил долбленку подальше от берега, от коварного прибоя, который норовил завлечь нас в ревущие каскады у скал. Лив схватила черпак — половину скорлупы кокосового ореха — и лихорадочно принялась вычерпывать воду, меж тем как я одной рукой зажимал дыру, другой искал что-нибудь взамен пробки. Пономарь лихорадочно перебрасывал весло с борта на борт.
Лодчонка была наполовину заполнена водой, когда полоса прибоя осталась позади и Тиоти наконец получил возможность отложить весло. Сняв свою соломенную шляпу, он стал ею помогать Лив вычерпывать воду. Тем временем я законопатил дыру пучком кокосового волокна. Опасность миновала, мы мерно покачивались на длинных валах среди открытого, дружелюбного моря. Берег — вот где сосредоточилась угроза, мы все еще слышали, как галька и прибой рычат и ревут, будто разъяренные львы. Прежде я как-то не задумывался над тем, что море всего опаснее и коварнее у берега. А ведь именно эту полосу большинство из нас видит и по ней судит о нраве всего моря в целом.
Я покачал головой, осуждая забывчивость Тиоти. Он встряхнул соломенную шляпу, надел ее на голову и пробормотал в свое оправдание:
— Табу.
Но мы не спешили возвращаться домой. Нам хотелось осмотреть берег дальше на север, вплоть до безлюдной долины Таиокаи. Там, согласно легенде, находилось подземное озеро, которое Фаи называл ВаиПо — «ночная вода». Иностранцы до сих пор даже не слышали об этом озере, а из фатухивцев только двое — Капири и Кеакеа из долины Ханававе — проникли в пещеру и видели теряющуюся во мраке гладь, Снова занавес закрыл величественную сцену Ханававе, и дальше на север мы пошли вдоль сплошной стены, над нами словно нависали небоскребы без окон. Следом, качаясь на валах, на еще меньшей долбленке шел Фаи. Мы задумали, если найдем пещеру, внести его лодку внутрь.
Близился вечер, когда мы достигли цели. Перед нами открылась небольшая долинка Таиокаи. Здесь надо было пристать к берегу, и мы знали, что это не легче, чем отчалить. Когда причаливаешь, тоже следует на почтительном расстоянии ждать надлежащей волны. Снова между нами и сушей рычала галька и ревел прибой. Вспомнилась барабанная дробь, которую исполняют в цирке перед особенно рискованным номером. Мы уповали на опыт Тиоти. Он уже доказал, что умеет справляться с волнами.
Но сегодня у него что-то не ладилось. Невероятно: в решающую минуту, когда мы мчались, будто доска для серфинга, на гребне блестящей водяной стены, весло Тиоти вхолостую промелькнуло в воздухе. Аутриггер, прикрепленный на концах поперечин для устойчивости долбленки, вдруг поднялся из воды. Я успел еще увидеть между задравшимися кверху поперечинами, как Фаи выскакивает на берег и вытаскивает за собой свою лодчонку. В ту же секунду аутриггер описал дугу у нас над головой, долбленка опрокинулась, и мы все трое, очутившись в воде, завертелись мячиками среди каскадов. Возможно, какой-нибудь мастер серфинга лучше совладал бы со стихией, нас же выкатило кубарем на баррикаду из обкатанных морем камней. Несколько секунд пальмы Таиокаи стояли в моих глазах вниз макушками в вихре звездного фейерверка, наконец голова перестала кружиться, и я увидел, как Лив и Тиоти с трудом поднимаются на ноги рядом со мной. Мы отделались синяками и ссадинами. Фаи помог вытащить на гальку опрокинутую долбленку Тиоти; потом мы общими усилиями отнесли обе лодки подальше от воды.
Уже темнело, когда мы принялись выжимать соленую воду из наших пледов. Волны все доставили на берег, даже шляпу Тиоти.
— Табу, — коротко заметил он, надевая ее на голову.
В темноте все попытки проникнуть в заросли оказались тщетными; не помог и керосиновый фонарь, который Фаи привез с собой, чтобы светить в пещере. Поэтому мы разожгли костер на самом верху каменного вала, сооруженного прибоем. Приложили к ссадинам и ушибам кору гибискуса и листья, просушились у костра сами и осторожно, чтобы не спалить, подсушили пледы. Постарались сделать каменное ложе возможно более удобным и уснули на пляже. Если бы не усталость, мы, наверно, и глаз не сомкнули бы.
А среди ночи меня разбудили жалобные крики и сердитые возгласы моих спутников. В первую минуту мне показалось, что из черных зарослей на берег вышел миллион духов и демонов. Я видел только звезды да тлеющие головешки угасающего костра, но со всех сторон доносился стук костей. Что-то холодное царапало мне острыми ногтями шею, ступню, пояс. Я отбрыкнулся одной ногой, но никого не задел. Тогда я начал беспорядочно отбиваться руками, колотя себя там, где меня щипали незримые гости. Задел рукой что-то противное, какие-то суставы и костлявые пальцы с когтями посыпались на меня и скатились на гальку, когда я сел. Каждая кость отдельно продолжала ползать по камням, цепляясь острыми когтями, и все вместе они с жутким сухим стуком норовили снова взобраться на меня.
Судя по тому, что крики остальных я услышал в ту самую секунду, когда костлявые пальцы начали щипать меня, нападение произошло одновременно со всех сторон.
Тиоти несколько раз выкрикнул какое-то имя, которого я никогда раньше не слышал, а Фаи ощупью нашел фонарь и зажег его. Тотчас сон как рукой сняло. Нас окружали сотни белых суставов величиной с куриное яйцо; они передвигались на крючковатых пальцах, напоминая огромных пауков. В свете фонаря я рассмотрел большие, выбеленные солнцем старые раковины, которые присвоил один из самых удивительных представителей ракообразных — рак-отшельник, прячущий в передвижных крепостях свое мягкое брюшко.
Я в жизни не видел столько раков-отшельников одновременно. Да и наши друзья фатухивцы были поражены их размерами и количеством. Самые маленькие — с рисовое зерно, самые большие — с куриное яйцо, даже с детский кулак. Казалось, это галька ожила.
И снова мы вынуждены прибегнуть к мало что говорящему слову «инстинкт» для обозначения волшебства природы, которая с детства нашептывала этим созданиям, чтобы они подыскивали себе раковину подходящего размера и прятали брюшко в ее броне. Крохотная тварь, явившись на свет в большом мире, точно знала, что ей делать. Ползая по берегу, она исследовала старые пустые раковины, пока не находила подходящую. Затем брала ее клешнями и аккуратно надевала на себя, так что раковина мешком облекала брюшко. Природа позаботилась о том, чтобы брюшко изгибалось в соответствии с извивами раковины, а также чтобы одна клешня была больше другой и служила дверью, плотно закрывающей вход в присвоенный домик. Подрастет рак-отшельник — начнет искать квартиру попросторнее. Расхаживает на длинных ногах по берегу или по дну и проверяет пустующие жилища. Найдет недовольный жилец домик, устраивающий его на следующий срок, осторожно извлекает уязвимое брюшко из старой квартиры и забирается в новую. И так из поколения в поколение. В целом мире ни одно другое тонкокожее животное не додумалось до столь гениального способа защищать свое тело, а вот раки-отшельники во всех морях не сомневаются в его правильности.
Есть не менее хитроумные крабы, которые придумали свои способы защиты. Крабы не умеют думать? Значит, кто-то подумал за них и подсказал, как надо делать. Ведь знает же краб дромиа, что всем представителям его семейства положено надевать для маскировки на свой панцирь определенного вида живую губку. Эта губка, напоминающая картофелину, очень легкая, и маленький хитрец может спокойно расхаживать по дну моря, полагаясь на камуфляж, ибо несъедобная губка отпугивает любителей крабьего мяса.
Крабу орегониа кто-то подсказал другой, столь же остроумный способ. Представители этого семейства снимают клешнями с прибрежных камней молодые водоросли и с ловкостью искусного садовника сажают их на свой твердый карапакс. И достигают желанной цели: где бы они ни ходили, их практически невозможно распознать благодаря колышащимся водорослям.
Не берусь сказать, что побудило раков-отшельников устроить такое нашествие и нарушить наш сон. Скорее всего эти местные жители бродили каждый по своим делам: один искал корм, другой — партнера, третий — отвечающее возросшим требованиям новое жилище. Мы восприняли их как дикую, неорганизованную банду, одержимую страстью метаться и ползать взад-вперед, щипать нас просто так, протискиваться под нами от нечего делать. Когда мы стали их прогонять, чтобы оставили нас в покое, они живо укрылись в своих убежищах, захлопнули дверь и откатились прочь. Через минуту, прикрываясь бронированной варежкой, высунули глаза на стебельках, чтобы проверить обстановку. Все спокойно? Можно высовывать ноги и шагать дальше.
В этом многочисленном береговом сообществе ни одна собака не уснула бы как следует. Все же я, видно, под конец задремал, потому что, когда открыл глаза, увидел, что наши друзья уже встали и Фаи выбирается из зарослей с грузом хлебных плодов и апельсинов. Он сразу же сходил за новой партией плодов и погрузил их в лодку Тиоти; сам пономарь в это время бил рыбу острогой. На пляже мы нашли крупных морских улиток, еще не покинувших свои раковины. Раки-отшельники терпеливо ждали, когда раковины освободятся, но мы повели себя более, бесцеремонно. Испекли улиток в их домиках и съели на завтрак.
Хотя руки-ноги закоченели от твердого каменного ложа, мы пошли искать вход в пещеру. Дорога туда вела вдоль крутого обрыва, в который одним концом упирался пляж.
Долину Таиокаи никак нельзя было назвать уютной. Некогда она была густо населена, но затем произошла катастрофа. Целый горный отрог обрушился, и деревни со всеми домами и жителями исчезли под грудами камня. Вызванная землетрясением волна прокатилась далеко по океану. И теперь горы нависали над Таиокаи, грозя обвалиться в любую минуту. Большая часть долины представляла собой поросшее кустарником чудовищное нагромождение обломков. На краю осыпи мы увидели следы кладки, наполовину погребенной обвалом. И ночью, воюя с беспокойными гостями, мы то и дело слышали стук падающих камней.
Низкий, но широкий лаз в пещеру находился у подножия скальной стены и был частично завален здоровенными глыбами. Мы пробрались внутрь, и в полумраке нам открылась огромная подземная полость. Каменистый откос привел нас на окаймляющий озеро чудесный белый пляж. Свет проникал только через расселину за нашей спиной, и большая часть пещеры была окутана темнотой. С разных сторон доносился звук капающей в озеро воды. Без керосинового фонаря и лодчонки Фаи невозможно было толком что-нибудь рассмотреть, и мы сходили за ними.
Ваи-По — «ночная вода»… Мы зажгли фонарь и увидели низкий волнистый свод; как будто над гладким, словно замерзшим озером простерлось опрокинутое окаменевшее море. Блики света от фонаря лежали неподвижно на воде, но по неровному своду бегали сотни беспокойных теней.
Мы спустили лодку на воду и затаили дыхание. Хрустальные звуки, точно от ксилофона или серебряного колокольчика, поплыли над озером и наполнили пещеру. Кликк-клакк-клюкк-клокк-кликк. Рябь от лодки покатилась по темной глади и родила волшебную музыку, ударяясь о невидимые стены.
Я прыгнул в лодку, где уже сидела Лив, и оттолкнулся от берега. Тиоти и Фаи застыли, будто каменные изваяния, сидя на корточках на каменистом откосе. Озаренные со спины призрачным светом из расселины, их фигуры казались неестественными. Серебристые полоски дневного света, дотягиваясь до озера, плясали на небесно-голубой поверхности воды и смешивались с теплыми, красно-желтыми бликами от фонаря, который держала Лив.
Я начал грести, и тотчас со всех сторон опять зазвучали серебряные колокольчики. Незабываемая музыка, незабываемая игра света… Работая веслом, я направил лодку в густой мрак. Небольшой мысок заслонил от нас пономаря и Фаи, и погасла феерия красок. Тусклый фонарь обступили мрак и тишина. Хотя наши друзья пропали из поля зрения, мы слышали, как Тиоти спрашивает Фаи, заколдовано ли это место, есть ли в озере опасные течения или чудовища. Фаи ответил, что не знает.
Взяв цветок тиаре, который был заткнут у нее за ухом, Лив положила его на воду. Никакого течения… Я зачерпнул ладонью немного воды и попробовал. Неожиданно холодная и вкусная, с едва заметным солоноватым привкусом. Еще несколько гребков веслом — и что-то больно ударило меня по голове. Свод опустился. Мы пригнулись и продолжали движение, пока нос лодчонки тоже не уперся в свод. Дальше продвигаться можно было только вплавь. «Ночная вода» уходила под скалу.
Фаи слышал предание, будто в глубине пещеры есть еще проход, но чтобы найти его, надо нырять. Проплывешь через подводный ход — окажешься в другой, совершенно сухой пещере. До того, как жители долины Таиокаи были погребены обвалом, местный шаман обитал в этой потайной пещере. Говорили, что его скелет до сих пор сидит там в каменном кресле рядом с алтарем.
Нам с Лив очень хотелось нырнуть и проверить правдивость этой истории, но фонарь Фаи не мог гореть под водой, к тому же у нас не было с собой веревки. В это время из-за мыса донесся взволнованный голос Фаи. Выйдя наружу, он обнаружил, что погода меняется. Мы быстро вернулись к белому пляжу и поднялись по откосу к выходу из пещеры. Наши друзья стояли и смотрели на выплывающие из-за нависающих гребней тучи. Тиоти почесывал спину
— явный знак тревоги. Его беспокоила погода. Направление и сила ветра изменились. Кончилось затишье, когда можно было спокойно выходить в море. Надо поторапливаться, если мы не хотим застрять здесь на неопределенный срок.
Первым делом мы вынесли лодки на крутой галечный вал. Потом забегали взад-вперед, высматривая, где легче проскочить через ревущий прибой. Я проверил, на месте ли пробка в днище. И вот уже, вбежав по пояс в бурлящую воду, мы вскакиваем в лодки. Кричим, гребем, смотрим вправо-влево, не подкрадывается ли коварный гребень, мокрые насквозь одолеваем препятствие за препятствием на маленькой деревянной лошадке, совершая лихие прыжки между небом и водой. И наконец выходим в море, где катят длинные ленивые валы.
Фаи держался ближе к берегу, направляясь домой, в долину Ханававе, мы же решили срезать дугу, идти прямо в Омоа. Шел третий день после того, как было нарушено табу, и наши друзья не сомневались, что теперь-то уж непременно что-нибудь стрясется. Если Тиоти вообще отважился отойти далеко от берега, то лишь потому, что нависающие скалы Таиокаи пугали его еще больше, чем море.
Вскоре мы убедились, что волны стали круче и пошли чаще, чем накануне. Нас то и дело захлестывало, пришлось даже, чтобы уменьшить осадку, выбросить за борт хлебные плоды. Тиоти оставил только рыбу.
Проходя залив Ханававе, мы на прощание помахали веслами Фаи. Затем каменные ворота закрылись за ним, мы остались одни в океане. Тропическое солнце нырнуло отвесно в море, и нашу часть мира быстро окутал мрак. На мгновение там, где скрылось светило, небо заиграло волшебными красками, потом нас окутала тропическая тьма, и мы словно ослепли. Иногда между огромными тучами проглядывали звезды; было несколько секунд, когда весь остров чернел расплывчатым силуэтом на фоне южных созвездий. Однако большей частью мы гребли, не видя суши. Тиоти правил, руководствуясь ветром и волнами.
А волны становились все выше, гребни — все острее, и все чаще в ночи с шипением сверкали белые барашки. Наша лодчонка то скатывалась вниз, то взмывала вверх, то скользила наискось, а в душе у нас росла тревога. Слишком мала осадка. Если волнение еще усилится, это может кончиться плохо. Мы не различали волн, поэтому нас каждый раз застигали врасплох коварные струи, которые поливали наши ноги. Приходилось поспешно вычерпывать воду. Иной раз долбленку захлестывало так сильно, что кокосовый черпак, которым орудовала Лив, казался наперстком. Тогда вступали в действие более емкий калебае и соломенная шляпа Тиоти. Мы спешили все вычерпать, не дожидаясь, пока новая коварная волна наполнит корпус до краев.
Если поверхность воды внутри и снаружи сравняется, объяснил Тиоти, черпать уже ни к чему. Не потому, что долбленка пойдет ко дну, утешил он нас. Можно грести и дальше, сидя по шею в воде. Если бы не акулы. Когда мы шли на север, акулы не показывались, но теперь в воду, которую мы вычерпывали, попала рыбья кровь, и можно не сомневаться, что хищницы незримо следуют за нами.
У акулы есть особые органы, позволяющие ей улавливать запахи, так сказать, всем телом, и она способна издалека обнаружить каплю крови. Когда со скал срывалась в море раненая коза, треугольные плавники тотчас слетались со всех сторон; то же можно было наблюдать, когда рыбак чистил рыбу, сидя в лодке. Мы знали, что у Маркизских островов водятся самые большие в мире голубые акулы. Некоторые из них были в два-три раза длиннее нашей лодки.
Казалось, ночи не будет конца. В полузатопленном корыте, окруженные невидимыми шипящими волнами и безмолвными людоедами, не видя никаких ориентиров, мы изо всех сил старались удержаться на поверхности моря. Нас бросало вверх-вниз, качало во все стороны — хорошо еще, что совсем не укачало.
Нам было страшно, ведь каждая минута могла стать последней. Мы то откладывали весла, то снова хватались за них. Вычерпывать и грести, грести и вычерпывать… Опять на миг показался на фоне звезд силуэт острова. Но пока ничего похожего на Омоа.
Тиоти чуть изменил курс. Он ничего не говорил. Ему тоже было страшно, да к тому же он не сомневался, что нас все-таки настигла кара демонов. Он нас предупреждал. Теперь мы можем убедиться в его правоте.
Пономарь, который верит в табу! Меня разбирала злость. Это из-за него вчера случилась беда. Не табу, а самовнушение повинно в его ротозействе. А он, вместо того чтобы вспомнить бога Пакеекее и патера Викторина, сидит и думает о демонах, в которых верили старые каннибалы. Того и гляди какую-нибудь промашку совершит. Достаточно одного неосторожного движения, достаточно выронить шляпу, которой он вычерпывает воду. Что бы ему сосредоточить мысли на чем-нибудь позитивном? В кромешном мраке я вспоминал, чему меня учили в детстве. Христианин обязан знать, что вера способна сдвигать горы. Я злился на пономаря, потому что он верил в мстительного демона, а не в благожелательного бога. Точнее, он верил и в того, и в другого. Я ни в каких демонов не верил. Но в эту минуту мне думалось, что не мешало бы, пожалуй, верить в какого-нибудь бога. Может быть, прав мой отец и не права мать. Впрочем, не исключено, что и она верит. Только его бог взят из древней книги, написанной иудеями, а ее — из более свежего труда, созданного англичанином по имени Дарвин.
Мы гребли, мы вычерпывали, и я обзывал себя слепым дурнем. Даже в кромешном мраке среди пустынного моря, а может быть, здесь больше, чем где-либо, мне следовало бы сознавать, что наибольшее могущество воплощено не в человеке и не в том, что он видит в микроскоп, а в вездесущем и неуловимом явлении, которое выдавливает хлебный плод из сухой ветки, побуждает паука заниматься ткачеством, учит каждого рака-отшельника искать пустые раковины. Разве не видел я, месяцами живя на природе, на каждом шагу проявления этих природных сил? Свидетельства вполне реальных вещей, для которых наука еще не придумала названия, проявления силы, которая побуждает природу творить, а затем налаживать хитроумную эволюцию и автоматически регулируемое равновесие.
Мы чувствовали себя совсем маленькими в безбрежной ночи. Но есть же что-то огромное, что руководит всем, сокрытым во мраке от человека. Ночью вселенная кажется куда больше; когда светло, легче «внушить себе, что в мире существует лишь то, что ты видишь своими глазами.
Какая долгая ночь! Меня одолевала усталость, одолевал страх, терзала мысль о том, что силы Лив на исходе. И я обратился с мольбой к благожелательным силам, в которые сам не верил и которые все же никак не мог обойти в своих рассуждениях. Я молил сохранить нам жизнь и помочь благополучно добраться до берега. На душе стало легче, прибавилось энергии. Я бодрее заработал веслом. Заметив это, и Тиоти приналег на свое весло. Мы прибавили ход, нас уже не так сильно захлестывало. Разумеется, источником свежих сил было самовнушение, связанное с тем, что в мозговых извилинах место злокозненных демонов занял доброжелательный бог.
Определенно гребни волн стали менее крутыми. Мы рассмотрели черные скалы, услышали прибой. Показались тусклые огни в лачугах Омоа, а на берегу перед пальмами пылал огромный костер, который развел ожидавший нас Пакеекее.
Мы развернули лодку носом на этот маяк. Снова от райских кущ на суше нас отделял оглушительный рев бушующего прибоя. Все черно, если не считать беспокойные блики на гальке да несколько полуголых фигур, которые метались между пальмами, подбрасывая хворосту в костер.
Мы задержали лодку у той черты, где рождался прибой. Наконец пономарь скомандовал:
— Пошли!
Могучая волна подхватила нас и понесла вперед со скоростью курьерского поезда. Впереди и сзади пенились острые гребни. Вода кипела, бурлила, вздымаясь все выше, выше, и, когда огромная водяная стена обрушилась на черную гальку, сильные руки поймали долбленку и оттащили к костру.
Мы благополучно вернулись в свою долину.
— Табу, — коротко произнес мокрый насквозь пономарь, встряхивая свою соломенную шляпу.
— Нет, — возразил я. — Сегодня третий день, а мы живы-здоровы.
— Потому что с вами был бог, — объявил Пакеекее.
— Он был с нами потому, — добавил Тиоти, — что я пономарь и протестант.
Бегство через океан
И явился дождь. Не внезапный ливень, готовый смыть нашу хижину вместе с хранящимися под койкой черепами. Нет, дождь подкрался, как вор, похитил солнце, и воцарилась тоскливая сырость. Ни капли не просачивалось сквозь лиственную крышу, и все-таки всюду проникала, все пропитывала влага. Матрац из упругих банановых листьев перестал пружинить, пледы отяжелели, запах плесени заглушил благоухание цветов и трав. Мы не слышали грохота обвалов или оползней, но день и ночь в ушах отдавались звуки, порожденные водой: вода капала, журчала, струилась, плескалась, брызгала, текла повсюду. Грязь… Наша хижина уподобилась судну в грязевом море.
Душа не лежала выходить на поиски пищи, разве что в короткие промежутки, когда проглядывало солнце. Оно казалось жарче прежнего, словно прибавило пылу, чтобы просушить дебри. Но слишком скоро светило опять скрывалось за пеленой туч, которые сбрасывали на лес свой влажный груз. Одно маленькое утешение: в такую погоду никакой враг, даже в темноте, не мог подкрасться к хижине, не оставив на грязи четких следов.
В начале дождевого периода мы продолжали кочевой образ жизни, Странствовали по горам, по дебрям, ходили на лодке вдоль подветренного западного берега. Однажды, когда вроде бы распогодилось, мы снова навестили богатую археологическими памятниками великолепную долину Ханававе. Среди зарослей на одной скале нам попалась культовая терраса, выложенная из тщательно обтесанного красного камня. Тараща на нас большие круглые глаза, здесь стояли покосившиеся, источенные зубом времени деревянные фигуры. Высоко на склонах виднелись замурованные пещеры, но туда взобраться нам не удалось.
Однажды вечером, когда мы вернулись в долину Омоа из очередной вылазки, нас встретил в деревне Пакеекее. Он и Тиоти явно ждали нас, их вахины приготовили чудесное угощение — зажарили дикую свинью в земляной печи. А после ужина мы были приглашены на необычный лов рыбы.
Наступила ночь, очень темная, несмотря на ясное небо, так как луна не показывалась. Море дышало ровно, будто спящая красавица. Мы прошли на берег и спустили на воду две лодчонки. Пакеекее и Лив сели в одну, мы с Тиоти — в другую вместе с приемным сыном Пакеекее, юным озорником Пахо. На носу каждой лодки было привязано лубяными веревками по снопу сухой теиты, местного травянистого растения, напоминающего бамбук и достигающего трех метров в высоту. Эти снопы должны были служить факелами.
Выйдя в море, мы зажгли факелы. Они с треском вспыхнули, озаряя воду кругом и рассыпая искры в ночном воздухе. Над пляжем пальмы помахивали своими веерами; над головой у нас мерцали бесчисленные звезды. Черная вода закипела рыбешками, но мы пересекли этот косяк, продолжая идти вдоль скал к рифам Тахоа. Вторая лодка следовала вплотную за нами в праздничном освещении. Где-то вверху хрипло кричали крупные морские птицы, гнездящиеся на скальных полках.
Внезапно воздух над лодками стали пронизывать летучие рыбы. Они взлетали из черной воды блестящими снарядами, проносились через освещенное пространство и падали в море с другой стороны. Их-то нам и предстояло ловить, но не на крючок и не острогой. Летучих рыб здесь ловили в воздухе, как птиц.
Творилось нечто неожиданное и удивительное. Трескучие факелы чудесным образом приманили полчища рыб, и веретенообразные жители моря парили в воздухе, летя на свет. Впервые в жизни увидели мы таких больших и тяжелых летучих рыб. Они были с локоть длиной. То одна, то другая, рассекая воздух, словно пущенная из лука стрела, громко ударялась о борта лодки,
— Берегите глаза, — предупредил пономарь.
Сверкающие стрелы не разбирали пути, некоторые из них проносились у нас перед самым лицом.
Выпрямившись в рост в утлой лодчонке, пономарь размахивал сачком на бамбуковом шесте. Поймал рыбу на лету и быстро бросил нам под ноги. Я схватил трепещущий снаряд. Из лодки рыба взлететь не могла, она была беспомощна, как планер на земле. Чтобы взмыть над поверхностью воды и пролететь на широких
грудных плавниках сто или больше метров, ей необходимо как следует разогнаться, энергично работая хвостом. Я едва удерживал пленницу двумя руками — сплошной комок мышцев! Спина черная, как ночное небо, брюшко белое, бока расписаны серебристо-голубыми полосами. Форма идеально приспособлена для высокой скорости. В те годы люди еще делали прямоугольные автомобили и только-только учились придавать обтекаемую форму своим неуклюжим самолетам. Рыба таращила на меня торчащие темные глазища, которые обеспечивали ей круговой обзор, когда она расправляла свои несущие плоскости — тонкие, как целлофан, пятнистые крылья на расходящихся веером распорках.
Еще одна пленница очутилась в сачке… Вдруг я увидел рыбу, летевшую прямо на меня. Я не успел отклониться, и она ударила меня в живот так сильно, что я свалился с банки, к немалому удовольствию Пахо. Живая стрела попала в яблочко, но упала на дно лодки вместе со мной, и наш улов увеличился на одну рыбу. Из другой лодки тоже доносился визг и смех; видно, и туда залетали подводные ракеты.
Воздух наполнился летучими рыбами, и я невольно вспомнил норвежскую зиму, когда мы, мальчишки, обстреливали друг друга снежками. Одна рыба поразила любимый головной убор пономаря, и шляпа очутилась за бортом. Другая рыба ударила Пахо по шее. Мы ловили рыб на лету и в море и хохотали до упаду, мокрые от соленой воды. Нас то и дело задевали живые снаряды. Мы с Пахо еле поспевали увертываться, а Тиоти отбивался сачком.
Когда от факелов остались одни хвостики, Тиоти надел их на палку, чтобы горели до конца. Но вот последние искры, шипя, упали в море, и только звезды мерцают над нами. Тотчас потешные рыбы перестали летать. Лишь морские птицы кричали на невидимых в темноте скальных выступах над нами.
В нашей лодке я насчитал тридцать пять больших рыб, причем многие залетели к нам сами. Вполне достаточно не только для нас, но и для Вео и других семей. Однако пономарь не унимался. Вернувшись в залив, мы забросили удочку, наживив крючок кусками летучей рыбы. Тиоти объяснил, что здесь сейчас должна ловиться као-као. И правда, мы в два счета поймали четыре здоровенных рыбины с вытянутой в клюв головой. Потом надолго наступил перерыв. Меня клонило в сон.
Пономарь постучал веслом о борт. Не помогло. Клев кончился. Подождали еще немного. Он опять постучал о борт, так что грохот отдался в ночи. ,
— Зачем ты это? — спросил я.
— Рыба уснула, — ответил пономарь.
Прошла неделя, вторая, третья. Все чаще лил дождь, и все больше грязи прибавлялось в дебрях. Мало-помалу пришлось нам отказаться от кочевой жизни. Ноги покрылись нарывами и язвочками, которые вынудили нас ограничить вылазки районом, прилегающим к хижине. Нарывы появились еще раньше, но мы все терпели, пока они не взялись за нас всерьез. У Лив три больших фурункула образовались на голенях; у меня обросли язвами щиколотки и ступни. Фурункулы возникли без всякой видимой причины, а мои язвы начались с почти незаметной сыпи, которая появилась в тот самый вечер, когда мы вернулись в Омоа из путешествия в заколдованные места. От морской воды ноги вздувались, как воздушный шар; к тому же из-за непрестанных дождей мы ходили в лесу по колено в грязи.
Наступила пора, когда мы только под влиянием голода совершали короткие вылазки; большая часть времени уходила на то, чтобы держать ноги в чистоте и промывать болячки кипяченой водой. Лекарств у нас не было. Вспомнился совет учителя Ларсена на Таити — захватить с собой мазь против тропических язв. Мы не послушались его. Отвергли все современные изобретения. Желая узнать подлинную цену цивилизации, отказались от всех ее благ и от всего того, что считали ее пороками.
В один прекрасный день пономарь, встревоженный нашим отсутствием, пришел проведать нас. Мы с радостью приняли от него в дар свежую рыбу. Посмотрев на наши ноги, Тиоти объяснил, что это фе-фе — болезнь, которую можно излечить за неделю соответствующими травами. Тут же он сходил в лес и вернулся с полной шляпой желтых цветков гибискуса. Мы сварили из них кашицу, которую надо было класть горячей на обнаженные болячки.
Тиоти был очень доволен, что смог нам помочь, как мы в свое время помогли ему одолеть зубную боль. Уходя, он напомнил, чтобы мы неделю продол— жали лечение горячими припарками из борао.
Мы послушались его, и фурункулы Лив прошли, но язвочки остались. Целыми днями отсиживались мы дома, обернув ноги зелеными банановыми листьями и слушая шум дождя. Наш стол становился все более однообразным. Орехи. Хлебные плоды с кокосовой подливой. Лимонный сок. А дождь не прекращался. Кругом стояли сплошные лужи. Теплый воздух был насыщен влагой. И язвы не заживали, напротив, они упорно разрастались. Появилась боль в паху, мы все чаще вынуждены были отлеживаться. На сырой постели. Повернешься на бок — пахнет плесенью от бамбуковых стен, ляжешь на живот — пахнет плесенью от матраца.
Всевозможные насекомые искали в бамбуковой хижине спасения от воды и грязи. Через плетенку на полу проникали полчища крохотных желтых муравьев, и встречные шеренги мурашей тянулись по стенам, словно оживший электрический шнур. Опасаясь за наши скудные припасы, мы подвесили кокосовые миски с содержимым на протянутых через все помещение лубяных веревках. Однако бесстрашные лазутчики живо раскусили нашу уловку, и на другое утро миски были желтыми от муравьев, а веревки напоминали ржавую проволоку. Крохотные разбойники ползали по ним буквально в несколько слоев.
В постели тоже поселились муравьи. Решив немного просушить матрац из банановых листьев, мы потревожили покой трех муравьиных семейств, которые заметались, спасая свои яйца.
Попробовали окопать столбы, на которых стояла хижина, и наполнить ямы водой, но насекомые залетали в окно и падали на крышу с деревьев. Многочисленные лужи чрезвычайно способствовали размножению комаров. Комары и раньше нам докучали, теперь же целые рои преследовали нас.на каждом шагу. На теле не осталось живого места, и повторные укусы сводили нас с ума. Окровавленными руками мы сметали сотни комаров на пол, где их тотчас подхватывали муравьи.
Однажды ночью, после того, как Лив несколько часов вертелась с боку на бок, доведенная до отчаяния кровожадными крылатыми демонами, мы сдались. Все равно их не одолеешь. Нельзя больше так жить, выступая в роли невольных доноров для этих ненасытных полчищ.
Кожа горела, словно нас облили кислотой. И мы заковыляли вниз, в деревню, к Вилли. Купили у него кусок кисеи против комаров, а также по паре белых тапочек, чтобы уберечь от грязи изъеденные язвами ступни. Тапочки, предназначенные для погребального облачения, были нам так велики, что пришлось привязывать их к ногам лубом.
Из кисеи мы сделали нечто вроде палатки над нарами, а остатком затянули окна. Успех был полный, и мы проспали почти целые сутки.
Проснувшись, Лив отодвинула кисею и сунула ноги в свои новые тапочки, чтобы пойти к роднику. И только вышла на крыльцо, как оттуда донесся вопль ужаса.
Я выскочил за дверь, приготовившись к самому худшему. Лив скакала на одной ноге, а из второй тапки этакой восьминогой мышью вынырнул большущий черный паучище и скрылся в папоротнике. Он успел укусить ее за палец. Я знал, какими страшными последствиями чреват укус тарантула и других огромных пауков, но местные виды были мне незнакомы. Мы выдавили кровь из ранок, натерли их лимоном. К счастью, волосатое чудовище, укрывшееся в тапке Лив, оказалось не таким уж опасным, несмотря на устрашающий вид.
Тем временем в хижине началось новое бедствие, от которого нас не могли защитить ни кисея, ни тапочки. Из крохотных круглых дырочек в плетеных стенах сочилась белая мука. Она липла к плетенке влажными лепешками, падала на пол, висела в воздухе. Она проникала всюду. Обсыпала нас снегом, когда мы спали. Мы вдыхали ее с воздухом, глотали с пищей. Иоане и его помощники наперед знали, что так получится. Они построили нашу хижину из зеленого, незрелого бамбука, прекрасно понимая, что его будет точить жучок. Для своих домов они заготавливали твердый желтый бамбук да еще нередко вымачивали его в морской воде. А нам соорудили постройку, способную простоять лишь несколько месяцев, рассчитывая заработать на новом строительстве.
Белый порошок сыпался на нас из тысяч отверстий в стенах, просачивался сквозь кисею над нарами, и вечно во рту держался бамбуковый привкус. Лив не поспевала стирать пыль. Иногда из дырочек высовывалось крохотное брюшко или голова с усиками — единственное, что мы видели от полчищ производителей пыли.
Только один самовольный жилец пришелся нам по нраву — Гарибальдус. Так мы назвали крупную ящерицу, точнее, геккона, поселившегося этажом выше, то есть на потолке. Гарибальдус был величиной с новорожденного котенка и платил за постой, помогая нам расправляться с муравьями и прочими насекомыми. Он отваживался даже атаковать больших ядовитых тысяченожек, когда они забирались в дом. Правда, акробатические номера Гарибальдуса не обходились без звукового сопровождения. Бегая по источенным жуками бамбуковым стенам, он довольно громко топал и притом стряхивал на нас облака белой пыли. А когда мы ложились спать, Гарибальдус, сидя на потолке, квакал, пищал и мурлыкал. Да и днем он вел себя отнюдь не пристойно, причем его визитные карточки почему-то всегда падали на меня. На первый взгляд случайно, но на самом деле он явно знал, в кого метить. Потому что, если мы с Лив менялись местами, на нее ничего не падало. Только я служил мишенью. Когда же я ударял кулаком по столу и грозил затолкать Гарибальдуса в банку с эфиром, он заливался смехом и мигом исчезал в кровле.
И еще одно животное скрашивало нам одиночество — Пото. На Фату-Хиве этим словом называют кошек, и Пото в самом деле была кошкой, красивой, молодой дикой кошкой, по-звериному гибкой, с полосатой, как у тигра, шубкой и пушистым хвостом. Она не решалась входить в хижину, но прокрадывалась на каменную террасу, охотясь за мышами и ящерицами. Пото стала нашей постоянной гостьей после того, как Лив однажды поставила для нее мисочку с выжатой из тертого кокосового ореха густой подливой. В первый раз Пото сама угостилась подливой, которая была приготовлена нами как приправа к хлебным плодам. Мы увидели кошку из окна, когда она вскочила на стол под кухонным навесом и окунула мордочку в миску. С первого взгляда было видно, что кошечка в жизни не ела такой вкуснятины. Вылизав миску, Пото удовлетворенно вытерла лапкой морду и стала игриво кататься на каменной плите. Потом, должно быть, услышала какой-то звук из дома, потому что одним прыжком скрылась в зарослях. Но на другой день из-за каменной кладки снова выглянула любопытная мордочка. Миска на кухонном столе выглядела очень уж заманчиво… Она и на этот раз была полна подливы, и кошка стала нашей постоянной гостьей.
Нам удалось почти совсем приручить Пото. На первых порах ее озадачивало зрелище высоких двуногих лесных жителей, однако со временем она привыкла и подходила к Лив за кокосовым молоком. Но тут наши полудикие куры вздумали ревновать.
Из всех кур, подаренных нам первоначально, только две не одичали совершенно. Они постоянно приходили к дому за кормом — крошками кокосового ореха. Принадлежность к женскому полу не мешала им вести себя весьма воинственно: выпятив грудь и взъерошив перья, они важно расхаживали по террасе, по малейшему поводу затевая драку. Когда Пото покусилась на их корм, ее атаковали так яростно, что кошку будто ветром смахнуло с террасы/ и куры еще долго ее преследовали, хлопая крыльями.
Надеясь умиротворить этих драчливых особ, мы попросили Тиоти принести им жениха. Но едва ослепительно элегантного храброго рыцаря с красным гребнем выпустили на террасу, как на пернатых вахин словно бес напал. Заключив перемирие между собой, они свирепо набросились на бедного петушка, и он с отчаянным криком бежал в дебри. Позже мы нашли несколько ярких перьев под дуплистым деревом. Видно, петух прятался, пока не попал в лапы какому-то хищнику. А мужеподобные куры ходили с еще более гордым видом, чем прежде, и чувствовали себя хозяевами на нашей террасе, даже нам не хотели уступать дорогу. Они явно стыдились нести яйца около дома, делали это тайно где-нибудь в чаще, а насиживать и вовсе не помышляли.
Стоило удалиться курам, как Пото возвращалась за кокосовой подливой. Если куры пролетали над нашей крышей с таким шумом, словно по склону катилась лавина, то Пото двигалась бесшумно, как облачко. Однажды она представила нам своего кавалера, которому мы дали имя Пантера. Кавалер был примерно одного возраста с Пото, но с рыжеватой шубкой и более робкий. Пото завела Пантеру на расчищенную террасу и направилась на кухню, движением головы призывая его следовать за ней. Но Пантера жался к кустам и не решался приблизиться. Что ж, стой и смотри, как подруга уписывает кокосовые сливки, когда кур нет дома…
Только животные и навещали нас в это время. Деревья перед окном кишели птицами, а в один прекрасный день с гор спустилась длиннохвостая кобыла с жеребенком. Некоторое время они гостили на нашем участке, однако вели себя робко, точно газели. Но больше всего поразило нас появление здоровенных крабов. Это на нашей-то прогалине, в нескольких километрах от моря! Заползи в хижину омар или появись в воздухе над крышей летучая рыба, мы и то удивились бы меньше. Это не были хорошо известные на южных атоллах пальмовые воры. Вообще какой-то совсем незнакомый нам вид, и мы поймали несколько экземпляров для университетского музея в Осло. После этого случая мы больше прежнего воспринимали свою хижину как этакий Ноев ковчег среди потоков грязи и воды.
И все-таки комары оказались нашим злейшим врагом. Без рубашек и шортов лучше было не выходить за дверь, а ноги с припарками мы защищали мешками, в которых до тех пор хранились под койкой черепа. Стоило открыть дверь, и полчища маленьких писклявых чертенят устремлялись к нам, словно железные опилки к магниту. И не отбиться от них, одно спасение — снова укрыться в доме. Тогда комары облепляли кисею на окне, надеясь проникнуть внутрь. Сдуру просовывали хоботки в ячею, а длинные ноги расставляли — разве так пролезешь! Случалось иногда, что порыв ветра все-таки помогал им проскочить внутрь. Пока мы бодрствовали, с несколькими десятками таких незваных гостей еще можно было справиться. Когда же ложились спать, на всякий случай опять воздвигали оборонительный бастион в виде кисеи над нарами: на что противны дневные комары, а ночные — куда хуже. Они представляли другой вид.
Именно ночные комары переносили то, чего мы боялись пуще всего, — слоновую болезнь. Возбудитель болезни — не видимый простым глазом микроорганизм филария. Этот крохотный паразит вносится на личиночной стадии в кровь человека самкой ночного комара. До прихода белого человека на Маркизских островах вообще не знали комаров.
Как мы ни защищались, все же агрессивные ночные комары ухитрялись забираться под полог, и порой мы просыпались, искусанные с головы до ног. Мы знали, что зуд при укусе вызывается желудочным соком комара, который он впрыскивает, чтобы разбавить кровь, — так сказать, первая стадия переваривания. Когда комар ночью вонзал в нас свой хоботок, убивать его было поздно, и мы оставляли маленького хищника в покое, надеясь, что с каплей крови он всосет обратно заразные личинки. Первый признак заражения слоновой болезнью — высокая температура. Капитан Брандер рассказывал, что болезнь не разовьется, если переберешься в более прохладные края до того, как начнут отекать конечности. А уж когда распухнет нога, или рука, или мошонка, останется только прибегнуть к помощи хирурга. Да и то, уверял он, развитие отеков не прекратится.
В те дни, когда мы отлеживались под пологом, страдая от ноющей боли в зараженных фе-фе ногах, казалось, что комары заполняют все наше существование. Ослепленные ненавистью и жаждой мести, мы ударялись в жестокость. Дадим кровожадным извергам насосаться, а когда отяжелевшие красные мячики приготовятся улетать, начинаются их затруднения. С набитым брюхом невозможно проникнуть обратно через ячею. И пищит комар, и пляшет, цепляется за кисею, поворачивая к нам корму. А мы острым шипом прокалываем раздутое красное брюшко. В своем садизме мы заходили еще дальше. Увидим рой, который кружит над кисеей в поисках прохода, и поднесем к ней палец в виде приманки. Тотчас жужжащий хор пикирует на кисею, пытаясь дотянуться до пальца хоботком. Сначала мы любуемся тщетными усилиями маленьких ненасытных демонов. Потом ухватим когонибудь двумя пальцами за хоботок и — сопротивляйся не сопротивляйся — втаскиваем внутрь, безжалостно казним и скармливаем муравьям, меж тем как остальные толпятся снаружи и буквально дерутся, крылатая бестолочь, ожидая своей очереди.
Лежишь этак дома день, лежишь два, а там все же надо идти на поиски пищи. И мы ковыляли в лес на покрытых язвами, опухших ногах. Но почему так мало фруктов? Правда, пора хлебных плодов была на исходе. Однако и бананы, и феи тоже пропали… Мы перебивались кокосовыми орехами и таро. И никак не могли насытиться.
Однажды пришел Тиоти, принес добрый кусок рыбы-меч. Мы испекли рыбу в банановых листьях и с упоением набросились на нее. И лишний раз убедились, что подлинный голод позволяет испытать великое удовольствие, недоступное цивилизованному человеку, который называет себя голодным, как только у него появляется аппетит.
А еще через несколько дней мы выяснили, куда исчезают все плоды. Рано утром, до восхода, мы заметили нашего бывшего друга Иоане: с группой женщин и молодых парней он крался через заросли по соседству с хижиной, неся мешки и корзины, набитые плодами с арендованного нами участка. Но ведь они вполне могли собирать урожай в другом месте! А попробуй мы пойти на чужой участок, на нас тотчас пожалуются вождю. Тиоти только что рассказал, что Пакеекее обвинили в краже феи, которых он в глаза не видел. Пакеекее — человека, неспособного ни красть, ни лгать!
Словом, речь явно шла о продуманном тактическом маневре. Посмотрев вверх, я увидел, что даже на нашей террасе обобрано несколько кокосовых пальм. Беда… Взбешенный, я заковылял вниз по тропе и догнал отряд у реки, где они как раз грузили свою добычу на лошадей. Основательно потрудились…
— Иоане, — сказал, — это же мои плоды.
— Аоэ. Нет, — нахально соврал он. — Мы собрали их на соседнем участке.
Я злой, и он злой. И ничего не сделаешь. На его стороне вождь и вся деревня. Отряд ушел со своей добычей.
А еще несколько дней спустя мы увидели, проснувшись, как Иоане спускается с кокосовой пальмы на нашей террасе. Одним прыжком я выскочил из хижины. Лицо островитянина исказилось от ярости.
— Это наша терраса, — сказал я.
— А пальма моя! — прошипел он.
— Ты сдал мне участок вместе с фруктовыми деревьями!
— Орехи — не фрукты.
— Все плодовые деревья наши, пальмы тоже. Без орехов нам не прожить. Кстати, фруктов на участке тоже не оставили.
Я был вне себя от негодования.
— Кокосовые орехи для Иоане не пища, а деньги, — крикнул он в ответ.
Еще немного, и я набросился бы на него, но Иоане повернулся и ушел, бормоча, что я могу забрать себе все проклятые орехи, которые остались.
Мы были бессильны что-либо предпринять. Одни среди островитян. Появится какая-нибудь шхуна — можем послать с ней жалобу французским властям на Таити. Минет не один месяц, прежде чем жалоба дойдет до адресата. И поскольку мы живем вдали от собственного мира, понадобится год, чтобы разрешить вопрос. Еще неизвестно, как он разрешится: мы будем твердить свое, фатухивцы все, как один, — свое. А за белыми укрепилась дурная слава людей, обманывающих местных жителей. Может быть, наш случай вообще первый, когда дело обстоит наоборот. Но кто нам поверит?
И никакого выхода. Мы ели кокосовые орехи, пытались ловить раков. Но раки с паводком словно исчезли, остались одни комары. Их в лесу развелось столько, что фатухивцы перестали заходить в долину, даже заготовку копры прекратили. Оставалось только мечтать о том, чтобы появилось какое-нибудь судно и увезло нас с острова. Куда угодно, лишь бы нам с каждым вдохом не глотать бамбуковую пыль и комаров и наполнить пустые желудки пищей, о которой уже забыли.
Голод вынудил нас навестить Пакеекее. От него мы услышали, что вся деревня ждет не дождется, когда зайдет судно. Одна женщина наступила на рыбью кость, и у нее развилась язва во всю ступню. Мы знали, чем это ей грозит, и наши опасения оправдались: позже бедняжку отвезли на Таити, и там пришлось ампутировать ногу, чтобы инфекция не распространилась дальше.
Стали ждать и мы. День ждем, вечером спать ложимся, утром снова начинаем ждать. И однажды, поздно вечером, сидя на табуретках у своего бамбукового стола, мы услышали в темноте низкий хриплый звук. С моря до нас через дебри донесся пароходный гудок. В ту ночь мы почти не сомкнули глаз. Задолго до рассвета вытащили из-под койки чемодан с европейской одеждой, которую сохранили на случай, если решим покинуть остров, и облачились в нее.
Меня чуть удар не хватил, когда я после долгого перерыва заглянул в зеркало, чтобы повязать нелепый галстук. Он совершенно исчез под пышной каштановой бородой. Бритвенный прибор давным-давно перешел к Иоане в уплату за его труды. Зеркало явило мне загорелого викинга с волнистыми волосами до белого воротничка. Лив выглядела куда более эффектно, когда надела элегантное платье и расчесала длинные волосы. Вот только очень уж потешно видеть свои загорелые рожи в сочетании с этими нелепыми европейскими одеяниями. Мы хохотали до упаду. Настроение было отменное.
Обвязав ноги мешковиной для защиты от солнца, мы весело заковыляли вниз по долине. Завидев первый дом, сняли мешковину и важно прошествовали через деревню к морю. Явление белых щеголей произвело глубокое впечатление на зрителей. Мы снова ощутили себя хозяевами положения.
На берегу нашему взгляду предстал расписанный привычным узором из белых барашков синий-пресиний океан и синее-пресинее небо. Залив пуст, никаких намеков на пароход. Хоть бы маленькая шхуна…
— Вчера мы только огни увидели, — сочувственно сообщил Пакеекее. — Пароход прошел далеко в море.
Он тоже заметно пал духом. Нелегко приходилось этому фатухивцу, чья вера была столь же нерушимой, как вера патера Викторина, с той лишь разницей, что соплеменники не разделяли взглядов протестанта. Они всячески изводили его. Недавно передвинули камни, которыми был отмечен участок Пакеекее в долине, а вождь оштрафовал его же. Я рассказал ему про Иоане, как тот крадет плоды на арендованном нами клочке да еще врет, будто собирает их на соседнем участке.
— Еще того не лучше, — сухо заметил Пакеекее. — Ведь соседний участок — мой.
Когда мы уже собрались уходить, прибежал Тиоти и шепотом сообщил, что Хаии — тот самый, с распухшими ногами, — направился вверх по долине и захватил свою коллекцию скорпионов. Мы поспешили домой. На краю деревни, где мы оставили мешковину, которой защищали ноги, нам попался Хаии. Он сидел возле дома Вео, у огромного, пустого деревянного блюда из-под пои-пои. При виде нас Хаии встал; всю его одежду составляли обернутые вокруг бедер лохмотья. Я решил его сфотографировать — он расплылся в улыбке и поднял руки: в одной — топор, в другой — мачете. Дескать, заходите перекусить, если посмеете!.. Мы немедленно продолжили путь.
Вокруг нашей хижины не оказалось следов, которые могли быть оставлены широченной ступней Хаии. И даже если бы кто-то пустил к нам скорпионов, они были бы съедены или изгнаны Гарибальдусом. Он, как обычно, находился на своем посту и приветствовал нас кошачьим мурлыканьем.
Жизнь в деревне сильно осложнилась. Успев привыкнуть к рису и муке, фатухивцы чувствовали себя скверно без этих привозных товаров. Полагаясь на продукты, которыми их обеспечивал Вилли в обмен на кокосовые орехи, они перестали запасать пои-пои в вырытых еще предками огромных ямах, а до нового урожая хлебных плодов было далеко. Фатухивцы жаловались, что они плохо переваривают свинину и рыбу без кислой приправы. И когда лавчонка Вилли опустела, для них это явилось бедствием. Ни риса, ни сахара, ни муки… Очень уж мало завезла «Тереора» в последний раз. В Ханававе тоже все запасы кончились. Китаец запер дверь своей лачуги и отправился в горы охотиться на коз. Вилли недавно побывал в Ханававе и вернулся с пустыми руками.
Все ждали шхуны. А шхуна не шла.
День проходил за днем. Неделя за неделей. Месяц. Два месяца. Три.
Все понятно… Прошло полгода, как мы не получали вестей из внешнего мира, а полгода назад в Испании шла жестокая гражданская война. В Китае тоже воевали. Война. Недаром у меня сложилось убеждение, что мировая война ничему не научила людей. Все больше времени и денег уходило на оружие, на изобретение новых, изощренных способов убивать собратьев. Сказочный прогресс современного мира нисколько не изменил человека, как такового. Всякому видно, что мы преобразили окружающий нас мир, но никто не докажет, что мозг наш при этом хоть на грамм увеличился по сравнению с мозгом древних. Мы погрешим против теории эволюции, если станем утверждать, будто мозг человека, сидящего за пишущей машинкой, развит лучше, чем мозг человека, который шел за примитивным плугом. И столь же нелепо внушать себе, будто человек с пулеметом этически превосходит воина с пращой или копьем. Я не сомневался: второй мировой войны не миновать, потому что человек не извлек урока из первой. Миротворцы по-прежнему держались за порох. Так что скорее всего мир сейчас объят пламенем войны. Терииероо рассказывал, что вести о первой мировой войне дошли до Маркизских островов лишь через несколько лет. Тогда немецкий военный корабль расстрелял из пушек деревянные дома Папеэте, а на Фату-Хиве никто об этом не знал. Видно, шхуна потому не идет, что уже разразилась новая мировая война.
Минул и третий месяц, а никакие суда не показывались, сколько ни всматривались в горизонт дежурные. Положение в деревне стало совсем невыносимым, особенно для патера Викторина. Он рвался прочь с острова любой ценой.
От Фату-Хивы до ближайшего соседнего острова — около ста километров. Даже на самой длинной из имевшихся у фатухивцев долбленок было рискованно отправляться в такое плавание.
Правда, была еще старая бракованная шлюпка, которую Вилли когда-то получил в уплату за погрузку копры на шхуну. Потрескавшаяся, побитая, она лежала на берегу под навесом из пальмовых листьев. Вилли списал ее как непригодную и давно уже собирался обзавестись другой. И вот теперь по указанию патера Викторина несколько островитян вытащили ее из-под навеса и залатали прогнивший корпус. После этого утлое суденышко спустили на воду и оставили намокать. Наконец срубили два-три тонких деревца и оснастили шлюпку непомерно тяжелым, на наш взгляд, рангоутом.
С берега Фату-Хивы не видны другие острова. Правда, в ясные дни с возвышенностей можно вдали в двух местах рассмотреть мглистые голубые очертания гор. Это вершины островов Тахуата и Хива-Оа. Но в облачную погоду их не увидишь даже с самых высоких точек Фату-Хивы.
Царило худшее время года, хмурый океан бурлил так, словно схватились между собой полчища акул, длинные ряды барашков напоминали оскаленные зубы. Однако сильный ветер, дувший с востока, несколько сместился к юго-востоку; это благоприятствовало плаванию на север, к Тахуате или Хива-Оа.
Однажды утром, хотя погода по-прежнему оставалась неблагоприятной, патер Викторин решился. С командой сильных гребцов его отвезли на шлюпку, и вскоре мы увидели, как утлое суденышко выходит в безбрежный океан. Маленькая фигурка француза неподвижно чернела среди смуглых силачей. Мы восхищались его отвагой. Океанские валы немилосердно бросали лодку, когда команда принялась поднимать грот. Вместе с парусом шлюпка скрылась в ложбине, и мы затаили дыхание, боясь, что мореплаватели больше не покажутся. Но тут же шлюпка поднялась на следующем гребне. Снова и снова, вниз и вверх, пока парус не превратился в точку и не пропал вдали. Мы с ужасом думали о том, что добром это не кончится.
Потянулись волнующие дни. Страдающий слоновой болезнью патер Викторин собирался высадиться на Хива-Оа, главном острове южной части Маркизского архипелага. Фатухивские гребцы должны были вернуться на Омоа с мукой, рисом, сахаром. Все напряженно ждали их, и на целую неделю прочие заботы отошли на задний план. Жители деревни вновь стали с нами здороваться, Пакеекее и Тиоти по-дружески беседовали со своими соплеменниками, которые сидели на гальке, всматриваясь в горизонт. Наконец дежурный на мысу знаком дал понять, что видит шлюпку.
Рокочущий прибой выбросил на берег открытую скорлупку с изможденными гребцами. Всю обратную дорогу они гребли. Мачта сломалась и упала за борт. В днище выбило одну доску, и пришлось изо всех сил вычерпывать воду, пока не заделали пробоину. Они благополучно доставили патера на Хива-Оа, но продукты оттуда довезти не удалось, уцелел только небольшой мешок намокшей пшеничной муки. Мокрые с ног до головы, гребцы побрели к своим лачугам и на сутки завалились спать.
Обстановка еще больше осложнилась. Шхуна не показывалась. От радиста на Хива-Оа стало известно, что никакой войны нет, просто идут махинации на рынке копры.
Все остатки пои-пои были съедены, и даже Тиоти жаловался, что желудок не переваривает рыбу и мясо без риса и муки, хотя его предки прекрасно обходились без того и другого. Они не знали никаких злаков, зато привыкли со всеми блюдами есть пои-пои.
Поскольку фатухивцы стали относиться к нам приветливее, мы спускались на берег за продуктами моря. Инфекция в деревне теперь пугала нас меньше, чем инфекция в лесу. Берег постоянно продувало ветром, который хоть разгонял комаров. Правда, вода в море, несомненно, кишела вынесенными рекой невидимыми микробами. Малейшая царапина на ступнях вызывала болезненные язвы фе-фе. У островитян сопротивляемость была больше, чем у нас, и зрелище наших ног ужасало их. Только женщине с язвой во всю ступню досталось еще хуже.
По совету Вилли мы с Лив стали сдирать свежую кожу на ранках. Дело в том, что язвы зарастали не с краев, а с середины, причем кольцо обнаженного мяса вокруг островка свежей кожи ширилось вместе с ростом этого островка. В итоге мы рисковали остаться совсем без кожи на ногах, вроде несчастной женщины, которая ждала врачебной помощи.
Вернувшись ни с чем после визита к китайцу в Ханававе, Вилли с большим энтузиазмом возобновил наши беседы о Поле Гогене, единственном друге покойного старшего Греле. Хотя Гоген жил и умер в далекой бухте на Хива-Оа, том самом острове, куда теперь перебрался патер Викторин, друзья старались встречаться при каждой возможности, и Поль Гоген не раз гостил в домике, доставшемся Вилли в наследство от отца.
Верно ли, что Поль Гоген так знаменит в Европе и Америке? Я рассказал Вилли, что все, составляющее наследие Гогена, очень высоко ценится. Не только картины, но и письма — словом, все. На Таити мы услышали, что один американский турист купил старое окно, через которое Гоген будто бы вылез однажды после доброй попойки.
Вилли хотел знать подробности. Сколько именно платят за вещи Гогена? Огромные деньги, ответил я. Не подозревая, что у Вилли на уме, я объяснил ему, что за каждую вещь, действительно принадлежавшую Гогену, можно получить состояние. Рассказал, что мне довелось встретить двух сыновей художника — таитянского и европейского. Таитянский сын — своего рода туристская достопримечательность. Пола Гоген, которого Полю Гогену родила его жена, датчанка Метте, стал известным искусствоведом в Норвегии. Услышав, что я собираюсь на Маркизские острова, он разыскал меня и попросил поискать что-нибудь из вещей отца. А также проверить слух, будто отец был отравлен островитянами.
Вилли мог лишь подтвердить то, что я слышал от одного очевидца на Хива-Оа: Поль Гоген умер за обеденным столом, упал замертво со стула. Он не был отравлен, его погубила тяжелая болезнь.
На другой день после нашего разговора Вилли исчез. И появился снова через два дня. Оказалось, он опять ходил на лодке в Ханававе, навещал китайца. Но хотя у того в лавке по-прежнему было пусто, Вилли вернулся не с пустыми руками. Он привез старое ржавое ружье системы «винчестер». Я ничего не смыслил в оружии, и мне было невдомек, почему Вилли так доволен, пока он не показал мне приклад. Левую сторону приклада украшала резьба: тучный мужчина сидел на запряженной быками тележке, держа бокал в поднятой руке. Волнистые линии сверху и по бокам изображали облака. Божество на небесной колеснице? Поди угадай. Только Поль Гоген мог бы ответить на этот вопрос. Потому что ружье некогда принадлежало ему, а полустершийся рельеф был одним из редких образцов его резьбы по дереву.
Поль Гоген подарил свое любимое ружье отцу Вилли, а когда тот умер, «винчестер» купил один островитянин, который в свою очередь продал его китайцу в Ханававе. С этим ржавым ружьем китаец и ходил на охоту. Вплоть до прошлой недели. После беседы со мной Вилли отправился в Ханававе и приобрел старый «винчестер» за бесценок. Он задумал со следующей шхуной плыть на Таити, чтобы там сбыть свою драгоценную добычу.
Я не был ни коллекционером, ни антикваром, но ружье с резным прикладом пленило меня.
— Могу избавить тебя от необходимости ездить на Таити, — осторожно сказал я. — Что ты хочешь за него получить?
— Целое состояние, — ответил Вилли. — Ты же сам говорил, как высоко ценятся вещи Гогена.
Ничего не скажешь, было дело. И кто меня тянул за язык! Я предложил в десять раз больше, чем Вилли заплатил китайцу. Вилли покачал головой. В сто раз больше! Вилли задумался. На Фату-Хиве слово «состояние» явно понимали не так, как в других местах.
— Лив, — сказал я, гордо шагая вверх по лесной тропе с ружьем Гогена на плече, — придется нам отказаться от возвращения в Европу первым классом. Зато у нас будет самая драгоценная берданка в мире.
…Сидим вместе с фатухивцами на круглой каменной скамье под могучим баньяном на берегу. Попрежнему никаких намеков на судно. И посовещавшись с Вилли, мы принимаем решение. Выбора нет. Из язв на ногах Лив выпирает мясо, будто салями. Сама сна не жалуется, но у меня за нее душа болит. Мы очутились в тупике. Остается последовать примеру патера Викторина — покинуть остров. Вилли и несколько островитян собирались сделать новую попытку раздобыть муки и риса, и мы с Лив решили идти с ними.
Нам предстояло надолго покинуть бамбуковую хижину, и мы задумались над тем, как сохранить наши зоологические и археологические образцы. Как застраховаться от воров? Банки с фауной, черепа, каменные топоры и другие древние орудия, возможно, никого не привлекут. Но мы нашли вещи, на которых островитяне могли подзаработать. Под нарами лежал старинный королевский венец — за него ухватился бы самый знатный музей. Сплетенный из кокосового волокна, он был украшен пластинами из белой раковины и черепаховой кости, причем на черепахе были вырезаны изображения тики. У нас хранилось и облачение из черного человеческого волоса: набедренная повязка, накидка и манжеты для рук, ног и шеи. Еще одна дорогая диковина — магическая шаманская сеть с человеческим черепом. Мы нашли также фигурки из человеческой кости, которые нанизывали на нитку и носили как украшение на голове. Изящные серьги, тоже из человеческой кости, изображали маленьких тики. Словом, в хижине накопились сокровища, способные кого угодно ввести в соблазн. Теперь к ним добавилось европейское ружье, мечта каждого островитянина.
Я решил снова выступить в роли шамана. Когда мы в последний раз пришли в свой бамбуковый домик, за нами увязались четверо наиболее алчных деревенских парней. Я откупорил бутылку формалину, который привез для консервации зоологических образцов. Парни по очереди понюхали содержимое и запрыгали, гримасничая и фыркая обожженными ноздрями. Затем я отыскал под камнем золотистую ядовитую тысяченожку, невероятно живучую: разрежь ее на куски, все равно продолжает ползать. В воде она плавала не хуже рыбы, но, очутившись в пробирке с формалином, тотчас околела на глазах у пораженных зрителей. После этого я обрызгал тем же раствором пол внутри хижины, выскочил, захлопнул дверь и запер ее при помощи колышков и веревок. Фатухивцам я объявил, что хижина наполнена ядовитым паром и пока мы не вернемся и не обезвредим этот пар, всякого, кто решится войти внутрь, постигнет судьба тысяченожки. Четыре гостя посмотрели на дверь с почтением и разочарованием. И когда мы направились вниз, сопровождаемые роями комаров, парни не замедлили последовать за нами. Правда, ружье я все-таки не решился оставить. Его мы взяли, а также металлическую коробку с фотоаппаратом и мешок с одеждой, которую берегли на случай, если надумаем вернуться к цивилизации.
Ночевали мы у Вилли. И наконец-то получили передышку от комаров. Мы почти успели забыть, что такое спокойные ночи; казалось, мы всю жизнь жили в дебрях Омоа.
Проснулись затемно от лая собак. К дому приближались колышащиеся огни. За дверью послышались низкие мужские голоса. Было задумано отчалить возможно раньше.
Всех беспокоила погода. Тучи стремительно летели по ночному небу. И волнение, должно быть, изрядное. Может, все-таки лучше немного выждать?..
В это время суток было довольно прохладно. Вилли вскипятил котелок воды. Апельсиновый чай согрел нас и прогнал дремоту. Мы почувствовали себя бодрее. Странно было сидеть в окружении былых недругов. Ни Тиоти, ни Пакеекее… Зато Иоане тут. Он прихлебывал из миски чай и поглядывал в окно. За окном моросил дождь.
До чего прибой бушует… Прежде мы такого не слышали. Мы дрожали от холода и подавляемого страха. Кто-то, стуча зубами, произнес несколько слов. Остальные не поддержали разговор.
Кажется, светает? Да, скоро отступит черная ночь. Вилли встал и подал команду:
— Хамаи! Пошли!
Начинается. Сейчас мы выйдем в безумное плавание… Больше всего на свете боялся я новой встречи с океаном. Но оставаться еще хуже. Обернув ноги свежими банановыми листьями, мы побрели следом за остальными на пляж, а там уж было не до размышлений, сознание и слух наполнили непрерывные громовые раскаты. Волны долбили скользкую звонкую гальку.
Ловкие гребцы доставили нас на долбленке к шлюпке, которая плясала на якоре на безопасном удалении от скал. Затем они вернулись, чтобы провезти через чертову мельницу вторую группу. Долбленка совершила третий, и последний, рейс, а на берегу все еще кто-то лихорадочно размахивал руками. Это был китаец; он добрался в Омоа из Ханававе и тоже хотел покинуть Фату-Хиву. Но в шлюпке не было больше места, а бедняга к тому же намеревался везти с собой свинью и кур. Так и остался он на пляже со своей живностью, прыгая от досады.
Да шлюпка и без того была перегружена. Даже здесь, в бухте, где длинные ленивые валы дыбились только у самого берега, нас тревожила глубокая осадка. Если бы наши смуглые друзья уже не сходили на Хива-Оа, мы сочли бы эту затею неосуществимой. На каждой банке сидело по два человека; под банками лежали бананы и феи. На носу вместе с грудой зеленых кокосовых орехов — бочонок воды. При удачном стечении обстоятельств попутный ветер позволял дойти до цели за один день. Правда, у нас не было ни карты, ни компаса. Иди в пустынном океане по направлению к другим островам, пока над горизонтом не поднимутся вершины Хива-Оа. Если угодим в туман — пропадем, разве что прояснится раньше, чем нас отнесет в сторону от архипелага.
Старая шлюпка сильно кренилась на волнах. Гребцы еще раз поглядели на тучи. Мы могли рассчитывать на помощь сильного юго-восточного пассата.
Всего нас было тринадцать человек. Роль шкипера выполнял старик Иоане, он сидел на корме и рулил веслом. У его ног, опираясь на старые чемоданы и мешки, примостились Вилли, Лив и я. Перед нами, по двое на четырех банках, сидели наготове гребцы. Самые опытные, самые искусные. Их напряженные, суровые лица словно бросали вызов любой непогоде; мышцы играли под блестящей от кокосового масла кожей. Они ждали команды навалиться на весла. Еще один человек находился в запасе; он держал в руках большой деревянный черпак. Подле него лежали ржавые гвозди и молоток — на случай, если какая-нибудь доска не выдержит ударов волн.
Иоане, одетый, как обычно, в майку, белые шорты и соломенную шляпу, весь подобрался. Его морщинистое лицо, обращенное к волнам и ветру, казалось высеченным из камня.
Все готово. Иоане встал, обнажил голову, перекрестился. Остальные, склонив голову, напряженно слушали, как он медленно произносит на полинезийском языке молитву моряка. Затем все перекрестились, ритуал был окончен.
Словно буря разразилась вдруг на борту. Иоане размахивал руками, выкрикивал команды. Гребцы вскочили на ноги, под громкие крики выбрали каменный якорь, подняли парус. Казалось, все обезумели. Даже тихий Вилли что-то командовал.
Лодка птицей сорвалась с места. Большой полинезийский парус наполнился ветром, и фатухивцы, сияя от возбуждения, разразились радостными воплями. Вот это жизнь! Так жили предки. Кровь заиграла в жилах современных апатичных потомков. Они ликовали. Иоане широко улыбался, нагнувшись над рулевым веслом, и на бородатом лице его был написан восторг.
Мы неслись в прямом смысле с ветерком; даже у нас, обленившихся лесных жителей, сердце забилось чаще. Идти бы так все время под прикрытием Фату-Хивы! Но мы знали, что скоро условия переменятся к худшему: надо думать, в открытом океане волны повыше.
И когда гористый островок превратился в зубчатый бугор вдали за кормой, мы узнали подлинный нрав океана. Высоко над шлюпкой ценились барашки. Мы взмывали вверх, теплые брызги хлестали нас по лицу, соль и солнце слепили глаза. Не успеет наша скорлупка оседлать гребень, а впереди уже разверзлась глубокая бутылочно-зеленая ложбина, за которой вырастает новая гора. Стремительно скатываемся вниз и с-замиранием сердца смотрим на нависший над нами бурлящий гребень. Такие волны могли основательно потрепать судно и побольше нашего.
Мы не знали, что как раз в это время на север пробивалась «Тереора». Шхуне изрядно досталось: волны захлестывали палубу, разбили дверь камбуза, учинили немалые разрушения в трюмах. Но наша лодчонка с большим парусом лучше вписывалась в ложбины. С головокружительной скоростью мы перемахивали через могучие водяные горы.
На руле Иоане творил чудеса. Сжавшись в комок, оскалив зубы в усмешке, он не спускал глаз с высоченных гребней и ловко переваливал через них. Если лодку все же захлестывало, он нечеловеческим усилием удерживал в руках рулевое весло и пристально следил за следующей волной. Его
окатывало с ног до головы, соль разъедала глаза, но он был начеку. Поистине великолепный шкипер.
Двое гребцов помоложе свалились с банок и корчились в воде на дне лодки. Остальные высмеивали слабаков, поддавшихся морской болезни. Промокшая насквозь, с невероятно распухшими голыми ногами (банановые листья смыло почти сразу), Лив выглядела ужасно. Мясо так и выпирало из язв. К полудню она впала в забытье и безжизненно простерлась на нашем мешке. Я напрягал все силы, чтобы не дать волнам увлечь ее за борт.
Снова и снова пенистая вода наполняла шлюпку, и казалось, что мы уже идем ко дну. Но лодка выравнивалась, и гребцы лихорадочно вычерпывали воду, отодвигая всплывшие банановые гроздья. Непрерывное напряжение, ни единой минуты передышки… Сколько раз мне представлялось, что пришел конец, когда могучая волна, по скату которой мы скользили, поднималась на дыбы и обрушивала на нас бурлящий каскад. Или когда мы с бешеной скоростью перемахивали через гребень и сваливались в ложбину так стремительно, что доски жалобно скрипели и на нас со всех сторон летели брызги. И с каждой минутой меня все больше тревожила Лив. С закрытыми глазами она привалилась к моим ногам и ни на что не реагировала.
Завзятый сухопутный краб, я тем не менее усваивал уроки, преподаваемые океаном. После долбленки Тиоти я второй раз очутился в открытом море на утлом суденышке. И задавался вопросом: почему былые мореплаватели перестали вязать бревенчатые плоты, променяв их на долбленки и дощаники, которые легко заполняются водой и тонут. Идя на шлюпке, мы, как перед тем на долбленке Тиоти, непрерывно сражались с волнами и вычерпывали воду, и я снова молил о том, чтобы над нами сжалилась стоящая за чудесами природы незримая сила. Ну, не нелепо ли это — строить лодку из тонких досок, изготовляя не что иное, как сосуд для захлестывающих волн. Древние плавали на плотах, и вода сама уходила в щели. Сиди мы на плоту, эти же волны нам были бы не страшны. Но люди давным-давно изменили принципы судостроения, предпочтя во имя прибыли скорость надежности.
Со скоростью все было в порядке, мы шли так, что дух захватывало, зато наша жизнь висела на волоске. Даже с самых высоких гребней мы совсем не видели земли. Фату-Хива с его вершинами давно скрылся из виду, но Иоане правил уверенно, словно у него был компас.
И ведь я тогда не подозревал, что на нашу долю выпало особенно сильное волнение. Конечно, высоченные волны производили на меня внушительное впечатление, но я говорил себе, что в открытом океане любая волна должна казаться устрашающей тому, кто идет на такой скорлупке, как наша. Только позже, услышав, как досталось в тех же водах крепкой «Тереоре», я понял, в какую переделку мы попали. Но я четко уразумел, что наша лодчонка именно в силу малых размеров держалась на воде. Она целиком умещалась между волнами. Будь шлюпка чуть длиннее, она не уложилась бы в ложбинах, зарылась бы в скат волны либо носом, либо кормой. Выходит, неверно считать, будто чем меньше лодка, тем опаснее выходить на ней в море.
Память не сохранила подробностей этих нескончаемо долгих часов. Помню только, что между хлесткими холодными ливнями нас немилосердно жгло и слепило яркое солнце. Медные спины гребцов почернели; от соли и ультрафиолета у нас на коже вздулись волдыри. Только длинные волосы спасли меня и Лив от солнечного удара. Помню фырканье стаи блестящих черных дельфинов, которые резвились вокруг лодки, пока нас не разлучил очередной бурлящий гребень. Дельфины остались позади, мы продолжали мчаться вперед.
Вперед и вперед… Близился вечер. Наш путь заметно увеличивался из-за бесчисленных водяных гор, через которые надо было переваливать. Сквозь дремоту я услышал возглас Иоане:
— Мотане!
На севере показался крохотный необитаемый островок. Шкипер изменил курс. Нам надо было пройти западнее Мотане.
Загорелые спины стали двигаться живее. Видно, и гребцы справились с дремотой, которая, однако, не мешала им следить за тем, чтобы на длинную рею не обрушился удар падающего гребня.
Обстановка изменилась. Далеко на севере, словно спина кита, торчала над водой столовая гора Мотане. Мы видели ее всякий раз, когда шлюпку поднимал высокий гребень. Нас по-прежнему бросало вверх-вниз, но теперь появился ориентир. Хоть бы Лив открыла глаза…
Через некоторое время слева от Мотане возникли смутные очертания Тахуаты. Зелеными пятнами сквозь мглу просвечивали не те леса, не то долины на склонах голубеющих гор. Остров был подобен миражу, который никак не хотел приближаться. Да нам и впрямь еще предстоял долгий путь. Хотя вершины Тахуаты уступают высшим точкам Фату-Хивы, все же они поднимаются на тысячу метров над уровнем моря, их видно издалека.
Наконец на севере показался Хива-Оа. Заметив на горизонте между Мотане и Тахуатой длинную серо-зеленую гряду, я крикнул Лив, что наша цель видна, но она меня не слышала.
День подходил к концу, а впереди нас ждал самый опасный участок. Наши спутники знали, что в узкий просвет между Тахуатой и Хива-Оа протискивается океанское течение. Наткнувшись на первое препятствие на своем пути от Южной Америки, могучее Перуанское течение здесь ускоряло ход, и по обе стороны пролива вода буквально кипела от беспорядочно мечущихся отраженных волн.
Нам предстояло пробиваться сквозь эту свистопляску. Вилли признался, что в такую погоду не хотелось бы форсировать эту опасную полосу, и спросил Иоане, нельзя ли придумать что-нибудь другое. Но другого пути не было. Единственное, что мог сделать наш шкипер, — держаться в проливе возможно восточнее. Чем ближе к берегу Тахуаты, тем опаснее волны. Это был второй урок, преподанный мне океаном. Все этнографы считали, что первобытный человек мог плавать исключительно вдоль берегов островов и континентов. Мой собственный опыт впоследствии подтвердил, что на малых судах лучше держаться подальше от коварного берега.
Мы с ходу врезались в кипящие буруны. Иоане напряг все нервы, все мышцы, словно пума, приготовившаяся к прыжку. Все зависело от его искусства.
Далеко впереди слева протянулся длинный мыс на подступах к самой большой на Хива-Оа долине Атуана, где располагалась своего рода столица южной части Маркизского архипелага. Только долина Таиохаэ на острове Нуку-Хива на севере могла соперничать с ней. Мы знали, что в Атуане живет двести-триста полинезийцев. Некогда тут находилась резиденция французского губернатора; именно здесь поток унес статуи Тукопаны и его дочери. Глядя на открывшуюся за мысом долину, я подумал о том, что она была последним прибежищем Поля Гогена. Где-то там на холме расположена его могила. Рядом со мной в пляшущей шлюпке лежало его ружье. Волны так нещадно трепали нас, что я поспешил привязать наше скудное имущество к банке на случай, если лодка опрокинется.
Черные тучи и темные скалы заслонили вечернее солнце, когда мы поровнялись с мысом у входа в залив. Скалы служили ширмой, преграждающей путь на запад неутомимому восточному пассату, а вместе с ним и высоким волнам, чьи гребни мы срезали. У подножия скал, словно пламя и дым лесного пожара, бушевали белые каскады и фонтаны.
Мокрые до костей, измотанные борьбой с волнами, окоченевшие от соли и солнца, мы пробились сквозь высокие буруны и стали готовиться к долгожданной и рискованной высадке на берег. Волнение и в заливе было достаточно сильным, и хриплые возгласы смешались с ревом прибоя, когда мы развернулись курсом на берег и настало время убирать парус и мачту.
Перед нами простирался черный песчаный пляж Атуаны. Но хотя плавание было почти завершено, мы не почувствовали облегчения, видя и слыша отделявшую нас от суши чертову мельницу. Ветер и волны со стороны бушующего океана штурмовали незащищенный берег. В отличие от Фату-Хивы здесь нам пред— стояло высаживаться на наветренной стороне. Пройдя от Южной Америки семь тысяч километров, накат финишировал на отмели в глубине залива.
Восемь гребцов-крепышей приготовились к последнему броску. Иоане правил прямо в центр пляжа. На сотни метров протянулась от берега отмель. Могучие, неудержимые волны одна за другой вставали на дыбы, и, хотя нам были видны только их пологие задние скаты, мы отлично представляли себе высоченные стены, которые рушились вниз и наваливались на берег. Клочья пены и ритмичный гул были достаточно красноречивы. Белые каскады, взлетая вверх, закрывали черный песок и захлестывали траву под кокосовыми пальмами. Было еще достаточно светло, и мы различили кучку островитян, которые пришли на берег полюбоваться разгулом стихии.
Лив очнулась, но смотрела на прибой тупо и равнодушно, словно он нас не касался. Гребцы сидели наготове, прислушиваясь к командам Иоане. Жертвы морской болезни взялись вдвоем за одно весло. Раз за разом подкрадывались мы к полосе прибоя, но волна за кормой почему-то не устраивала шкипера, гребцы табанили изо всех сил, и корма взмывала в воздух, напоминая хвост морской птицы.
Сжавшись в комок, с искаженным гримасой лицом, Иоане выкрикивал команды так, что голос срывался. Он пристально следил за каждым веслом, был весь заряжен на борьбу, точно спринтер на старте. Все глаза были устремлены на него — руководителя, облеченного диктаторскими полномочиями. Сейчас он думал за всех.
Наконец явилась нужная волна. Как только она подступила к корме, Иоане завопил:
— Навались! Навались! Навались!
Тотчас заскрипели уключины, смуглые парни с блестящими от возбуждения глазами гребли, как одержимые.
Мы шли на гребне могучего вала. Впереди — отмель и бушующий прибой, сзади — череда волн. В аду посередине — мы. Лив и я вцепились изо всех сил в планшир качающейся шлюпки.
Внезапно у двух парней, объединивших свои усилия, вырвалось из рук весло, и они плюхнулись спиной на бананы на дне лодки.
Иоане яростно заорал что-то, Вилли одним прыжком перемахнул через нас и поймал взбунтовавшееся весло.
Поздно. Шлюпку развернуло боком, и руль в руках Иоане беспомощно болтался в воздухе. В ту же минуту гребцы, бросив весла, проворно вскочили на планшир и дружно нырнули в воду.
Я подхватил Лив, и вместе с Вилли мы выпрыгнули за борт в тот самый момент, когда лодка встала на дыбы.
Нет, я не своим ходом добрался до берега.
Меня вертело и крутило в бурлящих каскадах, пока я внезапно не понял, что сижу на отмели рядом с Лив. А с моря уже наступала могучая водяная стена, чтобы увлечь нас обратно, и откат поволок нас ей навстречу. Взявшись за руки, мы побежали, одолевая сопротивление встречного потока, и выскочили на траву, на безопасное место.
Между тем среди кипящего прибоя наши спутники цеплялись, словно муравьи, за опрокинутую лодку. Они не собирались отдавать ее океану, и, хотя их снова и снова накрывало с головой, не ослабляли хватки. Плывя скорее под водой, чем по воде, они доставили на берег мешки и чемоданы, затем перевернули лодку и, полузатопленную, вытащили на песок. На всякий случай шлюпку отнесли под самые пальмы, подальше от воды.
Море учтиво доставило на берег весла, фрукты, несколько соломенных шляп и прочую мелочь.
Мы все-таки достигли Хива-Оа.
На Хива-Оа
От угольно-черного пляжа в глубь долины вела покрытая непритоптанной влажной травой широкая тропа. Словно мы восстали из гроба и ступили на разостланный среди колоннады из кокосовых пальм мягкий храмовый ковер. Возвращенные к жизни, мы с благоговением и радостью ощущали под ногами надежную твердь.
Миновав зеленый храм, мы увидели домик, один-единственный. Здесь, обитал радиотелеграфист. Рядом с домом раскинулась основательно вытоптанная поляна, в обоих концах которой стояли столбы с перекладиной. Похоже на футбольное поле. Сразу видно, что мы вернулись к цивилизации.
Отрыв от природы сказывался и в поведении островитян, которые невозмутимо наблюдали нашу высадку, стоя на траве под пальмами. Право же, не совсем обычная высадка, а им хоть бы что, стоят, широко расставив ноги, шляпы набекрень, во рту болтается сигарета.
Итак, Хива-Оа. Долина Атуана. Главный пункт захода для немногих яхт, навещающих этот уединенный уголок Тихого океана. Да и пароходы редко показывались здесь. Маркизские острова лежали далеко от всех морских путей, к тому же кругосветных мореплавателей, которых тогда было куда меньше, отпугивало отсутствие гаваней. И ведь без разрешения властей тут можно было задерживаться не больше чем на сутки. Чаще сюда заходили торговые шхуны с Таити. Они бросали якорь в каменистой бухте за мысом к востоку от песчаного пляжа.
Вряд ли до нас какая-нибудь чета прибывала в Атуану кувырком, но вообще-то здесь явно привыкли к заморским гостям. Зеваки наметанным взглядом оценили меня и Лив. Они знали белых и делили их на три четко разграниченных категории: чиновники в мундирах, которых надлежало почитать, туристы, над которыми они потешались, и рабочие — заготовщики копры, которых они презирали.
Мундир — любой мундир — воплощал здесь силу и власть. Мундир носят люди, которые сочиняют законы и посылают других людей в тюрьму на Таити.
Туриста почитали только за его богатство, а вообще-то видели в нем последнего из глупцов. В самом деле, мотается человек по свету и попусту тратит деньги. Христианин, а готов последнюю рубашку отдать за языческого идола. И чем древнее выглядит идол, тем больше турист за него платит. Вот и хитрят резчики, мочат свои изящные изделия в воде и сушат на солнце, чтобы выглядели старыми и неказистыми и можно было побольше запросить за них. Турист — невежда и мастер задавать дурацкие вопросы. Он не знает, когда начинается дождевой период, не знает, как приготовляют пои-пои, не видит разницы между феи и бананом. Приезжает знакомиться с островом, а проходит, не глядя, через деревню с аккуратными новыми домами куда-то на пустырь, таращится на голые скалы и говорит: «Красота». А некоторые туристы надевают пареу и рвутся танцевать хюлу — такое странное у них представление о прогрессе.
Правда, турист — миллионер. Не то что заготовщик копры, самый нежелательный из всех иноземных гостей. Хоть и белый, он такой же бедняк, как островитяне. Он поумнее туриста, не задает дурацких вопросов. Не хуже любого полинезийца лазает на кокосовые пальмы и напивается пьяным. Но он приезжает, чтобы заработать, а не тратить деньги. Туристы и чиновники тоже не очень-то с ним церемонятся, не считают его ровней. Значит, он принадлежит к низшей касте белых.
Наблюдая, как мы ковыляем по тропе, промокшие насквозь и обожженные солнцем, ноги в язвах, имущество — ржавая берданка да потрепанный мешок, зрители тотчас отнесли нас к третьей категории.
Должно быть, так же нас воспринял и французский жандарм мсье Триффе, когда мы, стараясь не отставать от Вилли и Иоане, подошли к местной жандармерии. Мы помнили, что нам говорил капитан Брандер. На Маркизских островах почти не осталось белых. Есть двое на Нуку-Хиве, а все остальные здесь, на Хива-Оа: жандарм Триффе, радиотелеграфист Бельвас, владелец местной лавочки «мистер Боб» и персонал католической миссии — священники и две монашенки. Сверх того, многодетный китаец. Да еще двое белых обосновались на другой стороне острова, один из них — норвежец Генри Ли, владелец кокосовой плантации. Капитан Брандер предупредил нас, что белые, долго прожившие среди островитян, усваивают их нравы и образ жизни.
Худощавый мужчина, открывший дверь жандармерии, встретил нас более чем равнодушно. Не снимая тропического шлема и не вынимая из кармана правой руки, протянул Лив левую для приветствия. После чего отвернулся и предложил Иоане и Вилли остановиться у него, если им больше негде переночевать. На нас он больше не смотрел. Что ж, мы и впрямь выглядели не очень презентабельно.
И мы зашагали дальше.
Деревня Атуана состояла из нескольких дощатых домиков и пустующих административных построек; в глазах островитян, не бывавших на Таити, она была настоящим большим городом, верхом красоты, преддверием рая. Ни одной старинной хижины. Все домики выстроены из крашеных в серый цвет досок и крыты рифленым железом.
От жандармерии через всю деревню тянулась битая тропа. На этой главной улице мы увидели двухэтажный дом мистера Боба: первый этаж — магазин, второй
— жилые апартаменты. Тучный, румяный мистер Боб — «Попе» в местном произношении — стоял в дверях своей лавки. Из синих шорт торчали тощие волосатые ноги, обутые в домашние туфли; сложенные к а груди толстые руки украшала татуировка. Огромный синий якорь на правой руке вполне соответствовал облику английского моряка, осевшего на суше.
Увы, в его доме для нас не нашлось места. На остров прибыли два фотографа, все комнаты заняты.
Мистер Боб повернулся к нам спиной и удалился, пробурчав что-то насчет скверной погоды. В самом деле, с наступлением сумерек пошел дождь.
Мы поняли: что-то не так. Приличным людям не пристало являться на Хива-Оа босиком, с видом дикарей. Мы очутились, так сказать, в предместьях нашего собственного мира. Мира, который изо всех сил стремился порвать с природой. Я оскорбил местных белых, явившись небритым неряхой, который вообразил, что западная цивилизация осталась за тридевять земель. Мы задели гордость этих людей, не посчитавшись с их желанием чувствовать себя частицей современного мира, а не изгоями в дебрях.
Стоя перед закрытой дверью Боба, мы услышали голос Вилли. В отличие от Иоане он вежливо отклонил приглашение Триффе и предпочел пойти к вождю Атуаны, который состоял в родстве с матерью Вилли. Следом за ним шагали гребцы. Они, как и в прошлый раз, когда привезли патера Викторина, собирались ночевать в католической миссии. Счастливчики. Нам вспомнился совет Пакеекее по прибытии обратиться к местному священнику-протестанту. Хочешь не хочешь, придется так и сделать.
В дальнем конце долины стоял грязный барак. Такой же унылый, как большинство домов местных жителей, но повместительнее. Спустилась ночь, когда мы подошли к обители протестантов. Всякий, разделяющий веру протестантского священника, был здесь желанным гостем.
Улыбающийся священник-полинезиец в смокинге и цветастой набедренной повязке вышел босиком на грязный двор и пригласил нас присоединиться к причудливому сборищу метисов и полинезийцев, составлявших его паству. Нас встретил хор пронзительных голосов, исполнявших псалмы; больше я ничего не помню, потому что через минуту мы с Лив уже спали крепким сном на матраце, который нам уступил кто-то из прихожан.
Когда мы открыли глаза, через разбитое окно под потолком пробивались солнечные лучи. Они осветили горы красных кофейных ягод, разложенных для сушки на пыльном полу. В просторном помещении не было людей, кроме нас, но кашель, стоны и причитания, доносившиеся из соседней комнаты, вызвали у нас оторопь.
Лив закусила губу. Тут нельзя оставаться.
Мы развязали непромокаемый мешок и вывалили на матрац его содержимое. Все промокло насквозь. Наша роскошная городская одежда — вся липкая и тяжелая от морской воды… А, черт с ним. Мы напялили на себя свои наряды и вышли на солнце: Лив — в красном шелковом платье и в туфлях на высоких каблуках, я — в темном костюме, при галстуке, в шляпе, в черных ботинках.
В таком облачении мы чувствовали себя куда более знатными персонами, чем накануне. Пусть одежда мокрая и помятая, зато в глазах местных жителей мы разом превратились в туристов.
В маленьком магазинчике Боб отпускал своим клиентам одеколон, клубничное варенье, фуражки с лаковым козырьком. Толстая вахина пришла за резинкой. Боб натянул кусок на деревянный метр, отрезал и вручил пораженной покупательнице укоротившуюся на глазах резинку.
— Мистер Боб, — сказал я. — Нам нужны кое-какие продукты.
Он повернулся к нам, и глаза его чуть не выскочили из орбит.
— Слушаюсь, мистер, — поклонился мистер Боб.
— У вас есть еще варенье? — спросил я, когда другие покупатели забрали свои банки.
— Есть, мистер. Сколько вам угодно?
— Я возьму все, что у вас осталось. И тушенку тоже, — добавил я, быстро обозрев скудные запасы на полках.
— Ты с ума сошел? — шепотом осведомилась Лив, когда Боб принес охапку банок.
— Тихо, — прошептал я ей в ответ. — Надо пустить пыль в глаза.
— Это все, что у меня есть, — почтительно молвил Боб, уставив прилавок банками.
— Еще что-нибудь вкусненькое?
— Конфеты и шоколад. — Глаза Боба сверкали, он вытер вспотевший лоб.
— Берем. Табак?
— Какой именно?
— Я не курю. Мне для подарков.
В магазин набились островитяне, которые таращились на нас, словно на каких-нибудь знаменитостей. Мы чувствовали себя Ротшильдами в деревенской лавке.
— Может быть, возьмете одеколон таитянского производства?
— Разумеется. Давайте весь.
Следуя моему примеру, Лив тоже принялась играть роль энергичной покупательницы.
Когда стало ясно, что бой нами выигран, я достал один из своих аккредитивов и расписался на нем ручкой Боба.
— Не к спеху, не к спеху, — затараторил Боб, живо подхватывая аккредитив.
Поворачиваясь к двери, я громко сказал Бобу, чтобы товары доставили нам позже. Куда — для нас было такой же загадкой, как и для Боба, но не говорить же об этом вслух. В тот момент меня больше всего заботили две вещи: найти кого-нибудь, кто мог бы заняться нашими ногами, и присмотреть удобное местечко, чтобы сесть и вволю наесться тушенки, которую я рассовал по карманам.
Выйдя из магазина, мы чуть не столкнулись с французской парой, про которую нам накануне говорил Боб: он — тощий и застенчивый, обвешанный фотокамерами и браслетами из кабаньих клыков, она — маленькая, изящная, с темпераментом львицы и шапкой рыжих волос.
Это было все равно, что напасть на оазис в пустыне. Мы подружились с первой минуты. Мадам Рене Хамон, французская журналистка, прибыла вместе со своим фотографом во время вчерашнего шторма, всего за несколько часов до нас. Шхуна «Тереора», на которой они пришли с Таити, еще стояла на якоре за мысом.
Энергичная мадам Хамон обладала незаурядным организаторским талантом. Увидя наши ноги и услышав, где мы провели ночь, она взорвалась.
— Это скандал! Вы находитесь во французской колонии и сегодня будете спать на приличной кровати, хотя бы мне пришлось уступить вам свою!
Выяснилось, что им предоставили бывший дом губернатора, который обычно стоял под замком. К Бобу они приходят только есть. Как только «Тереора» погрузит копру, двинутся обратно на Таити.
— А с Таити — прямиком во Францию! — радостно воскликнул тощий фотограф. — Сто тысяч пальм за иголку хвои под снегом.
Мы взяли курс на жандармерию, но в это время показался сам Триффе. Окруженный толпой островитян, он выступал так, словно спал на ходу. Мадам Хамон подмигнула нам и ураганом обрушилась на бедного жандарма. Он поспешил вынуть из карманов обе руки и поздороваться с нами.
И вот уже его смуглые помощники волокут кровати, матрацы, белые простыни и половые щетки. Нас провели в коттедж рядом с тем, в котором расположились французские гости. Теперь он пустовал, а когда-то в нем жил местный врач. С некоторых пор должность врача и губернатора исполнял один человек, он поселился на Нуку-Хиве, на севере архипелага, а на южные острова ему практически не на чем было добираться.
Оставив в коттедже свое имущество, в том числе драгоценное ружье, мы со всей доступной нам скоростью заковыляли к единственной на всю долину бамбуковой хижине. В ней помещалась больница, которой заведовал чрезвычайно симпатичный и приветливый, стриженный ежиком санитар с Таити. Его звали Тераи, и он принадлежал к ставшим редкостью среди таитян чистокровным полинезийцам. Лицом, могучим телосложением и гордой осанкой он напомнил мне Терииероо, только помоложе возрастом. Услышав, что мы усыновлены вождем и получили имя Тераи Матеата, он горячо пожал руку своему тезке. Так у нас появился на Хива-Оа еще один друг.
В двадцать с небольшим лет, при среднем росте Тераи весил добрых сто килограммов, что не мешало ему быть страстным охотником и великолепным наездником. У себя на Таити он не один год проработал в больнице Папеэте. И явно не тратил время впустую. Бросив один взгляд на наши ноги, он сразу определил тропическую язву. Явись мы на несколько недель позже, объяснил Тераи, у Лив инфекция дошла бы до кости, и не миновать ей ампутации. В самом деле, бедная жительница Фату-Хивы, которая не отважилась плыть на шлюпке ни с патером Викториной, ни с нами, поплатилась за это одной ногой.
В окружении терпеливых островитян, пораженных всевозможными недугами — от зубной боли и безобидных порезов до венерических заболеваний, мы по очереди простерлись на лежанке, предоставив коренастому Тераи колдовать пинцетами и ланцетами.
Через какую-нибудь неделю нас уже не пронизывала острая боль от макушки до ступни при воспоминании о первом визите в бамбуковую больницу. Тераи поработал на совесть. Он резал, скоблил, удалял ногти, чтобы уберечь от инфекции кости, мазал нас желтовато-зеленой мазью из огромной банки. И нам стало заметно лучше.
Часть продуктов, купленных у Боба, перекочевала из нашей резиденции в домик еще одного нового друга, китайца Чинь Лу. За ширмой в его экзотической кухне уместился своего рода ресторанчик. Мы были единственными посетителями, но семейство Чиня составило нам компанию и потчевало вкуснейшими блюдами.
По истечении недели мы услышали, что «Тереора» снимается с якоря и по пути на Таити посетит ФатуХиву. Однако Тераи не разрешил нам возвращаться на свой остров. Дескать, необходимо продолжать лечение, если мы не хотим остаться без ног. Мы проковыляли на скалистый мыс, чтобы хоть поглядеть на «Тереору» и помахать капитану Брандеру, который никогда не сходил на берег. Заодно проводили друзей. Рыжая шевелюра француженки буквально искрилась от переполнявшей эту маленькую женщину энергии. Держась за руку обвешанного камерами фотографа, она крикнула нам «оревуар», и они прыгнули со скалы в качающуюся шлюпку, где их приняли в свои объятия Вилли и наши смуглые товарищи по плаванию.
Подняты паруса, «Тереора» выходит в море. Вилли, Иоане и другие фатухивцы стояли на палубе; на этот раз можно было не сомневаться, что они благополучно доберутся до дома с провиантом. Старая шлюпка Вилли с новыми заплатами плясала на буксире за кормой белой шхуны. Наши мысли летели быстрее ветра, и, сидя на скале, мы на миг представили себе, что любуемся чудесным видом из окна нашей собственной бамбуковой хижины в долине Омоа. Но тут же в памяти возникли жгучие комариные укусы и бамбуковая пыль, мы прогнали воспоминания и побрели на перевязку в больницу Тераи.
Между тем до Триффе наконец дошло, что в день приезда я стоял перед его домом с ружьем на плече. И встретив меня на дороге, он попросил предъявить документ, разрешающий носить оружие.
Я сходил в коттедж и гордо предъявил ему наш драгоценный экспонат. Объяснил, что на прикладе есть резьба Гогена, мы купили старое ружье как изделие искусства, у меня даже патронов нет.
Но для жандарма ружье — старое или новое — оставалось ружьем, хоть бы приклад украсил сам Рембрандт. У меня есть оружие и нет разрешения.
Ружье было конфисковано. Жандарм обещал вернуть его, как только я получу надлежащую бумагу от властей на Таити. Но «Тереора» уже ушла, а это означало, что раньше чем через год мой запрос не обернется.
Триффе приготовился куда-то запрятать мой драгоценный сувенир, но тут меня вдруг осенило. Попросив отвертку, я на глазах у пораженного жандарма отвинтил приклад. После чего, держа в одной руке деревянный приклад, в другой — ржавый ствол с замком, спросил, что считается оружием.
Триффе, не задумываясь, показал на железку.
— Держите оружие, а я оставлю себе дерево, — сказал я.
Жандарм разинул рот, и я зашагал обратно, унося свое сокровище.
Мои подозрения оправдались. Несмотря на многолетнюю переписку, я так больше и не увидел металлические части Гогенова ружья. Скорее всего какой-нибудь менее знаменитый мастер вырезал новый приклад, и не исключено, что старый «винчестер» по-прежнему стреляет в горных коз на Маркизах.
Ближайшие недели не были богаты событиями. Мы бродили от бамбуковой будки Тераи до занавешенного уголка в кухне Чинь Лу, где нас обслуживали с истинно китайской учтивостью и закармливали лакомыми блюдами, приготовленными по китайским рецептам из содержимого банок Боба совокупно с плодами тучной земли Хива-Оа.
Большие расстояния и отсутствие приличной лодки не позволяли Тераи посещать другие острова архипелага. Однако раз в месяц он седлал коня и отправлялся обследовать соседние долины Хива-Оа. Несмотря на изрядный вес, он был искусным наездником, и его маленький маркизский конь развивал такую скорость, словно нес на себе воздушный шар.
Тераи вообще не ходил пешком. Конь всегда стоял наготове, привязанный к бамбуковому колышку. Бросил ему на спину мешок вместо седла, и скачи с визи— том к больному.
Когда пришла пора совершить очередную инспекционную поездку, Тераи раздобыл еще двух коней и резные деревянные седла. Нам удалось-таки уговорить его, чтобы взял нас с собой. Ноги заживали, и в походе Тераи мог продолжать лечение.
Задолго до восхода приступили мы к крутому подъему на извилистые гребни, ведущие к далекой долине Пуамау в восточной части острова. Снова испытали мы счастливое чувство от встречи с девственными дебрями, наполняя легкие чистым, прохладным горным воздухом. Внизу, зеленея пальмами, простирались широкие долины. В сердце острова одна за другой вырастали могучие лесистые пирамиды, соединенные острыми, как лошадиная холка, перемычками. Тропа петляла по этим перемычкам, так как отвесные кручи не позволяли двигаться вдоль побережья. Как и на Фату-Хиве, вся береговая линия здесь была источена тысячелетним прибоем, который превратил склоны вулкана в вертикальные стены, а древние кратеры преобразил в глубокие, чаще всего серповидные долины, зажатые между нависающими скалами. Далеко внизу под нами на фоне синего моря и синего неба парили, словно вырезанные из бумаги, белые птицы; сплошная лента прибоя белой змеей окаймляла берег, обозначая грань между крохотным островком и необъятным океаном. Дикие петухи кукарекали в глубине темных долин, куда еще не проникло утреннее солнце; на освещенных склонах им откликались другие. Лошади весело ржали, стуча нековаными копытами по красной тропе.
На самом высоком гребне мы остановились. Выше пути не было. Выше простиралась пустота. Пассат трепал волосы и гривы, лошади нервно переступали с ноги на ногу. Мы всмотрелись в безбрежную даль — где там Фату-Хива? Густые облака скрыли Тахуату, отбрасывая рваные черные тени на солнечную синь океана. По мере того как мы поднимались, горизонт отступал все дальше, и далеко на юге, на краю света, сквозь мглу проступили зубчатые очертания крохотного островка. Одни лишь макушки гор торчали над морем; казалось, там уходят под воду остатки сгоревшего корабля, окутанные густым дымом. На Фату-Хиве все еще шли дожди. На далеком, далеком острове ФатуХива…
До чего же мал мир Иоане, Тиоти и Пакеекее, когда посмотришь на него вот так со стороны! А в масштабах вселенной мы все — мелюзга, и пустяки, из-за которых мы препираемся, кажутся вздором.
— Се жоли, — услышал я голос Тераи.
Сидя верхом на своем беспокойном коне, он любовался долинами внизу.
— Что красиво? — удивленно спросил я, повернувшись к своему таитянскому тезке.
— Горы, лес — да все. Вся природа прекрасна. Гляди-ка, и в этом Тераи похож на Терииероо.
— Но разве не Папеэте — идеал красоты для островитян? — спросил я.
Тераи дал шпоры.
— Не для всех. Кое-кто из нас разбирается, что к чему. Во времена наших предков на Таити тоже было неплохо.
Мы ехали бок о бок вдоль продуваемой ветром перемычки.
— Но ведь большинство полинезийцев при первой возможности перебирается в Папеэте?
Тераи не отрицал этого. В этом трагедия его народа, сказал он. Богатство белых мужчин влечет в Папеэте девушек. А за ними и парни тянутся, тоже повеселиться хотят.
Тогда я не подозревал, что много лет спустя, прибыв в Полинезию во главе научной экспедиции, не найду на Таити ни одного гарантированно чистокровного полинезийца. Даже на Хива-Оа с трудом отыскалась горстка островитян, у которых стоило брать кровь для генетических исследований.
Тераи предвидел это в тот день, когда мы вместе с ним ехали по крыше островного мира, который его народ некогда открыл без нашей помощи и сделал садом, благополучно существовавшим до тех пор, пока мы не преподали полинезийцам свою философию прогресса.
Мы въехали в красивый горный лес, и лошади потянулись вереницей по мягкой траве. Тераи запел сочиненный таитянским королем старинный гимн «Я счастлив, цветок тиаре с Таити». Лошади перешли на рысь, и приходилось нагибаться, чтобы нас не зацепили свисающие над тропой ветви и лианы. В пронизанной солнечными лучами листве порхали и сновали редкостные птицы, радующие глаз великолепной расцветкой.
Пересекая лес, мы поднялись на поросший папоротником бугор. Внезапно Тераи осадил коня и показал вперед. На тропе, глядя на нас, стояла большая бескрылая птица. В следующую секунду она припустилась бежать и мигом исчезла в зеленом туннеле. Нам уже рассказывали про эту птицу, представляющую неизвестный орнитологам вид. Островитяне часто ее встречали, но поймать не могли, очень уж быстро она скрывалась в туннелях и норах. Вообще-то бескрылые птицы в Тихоокеанской области были известны по Новой Зеландии — родине киви и вымершего ныне четырехметрового моа. Мы исследовали лабиринт ходов в густом папоротнике, весь бугор облазили, но загадочная птица как сквозь землю провалилась.
Оставив позади пол-острова, мы устроили привал у ручья, чтобы немного перекусить. Дальше простирался совершенно дикий край. Лес вдруг кончился, и мы словно очутились в пустоте. Ни листвы, ни земли, только головокружительные пропасти. Снизу доносился далекий гул прибоя; глухо порыкивал отраженный каменной стеной ветер, грозя сбросить нас в бездну.
Следом за Тераи мы свернули на полочку, вырубленную в скале древними островитянами. В следующую секунду наш маленький мир перевернулся в моих глазах вверх ногами. Борясь с головокружением, мы с Лив поспешили повернуться лицом к стене. Наши лошади медленно, очень медленно следовали за возглавлявшим кавалькаду гордым всадником. Могучие плечи Тераи и конский круп шириной как раз равнялись опоре, по которой ступали копыта.
Неожиданно полочка кончилась, кончилась и пропасть справа, тропа повернула влево и через перевал спустилась на другую сторону гребня, где нас ожидал новый обрыв, на этот раз с левой руки. И здесь из пропасти с ревом поднимался воздушный поток. Да, эту часть острова никак нельзя было назвать широкой! Далеко внизу виднелась другая бухта, тоже с белой полоской прибоя. Этот обрыв был по меньшей мере таким же устрашающим, как тот, от которого мы только что ушли. Лучше опять отвернуться носом к горе, доверившись опытным лошадям…
Но вот стенка справа оборвалась. Пустота с обеих сторон. Я чувствовал себя будто верхом на пегасе. Впереди — пик, сзади — пик, а между ними узенькая перемычка, по которой вилась тропа. Тераи поглядел через плечо на нас и улыбнулся. Наши ноги болтались над крутыми склонами, спадающими к морскому берегу с плавно изогнутой белой каймой. Гул прибоя сюда не доносился, только непрерывный ровный шорох. Не только мы, но и лошади нервничали. Задрав голову и насторожив уши, они осторожно ступали по гребешку. Их явно беспокоили порывы ветра снизу. Я боялся вздохнуть, пока мы одолевали этот отрезок. Если лошадь оступится, соскочить некуда…
Пронесло!.. Тропа обогнула пик, за которым протянулся еще один острый гребень, потом пошел лес, и нас поглотили дебри. Когда мы снова вынырнули из зарослей, под нами простиралась долина Пуамау. Один шаг — и в несколько секунд достигнешь цели, пролетев с километр по вертикали. Мы очутились на краю самой большой на острове кратерной впадины. Открывающаяся к морю подкова крутых и мрачных скал крепостной стеной обрамляла огромную зеленую чашу. Розовые лучи вечернего солнца озаряли выстроенный вдоль пляжа пальмовый авангард.
Дальше путь пролегал по вырубленному в голом склоне узкому серпантину. Солнце быстро ушло за горизонт, и черные скалы погасили розовый отсвет от закатных облаков. Мы ничего не видели. Только гулкая пустота, оттеняемая доносящимся снизу шорохом, напоминала, что мы едем по краю пропасти. Наклон конской спины указывал, что мы спускаемся, разматывая петлю за петлей. Поразительно, как уверенно ступали в темноте эти маленькие маркизские лошадки. Ведь сколько потрудились, целый день неся нас на спине по горным тропам, а все равно терпеливо шагают дальше. Темнота заставила их замедлить ход, но они почти не спотыкались. У меня и Лив окоченели ноющие ноги, горело натертое седалище, мы вспоминали нисшествие Данте в ад. Скорее бы кончился этот переход, все равно где, лишь бы слезть с деревянных седел. Не видно ни тропы, ни конских копыт, только слышно, как скатываются вниз задетые лошадьми камешки. Мы поминутно окликали друг друга, чтобы не потеряться, и наши голоса улетали в пустоту над замкнутой кручами долиной.
Наконец лошадиные спины выпрямились, кони затрусили по траве. Послышался шум реки, и под копытами заплескалась вода. Мы явно достигли ложа долины. Прибой ритмично рокотал где-то на одном уровне с нами.
В кромешном мраке появилась светящаяся точка и заплясала между конскими ушами. Постепенно увеличиваясь, она превратилась в освещенное окно. Прибой шумел совсем близко; внезапно нас обдало свежим морским ветром. Мы подъехали к стоящему на берегу дому. Наконец-то у цели! С великим трудом спешившись, мы привязали коней к деревьям. Дверь… Чудесный запах яичницы… Я постучал и прислушался.
Дверь распахнулась, нас осветил керосиновый фонарь, его держал в поднятой руке пожилой коренастый мужчина скандинавского типа. Голубые глаза внимательно рассматривали нежданных гостей. Белые появлялись здесь раз в несколько месяцев, если не лет. И не с гор, а со стороны пляжа.
— Бонжур, — отрывисто произнес хозяин.
— Добрый вечер, Генри Ли, — ответил я на его родном норвежском языке.
Он озадаченно попятился и только тут рассмотрел стоявшего позади нас старого знакомого — Тераи.
Немало яиц было съедено и не одна бутылка вина откупорена в тот вечер в одинокой норвежской хижине в долине Пуамау на острове Хива-Оа.
Жизнь Генри Ли сложилась не совсем обычно. Тридцать лет назад он прибыл на Маркизские острова рядовым матросом на старом паруснике. Капитан был пьяница, на борту не прекращались стычки и драки. Когда судно бросило якорь у Хива-Оа, молодого Генри вместе с другими матросами послали на берег за водой. Ему удалось бежать, и он спрятался в пещере, из которой вышел лишь после того, как разъяренный капитан прекратил поиски и судно ушло. Генри полюбил полинезийскую красавицу и женился на ней. Она унаследовала долину на острове, и он решил основать плантацию кокосовых пальм, чтобы заготавливать копру. Жена умерла, оставив ему сына. Вместе с ним Генри перебрался в долину Пуамау, и теперь у него была лучшая плантация на всем Маркизском архипелаге.
С внешним миром Генри Ли соприкасался, только когда с Таити приходила за копрой торговая шхуна. Наряду с работой главным в его жизни был сын Алетти, отличный парень. Еще он дорожил внушительным собранием книг. Однокомнатный дом был заставлен кроватями и завален книгами — знак гостеприимства и интеллекта. Меня поразила библиотека Генри Ли, ведь единственным по-настоящему культурным человеком на Хива-Оа считался Гоген, а он никогда не добирался до этой части острова.
Хозяин дома освободил кровати от книг и журналов, чтобы гостям было где спать.
Утром Генри Ли еще до восхода ушел работать, а юный Алетти и вторая жена Генри, красивая плотная вахина с островов Тубуаи, принялись готовить нам основательный полинезийский завтрак. Тераи осмотрел наши ноги и велел Лив сидеть дома, а сам отправился проведать местных больных.
Островитяне здесь, как и на Фату-Хиве, обосновались на берегу, где ветер разгонял комаров. Но очень уж мало домов было для такой большой долины, и жителей — раз, два и обчелся. Одни сидели на корточках перед своей хижиной, другие развалились на циновках в доме. Разница между деятельным Генри Ли, который не покладая рук трудился, чтобы расширить свою плантацию, и праздными полинезийцами, думающими только о еде и любви, бросалась в глаза. По словам Алетти, островитяне ждали, когда орехи сами свалятся на землю. Расколют топором скорлупу, извлекут ядро и продадут копру на шхуну или получат за нее консервы у того же Генри Ли. Подобно Вилли на Фату-Хиве, норвежец, держал небольшую лавчонку.
Если не считать птичьего щебета, царила полная тишина, и никто, за исключением Генри, не проявлял трудовой активности. Убедившись, что конь Тераи стоит перед одной из хижин, я попросил Алетти быть моим провожатым, и мы отправились в глубь долины.
Внезапно я увидел их. Увидел великанов. Раздвинув зеленые ветки, Алетти молча, с благоговением на лице показал в глубь зарослей. Оттуда на меня таращились глаза величиной со спасательный круг; искаженные дьявольской усмешкой огромные рты, казалось, были способны проглотить человека. Шире гориллы в плечах, высотой в два человеческих роста, истуканы производили сильнейшее впечатление на немногих путешественников, которым довелось их ви— деть. И зрелище могучих красных изваяний настолько не вязалось с видом апатичных островитян, что невольно рождался вопрос: кто и как воздвиг в долине Пуамау этих многотонных исполинов?
В свое время я читал о том, что где-то на Маркизских островах есть большие статуи. Но одно дело прочесть две-три строки, совсем другое — неожиданно встретиться в дебрях лицом к лицу с огромными истуканами.
Мы подошли к самому большому из них, опирающемуся на высокий пьедестал. Вместе с углубленным в кладку цоколем каменный богатырь достигал трех метров; вдвоем нам еле-еле удалось обхватить его вокруг пояса. Материал — красная порода, выходов которой я поблизости не обнаружил
[83]. Алетти рассказал, что карьер находится в верховьях долины; отец видел там несколько необработанных заготовок из такого же туфа. Рядом с заготовками лежали брошенные ваятелями рубила из твердого базальта.
Красные изваяния стояли на своего рода культовой площадке под открытым небом; присмотревшись, я увидел в зарослях много стен и террас. Некоторые статуи лежали полузасыпанные на земле, обезглавленные или с отбитыми руками. Из-под лиан и папоротника на нас глядели высеченные
отдельно чудовищные круглые головы. Но самым поразительным было изваяние, изображающее как бы плывущего великана с коротенькими руками и ногами. Он опирался животом на уходивший в землю короткий цоколь.
В книгах отца Алетти вычитал, что каннибальские празднества на этом святилище происходили вплоть до тех пор, пока гавайский миссионер, полинезиец Кекела, пятьдесят лет назад не обратил три местных племени в христианство и не засадил весь участок кофейными кустами. И в самом деле, среди поглотивших статуи зарослей всюду рдели кофейные ягоды.
Три исследователя осматривали каменных истуканов Пуамау. В 1894 и 1896 годах — Ф. Крисчен и К. фон ден Штейнен; в 1920 году, когда Генри Ли уже поселился здесь, — Ральф Линтон. Всем им местные жители поведали разные версии и сообщили разные имена великанов. Генри Ли услышал от островитян признание, что на самом деле они ничего точно не знают про эти статуи. Но все версии сходились в одном: истуканы уже стояли здесь, когда предки нынешних островитян прибыли на остров и оттеснили в горы предшествующих поселенцев. Никто не мог сказать, кем были эти поселенцы; по некоторым преданиям, они потом влились в племя наики.
В жизни каждого бывают случайные на первый взгляд эпизоды, которым суждено в дальнейшем сыграть важную роль, вплоть до полной перемены жизненного пути. Встреча с каменными великанами Пуамау в то время, когда я проводил эксперимент с возвратом к природе, позднее отарыла мне перспективы, определившие мою судьбу на много насыщенных увлекательнейшими событиями лет. Это она побудила меня пересекать на плотах океаны, забираться в дебри Андских гор и пустыню Сахару, раскапывать на острове Пасхи изваяния высотой с четырехэтажный дом. И все это ради волновавшей меня загадки: я заподозрил, что еще до прихода полинезийских рыболовов на восточном мысу Хива-Оа обосновался энергичный народ, которому было привычно воздвигать каменных истуканов. В старину полинезийцы тоже были полны энергии и энтузиазма, но они больше увлекались мореплаванием, войнами, резьбой по дереву. Каменные изваяния явно воплощали иную традицию. Недаром обитатели приморской деревушки твердили, что не их предки воздвигли этих истуканов.
Вечером Генри Ли вернулся с плантации и составил нам компанию. Положив стопку книг подле керосинового фонаря, он показывал мне страницы, которые я и прежде видел, однако не уделил им достаточного внимания. Генри напомнил мне про сохранившиеся в Полинезии предания, будто на этих островах предков нынешних полинезийцев опередил другой народ. По всему полинезийскому треугольнику — от Пасхи на востоке до Самоа и Новой Зеландии на западе и Гавайских островов на севере — первые европейские мореплаватели слышали одну и ту же версию: полинезийцы застали на многих островах светлокожих рыжеволосых людей, называвших себя потомками бога Солнца, и либо изгнали, либо абсорбировали их. Память об этом была настолько свежа, что европейцев приняли за возвратившихся в свои прежние владения представителей светлокожего народа. Когда гавайцы поняли свою ошибку, они убили капитана Кука. Ему не повезло в отличие от Кортеса и Писарро, которые легко покорили могучие империи ацтеков в Мексике и инков в Перу как раз благодаря тому, что в памяти местных народов сохранилось предание о светлокожих переносчиках культуры, поклонявшихся Солнцу и воздвигавших исполинские каменные статуи. Согласно легенде, эти солнцепоклонники ушли куда-то через Тихий океан.
— Полинезийцы обожествляли предков, — говорил Генри Ли. — Они были знатоками генеалогий и могли перечислить поименно всех своих предков вплоть до тех, которые впервые высадились на здешних островах. На Маркизах генеалогии были зашифрованы в замысловатом узелковом письме вроде перуанских кипу. У нас нет причин не верить им, когда они утверждают, что до полинезийцев здесь уже жили какие-то племена.
— Но какие именно? — спросил я. — До Южной Америки семь тысяч километров, до Индонезии вдвое больше — где искать?
Генри Ли пригладил свои длинные светлые волосы.
— Во всяком случае викинги тут ни при чем, — усмехнулся он. — И нелепо говорить о народах, которые будто бы дошли сюда по сухопутным мостам. Каждый геолог знает, что в полинезийской области океана таких мостов не было. Речь может идти о мореплавателях из безлесной страны, где было заведено использовать для строительства камень и высекать статуи. Полинезийцы вышли из лесистых краев и были мастерами резьбы по дереву. Они вырезали тотемные столбы, украшали резьбой носы своих пирог. Конечно, и они умели делать орудия или фигурки из небольших камней, но никто не видел, чтобы полинезиец врубался в горный склон и вытесывал монолитные изваяния. Никто. Да и сами они не приписывают себе таких подвигов. Может быть, кто-нибудь из вас хочет попробовать?
Я согласился, что это непросто. К тому же тут нужно было не только большое искусство, но и традиция. Ни один европейский народ каменного века не затевал ничего подобного. В Африке только в стране фараонов найдешь сходные примеры.
Алетти прервал нашу беседу, сказав, что нас приглашает в гости второй белый житель Пуамау. Мы чуть не забыли о его существовании, а пришли к нему в дом и увидели симпатичного маленького француза с густыми бровями и длинными висячими усами. Генри Ли представил его предельно коротко: «Мой друг». У них было заведено до поздней ночи сидеть и толковать о политике, искусстве, науке. В минуты разногласий француз набивал ноздри нюхательным табаком и стучал кулаком по столу: уж он-то знает мир, ходил шеф-поваром на роскошной яхте, охотился на медведей в Канаде, пас овец в Новой Зеландии, искал золото на Аляске!
Маленькая хижина старого чудака напоминала карточные домики нашего детства. Нам пришлось пригнуться, чтобы войти в самодельный дворец, крыша которого была сделана из снопов соломы, а стены — из ящиков и плавника. Конура конурой, но сколько же в ней поместилось хитроумных устройств! Дернет гордый улыбающийся хозяин за веревочку или повернет гвоздь — жди какого-нибудь чуда. Пора ложиться спать — тянет за одну веревку, собрался закусить — тянет за другую: и койка, и стол складные. Не сходя с места, он мог дотянуться до всех тайников и приспособлений. Дернешь не ту веревочку — на тебя сверху спускается седло. Или вдруг открывается ящик с чудесным свежим хлебом. Француз сам пек хлеб в жестяной печи между столом и койкой.
Все не могли одновременно уместиться внутри, так что нам пришлось осматривать лачугу по очереди. Затем Генри Ли повел нас обратно в свой просторный коттедж, и француз пошел вместе с нами, неся под мышками по заманчиво пахнущему горячему караваю. До самой смерти не забуду я этого человечка из ларчика. Обернувшись, я еще раз посмотрел на окруженную аккуратным огородом необычную конурку с бамбуковым полом и соломенным потолком. Рядом с высоченными кокосовыми пальмами она казалась особенно маленькой. В ней заключалось все достояние французика, но я в жизни не встречал среди белых более довольного и по-настоящему счастливого человека.
Увидев разложенные на столе Генри книги, он сразу загорелся. Пока хозяйка накрывала на стол и резала хлеб, француз подошел к одной из коек и взял толстую книгу; было видно, что он с ней хорошо знаком.
— Вот вы говорили про наши статуи, — сказал он. — Взгляните сюда.
Он показал мне иллюстрацию. Поразительно. Могучая статуя точно такого вида, какую мы видели утром. И так же стоит под открытым небом среди деревьев. Огромная, в треть высоты истукана, голова, смехотворно короткие ноги, круглое, намеренно гротескное лицо с большими глазищами, плоский широ— кий нос, рот от уха до уха — полное совпадение.
— А посмотрите на руки: согнуты в локтях, кисти лежат на животе, — горячо продолжал старик. — В точности, как у всех статуй здесь на острове.
Я заглянул на обложку. Книга повествовала о путешествиях в Южной Америке. Прочел текст под иллюстрацией. Статуя была воздвигнута в Сан-Агустине в Северных Андах, прямо на восток от Маркизов. В той же области было обнаружено множество сходных изваяний, и я читал еще раньше, что зона больших антропоморфных статуй непрерывно тянется оттуда вплоть до Тиауанако, важнейшего доинкского культурного центра на берегах озера Титикака. Истуканы найдены и на самом берегу Тихого океана ниже Сан-Агустина. Современные индейцы были непричастны ко всем этим изваяниям. Европейские конкистадоры встречали каменных исполинов и в лесах, и в пампе, где их некогда оставили неизвестные исчезнувшие ваятели. Самая большая коллекция связана с доинкским культовым центром Тиауанако. Обитавшие поблизости от его развалин индейцы аймара сообщили испанцам, что древние статуи изваяны не их предками, а людьми чужого племени, белыми и бородатыми. Эти люди поклонялись Солнцу. Они пришли с севера, туда же потом удалились за своим вождем и спустились к океану около Манты в Эквадоре. И в этом районе все инкские предания говорят о прибывших из Тиауанако чужаках, которые погрузились на бальсовые плоты и, взяв курс на запад, навсегда исчезли в просторах Тихого океана.
Я посмотрел на троицу, окружившую вместе со мной керосиновый фонарь. Юный учтивый Алетти, уроженец Хива-Оа, не знающий, что такое школа, но обученный отцом читать и писать. Веселый французик — в одной руке огромный бутерброд с тушенкой и луком, другая перелистывает ученый труд. Наш невозмутимый норвежский хозяин в майке, не скрывающей обтянутых розовой кожей мускулов и темно-коричневых от тропического солнца плеч труженика. Внешность Генри никак не вязалась с его пристрастием к книгам. Для меня до сих пор остается загадкой, откуда человек, который ступил на берег Хива-Оа с пустыми руками, успев окончить только семилетку на родине, добыл такое множество ученых книг. И ведь он никуда не выезжал с острова, если не считать короткого посещения Таити, где Генри нашел свою нынешнюю жену. В глухом закоулке далекого острова он и его друг, этот маленький Робинзон Крузо, поведали мне интереснейшие вещи, каких я не слышал ни от одного профессора.
Я поглядел внимательнее на снимки статуй Сан-Агустина. Многие из них удивительно напоминали заброшенные изваяния в долине Пуамау.
Южная Америка. Слишком уж далеко, чтобы можно было предположить контакт через океан. Впрочем, расстояние до Индонезии в противоположной стороне вдвое больше, и там нет сходных памятников. Да и на Азиатском материке за Индонезией не найдено ничего похожего на статуи Пуамау.
Француз торжествующе захлопнул книгу, словно закрыл ларец с сокровищами, дав нам налюбоваться его содержимым. Вот тут и разберись… Естественно положиться на моих учителей, ведь они опирались на пособия, составленные признанными авторитетами. Считалось, что до европейских парусников к здешним островам могли прийти лодки только из Азии и Индонезии, поскольку у американских индейцев не было мореходных судов. Меня учили верить авторитетам. Но я верил также собственным глазам. Да и так ли уж надежны авторитеты, если они сами по-разному судят, из какой именно области Азии происходят полинезийцы.
Одни называют Яву, другие — Китай, Индию. Некоторые забираются в поисках родины полинезийцев в Египет и Месопотамию. Даже в Скандинавию! Но в огромной буферной области, отделяющей Полинезию от Индонезии, нет никаких следов прохождения полинезийцев. На семь тысяч километров в ширину простерся здесь островной мир с древними воинственными австрало-меланезийскими и микронезийскими племенами. И такой же ширины необитаемая морская пустыня отделяет от Маркизов Южную Америку. И почему непременно надо считать, что люди только однажды высаживались на этих островах?
Когда Тераи завершил свой обход, мы легли спать. На другой день рано утром ему предстояло ехать одному через горы в долину Ханаиапа на северном побережье. Остальные долины давно опустели. Генри Ли уговорил Тераи оставить нас в Пуамау: очень уж меня увлекла загадка каменных великанов. Лив получила от Тераи нужные указания и взялась лечить нас обоих.
Целую неделю я ежедневно поднимался к культовой террасе, известной островитянам под названием Оипона, и досконально все осмотрел. Над участком, где стояли статуи, огромным пальцем возвышалась скала Туэва, очень похожая на фатухивскую скалу, вершину которой мы покорили. Генри Ли рассказал, что пробовал подняться на Туэву, но был вынужден отступить, слишком ненадежен камень, служащий мостиком к самой вершине.
Взяв в провожатые одного симпатичного паренька из деревни, мы с Алетти отправились на штурм скалы и довольно легко добрались до широкой вымощенной площадки, с которой открывался великолепный вид на долину. Мы видели даже кусок пляжа. Дальше путь был посложнее; все же вертикальная трещина в гладкой скале позволяла достаточно надежно цепляться руками и ногами. У самой вершины трещина переходила в небольшой камин. Протиснувшись сквозь него, мы добрались до рассекающей вершину щели, через которую и впрямь был переброшен весьма шаткий камень. Соблюдая предельную осторожность, мы одолели этот мостик и выпрямились в рост. Замечательный кругозор! Вся долина простиралась перед нами, а внизу краснели среди листвы каменные великаны.
Вершина была расчищена и выложена плитами. Небольшую площадку ограждал бруствер из тяжелых камней. В ямках между ними лежали камни для пращи. Подобно некоторым древним народам Среднего Востока и Перу, но в отличие от народов Индонезии и Восточной Азии, древние маркизцы пользовались пращой на войне. Две маленькие наклонные трещины за бруствером были набиты плесневелыми костями и черепами.
Между культовой площадкой внизу и этим маленьким оборонительным укреплением явно существовала какая-то связь. В случае вражеского вторжения король со своими жрецами и приближенными мог занять позицию на вершине, оставив главные силы оборонять нижнюю террасу. Сумей противник все же занять террасу, дальше воинам надо было по одному протискиваться через камни. А с шаткого мостика ничего не стоило столкнуть их вниз, к истуканам.
Только голод и жажда могли принудить защитников к сдаче последнего бастиона. Видимо, так и получалось с ваятелями, когда предки нынешних островитян высадились на берег Пуамау и захватили долину.
Соблазнительно было посчитать нагроможденные в трещинах, позеленевшие кости останками исчезнувших каменотесов. Соблазнительно, но вряд ли верно. Этим костям было от силы несколько десятков лет. Скорее всего они очутились здесь в конце прошлого века, когда перед осклабившимися идолами происходили последние каннибальские ритуалы. Генри Ли еще застал людей, помнивших эти ритуалы. На культовой площадке обращал на себя внимание алтареподобный камень, один угол которого был оформлен одноглазой личиной. На поверхности камня было несколько чашевидных углублений, и местные жители утверждали, что эти ямки наполнялись человеческой кровью во время жертвоприношений.
Особенно интересной показалась мне лежащая фигура, напоминавшая скорее плывущего зверя, чем человека. Несравненный образец каменной резьбы. Только настоящий мастер-профессионал мог изваять эту симметричную, обтекаемую, гладко отшлифованную скульптуру. Я не мог ни с чем ее сравнить, ведь тогда мне еще не довелось видеть сотни заброшенных и забытых статуй в южноамериканских дебрях под Сан-Агустином. Когда же три года спустя я попал туда, то сразу обратил внимание на две большие каменные скульптуры точно такого типа: в позе пловца лежали на животе звероподобные фигуры с демоническими лицами и вытянутыми вперед коротенькими руками. Южноамериканские экземпляры можно было истолковать как символическое изображение обожествленного каймана. Но в Полинезии не водились ни кайманы, ни крокодилы.
Стремясь проверить все детали, я с помощью Алетти расчистил подпиравший эту скульптуру короткий цоколь. Алетти старательно скреб камень перочинным ножом, и мы с удивлением увидели высеченные на цоколе изображения двух сидящих на корточках фигур с поднятыми вверх руками. А между ними — два четвероногих зверя в профиль: глаз, рот, торчащие уши, длинный хвост.
Четвероногие звери! Сюжет для детектива. Каждому, кто занимался Полинезией, известно, что из четвероногих у полинезийцев были только собака и свинья, причем собака почему-то не достигла Маркизских островов. Но и не свинья была передо мной: длинный тонкий хвост торчал кверху, и только самый кончик его чуть изогнулся, как это бывает у кошек. Кошка… Нет, во всей Полинезии, да что там, во всей Океании, включая Австралию, кошки неизвестны. Собака? Художник мог видеть собаку на других островах. Но у полинезийской собаки был пушистый хвост крючком, а не торчащая тонкая палочка. Кажется, нож Алетти помог нам сделать новое открытие… Местные жители пришли посмотреть на нашу находку. Сами они, поднимая поваленную кем-то много лет назад статую, не заметили этих изображений.
Лишь много позже таинственный сюжет получил свое развитие. В свое время фон ден Штейнен забрал с культовой площадки наиболее искусно изваянную каменную голову и доставил ее в Музей народоведения в Берлине. И ведь я видел ее там, когда готовился к поездке на Маркизы, но не оценил ее значения и не присмотрелся к шее. Снова попав в музей много лет спустя, я исправил эту оплошность и увидел две скорченные фигуры и двух длиннохвостых четвероногих зверей — таких же, каких сам обнаружил на Хива-Оа. Фон ден Штейнен не заметил рельефы на цоколе поваленной статуи. Ему были известны только изображения на вывезенной им голове, сохранившиеся настолько хорошо, что он различил длинные когти на лапах и волоски на морде, усиливающие сходство с кошкой. Но поскольку кошек в Полинезии не знали, а хвост зверя не позволял назвать его собакой или свиньей, фон ден Штейнен заключил, что речь идет о крысе, последнем из трех млекопитающих, известных полинезийцам
[84].
Крыса. Но какой же художник, пусть самый неумелый, изобразит крысу с гордо поднятой головой и торчащим кверху хвостом. И еще никто не видел, чтобы на древних монументах в честь богов или героев были высечены крысы. Два льва как символ власти изображались на цоколях древнейших статуй хеттов и других народов Среднего Востока. Две пумы высечены на цоколе красной каменной статуи в Тиауанако, изображающей светлокожего и бородатого короля Кон-Тики, легендарного вождя ваятелей, которые, согласно инкским преданиям, ушли на запад через Тихий океан. Но это все кошки, не крысы.
Поднявшись вместе с Генри Ли и маленьким французом к культовой площадке, островитяне вынуждены были пересмотреть свое прежнее убеждение, будто статуя изображает рожающую женщину. Мы услышали от Генри, что до недавней поры местные женщины, ожидавшие ребенка, приносили сюда тайком дары. Островитяне лишь несколько лет назад поставили прямо изваяние, поваленное то ли их дедами, то ли миссионером Кекелой. Поэтому три исследователя, побывавшие здесь до нас, не заметили рельефов. В торчащем цоколе они усмотрели ребенка, выходящего из чрева богини; при этом их не смутило ни отсутствие головы и конечностей у младенца, ни тот факт, что он очутился на уровне пупка. Правда, Линтон усомнился в объяснении островитян и заявил, что фигура очень уж отличается от остальных, вряд ли она изображает человека. Сам он не выдвинул никакой версии, только заключил: «Нет сомнения, что ваятель мастерски воплотил великолепный замысел»
[85].
И Генри, и француз знали, что каменные статуи получили ограниченное распространение в полушарии, занятом Тихим океаном. Изваяния были найдены всего на нескольких островах, и почему-то все они расположены ближе к Южной Америке: остров Пасхи, Маркизы, Питкерн и Раиваваэ. Числом и размерами особенно выделяются статуи Пасхи, расположенного на полпути между Южной Америкой и остальными полинезийскими островами. На десятках тысяч других островов, разбросанных в Тихом океане, — ничего подобного. Спрашивается: почему изваяния сосредоточены в его восточной части?
Поскольку господствовал взгляд, будто ваятели происходили из Азии, на Тихоокеанском побережье которой ничего похожего не найдено, исследователи пришли к выводу, что ваяние зародилось самостоятельно на наиболее удаленных от Азии островах. Маркизские острова лежат несколько ближе к Азии, чем остров Пасхи, отсюда — гипотеза, что первоначально идея создания таких скульптур возникла на Маркизах, а уже оттуда переселенцы принесли ее на Пасху, крайний форпост Полинезии перед южноамериканским континентом. И будто бы на Пасхе ваяние достигло кульминации потому, что на безлесном острове полинезийцам, мастерам резьбы по дереву, пришлось всецело перейти на другой материал. Хотя гипотеза эта была всего лишь воздушным замком, с ней согласились почти все после того, как ее преподнес в качестве «элементарной истины» ведущий авторитет в области полинезийской культуры Те Ранги Хироа. А ведь Те Ранги Хироа сам не бывал ни на Маркизах, ни на Пасхе и не видел статуй своими глазами
[86].
Впрочем, Генри и его французский друг не очень-то полагались на авторитеты. То, что они сами видели и трогали руками, весило для них больше, чем постулаты, призванные подтвердить надуманную гипотезу. Я услышал вопрос: насколько близко прошли мы к Мотане, направляясь с Фату-Хивы на Хива-Оа? Присмотрелись к его ландшафту? Нет? Так вот, этот островок теперь совсем голый, а не так давно там был такой же густой лес, как на соседних островах. Люди превратили Мотане в пустыню. Почем знать, может быть, раньше и остров Пасхи вовсе не был безлесным? Обилие монументов позволяет предположить, что остров был перенаселен, и люди вполне могли истребить лес. В Норвегии, добавил Генри Ли, сотни безлесных островов. Или взять Исландию, Шетландские острова — где там лес? Тем не менее, когда туда пришли викинги, среди которых были и резчики по дереву, они не занялись ваянием. Да и как можно, даже не поглядев на немногочисленные статуи Пуамау, утверждать, что они старше сотен истуканов, воздвигнутых во всех концах Пасхи?
Пока загадка не решена, нельзя отвергать ни одну из возможностей, мудро заключил старый француз. Подняв указательный палец, он важно добавил, что превратно толковать факты еще хуже, чем вовсе их игнорировать, ведь превратные толкования мешают непредвзято смотреть на другие версии.
— От нас до Пасхи так же далеко, как до Южной Америки, — продолжал он.
— Если допустить, что кто-то с здешних островов принес на Пасху искусство ваяния, с таким же успехом можно допустить, что эти люди могли прийти сюда из Южной Америки.
Алетти промерил расстояние на школьном атласе. Да никто и не спорил, ведь француз был прав. К тому же час был уже поздний.
Потушен фонарь на большом столе, но я еще долго не мог уснуть, лежа на скрипучей железной кровати Генри Ли и пытаясь собраться с мыслями под аккомпанемент дружного храпа. Эх, вернуться бы когда-нибудь сюда после тщательной подготовки, провести в долине научные раскопки. Археологи тогда еще не работали на Маркизских островах, даже на знаменитом острове Пасхи не копали. Да и другие острова Восточной и Центральной Полинезии не изучались ими.
Мечты — что семена: им, чтобы прорасти, нужны хорошая почва и уход. Семена, посеянные в домике Генри Ли, не могли пожаловаться на уход, они про— росли и дали плоды. Много лет спустя я пришел в залив Пуамау на собственном экспедиционном судне. С мостика вместе со мной на зажатую горами долину смотрели четыре профессиональных археолога. Мы прибыли сюда с острова Пасхи. Полгода вели там раскопки, углубляясь в грунт, который за много столетий засыпал некоторых пасхальских великанов по самую шею. В земле этого удивительнейшего изо всех тихоокеанских островов были собраны новые драгоценные научные данные. Выявлены чередующиеся слои, отвечающие трем последовательным культурным периодам. Вооруженные свежими, надежными сведениями о возрасте и эволюции пасхальских статуй, мы прибыли на Маркизские острова за сравнительным материалом. Я всматривался в излучину черного пляжа. Не видно ли под пальмами большого коттеджа? И маленькой конурки? Нет. Ни того, ни другого.
Островитяне рассказали, что оба дома смыло наводнением. Вместе со всем инвентарем. Пропали книги Генри Ли, пропала его коллекция старинных идолов и других вещей языческой поры. Старый француз скончался. Генри Ли переселился в соседнюю долину и вел там жизнь отшельника.
Мы разыскали его. Хотя ему было трудно ходить из-за слоновой болезни, он расчистил участок в лесу и разбил новую плантацию, лучше прежней. Алетти
— гордость и радость отца — вырос в отличного молодого человека, собирался занять должность суперкарго на одной из таитянских торговых шхун.
Только красные каменные великаны оставались на тех же местах — неподвижные и неизменные. Правда, они успели снова укрыться за ширмой из деревьев и кофейных кустов. Сколько они простояли вот так? Сколько времени прошло с тех пор, как наделенные Творческим воображением энергичные и искусные мастера выломали из горного склона бесформенные глыбы, протащили их через густые заросли, пренебрегая обилием древесины, и превратили в истуканов по заранее обдуманному плану? Ваятели их обожествляли, враги боялись, миссионеры ненавидели и валили, немногие добравшиеся сюда современные путешественники восхищались ими, а сами они оставались такими же безмолвными, как лесные деревья.
Но через несколько месяцев за них заговорили экспедиционные археологи. Внутри постаментов, на которых стояли изваяния, и под ними был найден древесный уголь. Это позволило датировать культовые платформы радиоуглеродным методом, как перед тем мы датировали три чередующихся культурных слоя острова Пасхи. Выяснилось, что истуканы Хива-Оа были воздвигнуты около 1300 года. В это время ваятели среднего пасхальского периода уже полным ходом устанавливали исполинские статуи, которым предстояло прославить остров. Но наши раскопки показали, что еще до того скульпторы раннего пасхальского периода изготовили множество каменных великанов, похожих, как родные братья, на древнейшие статуи Тиауанако в Южной Америке. И получалось, что на ближайшем к Америке острове истуканов воздвигали задолго до того, как на Маркизах вообще началось ваяние. К тому же обнаруженная в кратерных болотах Пасхи цветочная пыльца позволила установить, что раньше он, как и все остальные острова теплого пояса Тихого океана, был покрыт лесом. Не было недостатка в древесине. Первые поселенцы свели лес, чтобы расчистить место для обширных каменоломен, для посадки американского батата, для больших деревень, состоявших из неполинезийских каменных построек. Словом, первые же раскопки нарисовали картину, обратную той, которую предлагали раньше, подгоняя ее под господствующую догму.
Но об этом, понятно, никто из нас не знал, когда мы с Лив, завершив наш первый визит в Пуамау, оседлали коней и простились с Генри Ли и его семьей. Напоследок мы еще раз проведали веселого француза, а затем двинулись по следам Тераи вверх по извилистой тропе, ведущей в горы.
Мы любовались видом, искали взглядом бескрылую птицу, беседовали — и запутались в тропинках на поросших папоротником буграх. Ошибка обнаружилась, когда тропа свернула вниз в глубокую долину Ханаиапа — ту самую, в которую Тераи направился из Пуамау. Небо заволокли тяжелые тучи, близился вечер, дотемна все равно не отыскать нужную тропу… И мы решили спуститься в последнюю из трех обитаемых долин Хива-Оа, где еще не бывали.
Когда мы начали спуск по серпантину, оставив позади горные плато, нам открылась довольно мрачная картина. Обе известные нам долины были образованы полукруглыми кратерами; здесь же мы увидели обращенное на север, к ревущему океану, глубокое и темное ущелье с нависающими безжизненными кручами.
На дне ущелья, у подножия отвесной стены, нам попалась неприглядная хижина обычного типа: привозные доски, неоткрывающиеся застекленные окна, рифленое железо. Мы постучались в дверь, осторожно заглянули в окно. Пусто. Ни циновок, ни другого инвентаря — очевидно, хижина заброшена.
Несколько дальше стояла еще одна, такая же постройка. И в ней обитали только ящерицы и пауки. Унылое зрелище… Лишь на лесной прогалине у самого берега моря увидели мы людей, Но и тут большинство домов пустовало. Мы рассмотрели целых три церквушки. Куда теперь направиться?
Пока мы размышляли, меня схватил за ногу какой-то оборванный тип. Он пытался мне что-то втолковать, но я плохо разбирал его речь. Темнота не позволяла разглядеть его лицо, однако мне показалось, что он больной и не совсем нормальный.
— Вене, — настаивал островитянин. — Плюй томпер.
На ломаном французском языке он твердил, что надвигается дождь. И предложил нам остановиться в доме протестантского священника.
— Мерси, — ответил я. — Мы будем ночевать на воле.
Островитянин, не выпуская моей ноги, энергично замотал головой и показал на небо. Там сгущались черные тучи, сверху по склонам ущелья сползал туман, Где-то в горах рокотало. Гроза. Довольно редкое для этих островов явление; значит, надо ждать нешуточной бури. Все же мы сдались только после того, как первый электрический разряд наполнил ущелье оглушительными громовыми раскатами и обрушил на нас ливневые каскады. Пришлось искать убежища на веранде священника.
Быстро спустилась ночь. Дождь лил как из ведра, тьму непрерывно рассекали ослепительные молнии, гром перекатывался между склонами, словно между крепостными стенами. Мы прочно застряли на веранде.
Мотаро — так звали приветливого хозяина этого дома — неторопливо рассказывал нам о долине, в которую нас нечаянно занесло. В Ханаиапе осталось всего три десятка жителей, все — полинезийцы. В деревне зверствует туберкулез. Суеверие не позволяет местным жителям предавать земле останки, и покойников кладут под пол хижины. В таких домах, говорил священник, все умирают. Слоновая болезнь и проказа здесь тоже распространены сильнее, чем в других долинах. Из тридцати жителей деревни двое потеряли рассудок.
Мы дремали, снова просыпались и не могли отделаться от ощущения, что нас окружает сплошной кошмар. Сверкали молнии, гремел гром, но мы не уходили с веранды. Сколько бы ни возмущался и ни обижался хозяин, ничто не могло нас заставить укрыться в доме и разделить ложе с другими гостями. Тогда уж лучше выйти под ливень. От кашля, стонов и причитаний, которые доносились через открытую дверь, у нас мурашки бегали по телу.
Среди ночи мы подскочили от зловещего шума. Сначала посыпались камни, потом раздался грохот, и в долину обрушилась часть нависающей скалы. От страшного гула все проснулись и в панике выскочили на веранду; дом дрожал от скатившегося в речку обвала. Постепенно эхо смолкло, но по склону продолжали прыгать большие и малые камни. И непрестанно полыхали молнии. Долго рядом с нами на веранде сидели перепуганные люди; наконец они вернулись в комнату и снова легли. Для жителей Ханаиапы обвал был привычным явлением.
К утру погода наладилась; тяжелые тучи ушли в море, продолжая громыхать и сыпать молниями. Взошедшее солнце осветило свежую влажную брешь на склоне. От самого края пропасти вниз тянулся красноречивый след; в зарослях на дне долины появилась широкая просека, заканчивающаяся грудами камня. Маленькая речушка разлилась и заполнила почти всю долину. Казалось, к заливу медленно катит поток расплавленного шоколада.
Мы не мешкая сели на коней. И с досадой увидели, что у нас появился спутник: впереди по тропе ехал верхом вчерашний дурачок. Он ни за что не хотел пропустить нас вперед. И так как накануне в темноте мы мало что смогли рассмотреть, самозванный провожатый ухитрился завлечь нас совсем на другую тропу.
К тому, же наше внимание поминутно отвлекали окружающие картины. Куда ни погляди — старые каменные стены. Вот огромная глыба, испещренная уже знакомыми нам ямками, рядом — плита с высеченным на ней изображением огромной ящерицы. Что-то очень старинное. Меня удивило, что художник изобразил маленькое животное, которое не считалось съедобным и не было предметом поклонения. Да еще так его увеличил. В Полинезии вообще не водились крупные рептилии. Самым большим представителем этого класса, которого видели мы с Лив, был наш жилец геккон Гарибальдус. Но ведь ни одному полинезийцу не пришло бы в голову увековечить его сильно увеличенный образ на каменной плите. Чудеса да и только.
Когда же начнется подъем? Тропа продолжала углубляться в заросли. Я встревожился. Что происходит?
Вот так штука! На земле перед нами лежали сотни человеческих черепов, и я понял наконец, что островитянин завел нас не туда. Вымощенная плитами прогалина в лесу была усеяна большими и малыми, белыми и плесневелыми, целыми и разбитыми черепами. Лежа бок о бок, они таращились в разные стороны пустыми глазницами и словно вдыхали лесной воздух костяными ноздрями. Я резко повернулся к нашему проводнику, требуя объяснения, островитянин обнажил в бессмысленной улыбке беззубые десны. Ясное дело: один из двух сумасшедших, про которых нам говорил священник. Соскочив с коня, я присмотрелся поближе к черепам. Одни принадлежали длинноголовым, другие — широкоголовым. Если верить форме черепа, у этих полинезийцев были разные предки. Где-то произошло смешение, то ли здесь, на Хива-Оа, то ли на неизвестной прародине полинезийцев. Совершенно очевидно было также, что в прошлом островитяне, будь то каннибалы или вегетарианцы, не могли пожаловаться на зубы.
Я вскочил на коня, и мы с Лив, преследуемые по пятам придурковатым островитянином, помчались рысью обратно, пока я не отыскал тропку, ведущую в горы. Здесь ухмыляющийся островитянин отстал, а мы продолжали подъем по серпантину со всей скоростью, на какую были способны наши лошадки.
Наверху мы остановились и еще раз окинули взором долину Ханаиапа. Над деревушкой с тридцатью жителями, тремя церквами и тысячами черепов снова собирались тучи.
Мы не спеша пересекли вольные горные плато и спустились в широкую, подковообразную долину Атуана.
Улыбающийся Тераи освободил наши ноги от бинтов. Болячки отлично заживали; правда, шрамы грозили остаться навсегда. Мы оставили коней и дошли пешком до наших китайских друзей. Нас встретили радостные возгласы и кипящие кастрюли. Ешь, отдыхай и жди очередной шхуны…
Прошло несколько дней. Мы сидели на веранде китайца, пили зеленый чай из пиал. В это время на дороге показался симпатичный коренастый радиотелеграфист Бельвас. У него была такая походка, словно он ступал по пружинному матрацу. Остановившись перед лавкой Боба, Бельвас развернул телеграфный бланк и торжественно зачитал текст окружившим его слушателям — Бобу, Триффе и горстке полинезийцев. Телеграмма извещала о назначении нового губернатора Французской Океании. Он уже вышел в море на военном корабле, чтобы посетить с официальным визитом Хива-Оа и Нуку-Хиву перед тем, как обосноваться в губернаторском дворце на Таити.
Не успел Бельвас убрать телеграмму, как поднялась страшная суматоха. В одно мгновение новость облетела всю деревню. В Ханаиапу и Пуамау был отправлен верховой гонец с наказом вызвать всех, кого еще держали ноги, в Атуану, где Триффе собирался организовать грандиозный прием в честь губернатора.
Все более или менее значительные обитатели Атуаны собрались на совещание. Уж коли представилась возможность осуществить некоторые меры по благоустройству, нельзя ее упускать. Когда-то еще они смогут обратиться лично к губернатору. Участники совещания горячо обсуждали различные предложения. Боб считал, что пора отменить ограничения на продажу спиртного островитянам. В неделю ему разрешалось отпускать им только по одной бутылке вина на брата. Он вовсе не гнался за прибылью, но ведь известно, что островитяне сами гонят спиртное из зеленых кокосовых орехов и упиваются до смерти. Пора с этим покончить.
Вельвас выступил с возражением. Белые могут покупать сколько угодно вина у Боба и на шхунах. Очень удобный и дельный порядок. А если отменить ограничения для островитян, они и впрямь упьются до смерти. Сейчас все же не так пьют, ведь не каждому охота лазить на пальмы за орехами и самому гнать вино.
Предложение Боба провалилось.
Единогласно постановили просить разрешения провести водосток под деревенской улицей. И все мечтали об электрическом генераторе для уличного освещения. На Таити уже провели электричество.
Следующий оратор заявил, что Фату-Хива нуждается в санитаре вроде Тераи. И рассказал про своих родичей на Фату-Хиве, лишенных всякой медицинской помощи. Последовали возражения. Дескать, ситуация на Фату-Хиве настолько бедственная, что все равно поздно что-либо предпринимать.
Решили воздержаться.
Триффе больше всего волновала программа встречи. Пляски, сказал Боб, хюла. Европейцам нравится смотреть, как девушки вертят задом. Все были согласны. Но очень уж мало девушек, пусть мужчины тоже участвуют. Костюм? Соломенные юбки, предложил Бельвас. Ему возразили. Чего доброго, губернатор подумает, что попал к каннибалам. Боб горячо ратовал за новые белые костюмы для всех участников. У него есть как раз то, что нужно. Один островитянин поддержал Бельваса. Современные танцовщики на Таити выступают в лубяных юбках. Гости из Европы одобряют такой наряд.
Развернулась жаркая дискуссия. Зачем принимать губернатора в дикарских одеяниях, когда можно одеться прилично? Большинство было за длинные белые платья для женщин, белые сорочки и отутюженные белые брюки для мужчин. Но сторонники лубяных юбок не унимались. Пришлось пойти на компромисс.
Когда губернатор прибыл на сером крейсере и высадился на берег, сопровождаемый свитой в безупречных белых мундирах, его встретили двойные шеренги танцоров, тоже в белом. Но поверх платьев и брюк были привязаны длинные лубяные юбки с болтающейся бахромой. Все остались довольны. Крейсер ушел; белый человек лишили раз полюбовался своей тенью; тропическое солнце озарило новую ступеньку на лестнице прогресса, ведущей в никуда.
Кто-то возложил венок на скромную могильную плиту Поля Гогена. Кто-то ценил его краски. Я подумал, что Гоген был миссионером наоборот. Пытался цивилизовать нас с помощью теплых красок островного народа. Мы же сумели убедить островитян в преимуществах белого воротничка. Я и сам надел воротничок в честь прибытия губернатора. А вернувшись в отведенный нам домик, сорвал его. Не сомневаюсь, что губернатор сделал то же, как только остался один в своей каюте.
Жарко… Обмотав бедра красно-зеленым пареу, я растянулся на панданусовой циновке на веранде. Прилично и прохладно, и никто не придерется, пока я сижу дома.
Меня тянуло на Фату-Хиву. Там мы были ближе к природе. Глупо сдаваться, не сделав еще одной попытки. Ноги Лив почти совсем зажили, и она решительно восстала против того, чтобы проситься на крейсер и плыть на Таити. Проводив взглядом ощетиненное пушками чудовище, мы не сомневались, что вернуться в Европу — значит увидеть, как современное общество рушится под тяжестью своих танков и линкоров. Независимо от того, кто с кем будет воевать. У нас был только один враг — фатухивские комары. И мы решили еще раз схватиться с ними. Лучше комариное жало, чем бомба. Тысячи жал не так страшны, как один штык.
Нас тянуло на Фату-Хиву, в нашу бамбуковую хижину.
Остров дурных предзнаменований
Я проснулся от звона тяжелой якорной цепи и увидел, что рядом со мной лежит очаровательная полинезийка. Ветер трепал ее черные волосы. Вечером, когда я засыпал, ее тут не было. Вдали, совсем низко над горизонтом, покачивалось солнце — в следующую секунду его заслонил толстый гик. Только я хотел сесть, как пришлось живо распластаться на палубе, чтобы гик не снес мне череп. Неизвестная красавица рассмеялась, потом натянула одеяло к самому носу. По другую сторону от меня спала Лив, и всюду на палубе лежали люди, закутанные в пледы и коврики.
Качка усилилась, и я вспомнил, что накануне мы поднялись на борт шхуны «Моана», которая бросила якорь под защитой мыса Атуана. Она пришла за копрой через две недели после молниеносного визита военного корабля. Очевидно, остальные пассажиры явились ночью или на рассвете. Из трюма доносились громкие голоса, но те, кому был не по душе тошнотворный запах машины и копры, подобно нам устроились на люке, под самым грота-гиком.
Но вот якорь поднят, ветер наполнил грот, и «Моана» белым орлом скользит к выходу из зеленой бухты. Парус прочно удерживал гик у правого борта, можно было спокойно сесть и полюбоваться напоследок широкой долиной Атуана, пока она не исчезла вдали. Прощай, долина Тераи, мистера Боба и Поля Гогена! Что тебя ждет? Может быть, и впрямь появятся уличные фонари, откроется свободная продажа спиртного. А может быть, такие люди, как Тераи и мадам Хамон, возродят здесь власть солнца.
Огибая мыс, мы приметили развалины нескольких построек. Здесь находился госпиталь для прокаженных. Недавно дома сломали и сожгли, чтобы истребить бациллы и помешать распространению заразы. А обитателей маленького поселка отправили в их родные деревни; лишь кое-кого перевели в госпиталь на Таити.
Вечный пассат подул в полную силу, мы жадно вдыхали свежий соленый воздух — дыхание безбрежного океана. Два-три островитянина озябли и укрылись пбд палубой, остальные укутались поплотнее в одеяла. В этот ранний час было еще довольно прохладно. Трем молодым вахинам слева от меня не терпелось познакомиться с нами, они пересмеивались и кокетничали, но тут по шхуне распространилась новость, которая прогнала улыбки с их лиц.
На борту находится сумасшедший: в трюме заперт опасный преступник, его везут на Таити. Он нарушил табу, и его постигла кара. От шкипера мы услышали подробности.
Задумав посадить кокосовые пальмы на заброшенных землях, в обезлюдевшей долине рядом с Атуакой поселилось несколько полинезийцев, двое даже с Таити приехали. В той же долине стояло огромное старое дерево, охраняемое строгим табу. Но молодые таитяне не испугались священного запрета, подошли к дереву и обнаружили дупло. А в дупле лежали три необычно больших человеческих черепа. Они таких в жизни не видели. Алчность взяла верх, и парни забрали черепа, рассчитывая сбыть их туристам на Таити за хорошую цену.
В ожидании шхуны, идущей в Папеэте, они спрятали черепа в чемодан. Но в первую же ночь, как потом рассказывали жандарму, черепа начали скулить.
Один парень почувствовал угрызения совести и хотел сразу же отнести черепа на место. Другой уперся, его манили деньги, он не верил ни в какие табу. Между тем в чемодане
поднялся такой шум, что даже соседям было слышно. Тут и второй парень перепугался, да так, что потерял рассудок. Схватил мачете и бросился на своего приятеля, собираясь отсечь ему голову. Завязалась драка. Наконец соседям удалось обезоружить свихнувшегося таитянина. Его доставили через горы в Атуану и сдали жандарму. И вот теперь его везут в тюрьму в Папеэте.
Я подумал о том, что маркизские крысы, судя по всему, охотно селятся в пустых черепах…
Вскоре с левого борта над качающимся горизонтом показался островок Мотане. Тот самый, очертания которого мы видели, когда направлялись на север. Тогда мы прошли вдали от него, теперь же, к нашему удивлению, капитан велел смуглому рулевому править прямо на необитаемый остров. Дескать, не мешает запастись провиантом, свежим мясом.
Неясный силуэт сменился трехмерным ландшафтом, и нашим глазам предстало неожиданное зрелище. Мы-то приготовились увидеть густой зеленый лес, как и всюду, где природа отвоевала земли, покинутые человеком. Но тут — ничего подобного. И мы вспомнили, что нам говорили на Хива-Оа старый француз и Генри Ли: на Мотане вмешательство человека Лигубило лес.
Шлюпка приблизилась к острову с подветренной стороны, насколько позволял прибой, и мы прыгнули на скалы у подножия отлогого пригорка. Высадив кроме нас горстку полинезийцев, лодка отошла на безопасное расстояние.
Несколько человек, одетые в одни только пестрые пареу, вооружились острогами и нырнули в бушующее море, чтобы поохотиться на рыб и лангустов. Остальные поднялись на пропеченный солнцем склон: белый, сухой, стерильный песок, мелкие камни, голые плиты… И ослепительно яркий свет, словно на коралловом пляже. Тут и там торчали сухие кустики с толстыми кожистыми листьями. И вся растительность. Ни дерева, ни травинки, солнце без помех жгло не защищенную древесными кронами землю. Кругом простиралась подлинная пустыня. Изредка попадались мертвые белые стволы без коры, без листвы, будто выгоревшие кости. Голые сучья призрачными пальцами тянулись к голубому небу.
И всюду валялись побеленные солнцем кости, кривые рога, черепа животных. Куда ни повернись, одна картина: источенные ветром камни, сухой кустарник, скрюченные овечьи скелеты. На мертвом дереве сидел и кукарекал одичавший петух, издалека ему откликался другой.
Когда-то здесь жили люди. Нам встречались старые полинезийские фундаменты паэпаэ, искусно сложенные из валунов. На Маркизских островах строители всегда заботились о том, чтобы пол дома был поднят достаточно высоко над сырой лесной почвой. Сырой почвой… На Мотане от нее не осталось и следа. Нигде ни капли влаги, сплошь сухой песок. Правда, в ложбинах и ущельях мы увидели высохшие русла с глубокими заводями. От этой картины полного безводья сразу стало как-то сухо во рту… А соленый душ, которым нас обдали разбивающиеся о камни волны на наветренной стороне острова, заставил еще острее ощутить нехватку питьевой воды.
Мы шли без провожатого, да он и не был нужен, чтобы ориентироваться на этом голом клочке земли и разобраться, что тут произошло. Остров Мотане представлял собой поле битвы, на котором современный человек одолел природу. На других островах архипелага дебри победили. Здесь — нет. Там, где победили дебри, человек вполне мог обосноваться вновь. Здесь — нет. На Фату-Хиве и на Хива-Оа мы видели последствия стараний белого человека утвердиться и улучшить условия для себя и полинезийских хозяев. Он ввел свой образ жизни, привез своих домашних животных — и нарушил баланс природной среды. И когда его попытки «помочь» островитянам потерпели крах, он отступил, испугавшись собственной тени. А дебри шли за ним по пятам, местами до самого берега, и вернули всю потерянную территорию.
На Мотане получилось иначе. Остров был мал, чересчур мал, чтобы выстоять в неравном бою. Со времени прихода первых европейцев на Маркизских островах шла непрерывная жестокая борьба за существование, и борьба эта потребовала немалых жертв. В 1773 году, по подсчетам капитана Кука, на Маркизских островах жило 100 тысяч человек. Следом за ним явились европейские поселенцы, китобои, миссионеры, и началась трагедия. Сто лет спустя, в 1883 году, перепись населения дала цифру 4 865 жителей. Этнолог Ральф Линтон в 1920 году насчитал около трех тысяч, из которых многие были китайцами или метисами; на Тахуате ему сообщили, что смертность чуть не в сто раз превышает рождаемость. Возможно, какие-то из этих цифр преувеличены, но все равно потери в борьбе против привезенных европейцами инфекций и нового образа жизни достигали потрясающих размеров. На Мотане вообще не осталось никого, кто мог бы рассказать о прошлом этого острова призраков.
Поднявшись повыше, мы впервые увидели какуюто живность. Две-три овцы с ягнятами, испуганно блея, бросились наутек в сухой кустарник. Маленькие, тощие, облезлые… Трое босых матросов с «Моаны» ринулись вдогонку и легко настигли изможденную скотинку. Охотники попросту хватали овец руками и несли к берегу, взвалив добычу себе на плечи. Мы с Лив молча смотрели на это печальное зрелище. Повернувшись к нам, замыкающий с торжествующим смехом сказал, что мы можем подождать здесь, они еще вернутся, чтобы продолжать охоту. Овечки костлявые, мяса на них маловато.
Ослепительное солнце показалось мне луной, озаряющей заброшенное кладбище. Призрачно-белые деревья среди костей и черепов — словно памятники над разоренными могилами. Полдень сменился полночью.
Вот еще один каменный фундамент, древний паэпаэ. Некогда на нем стоял дом. И была дверь, через которую сновали детишки и входили, пригнувшись, мужчины с острогами в руках. А в доме женщины их ждали с ароматным пои-пои и печеными хлебными плодами. Может быть, как раз вот эти голые ветви иссохшего дерева некогда гнулись под тяжестью плодов.
Но в голубом заливе за рощей бросил якорь большой европейский парусник. Люди в треуголках и странных одеждах, с грохочущим огнестрельным оружием сошли на берег, требуя воды, плодов, поросят, женщин. С собой они привезли странных животных с длинными зубами на голове, привезли ром и рецепты напитков, куда более крепких, чем невинная местная каза, привезли свои обычаи и нравы, привезли заразные болезни. Островитяне все принимали с восхищением и благодарностью. Пришел конец дикости в Полинезии. Заодно пришел конец полинезийской культуре. А на Мотане всему пришел конец. Может быть, последний житель острова испустил дух на панданусовой циновке. Как раз на этом паэпаэ, где мы присели отдохнуть. Может быть, последняя семья, отчаявшись, села на лодку и бежала на Хива-Оа, чьи вершины можно было различить на горизонте в ясную погоду. Может быть, последним жителем острова был ребенок, одиноко бродивший среди деревьев и животных. Нам остается только догадываться.
Но мы точно знаем, что брошенный людьми остров одичал. Самыми живучими оказались овцы. Те самые овцы, которые, по мысли белого человека, должны были стать последним добавлением к тому, чем сама природа облагодетельствовала островок. На материке хищники помогли бы поддерживать естественное равновесие, позаботились бы о том, чтобы от каждой одичавшей пары в среднем оставалось не больше двух ягнят. Но на Мотане с исчезновением человека ничто не мешало овцам размножаться сверх всякой меры. Многочисленные стада поедали траву, листья, выгрызали корешки, обгладывали кору, так что деревья зачахли и остров превратился в пустыню. Без деревьев, прикрывающих землю от жгучих лучей солнца, без корней, удерживающих влагу, каждая капля дождя уходила в глубь грунта. Без питания высохли ручейки и речушки, не осталось никакого намека на влагу. Биологические часы Мотане не просто остановились — они пошли назад, и теперь стрелки показывали случайному гостю, как примерно выглядела наша планета до того, как из моря на сушу пришла жизнь. Если матросам «Моаны» удастся выловить последних тощих овец, этот миниатюрный мирок уподобится планете Земля той поры, когда только океан и воздух были освоены живыми организмами. Той далекой поры, когда время точило камень, превращая его в песок, когда песок и вода с помощью солнца наполнили сперва моря, потом воздух тварями, которые плавали и летали вдоль безжизненных берегов. Сколько миллионов лет пришлось бы нам просидеть на паэпаэ, дожидаясь, когда выброшенные на берег водоросли снова обратятся в траву и деревья? Когда рыбы снова выберутся на сушу и обзаведутся легкими, конечностями, мехом? Наверно, предки маленькой рыбешки, которую мы видели на Фату-Хиве, сотни тысяч лет резвились на приморских скалах, однако ни одна из них не сделала даже первого шага на долгом пути к превращению в кенгуру или обезьяну.
Нет уж, лучше поберечь тот мир, который нам достался. Очень много времени понадобится, чтобы образовался новый…
Мы успели задремать, сидя на паэпаэ, когда матросы наконец прекратили охоту и пришло время возвращаться на «Моану». Чистые воды вокруг островка кишели морской живностью. Среди богатого улова, добытого ныряльщиками, было много жирных мурен. Сваренные в кокосовом соку из захваченных с ХиваОа зеленых орехов, эти чудовища оказались куда вкуснее, чем рагу из тощих овечек.
Еще до захода солнца остров песка и костей скрылся за горизонтом. Мы словно путешествовали в космосе. Словно покинули мир, который был то ли намного моложе, то ли намного древнее нашего. Кутаясь в одеяло и втискиваясь между Лив и смешливыми вахинами, я мечтал поскорее вернуться в маленький зеленый мирок с журчащими ручьями и щебечущими птицами. Я безумно соскучился по нашей хижине на Фату-Хиве!
Да, только так называемый белый человек, одержимый страстью к переменам, к прогрессу, мог погубить райский островок, с которым так называемые туземцы обращались очень бережно.
А впрочем, верно ли это? Тогда я не подозревал, что голый остров Пасхи в прошлом тоже был покрыт пальмами и деревьями, но люди свели их. Причем это были те самые люди, которые задолго до прихода европейцев расставили по всему острову огромные статуи. Древние скульпторы рубили и жгли лес и кусты, пока — совсем, как на Мотане, — не высох последний ручей. Затем явился белый человек и стал разводить овец на оголенном острове. Но на Пасхе между камнями росла трава, рос папоротник; ведь как ни поредело коренное население от привезенных болезней, оставшихся жителей было достаточно, чтобы не дать овцам размножиться сверх меры.
Покидая Мотане на шхуне, я еще не знал, почему остров Пасхи на крайнем востоке Тихого океана стал бесплодным, поэтому мысли мои обратились к Месопотамии и странам Средиземноморья, где всем было известно, что человек давным-давно извел зеленые леса. Известно, что во времена шумеров и финикийцев пустыни Среднего Востока были плодородным краем, густые леса покрывали Ливан, Кипр, Крит и Элладу с прилегающими островами, пока люди не срубили их, чтобы строить дома и корабли и расчистить земли для возделывания. Кое-кто считает даже, будто пустыня Сахара — дело рук человека: пастушеские племена сожгли леса, а затем многочисленные стада коз и овец погубили пастбища. Современная наука как будто подтверждает это. Мы знаем, что Сахара продолжает наступать в южном направлении, в год на два-три километра, а то и больше, и одна из причин — неразумное землепользование. В сердце Сахары обнаружено множество древних наскальных фресок, на них изображены типичные обитатели дождевого леса, в том числе бегемоты. В районе Джанета на юге Алжира в трех различных местах древние фрески изображают серповидные тростниковые лодки такого же вида, какие нарисованы на скалах Верхнего Египта
[87].
Выходит, когда писались фрески, на месте нынешней Сахары были леса и болота, но люди превратили плодородный край в безжизненную песчаную пустыню.
Посещение обреченного островка в море между лесистыми нагорьями Хива-Оа и Фату-Хивы надолго врезалось в память. Может быть, именно воспоминание о судьбе Мотане побудило меня много лет спустя добывать образцы цветочной пыльцы на голом острове Пасхи. И уж во всяком случае оно послужило сигналом тревоги, который заставил меня энергично защищать окружающие цветущие ландшафты, когда я уже в пятидесятых годах обосновался в маленькой средневековой деревушке среди лесистых холмов итальянской Ривьеры. Из года в год сражался я на стороне могучих деревьев, отступающих под натиском человека. Ведь из года в год лесные пожары опустошают Средиземноморское побережье Франции и Италии.
Прежде главными виновниками пожаров были пастухи, птицеловы, неосторожные туристы. Теперь пастухов давно нет, зато на смену им пришли строительные подрядчики, которым «зеленые пояса» стоят поперек горла, да пироманы, отводящие душу в заброшенных лесах. Тлеющий окурок на высохшем навозе, огарок свечи на сухой хвое — много ли надо, чтобы незаметно подпалить густой подлесок, поднявшийся между стволами после того, как диких животных истребили, а крестьяне и пастухи перебрались в города, нашли себе место в сфере обслуживания, на пляжах и в отелях. Только гарь начнет покрываться новым кустарником и молодыми деревцами, как разражается второй пожар, за ним — третий… Кому какое дело до леса, который перестал приносить доход со времен угольщиков? Редкие любители природы бьют тревогу, немногочисленные местные пожарные дружины трудятся как черти, а люди, некогда кормившиеся землей, стоят на пляже и вместе с туристами любуются морем огня на склоне горы…
Судьба Мотане угрожает остаткам зеленых массивов Средиземноморья, и в наши дни процесс идет куда быстрее, чем шел он в древности. От пустынь Сахары и Месопотамии на юге и востоке, через оголяющиеся острова и жалкие остатки пышной природы эллинского мира опустошение распространяется на запад. Сгоревший лес не скоро восстанавливается. Если же он за десять лет горел трижды, меняется вся ситуация. Корни умирают, ручьи и речки пересыхают. Дождь вымывает из почвы драгоценный перегной, тоннами уносит его в море. Остается стерильный песок, голый камень. После сильного ливня шоколадная полоса вдоль побережья отчетливо говорит, куда девается драгоценная пресная вода и бесценная плодородная почва. Они возвращаются туда, откуда некогда вышла вся жизнь на земле, — в океан.
Мотане — далеко не единственное место на нашей голубой планете, где одержимый страстью к улучшениям человек крутит биологические часы в обратную сторону.
В долине каннибалов
Казалось, высокие пальмы нарочно выстроились для встречи вдоль королевской тропы. Не чопорные флагштоки на параде, а приветливо махающие представители зеленых дебрей Фату-Хивы желали нам «добро пожаловать» обратно в нашу родимую долину. Так и хотелось помахать в ответ, ведь мы знали их всех — и длинных, и коротких, и кривую, которая изогнулась над тропой, но потом, спохватившись, исправила ошибку и тоже потянулась вверх. Каждая пальма — наш личный друг. И так же мы воспринимали грозди орхидей на узловатых ветвях у нас над головой. Как будто они, не двигаясь с места, ждали нас с того самого дня, когда мы уехали. Мы узнавали свисающие в зеленый коридор лианы и воздушные корни. Легкое приветственное прикосновение, и они уже покачиваются за спиной.
Наш мир. Наша долина. Мы вернулись к себе домой, мы шли к нашей пожелтевшей бамбуковой хижине. Душа радовалась.
Босые, одетые в легкие пареу, мы вновь ощущали бодрящий контакт с подлинной жизнью, и природа играла на своих инструментах, будоража все наши органы чувств. Лес ласкал кожу, наполнял легкие теплым благоуханием. Мотане
— мертвая планета — остался позади, погрузился в соленые волны. Мы снова вступили в живой мир, где бабочки и пичуги по-прежнему вольготно порхали на солнце или в прохладной тени под зеленым пологом. Тучный перегной мощным слоем выстлал бесплодный камень, обеспечив опору и питание для грибов, корней, стеблей и могучих стволов. Не стерильный песок, а почва, в которой растет и копошится всякая мелюзга. Образец доставшегося человеку чудесного наследия: природа в седьмой день творения.
Мы углублялись в лес веселые, полные радостных предвкушений, словно дети, спешащие на день рождения. Кругом простирался мир, где ничто не сковывало нас, не ограничивало наши порывы и чувства.
Хотя день выдался облачный, нам казалось, что долина озарена солнцем. Облака не делали погоды. Воздух в дебрях по-прежнему был влажный, но теперь мы радовались влаге. Даже запах грибов и плесени был нам приятен. Все воплощало бьющую через край жизнь и плодородие. Накануне мы посетили остров, где даже грибы не хотели расти. За ночь совершили прыжок из мертвого мира обратно на живую планету. Планету, где листья роняли бусинки воды. Где журчащие ручейки вбегали на цыпочках в пляшущие речки. Где среди зелени деловито жужжали насекомые, выискивая, куда окунуть свой хоботок, словно им платили за то, чтобы они смазывали сложный животворный механизм, который обеспечивал нас тенью, воздухом, пищей.
Мы смотрели на все так, будто с глаз упала пелена, и всему восторгались, как восторгается путешественник в неведомом краю, хотя мы возвращались в собственный дом. Снова природа окружила нас множеством вопросов, над которыми стоило задуматься. Пустынный, голый островок Мотане не шел у нас из головы. После несчетных тысячелетий он возвращался к первобытному бесплодию. Таким же голым был вначале Фату-Хива. Сегодня здесь пышный лес, вчера его не было, завтра, быть может, опять не будет. Так сказать, заем на неопределенный срок. Но откуда все эти миллионы тонн сочной древесины, откуда сложнейший комплекс взаимозависимых жизней? Ветер и течение принесли отдельные клетки, а из них возникло все это изобилие живых, умирающих, гниющих и возрожденных видов. Масштабы времени не позволили нам наблюдать это превращение голого камня в зеленое царство; чудесное взрывное развитие органической материи произошло незримо для глаз человека и зверей, как незримо немое чудо банана, который за один сезон неприметно вырастает из черной земли. Подобно всем животным, человек — ради самозащиты — создан так, что его зрение, слух, обоняние, осязание реагируют на резкие изменения. Все постоянное, однообразное, неподвижное усыпляет нас. Мы не видим кончика носа, неизменно маячащего у нас перед глазами, не слышим привычного шума улицы или водопада. Собака спокойно спит под тянущейся вверх яблоней, птица безмятежно сидит среди медленно разрастающихся ветвей; они не замечают набухающих среди листвы яблок, пока одно из них вдруг не свалится на землю. Природа привила всем нам, живым тварям, способность замечать лишь происходящие поблизости от нас быстрые перемены, которые могут оказаться опасными. Наши восприятия не настроены на медленные изменения, ведь они редко представляют для нас угрозу. Чаще всего они связаны с безмолвной работой природы, она-то и обеспечивает нам хлеб насущный и необходимую для жизни среду.
Два маленьких прыжка на шлюпке, которые в одни сутки перебросили нас с голого острова в подлинно райские кущи, каким-то образом повлияли на частоту наших внутренних приемников. Нам казалось, что возникший из моря голый лавовый массив вдруг оделся великолепным лесом. В самом деле, ведь долина, по которой мы шли, когда-то была еще стерильнее, чем нынешний Мотане, — ни одной зеленой травинки, ни единой щепотки перегноя. В пучинах времени утонул процесс, создавший из ничего это зеленое богатство, словно бы принесенное ветром на ковре-самолете из тучной почвы. Голые скалы Фату-Хивы поднялись со дна морского и превратились в изобилующий яствами стол. Снующие в подлеске свиньи и ящерицы принимали это как должное. Как и наши друзья в деревне, которые сидели и ждали, когда упадут на землю созревшие кокосовые орехи, Но нам сегодня все виделось иначе. За пышной зеленью мы угадывали другой ландшафт, позавчерашний Фату-Хиву. По гребням и ущельям ползли потоки красной лавы; раскаленная пемза и пепел сыпались на текучую расплавленную долину; под нашими ногами из бурлящего океана вырастал остров. Маленький ад, умертвляющий все живое кругом, постепенно угомонился; кипящая лава застыла и образовала безжизненный фундамент Фату-Хивы. Пока ваятели самой природы — прибой и ручьи — терпеливо придавали острову его нынешний облик, пока человек еще спал в хромосомах своих примитивных предшественников, на Фату-Хиву прибыли первые крохотные поселенцы, влекомые течениями и ветром, оснащенные хромосомами, которые позволили им обзавестись корнями, ртами и прочими органами для того, чтобы сверлить, переваривать и удобрять стерильный грунт. Мельчайших семян и яичек от червей и насекомых оказалось достаточно, чтобы создать толстый плодоносный ковер, по которому мы теперь ступали, да еще украсить его мхами, травой, папоротником, кустами и могучими деревьями — всем, что нас окружало.
Дойдя до своей старой знакомой реки, мы сели на большой гладкий камень, чтобы полюбоваться текущей водой, послушать звучавшую тут и без нас мелодичную музыку. Единственными зрителями, кроме нас, были вьюрки на мшистом стволе, которые явно подстроили свои музыкальные инструменты под голос потока. В месте брода река текла так же стремительно, как во время ливней перед нашим отъездом. Мягкая земля пропиталась влагой. Рядом с моей ногой торчал гриб — чистый и белый, словно опрокинутое блюдце. Несколько дней назад его, наверно, не было; тогда я не увидел бы даже его зародыша, если бы копнул тут землю.
Обычно грибы не вызывали у меня большого восторга, разве что попадались очень интересные по форме или окраске. Этот был гладкий, белый, ничем не примечательный и вряд ли съедобный. Я ковырнул его ногой. Он сломался. На что хлипкий, а сумел пробиться из-под земли с такой силой и быстротой, что отвалил в сторону камешки. Шляпка и ножка белоснежные, чистенькие, словно девушка в выходном платье; будто этот аккуратист и не касался темного перегноя, из которого вышел.
На изломе было видно расходящиеся от ножки пластины органов размножения. Давно ли все это творение природы было величиной всего лишь с одну из своих миниатюрных спор? И что помешало грибу расти дальше? Стать величиной с зонтик, мельничный жернов, цирковой шатер. На Мотане не нашлось земли для одного-единственного гриба; здесь от пляжа вплоть до подножия круч Тауаоуохо было сколько угодно почвы. Исполинские грибы могли занять всю долину Омоа, затмить лесной полог, всосать в себя все питательные вещества, а затем опасть, словно проколотый шар, погибнуть, как погибли овцы на Мотане, когда съели всю траву.
Так почему же дикий гриб, занесенный на Фату-. Хиву ветром, вел себя более цивилизованно, чем домашняя овца, доставленная на Мотане человеком?
Поглощенный размышлениями, я машинально отмахивался от изголодавшихся комаров. Они роями осаждали нас, и Лив надела рубашку, защищая плечи. Она похвалила маленьких вьюрков — наших союзников в борьбе с насекомыми. На дерево над нами опустился самый красочный из наших лесных друзей — маркизская кукушка в костюме попугая. Еще один союзник в борьбе против комаров, притом раз в десять крупнее вьюрка. Одна черта роднила с грибом этих птиц: сколько бы вьюрок ни ел, не вырастет с кукушку, и кукушкины размеры раз и навсегда определены. Или взять эту маленькую плодовую крысу, что прыгает с куста на куст, словно пушинка, бегает по самым тонким веткам. Кругом — тонны плодов и орехов, а она всегда останется Дюймовочкой и не догонит ростом дикую свинью, которая кормится той же пищей.
Природа пошла бы вразнос, не держись каждый вид в рамках предопределенных размеров. С начала времен за этим следят хромосомы. Мои профессора показывали мне в микроскоп, как просто все происходит. В оплодотворенном яйце или семени клетка делится на две, на четыре, на сотни миллиардов всевозможных клеток. Но как только достигнута определенная форма и величина, деление разом прекращается. Автоматически, без вмешательства извне бесчисленные клетки прекращают строительство, когда рога и внутренности, зубы и хвосты приобретают должный вид и величину. Муха, кит, листок, кокосовый орех — все живое укладывается в положенные размеры. Незримая рука оснастила каждый вид органического мира незримым механизмом, неким тормозом, который никогда не ломается и вовремя дает команду: стоп, довольно! Не дальше этого предела! Этот гениальный механизм встроен в гриб, в окружающих нас мошек, в огромные лесные деревья, которые тянутся к облакам, но никогда до них не дотягиваются.
Проклятые комары! Я тоже надел рубашку, пока они меня совсем не сгрызли. Стоит солнцу подсушить лесную чащу, и комаров будет поменьше, птицы вполне с ними управятся. Тиоти сказал нам, что после нашего отъезда дождь не прекращался ни на один день. Но когда-то кончится же дождевой период.
Мы подняли свою ношу и зашагали дальше по королевской тропе. С радостью увидели на кустах зрелые гуаявы. Похоже, после нас здесь никто не проходил. Ну конечно: Вилли и Иоане привезли рис и муку.
Мы подошли к расчистке на королевской террасе. Лив захотелось пить, и она спустилась к роднику. Только присела и раздвинула зеленые зонты, как из травы выскочила дикарка Пото и одним прыжком скрылась снова.
А вот среди зелени и наша желтая бамбуковая плетенка. Право же, я успел по-настоящему привязаться к этой долине. Никогда и нигде не было мне так хорошо, как в приветливых, щедрых дебрях Омоа. Я отдыхал душой в окружении зеленой листвы, в среде, с которой мы уже освоились, в обители, где часовой механизм самой природы обеспечивал полный достаток. Вот только надо быть начеку против завезенной современным человеком инфекции.
Хижина. Кухонный навес рядом с ней. Грязь кругом еще не просохла. Слава богу, никаких отпечатков ног.
Но как все изменилось!
Лив догнала меня, и мы поспешили к дому, окруженные комариным роем. Передняя стена была наполовину скрыта большими, свежими банановыми листьями и другой зеленью. Просто невероятно, как быстро дебри отвоевывали расчищенную нами площадку. Словно буйная растительность выскочила из-под земли, когда мы на минуту отвернулись. Сколько мы отсутствовали — сутки, год?
По возгласу Лив я понял, что ее поразило то же, что и меня. Четыре столба, вбитые мной в землю как опоры для кухонного навеса, дали зеленые всходы.
Я потянул на себя дверь хижины. Вся рама подалась. Странно! Стукнул кулаком по золотистой плетенке, проверяя ее прочность. Рука прошла насквозь, точно через картон. Я заглянул внутрь. На провисшем потолке висели какие-то космы. Когда мы вошли, по стенам разбежались пауки и тысяченожки, обсыпав нас бамбуковой мукой. Как будто снег толстым слоем покрывал наш самодельный инвентарь, наши нары и все, что было спрятано под ними: каменные орудия, фигурки, черепа.
В наше отсутствие никто не входил в дом. Археологические и зоологические коллекции были в целости и сохранности. Но мы остались без жилья и без крова, если не считать лесной полог.
Мы вытащили ящик с черепами и прочее имущество, чтобы на него не польстились другие, когда хижина окончательно развалится, и спрятали все в сухой яме под камнями. Благодаря небо за то, что не поливает нас дождем, поспешили соорудить из ветвей и лопухов шалаш на расчистке перед бывшим домом. Завернулись поплотнее в старую кисею для защиты от комаров и уснули на толстом папоротниковом матраце. Почти сразу же во тьме кругом забарабанил дождь.
Утром мы встали мокрые насквозь. Дождь прекратился, но кругом хватало и грязи, и комаров. Нет, все-таки тут невозможно жить. Даже если построим новую бамбуковую хижину на месте старой, ведь история повторится. И вообще здесь рискованно оставаться. Того и гляди опять схватим фе-фе. Или комары заразят нас слоновой болезнью.
— Последуем примеру островитян, — предложила Лив. — Уйдем из леса и поселимся на берегу, где ветер разгоняет комаров.
Я не возражал. Только надо подыскать другую долину. Не селиться же по соседству с деревней, где уйма всяких хворей.
Мы обратились за советом к Пакеекее, но он ограничился словами, что его дом — наш дом. Зато Тиоти будто прочел наши мысли и посоветовал, если мы хотим избавиться от комаров, перебраться на другую сторону гряды Тауаоуохо. Там постоянный восточный ветер загоняет всех насекомых в глубь долин.
Ни Тиоти, ни Пакеекее не ходили через горы и не видели восточный берег. Но Вео бывал там и подтвердил то, что мы уже знали: Тауаоуохо и Намана вместе образуют могучую стену, разделяющую ветреные восточные долины и защищенное западное побережье. Поскольку игольное ушко в гребне между Ханававе и Ханахоуа теперь было недоступно, единственный путь проходил через перевал на срединном плато; за ним, в скалах на спуске к Уиа — самой большой из долин восточной стороны — в незапамятные времена была прорублена тропа. Правда, и на этом пути обвалы затруднили переход, но при известной осторожности все-таки можно было спуститься.
Восточные долины пустовали, все тамошние племена вымерли. Лишь в Уиа жил старик по имени Теи Тетуа со своей юной приемной дочерью. Вео знал его. Некогда Теи Тетуа стоял во главе четырех племен, и он пережил всех своих подданных, включая двенадцать жен. Девочку Тахиа-Момо — малышку Тахиа — к нему привел один родич из Омоа, чтобы старику было не так уж одиноко.
— Теи Тетуа — последний из людей старого времени, — объяснил Тиоти, и Вео кивнул, дескать, старик и впрямь из мира предков, он — последний из тех, кто ел человечье мясо.
Мы знали, что людоедство практиковалось на Маркизских островах еще пятьдесят лет назад. В 1879 году на Хива-Оа съели шведского столяра. Последний случай каннибализма зарегистрировали на том же острове в 1887 году, во время ритуала в долине Пуамау. Теи Тетуа тогда был уже взрослый, а Фату-Хива был еще сильнее изолирован от внешнего мира, чем Хива-Оа. Но даже бывший людоед тоскует без общества людей. Так или иначе, выбирать не приходилось: по словам наших друзей, из восточных долин пешком можно было пробраться только в Уиа. Дальше тоже пути нет, потому что все долины той стороны разделены неприступными кручами.
Еще Вео рассказал, что та сторона намного суше; образующиеся над Тауаоуохо облака сносит на запад. И комаров на восточном берегу, куда меньше.
Тиоти и резвый сынишка Пакеекее, Пахо, вызвались идти с нами через горы. Вео отказался. А ведь изо всех наших друзей он один знал дорогу. Никакие подарки, даже высоко ценимые консервы из лавчонки Боба на Хива-Оа, не могли его соблазнить. И он не хотел говорить о причине отказа.
Однако в тот же вечер, когда мы сидели вокруг керосиновой лампы Пакеекее, Пахо успел куда-то сбегать и, вернувшись, сообщил, что нашел провожатого. Имени не назвал, только попросил несколько банок с консервами и сказал, что завтра утром проводник будет ждать нас там, где начинается подъем в горы.
Еще царил кромешный мрак, когда Пакеекее разбудил нас, и мы стали собираться в дорогу. Деревня спала, только приглушенный гул неугомонного прибоя нарушал тишину. Друзья уже навьючили двух лошадей нашим багажом. Оставалось свернуть пледы и положить сверху. Наш старый знакомый, гордец Туивета, нес корзины с закупленными у мистера Боба тушенкой, вареньем, леденцами, табаком и шоколадом. Не зря мы опустошили полки в магазине Боба: хотя Пахо кое-что унес накануне вечером, у нас было что подарить старику и его приемной дочурке.
Тиоти посоветовал нам никому не говорить, куда мы перебираемся. Он не доверял своим соплеменникам. Попрощавшись шепотом с Пакеекее и его гостеприимным кровом, мы тихонько спустились в бухту, сопровождаемые Тиоти, Пахо и двумя вьючными лошадьми. Несколько собак лениво потявкали, но из домов никто не вышел.
Провожатый — молодой паренек, лицо которого нам было знакомо, — ждал нас в условленном месте.
Нам не пришлось полюбоваться восходом, но облака из черных постепенно стали серыми, и видимость была вполне приличной. Серпантин вел по уже изведанным нами склонам и урочищам, но когда мы поднялись наверх, наш проводник взял руководство на себя. Поразмыслив, он свернул с главной тропы на боковую, которая шла прямо на восток, к самым высоким вершинам. Местами почва была сильно заболочена, в горном лесу пришлось преодолевать бурелом, а во второй половине дня продвижение затормозила бамбуковая роща, и мы шаг за шагом прорубали себе дорогу мачете. Толстые и тонкие, желтые и зеленые стволы плотно переплелись между собой и целились в нас острыми, как штык, срезами.
Тиоти не повезло: срубленный им толстый ствол бамбука в падении воткнулся ему же в кисть. Перевязывая кровоточащую рану листьями и лубом, Лив обратила внимание на правую лодыжку Тиоти и глазами подала мне знак, чтобы я тоже посмотрел. Да-а, грустная картина… Тиоти шел в длинных брюках, и правая брючина была разрезана внизу, чтобы вздувшаяся нога могла пролезть в нее. Веселый пономарь был поражен слоновой болезнью и старался это скрыть. С болью в душе продолжали мы путь на восток. Лишний раз нам стало очевидно, как важно уйти подальше от полчищ крылатых переносчиков заразы.
Там, где гора круто обрывалась в преисподнюю Уиа, в лицо нам со всей силы ударил восточный ветер. Дальше кони не могли пройти, и мы привязали их к деревьям, а сами продолжали движение. Наши спутники срезали себе по коромыслу и понесли багаж на голых плечах. Началось скалолазанье. По совершенно отвесной стенке влево уходил вырубленный человеческими руками карниз. Во многих местах тропка осыпалась, но наш проводник предусмотрительно захватил толстую жердь, из которой мы делали мостик.
Нам с Лив было страшно, и мы этого не скрывали. Но у нас не было выбора. Шхуна ушла сразу, как только высадила нас. В горах нельзя прокормиться, а наше жилье в долине Омоа заняли комары и мураши. Надо спуститься. И мы спустились.
На дне стиснутого кручами глубокого мрачного ущелья мы пробирались сквозь заросли кривого гибискуса вдоль бурной речушки. Пробирались по камням, не видя и намека на тропу. На полпути речушка вдруг ушла под землю. Вся до последней капли ушла. Потянулась сплошная каменная осыпь. А в устье долины вновь из-под камней выбился бурный поток и устремился между пальмовыми стволами к морю.
Пахо убежал вперед, оттуда донесся лай, и мы поняли, что мальчуган уже достиг хижины старика. Значит, немного осталось идти.
С каждым шагом долина раздавалась вширь и светлела. Кустарники сменились чудесной пальмовой рощей, за которой поблескивало море. Неожиданно выглянуло солнце. Мы ощутили свежее дыхание открытого океана. И среди высоких пальм увидели горстку озаренных солнцем низеньких хижин, построенных на полинезийский лад из бревен, с лиственной кровлей. Навстречу нам спешил обнаженный человек.
Старик Теи Тетуа бегал не хуже горного козла. Загорелый, обветренный, голый — только пах прикрыт каким-то мешочком на лубяной веревочке. Мускулистый и подвижный не по возрасту. В широкой улыбке сверкали зубы, такие же отменные, как на черепах, которые лежали у нас под нарами. С приветственным «каоха» я протянул ему руку; он схватил ее и смущенно рассмеялся, словно застенчивый мальчонка. Его буквально распирала сдерживаемая энергия, но после многих лет одиночества он не находил слов, чтобы выразить свои чувства.
— Есть свинью! — воскликнул он наконец. — После свиньи есть курицу. После курицы опять есть свинью!
С этими словами Теи Тетуа совсем по-юношески помчался вприпрыжку к постройкам и начал кликать своих полудиких, черных, косматых свиней. С помощью Пахо поймал одну из них лубяным арканом и заковылял к нам, неся на руках тяжеленного зверя, который громко визжал и яростно отбивался.
— Есть свинью, — весело повторил Теи Тетуа. Было очевидно, что для него это высшее проявление дружбы.
До поздней ночи сидели мы под кухонным навесом, уписывая зажаренную в земляной печи сочную свинину. Сидели на корточках вокруг трескучего костра и брали руками большие горячие куски мяса. Рядом со стариком примостилась его приемная дочурка ТахиаМомо. Совсем еще юная, а уже красавица с длинными черными волосами. Сверкая большими глазищами, она жадно прислушивалась к беседе взрослых. Да и сам Теи Тетуа излучал молодой задор, радуясь, что в его уединенной долине появились люди.
— Оставайтесь, — уговаривал он нас. — В Уиа много плодов. Много свиньи. Будем каждый день есть свинью. В Уиа хороший ветер.
Мы с Лив обещали остаться в его долине. Старик Тетуа и Тахиа засмеялись от радости и принялись составлять увлекательную программу на ближайшие дни Однако наши друзья из Омоа покачали головой.
— В Уиа совсем не так уж хорошо, — сказал пономарь. — Много плодов, много свиней, много ветра. Но в Уиа нет копры, нет денег. В Омоа — хорошо. Много домов, много людей. Много копры, много денег.
— Тиоти, — вмешался я, — а на что деньги, когда еды и без того хватает?
Пономарь широко улыбнулся.
— Так уж повелось. — Он пожал плечами. — Раньше обходились без денег. Теперь нельзя. Мы уже не дикари.
Старик затушил костер и засыпал угли золой. Меня и Лив проводили в хижину с земляным полом, и хозяин уступил нам свою циновку. Сам он с нашими спутниками намеревался спать в соседней хижине. Мы так и не узнали, для чего ему понадобились две хижины, но судя по цвету и твердости жердей, из которых были набраны стены, не исключено, что обе постройки стояли еще с той поры, когда у Теи Тетуа была более многочисленная семья.
Мы завернулись в пледы. Какое блаженство спать, не думая о комарах! Прибой шумел где-то совсем близко от щелеватых стен. В Омоа только в тихие ночи до нас над пологом леса доносилось далекое ровное дыхание моря. Здесь галечный пляж рокотал и и всхрапывал в том же ритме, но в этих звуках была такая мощь, словно мы лежали на одной подушке с океаном. Лесным жителям нужно было время, чтобы свыкнуться с гулом Нептунова царства.
Островитяне не торопились ложиться. Окружив тлеющие головешки, они вполголоса, чтобы не мешать нам, о чем-то оживленно переговаривались. Тиоти несколько раз произнес наши имена: видно, про нас говорил. Потом надолго взял слово старик Теи, он явно рассказывал что-то очень увлекательное. Может быть, наши спутники уговорили его поделиться воспоминаниями о поре каннибализма. Нам-то спешить было некуда, еще наслушаемся, а наши друзья собирались рано утром выходить в обратный путь.
Еще по дороге в Уиа все трое оживленно обсуждали тему каннибализма — каикаи эната. Особенно занимал этот вопрос Тиоти и Пахо. От миссионеров они слышали, что людоедство — едва ли не самый страшный грех, в котором были повинны их предки до введения христианства на острове. Каннибализм был для дедов религиозным ритуалом, они верили, что им передается сила жертвы. Однако у наших друзей, судя по всему, было довольно странное представление о том, чем плох каннибализм. Послушать их, так грех заключался в том, чтобы есть нечестивых, а язычники, которых ели их предки, как раз и были нечестивыми. Дальше начинались разногласия: наш провожатый, католик, и протестант Тиоти никак не могли прийти к согласию — причащаются ли в церкви действительному телу безгрешного Христа или это делается понарошку. Всю дорогу до Уиа продолжался этот спор.
Каикаи эната. Я ловил эти слова в паузах между рокотом прибоя, и, наверно, мне чудилось, что они повторяются чаще, чем это было на самом деле. Разговор за стеной доходил до меня обрывками, а воображение, дополняя его, разыгрывалось вовсю. Видно, нечто в этом роде творилось в душе Лив, потому что она тоже никак не могла заснуть. Невольно мне вспомнился мой тесть, который, получив от дочери письмо о наших планах, отыскал на своих полках книгу, где Маркизы описывались как край каннибалов. Что бы он сказал, узнай сейчас, что мы лежим на циновке бывшего каннибала, а ее хозяин сидит на корточках у костра за стеной? Если хижине столько же лет, сколько тестю, вполне вероятно, что в ней когда-то ели человечину. Может быть, именно здесь Теи Тетуа занимался людоедством. А между тем во внешности старика не было ничего жестокого. Надень на него белый халат и поставь его к микроскопу — вполне сойдет за университетского преподавателя. Лицом Теи Тетуа сильно смахивал на моего любимого профессора зоологии, доктора Ялмара Броха. Если он и впрямь ел мясо побежденного врага, то скорее всего из почтения к отцу или к своим повелителям, которые руководствовались религиозными убеждениями.
Ведь сидят же рядом с ним под кухонным навесом современные мирные полинезийцы, способные причащаться телу Христа. В глазах маркизцев прошлого такой поступок был бы верхом варварства. Съесть врага — можно, но своего священного Тики — немыслимо.
Пономарь не спешил ложиться спать, и всякий раз, когда он ворошил угли, оживляя костер, в нашей хижине, где число кривых жердей равнялось числу щелей, весело плясали тени. Мы рассмотрели подвешенные на деревянных крюках сосуды из коричневых бутылочных тыкв и несколько черных от масла мисок из скорлупы кокосового ореха, украшенной геометрическими и символическими резными узорами. В углу висела связка высушенных табачных листьев. Рядом с нами на земляном полу валялись старые каменные топоры, железный топор, кремневое огниво. Под толстыми потолочными балками висел причудливый длинный сундук. Гроб Теи Тетуа.
— Как заболею, — объяснил он нам, — заберусь в гроб и закроюсь. А то ведь, если останусь на полу лежать, собаки до меня доберутся.
Старик и могилу вырыл заранее возле своей хижины. Накрыл ее двускатной крышей с крестом и частенько спускался в яму, чтобы очистить от земли и куриного помета.
Еще один новый для нас мир… Сюда не заходили шхуны. Наконец-то мы ушли предельно далеко от железной хватки цивилизации.
Потухли последние угли. Мы уснули под ритмичный гул прибоя. Наши друзья, очевидно, тоже легли спать. Наутро они встали вместе с солнцем, если не раньше, чтобы отправиться в долгий обратный путь на западный берег.
Когда мы проснулись, их уже не было. Остались только Теи Тетуа и Тахиа-Момо. Такие же веселые, как вчера. Солнце сияло, птицы пели, кругом простиралась приветливая долина. Край нашей мечты. Нам бы сразу сюда попасть…
Теи Тетуа был единоличным владельцем долины Уиа; во всяком случае никто не оспаривал его прав, и мы могли выбирать для своего жилья любое место, не думая о плате. Мы были гостями в его королевстве; все, что принадлежало Теи Тетуа, принадлежало и нам. Старику было чуждо понятие личного имущества.
Постройки Теи расположились в пальмовой роще на южном берегу залива. Некогда для защиты от паводка здесь соорудили террасу; к тому же дома были обнесены прочной каменной стеной, чтобы на участок не заходили дикие и полудикие свиньи, которых в безлюдной долине развелось огромное множество. Сразу за стеной протекала быстрая мелкая речушка, вливаясь в
море через широкий просвет в булыжной баррикаде, воздвигнутой вдоль пляжа мощным прибоем. Высокая подковообразная баррикада косо спадала в бушующие пенистые волны, которые неистово таранили ее, не позволяя ни купаться, ни спускать на воду лодку.
За речушкой, рукой подать от хижин Теи Тетуа, на самом берегу раскинулась зеленая поляна, любимое пастбище диких свиней и коз. Между кокосовыми пальмами было вдоволь места, и мы решили тут обосноваться. С моря всегда дул ветер; кругом чисто, хорошо, можно не опасаться микробов и насекомых. На своем пути от Южной Америки вечный пассат без отдыха пролетал семь-восемь тысяч километров до того, как обрушиться на каменный барьер и на высокие пальмы, которые качались над нашей головой, словно тростинки. Привезенных белым человеком окаянных комаров уносило далеко в заросли. До чего отрадно было увидеть Полинезию такой, какой она была до появления комаров, этих маленьких кровопийц, сделавших жизнь в Омоа невыносимой для нас.
Старик предпочел бы, чтобы мы поселились в его доме, но, поскольку мы выбрали место по соседству, он уступил, только взялся проследить за тем, чтобы на этот раз мы построили хижину, которая не рассыплется через несколько месяцев. Он возмутился, когда Тиоти рассказал ему про нашу зеленую бамбуковую хижину в Омоа, и негодующе поджимал губы при мысли о своих нынешних соплеменниках. Они нисколько не дорожат опытом и знаниями стариков. Сидят сложа руки, время убивают в ожидании, когда созреют кокосовые орехи и шхуна придет за копрой.
Теи Тетуа почти не соприкасался с современным миром. Только дважды ходил он через горы в Омоа; последний раз — чтобы привести Тахиа-Момо, а то уж больно тоскливо стало одному. Давным-давно добрался до Уиа один миссионер, чтобы крестить Теи Тетуа и одарить его бронзовым крестом для будущей могилы. Люди пробовали высадиться на берег за кокосовыми орехами — не одним же свиньям ими пользоваться. Но прибой немилостиво обошелся с лодкой, и Уиа, как и весь восточный берег, оставили в покое. Не было тут никакой прибыли для современных людей.
Памятью о неудачной затее служил сооруженный на берегу сарай для сушки копры да старая, рассохшаяся долбленка. При нас ее ни разу не спускали на воду, но мы с восхищением думали об отваге и искусстве людей, некогда выходивших в море на таких скорлупках.
Теи Тетуа с восторгом и гордостью рассказывал о людях и событиях минувших дней. Не то, что наш добрый друг пономарь. Вообще Теи был одним из немногих встреченных нами островитян, кто душой и телом оставался истинным полинезийцем. Как Терииероо на Таити и Тераи на Хива-Оа. Человеку, видевшему одни лишь заманчивые второстепенные стороны нашей цивилизации, требовалась немалая мудрость и проницательность, чтобы уразуметь: только там стоит стремиться к прогрессу, где он приносит явную пользу. Терзаемые болезнями, зависимые от заходов шхуны, островитяне на западном берегу Фату-Хивы не знали и половины радости и благополучия, согревавших душу старика Теи, который ни в чем не испытывал недостатка, особенно теперь, когда у него появилось общество.
На другой день Теи Тетуа повел меня через береговые скалы за северный мыс, в долинку Ханатива. своего рода отросток Уиа. Здесь среди зарослей борао и мио я увидел старые обросшие стены, могилы, несколько большеглазых идолов. Старик объяснил, что столбы из мио лучше всего годятся для строительства.
Меня поразило, как легко передвигался этот человек, который вполне годился мне в деды, как прытко скользил он среди частокола стволов и ветвей. Сам я намного уступал ему в ловкости. Заготовив достаточное количество столбов и жердей, мы ударами камней окорили их, потом связали по нескольку штук. Я основательно натер плечо и побил ноги на острой лаве, стараясь не отставать от бегущего впереди старца. А он играючи трусил по скалам и не скрывал своего веселья, когда особенно буйная волна обдала меня с ног до головы и заставила припасть к камню.
На мысу мы сбросили ношу в море и пошли обратно за следующей партией. Течение и прибой сами доставили наш строительный материал в бухту и выбросили на берег у облюбованной нами площадки.
Наш второй дом по замыслу должен был стать еще меньше первого. Да какой там дом: конурка с крышей из пальмовых листьев, открытая с одной стороны и поднятая над землей, чтобы предотвратить визиты полудиких свиней. Высота трех стен, набранных из жердей мио, позволяла удобно сидеть внутри, но встать в рост мы могли только под коньком крыши. Вся конструкция крепилась прочным лубом. Из местного гибискуса получались отличные веревки. От земли к входу поднималась лестница; ширина помещения позволяла лежать поперек на куче пальмовых листьев у задней стены. Крыша — плотная, водонепроницаемая; зато между тонкими жердями стен луна и солнце заглядывали к нам в дом. И мелкие вещи постоянно проваливались в щели в полу, пока мы не накрыли его свежей панданусовой циновкой.
В первую ночь в новом гнездышке наш сон нарушила хрюкающая свинья, которая так истово чесалась об один из столбов, что неустойчивая' постройка закачалась, грозя опрокинуться. Утром мы укрепили легкий каркас штакетником; он соединял столбы и не позволял свиньям забраться под хижину.
Мы еще намеревались сложить каменную печь под навесом, как в Омоа. Однако Теи Тетуа решительно воспротивился. Мы его гости и должны столоваться у него. Он забрал наш единственный закопченный котелок и унес к себе.
Так началась наша счастливейшая пора на Маркизских островах.
Тахиа-Момо, которую старик называл просто Момо — Малышка, сразу подружилась с Лив. С появлением в долине второй женщины Тахиасловно обрела мать — мать или подругу, с которой можно было делиться тем, что нисколько не занимало старого отшельника. По местным— меркам Момо считалась чуть ли не взрослой женщиной, и старшая подруга была для нее ценной наставницей, но и сама она не оставалась в долгу. Мы с Теи часто заставали их сидящими вместе на траве у речушки. Выступая в роли учительницы, Момо показывала Лив то, что раньше на Mapкизах умела каждая вахина: как делать белую волокнистую материю тапа, вымачивая и отбивая полосы луба хлебного дерева; как плести красивые корзины из лиан и пальмовых листьев; как вить и сплетать бечевки, веревки и канаты из кокосового волокна; как плести циновки из тонких полосок листьев пандануса; как вычищать и сушить на огне бутылочные тыквы, превращая их в прочные сосуды; как из смолы делать клей и замазку, а из земли, золы и растительного сырья — красители; как добывать благовония из растений; как связывать гирлянды из цветов и ожерелья из орехов и раковин.
Лив никогда не носила побрякушек, но юная полинезийка непременно хотела ее принарядить. За материалом не надо было ходить далеко. На лесной опушке Момо собирала яркие семена, орехи и плоды, чтобы нанизать их на бечевку. Особенно нравились ей словно созданные для украшений блестящие, красные, твердые бобы. Две юные вахины вернулись из леса, щеголяя ярко-красными ожерельями и браслетами, и старик Теи Тетуа, широко улыбаясь, выразительно посмотрел на меня: дескать, женщины — во всем мире женщины.
На следующий день Момо увела Лив в другую сторону. Мода изменилась. Лавовый пляж под скалами в обоих концах залива был для Момо подлинным торговым центром с богатым выбором раковин всевозможных форм и цветов. Наполнив зеленые сумки морскими драгоценностями, две искусницы возвратились на мягкую траву, чтобы прокалывать костяными иглами дыры в раковинах и нанизывать их на бечевку.
В торговом центре Момо все витрины радовали глаз великолепием. И не надо платить. Не надо заготавливать пахучую копру для меновой торговли. Улыбчивая девочка и без того располагала целым состоянием. Момо всегда точно знала, чего хочет, она обладала безупречным вкусом и никогда не жалела о том, что ей было недоступно. Вкус и гармония были ей даны от природы; вряд ли эти качества привил ей старик. Юная островитянка не мучилась никакими проблемами. Смеясь, она поднималась по лестнице, чтобы приветствовать нас; смеясь, спускалась на землю. Все казалось ей привлекательным, даже серые мокрицы под камнями.
Тонны копры для шхуны на западном берегу Фату-Хивы не сделали бы женщин Омоа и Ханававе такими, счастливыми, какой была маленькая Момо, хотя бы они получили от купца весь запас стеклянных и металлических побрякушек в судовой лавке.
Не всегда эксперименты модницы Момо встречали одобрение более консервативной Лив. Так, однажды Тахиа явилась в нашу хижину, выкрашенная с ног до головы в желто-зеленый цвет, только зубы остались белыми. Держа в руке миску с кашицей из толченого в кокосовом масле ореха, она хотела и свою подругу вымазать настоящей маркизской косметикой. Вот так выдумщица! С цветами в волосах желто-зеленая девчурка напоминала выпорхнувшего из капустного кочана очаровательного эльфа. Совсем недурно, и в какой-нибудь архисовременной компании успех ей был бы обеспечен. Однако Лив предпочитала не столь экстравагантные косметические средства, например чистое кокосовое масло, к которому, по совету той же Момо, был добавлен душистый сок маленьких белых цветков.
Сам я почти все время проводил в обществе Теи Тетуа, в лесу или возле хижин. Отправься старина Теи со мной в Европу, я научил бы его многому, что облегчило бы ему существование в моем краю. Но здесь не мне было его учить. В его родной обстановке я учился у него. Я знал латинские наименования некоторых моллюсков на берегу, знал, как классифицируют растения по числу тычинок, но куда важнее было узнать, какие моллюски съедобны, на что годятся растения.
Возможно, в глубине души мы с Лив были несколько удивлены тем, что неграмотные Теи и Момо не больше нашего похожи на обезьяночеловека. У себя на родине мы привыкли к тому, что неграмотность простительна малому ребенку с его неразвитым мозгом. Если взрослый не умеет читать и писать, значит, у него чердак не в порядке. Вот уж чего нельзя было сказать о наших друзьях в долине Уиа! Скорее уж мы чувствовали себя неполноценными, когда они с одного взгляда находили остроумное решение практической задачи, которая ставила нас в тупик. Пребывание в обществе этих людей было для нас радостью.
Постепенно мы уразумели, что одному человеку не под силу все познать в этом удивительном мире, а потому каждый должен постараться сделать наиболее разумный и полезный выбор: что необходимо знать и чем можно пренебречь. Астроном — специалист, знающий расстояние до звезд; ботанику известно, сколько у цветка тычинок. Однако они не считают друг друга невеждами только потому, что познания каждого ограничены его предметом.
И мы стали смотреть на наших соседей как на специалистов. Специалистов по выживанию и наилучшему приспособлению к среде долины Уиа. Они не знали размеров молекул или звезд, не знали, сколько километров до луны. Зато отлично разбирались в размерах птичьих яиц и спелых плодов перувианской вишни; знали, сколько идти до ближайшего места, где растет горный ананас. Со стыдом мы признавались себе, что при всей нашей грамотности и образованности, при свойственном белому человеку убеждении, будто он рожден преобразовывать мир, — при всем этом нам следует соблюдать осмотрительность, выходя за пределы тесного круга привычных представлений. Далеко не все, заслуживающее изучения, выражается в цифрах и буквах. И откуда нам знать, что мы не убьем неведомое, не успев даже открыть его?
У Теи Тетуа не было обуви. Не было даже пары тапочек, чтобы надеть, когда он решит, что настало время забираться в гроб. Единственной его одеждой была узенькая набедренная повязка, но он был чистоплотен и держался так, словно весь мир принадлежал ему. Древний философ Диоген, тщетно искавший с фонарем человека в толкучке на греческой площади, нашел бы искомое в лице Теи Тетуа. Диоген уделил бы ему место под солнцем рядом с собой в своей бочке. И ни один король, ни один купец, ни один мудрец из другой страны не смог бы научить Теи, как лучше жить.
Старик учтиво принял в дар привезенные мной консервы, но я не видел, чтобы он открыл хоть одну банку. Его больше радовала возможность подарить что-то нам. Иногда он курил свои самодельные сигары, и из наших подарков только трубка пригодилась ему. От табака мистера Боба он отказался — рядом с хижиной рос дикий табак.
Мертвый каменный мир Мотане был далеко-далеко. И так же далеко была злосчастная деревня Омоа.
Впрочем, не настолько далеко, чтобы мы не сознавали, как нам повезло, что мы оказались в мире Теи Тетуа. Возможно, мы не оценили бы всех его преимуществ, если бы сразу высадились в Уиа. Здесь мы увидели ту Полинезию, которая жила в наших представлениях. Уиа — уцелевший клочок того мира, о котором мы, белые, так любим мечтать. И который непременно стремимся улучшить.
Начав ходить вместе с Теи по лесу в поисках хлеба насущного, я быстро убедился, что здесь нет присущего Омоа тропического изобилия. Больше солнца, меньше дождя. Тем не менее флора представляла собой удачное сочетание густого леса и заброшенных садов в обрамлении крутых горных склонов. В долине был большой выбор плодов, не хватало только феи. Хлебные плоды и бананы, манго, папайя, гуаява, перувианская вишня, горный ананас. Таро, лимонные рощи, большие апельсиновые деревья, увешанные сочнейшими золотистыми плодами, которые нам никогда не приедались. Кроме того, Теи показал мне множество съедобных листьев, дикий лук, вкусные корни и клубни. В двух шагах от дома можно было наловить в реке раков, собрать на скалах яйца морских птиц, поймать здоровенного кабана.
И можно ловить рыбу, сидя на камнях; однако старик Теи был равнодушен к этому занятию. Как это повелось в Полинезии, он предоставлял женщинам добывать дары моря. Когда океан вел себя относительно смирно, Момо и Лив отваживались забираться на мыс в южной части залива. Темная лава, остывая, создала здесь причудливые формации, гроты, туннели, выступы, расщелины. В прилив беспокойные волны наполняли все ямы и промоины чистой, свежей соленой водой. Со временем тут обосновалось множество организмов. Каждая заводь представляла собой естественный аквариум, не менее, красочный, чем приливная зона рифа Тахаоа, только фон другой: не белые кораллы, а черная и ржаво-красная лава. Момо отлично разбиралась в полчищах рыбешек, спрутов, моллюсков и ракообразных, знала, кто ядовит, а за кем стоит поохотиться.
К нашему удивлению, Момо не занималась стряпней. Обязанности повара исполнял сам Теи Тетуа. Правда, они по очереди носили нам еду, поскольку мы ели у себя. Теи и Момо ели на кухне, и мы по запаху определяли, когда Теи доставал из ямы кислое черное пои-пои. Теи ел пои-пои со всеми блюдами. Как и многие другие островитяне, он уверял, что желудок ничего не варит без этого забродившего пюре.
Лив не видела оснований критиковать манеры Теи Тетуа, ведь он мыл руки перед едой, и мы сами тоже ели руками. Но ее смущало, что он, как ей казалось, сидя на корточках и наклонив голову набок, грыз сахарный тростник или обгладывал свиную косточку с таким видом, словно это была человеческая кость. Несправедливое и обидное сравнение, но все же после ее слов и я уже не мог отделаться от нелепой ассоциации.
Теи был не только радушный хозяин, но и великолепный повар, гурман и славный едок. Если в долине Омоа у нас с едой бывало туговато, то здесь все обстояло наоборот. Три раза в день — утром, в обед и в ужин — старик или Момо поднимались к нам по лестнице, неся лакомые блюда. Мы даже полюбили поипои с добавкой свежих хлебных плодов и воды. Фирменными блюдами местной кухни были запеченная в банановых листьях свинина, вареные в кокосовом соусе мелкие крабы и сырая рыба а ля Теи Тетуа. Он тщательно отбирал подходящую рыбу, нарезал ее ломтиками, выдерживал ночь в крепком лаймовом соке и приправлял соусом из морской воды и кокосового молока. Получался подлинный деликатес без малейшего привкуса сырой рыбы.
Но что бы ни изобретал Теи, непременным блюдом была свинина. Три раза в день. Горячая сочная свинина, запеченная в больших листьях на раскаленных камнях. Нас буквально закармливали, мы с трудом одолевали половину предлагаемого, но возвращать остатки не полагалось. Теи говорил, чтобы мы приберегли их до следующей трапезы. А к следующей трапезе он приносил жареную курицу с таро и хлебными плодами. И еще свинины.
— Старик нарочно откармливает нас, — заявила Лив как-то утром, когда ее пареу долго не хотел сходиться на поясе.
И пошла к воде посмотреть на свое отражение. Похоже было, что она сказала это всерьез, ибо с того самого дня Лив перешла на диету. Две недели ела только апельсины и ананасы в большом количестве да иногда позволяла себе взять банан из грозди, висевшей под потолком.
Когда над Уиа спускалась ночь, мы выбрасывали еду на землю. Все равно Теи ее не брал. Каждый вечер хижину окружали косматые лесные свиньи; они хрюкали, чавкали и визжали так, что мы боялись, как бы не разбудили старика за рекой. И если какой-нибудь особенно тучный ночной гость скребся об угол нашей хижины, она качалась, словно «воронье гнездо» на корабле.
Однако каркас был достаточно прочным. Даже когда штормовые порывы ерошили лесной полог и сгибали в дугу самые высокие пальмы, мы лежали надежно, как в колыбельке. Только в тех случаях, когда шторм обдавал хижину каскадами морской и дождевой воды, приходилось вставать и вешать панданусовую циновку на стену, обращенную к морю. Вход мы сделали с подветренной стороны, оттуда дождь к нам не залетал. Но луне ничто не мешало посылать к нам солнечные зайчики, когда она повисала в небе над черными силуэтами пальм. Какой бы полной ни была луна, она проходила в дверь, а комары ни разу не появлялись.
Не раз ночное светило озаряло пустую хижину, меж тем как четыре обитателя долины Уиа сидели у трескучего костра на берегу, словно в партере перед огромной сценой. Такой огромной, что люди в Сахаре, Гренландии, Бразилии и на Фату-Хиве смотрели один и тот же спектакль. Наверно, это единственный спектакль, который с древнейших времен связывает воедино народы всего мира. Арабы и эскимосы, индейцы и полинезийцы смотрели его сообща, летя во вселенной на одном ковре-самолете. Не удивительно, что луна для многих была богиней любви и всеобщей матерью-утешительницей, а солнце — внимательным, хлопотливым отцом. Только современный человек похерил сокровища ночного неба, ратуя за непрерывный день. В комнатах мы одним движением пальца превращаем ночь в день; мы зажигаем миллионы фонарей на улицах, чтобы видеть только свой собственный мир, все свести к его ограниченным масштабам.
Теи всегда разводил небольшой костер, словно не желал затмевать им лунный и звездный свет. Его костер был рассчитан на то, чтобы мы могли сидеть вплотную у огня, наслаждаясь умеренным количеством света и тепла.
Ничто не шло в сравнение с ночами, когда полная луна, повиснув в небе, рассыпала перед нами золото и серебро на поверхности Тихого океана, а за спиной у нас играла бликами на лиственных крышах хижин и на медленно тянущихся к звездам, блестящих пальмовых кронах. Мощный лунный прожектор озарял весь лес. Широкие банановые листья и причудливые деревья напоминали крылатых драконов и косматых троллей, которые сгрудились, шушукаясь, вплоть до черного зубчатого контура отрезавшей нас от остального мира горной стены. Кроме ветра, прибоя и наших собственных голосов мы слышали только журчание реки да изредка блеяние диких коз на склонах или хрюканье свиней на опушке.
Скудное имущество Теи Тетуа включало одно чужеземное изобретение-огниво, подаренное одному из его предков каким-то европейским путешественником. Если старик добывал огонь трением, то лишь затем, чтобы показать нам, что в совершенстве владеет этим древним полинезийским искусством. Но конечно, куда проще и легче было высечь кремнем и сталью искру на трут.
В один из вечеров Теи Тетуа долго сидел и глядел на угли костра, потом начал медленно покачиваться и хриплым стариковским голосом затянул песню, от которой у нас мурашки побежали по телу. Казалось, песня эта родилась в ином мире. Она была довольно монотонной и напоминала литургическую декламацию, однако мы слушали как завороженные. Теи пел о сотворении мира.
«Тики, бог человека, живущий на небесах, создал землю. Потом он создал воды. Потом он создал рыб. Потом он создал птиц. Потом он создал плоды. Потом он создал пуаа (свинью). Когда все это было сделано, он создал людей. Мужчину по имени Атеа. И женщину по имени Атаноа».
Дальше они уже сами потрудились, добавил от себя Теи. И продолжал декламацию. Долго-долго перечислял он генеалогии королей и королев, начиная от Атеа и Атаноа и кончая поколением Туа, отца Теи.
— Теи, — спросил я, — ты веришь в Тики?
— Э, — ответил Теи. — Да. Я католик, как и все теперь, но верю в Тики.
Старик взял камень и показал мне.
— Как ты его называешь?
— Стейн, — сказал я по-норвежски.
— Мы называем его каха. А это? — Он показал на костер.
— Бол, — ответил я.
— А мы — ахи, — сказал старик.
Потом он спросил, как зовут бога, сотворившего людей.
— Егова, — ответил я.
— Мы называем его Тики, — подхватил Теи и добавил: — Мой народ сразу, понял, что миссионеры подразумевали Тики, когда прибыли на острова и начали рассказывать про своего бога.
— Но у вашего народа был не один бог, вы еще верили в Тане, — осторожно заметил я.
И получил интересное разъяснение. Выдающиеся короли после смерти возводились в ранг божества, но только Тики был Творцом. Тане — вроде Атеа, божественный прародитель, которого создал Тики. Вначале на здешних островах жили два рода людей. У каждого из них был свой прародитель. Атеа — смуглый, черноволосый, от него происходят эната, известные нам островитяне. Тане был белый, светловолосый, от него произошли хао'э, белые вроде нас
[88].
Теи верил в одного бога; остальные легендарные герои древности были великими людьми.
— Но, Теи, — сказал я, — в дебрях мне часто встречался Тики — он сделан из камня. Вытесан из камня жрецами.
— Тики не был сделан из камня, — спокойно возразил Теи. — Никто не видел Тики. Жрецы изготовляли изображения Тики для народа. Я был в церкви Омоа. Ваши жрецы тоже делают священные изображения.
Старик взял свою бамбуковую флейту, поднес ее к ноздре и стал носом исполнять своеобразную мелодию. Он не хотел больше обсуждать религиозные вопросы. Он стал католиком, но сохранил старую веру. Для него Тики был то же, что Егова.
В толковании Теи получалось, что некоторые древние короли выступали в роли вечного Тики. Возможно, они считались его наместниками или земным воплощением, как это было со священными правителями в Египте, Мексике, Перу. Подобно им, обожествленные правители на Маркизских островах женились всегда на своих сестрах.
Именно Тики, живой и реальный Тики, привел предков Теи Тетуа через океан на эти острова.
— Откуда? — спросил я, с нетерпением ожидая, что ответит старик.
— Из Те-Фити, с востока, — ответил он и кивнул в ту сторону, где восходило солнце.
Ближайшей сушей в той стороне была Южная Америка.
Вот так штука. Все исследователи считали установленным, что эти люди пришли с противоположной стороны. Из Азии. Но сами островитяне всегда называли свою родину Те-Фити, в буквальном переводе — «восток». А для того, кто находится посреди Тихого океана, «восток» — это Америка, а не Азия.
Такую же легенду слышал Генри Ли в долине Пуамау. И когда американский этнолог Э. Хэнди собирал для своей книги народные предания Маркизов, ему до— велось услышать весьма реалистический рассказ о будто бы имевшем место на самом деле обратном плавании в Те-Фити. В заливе Атуана группа мужчин, женщин и детей погрузилась однажды на необычайно большое судно, названное «Каахуа». Они взяли курс на восток и в конце концов дошли до страны предков
— Те-Фити. Часть осталась там, другим удалось возвратиться на Маркизские острова.
Необычное сообщение настолько поразило Хэнди, что он переспросил рассказчика. И записал: «Рассказчик настаивал на том, что страна находилась там, откуда восходит солнце (и те тихена умати)»
[89].
Задолго до Хэнди немецкий этнолог фон ден Штейнен тоже с удивлением услышал рассказ о легендарной родине Фити-Нуи — «Большой Восток». Будто бы эта страна находилась «по ту сторону восточного мыса Мата-Фенуа». Мата-Фенуа
— название длинного узкого мыса, образующего восточную оконечность Хива-Оа и указывающего прямо на Южную Америку.
Я посмотрел на озаренный лунным светом океан. Конечно, до Америки далеко. Но расстояние до Азии вдвое больше, а ветер и течение неизменно идут сюда со стороны Южной Америки. Меня вдруг осенило, что ведь мы сидим на том самом из тысячи островов и атоллов Полинезии, который был первым обнаружен европейцами. Именно Фату-Хива оказался для европейцев воротами в Полинезию. Причем они шли сюда как раз из Южной Америки. И горы Тауаоуохо за нашей спиной, очевидно, были первой полинезийской землей, представшей европейскому глазу.
Испанская экспедиция Менданьи, открывшая Полинезию в 1595 году, шла с востока, из Перу прямиком до Фату-Хивы. Перуанские инки рассказали испанцам про обитаемые острова далеко в океане. К тому времени европейцы почти триста лет знали восточные берега Азии, но ничего не слышали про обитаемые острова в Тихом океане. А когда они прибыли в Перу, инкские моряки и историки снабдили их точными указаниями, как дойти до островов с темнокожими людьми, о которых европейцы и не подозревали. За полвека до того Магеллан пересек Тихий океан и почти до самых Филиппин не встретил суши. Между тем в океане были острова; по инкским преданиям, именно туда направился, покинув Америку, белый культурный герой из Тиауанако. После того и сами инки выходили в океан. Последнее крупное плавание на острова, упоминаемые в инкских источниках, было совершено Инкой Тупаком Юпанки, дедом того Инки, которого застали испанцы. Наслышавшись от своих купцов про острова, населенные черными людьми, он снарядил целую флотилию бальсовых плотов у побережья Эквадора, в том самом месте, откуда некогда отчалил его легендарный предшественник. Но в отличие от культурного героя из Тиауанако Инка Тупак Юпанки отсутствовал только год и вернулся со своей флотилией в Перу, привезя чернокожих пленников в подтверждение того, что достиг цели. Престарелый хранитель сувениров этой экспедиции еще был жив, когда испанцы пришли в Перу
[90].
Мы знали, что испанцы приплыли в Полинезию из Перу, знали, что перуанские инки сообщили им сведения о маршруте; так, может быть, Теи Тетуа и другие островитяне верно помнят, что их предки пришли с востока?
Недаром исследователи, занимавшиеся физическим типом полинезийца, подчеркивали, что он разительно отличается от малайского и индонезийского: форма головы и носа, цвет и строение волос, рост, цвет кожи, волосяной покров на лице и теле — все у них другое. Известный американский антрополог Л. Салливен, специально изучавший соматологию маркизцев, указал, что физически эти островитяне ближе к некоторым коренным жителям Америки, чем к монголоидам, и ничто не подтверждает версию об индонезийском происхождении полинезийцев
[91].
Вот когда в мою душу закралась мысль о том, что первыми на эти острова, быть может, прибыли представители одной из многочисленных культур, сменявших друг друга до воцарения инков в древнем Перу. В доинкском искусстве реалистично отображены всевозможные физические типы, притом многие совсем отличны от нынешних индейцев — длинные бороды, почти европейские черты лица. На Перуанском побережье найдены мумии людей, которые ростом намного превосходили инков, и черепа у них длинные, какие известны по Полинезии. К тому же у некоторых мумий волнистые рыжие волосы, а это как будто подтверждает инкские предания о том, что задолго до прихода испанцев среди индейцев кечуа и аймара в Перу жили русоволосые и светлокожие бородатые люди. Когда Франсиско Писарро открыл и завоевал Перу, его двоюродный брат Педро Писарро записал, что испанцам встречались люди с белой кожей и светлыми волосами, как у европейцев, и инки называли этих людей потомками своих богов
[92].
Во всех инкских преданиях подчеркивалось, что верховный бог Виракоча и люди, которые вместе с ним ушли через Тихий океан, были белые и бородатые, как испанцы.
Когда старик Теи Тетуа рассказывал мне про Тики, который привел его народ на острова из большой страны на востоке, я еще не изучал основательно перуанскую мифологию и не знал, что полное имя исчезнувшего бога инков — Кон-Тики-Виракоча, а в Тиауанако он был известен как Тикки или Тики. Знай я об этом, когда сидел на берегу в обществе старого полинезийца и слушал гул волн, пришедших от самой Южной Америки, я, наверно, поподробнее расспросил бы о богемореплавателе Тики, который привез с востока предков Теи Тетуа.
Как бы то ни было, испанцы нашли чернокожих людей, описанных им инками. С первой попытки в 1568 году они дошли из Перу до Меланезии. Раздоры на корабле вынудили их отклониться от пути, который, по словам инкских историков, вел к ближайшему обитаемому острову (позднее выяснилось, что путь этот ведет к острову Пасхи). Изменив курс, испанцы прошли южнее Маркизов и не встретили суши до самых Соломоновых островов; здесь они первыми из европейцев увидели чернокожих меланезийцев. С великим трудом удалось им возвратиться в Южную Америку, и в 1595 году они снова отплыли из Перу. Идя на этот раз прямо на запад, мореплаватели увидели горы Фату-Хивы. Обогнули остров, остановились с подветренной стороны, и состоялась первая встреча европейцев с полинезийцами. Хотя на берегу острова стояли люди, испанцы приписали себе честь его открытия.
Из записей штурмана Педро Фернандеса де Кироса следует, что четыре каравеллы испанцев бросили якорь в заливе Омоа
[93]. Обнаруженный ими остров был «густо населен». Четыре сотни островитян на лодках и вплавь добрались до кораблей, чтобы приветствовать гостей, и толпы людей сгрудились на пляже и скалах. Сорок человек поднялись на борт, «и испанцы казались малорослыми рядом с ними». Один островитянин на голову возвышался над всеми остальными. Несколько человек отличались светлой кожей и «рыжеватыми волосами». О других сказано, что они были «не просто светлокожие, а белые». Один старый вождь с зонтом из пальмовых листьев щеголял холеной бородой, на которую свисали такие длинные усы, что он раздвигал их двумя руками, когда выкрикивал распоряжения. На другой день адмирал Менданья самолично сошел на берег вместе с супругой, чтобы присутствовать при первом католическом богослужении в Полинезии. Штурман отмечает: «Рядом с доньей Исабелой сидела чрезвычайно красивая туземка с такими рыжими волосами, что донья Исабела захотела отрезать несколько прядей, однако видя, что туземка против, воздержалась, чтобы не сердить ее».
В то время как супруга адмирала любезно воздержалась от покушения на рыжие волосы, солдаты адмирала забавы ради навели свои аркебузы на старого бородача с зонтом и убили его, а заодно еще семь-восемь островитян.
Совершив таким образом открытие Фату-Хивы, который они назвали Магдаленой, испанцы пошли на север и увидели Мотане, в то время «остров прекрасного вида с густыми лесами и тучными нивами». Однако они проследовали мимо, привлеченные контурами более крупных Тахуаты и Хива-Оа, и объявили все четыре острова владениями Его Величества Короля. Научили одного туземца говорить «Иисус Мария» и осенять себя крестным знамением, после чего застрелили две сотни других туземцев. Одного испанского солдата спросили, почему он, сидя в гостях в туземной хижине, стреляет по проходящим мимо островитянам; он ответил, что ему нравится убивать. Штурман рассказывает, что другой солдат иначе оправдал свой поступок, когда убил туземца, который, пытаясь спасти свою жизнь, прыгнул в море с ребенком на руках. Туземцу, говорил этот солдат, все равно место в аду, а слава меткого стрелка не позволяет ему промахиваться.»
Адмирал повелел корабельному священнику и его викарию петь «Те Деум лаудамус» перед коленопреклоненными туземцами; были установлены три креста; острова получили благословение и христианские наименования. После чего испанцы подняли якоря и продолжили путь на запад, поскольку на Маркизах не нашлось золота.
До отплытия испанцы переспали с местными женщинами и в знак благодарности посеяли кукурузу в присутствии туземцев. Однако условия для венерических болезней явно оказались более благоприятными, чем для кукурузы: сифилис распространился со скоростью степного пожара, а кукуруза так и не проросла. Маркизские острова были оставлены в покое со своими новыми болезнями на 179 лет, вплоть до 1774 года, когда их повторно открыл капитан Кук.
Старик Теи Тетуа ничего не слышал про адмирала Менданью и капитана Кука. Он считал первооткрывателем Тики, который прибыл сюда с темнокожими детьми Атеа и светлокожими детьми Тане, чьих потомков испанцы застали на островах. Он не соглашался с нами, что Маркизские острова были открыты европейцами. Тики первым привел сюда предков Теи Тетуа.
Я начал смотреть на вещи глазами Теи. Разумеется, Менданья и Кук были всего-навсего гостями. Но» что означает для нас, европейцев, слово «Тики»?
Сидя на берегу в обществе старого отшельника и его приемной дочери, глядя на озаренную луной безлюдную долину, я спрашивал себя, как вообще этот народ может переносить нас, белых…
— Теи, — сказал я, — куда делось все твое племя?
— Болезни двойных людей, — ответил Теи. Двойные люди. Двойные люди… Новое и весьма меткое название для нас, европейцев. Сначала мы являемся к островитянам со священниками и учим не убивать. Потом возвращаемся с офицерами и показываем, как надо убивать. Приходим с Библией и учим не думать о завтрашнем дне. И тут же суем им в руки копилку. Дескать, разве можно не думать о завтрашнем дне, копите деньги. Бог сотворил человека голым, мы учим островитян одеваться. Вооружаемся во имя мира, лжем во имя правды. Конечно, мы двойные люди. Пристыженный, я спросил Теи, как он додумался до этого определения.
Ответ был не совсем таким, какого я ожидал. Предки Теи назвали первых увиденных ими европейцев двойными людьми потому, что у них были две головы, два тела, четыре руки и четыре ноги. До появления этих иноземцев островитяне не видели людей в облегающих тело одеждах. Снимет такой человек шляпу или шлем, а под ними вторая голова; расстегнет камзол или сбросит доспехи — видно второе тело; снимет сапоги — появляется вторая пара ног. Островитяне были этим немало озадачены.
Но двойные люди привезли с собой кашель, горячку, резь в желудке, и начался мор. До тех пор, утверждал Теи Тетуа, никто не умирал от болезней. Люди доживали до такой старости, что становились похожи на высушенные тыквы, сидели на одном месте, и приходилось их кормить. Молодые умирали, если срывались с пальмы, или попадали в пасть акуле, или их убивали в бою и съедали враги.
— Съедали? — Лив с ужасом покачала головой.
— А что, у вас разве не воюют? — спросил Теи не без вызова: дескать, ну-ка, отвечайте начистоту.
Пришлось признаться, что в Испании шла ожесточенная гражданская война, когда мы уезжали из Европы.
— Ну и что вы делаете с убитыми? — допытывался Теи.
— Закапываем в землю.
— Закапываете в землю! — Теи явно был потрясен и возмущен таким варварским расточительством.
Это же надо, убивать людей только затем, чтобы закапывать их в землю! И никто их не выкапывает потом, когда «дойдут»?
Что он — смеется над нами или в самом деле недоумевает? Лицо вполне серьезное. Может быть, смотрит на нас, как мы смотрим на индусов, которые не едят священных коров, оставляя их падальникам.
Теи рассказал про своего отца Уту, самого знаменитого и свирепого воина в долине Уиа. Он почти ничего не ел, кроме человеческого мяса. Но в отличие от своих друзей предпочитал выждать, когда оно «дойдет», и тогда уже шел с миской к погребальной платформе. Вместе с пои-пои получалось отменное блюдо. Как-то вдова одного умершего соплеменника Уты привела ему свинью: хотела отвлечь его внимание от покойника. Но Ута сперва съел свинью, потом покойника. Мать Теи рассердилась на Уту, потребовала, чтобы он ел рыбу и другую приличную пищу, без такого отвратительного запаха. Ута послушался, говорил Теи. Долго не ел тухлого мяса. И до того отощал, что пришлось вернуться к прежней пище.
Лив ужасалась; Момо слушала с открытым ртом, вытаращив большие карие глаза на смирного старого человека, который говорил о людоедстве как о самом обычном обеде. Теи признался, что сам один раз участвовал в каннибальском ритуале. Здесь, в Уиа, он тогда был еще совсем молодой. Человеческое мясо сладкое, как кумаа — батат. Обычно жертву жарили, вернее, пекли на горячих камнях в земляной печи, завернув в банановые листья, как он нам свинину готовит. Некоторые ели человеческое мясо от голода, потому что тогда на острове было много народу и не всем хватало пищи. Но обычно потребление человеческого мяса носило характер религиозного ритуала и своего рода мести.
Вкуснее всего женское предплечье, объяснял Теи. «От белой женщины», — добавил он и поглядел на Лив с хитрой улыбкой. Пошутил, конечно, но я сомневаюсь, чтобы присутствующим дамам понравилась эта шутка.
Я подбросил полешко в костер, чтобы разогнать темноту. На всем острове не было человека добрее Теи, но все же я чувствовал себя как-то странно, сидя под звездами и слушая рассказ очевидца о людоедстве.
Человек вообще представляет собой странную смесь ангела и дьявола, будь он испанец, полинезиец или викинг. Сейчас благочестие не позволяет нам отрезать рыжий локон с головы ближнего, а в следующую минуту мы отрубаем голову целиком, закапываем друг друга в землю или жарим, как свиней. Прикажи какой-нибудь вождь, наверно, Теи Тетуа и сейчас схватил бы палицу и отправился убивать. Да и я, если призовет отечество, вскину на плечо винтовку. О прогрессе на поле боя можно сказать очень просто: мы считаем достойным вонзать штык в живого человека, а втыкать вилку в мертвого — варварство.
Теи Тетуа рассказал, что тогда, как и теперь, с поля боя домой приходили раненые воины. Правда, раньше старались не тело врага повредить, а разбить ему палицей голову. Самым распространенным оружием была длинная палица, украшенная красивой резьбой. У враждующих сторон были одинаковые палицы
та же форма, та же длина. Отличалась только резьба, но обязательным элементом орнамента было изображение общего бога Тики. Маркизские воины считали ниже своего достоинства пользоваться кинжалом, саблей, копьем, луком и стрелами. Правда, у них были маленькие луки, но лишь для игры и охоты на местную съедобную крысу. Маркизские острова никогда не знали гонки вооружений. Подобно большинству полинезийцев, местные воины оставались верны оружию, которое привезли с собой предки, — палице и праще. В этом они разительно отличались от индонезийцев и племен Восточной Азии, предпочитавших всевозможное колющее и режущее оружие и совсем не знавших пращи. Примечательно, что у полинезийцев мы видим единственные виды оружия, повсеместно распространенные в древнем Перу, — палицу и пращу. Причем маркизская праща во всем подобна древнеперуанской: австрийский этнолог Д. Вюльфель видел в этом верный признак связей между культурами обеих областей
[94].
Мне подумалось, что испанцы, когда они пришли в Перу, а затем и в Полинезию, выступили в роли авангарда нашей цивилизации. Для начала мы убивали туземцев, которые принимали нас с почетом и радушием. Затем именем Иисуса внушили им, чтобы они отложили в сторону свои варварские палицы и пращи. Потом заменили их устарелое оружие дальнобойными винтовками и воинской повинностью. Вождь Терииероо с гордостью показывал мне орден Почетного легиона — награду от французов за участие в войне против немцев. Полинезийцев возили на войну в Европу.
У Теи Тетуа была глубокая круглая вмятина во лбу.
— Что, палицей попало? — спросил я.
Нет, в детстве ему угодил в голову упавший сверху камень. Мальчика вылечил таоа. Даже тяжелораненых воинов нередко мог исцелить таоа.
Мы привыкли считать, что таоа — шаман или знахарь. На самом деле он представлял собой нечто более значительное. Таоа был неплохим психологом и искусным хирургом. Он умел завоевать доверие непосвященных непонятными речами и ритуальными фокусами, но доверие это было вполне заслуженно, ведь таоа производил операции, не все из которых были иод силу современным ему европейским лекарям. Он умел, не внося инфекцию, резать, сращивать, даже производить трепанацию черепа. Теперь другое дело, говорил Теи. Теперь даже самая маленькая царапина грозит воспалением.
Мы сами убедились, что на острове появилось множество источников инфекции, особенно на западном берегу, где устья рек Омоа и Ханававе были настолько загрязнены, что нам приходилось ступать по гальке с величайшей осторожностью, чтобы не поцарапать ноги. В Уиа пока все обстояло благополучно.
Мы видели кое-какие инструменты таоа, сделанные из кости, зубов, камня и дерева. И хотя других материалов в распоряжении маркизских хирургов не было, они ухитрялись изготавливать ножи, шилья, сверла и даже пилы.
Живи таоа в Европе в ту пору, когда эти острова были «открыты» нами, он не уступил бы любому врачу и вполне мог бы называться доктором. Таоа Теке — доктор Теке — жил уже во времена самого Теи Тетуа. Одна каменная статуя на северо-восточном побережье вблизи Ханахепу носила его имя; по словам Вео и Теи Тетуа, в статуе обитала и душа таоа.
На глазах у Теи доктор Теке разрезал ногу островитянина, который сломал берцовую кость, вправил перелом, зашил рану и наложил шину из твердой древесины. Рана зажила, и островитянин ходил как ни в чем не бывало.
Еще более примечательно искусство, с каким доктор Теке производил трепанацию черепа — операцию, которой наши врачи по-настоящему овладели всего лет сто назад. В Уиа Теи видел, как к таоа Теке доставили островитянина, упавшего с пальмы и проломившего себе голову. После соответствующего песнопения и плясок хирург приступил к делу. Сперва промыл рану кипяченой водой и сбрил волосы с поврежденной части головы. Затем сделал крестовидный надрез на коже и обнажил кость. Удалил осколки и отшлифовал края до полной гладкости. Закрыл отверстие точно вымеренным куском тонкой, гладкой кокосовой скорлупы и опустил на место отогнутые лоскуты кожи. Рана заросла, и только крестовидный шрам напоминал об операции. Пациент
прожил еще много лет. Правда, в его поведении появились кое-какие странности. Если бы таоа обнаружил, что мозг под костью поврежден, он не стал бы делать операцию.
Рассказ Теи произвел на меня сильное впечатление. Я знал, что за сто лет до этого побывавший на Маркизах К. Стюарт записал, что маркизские жрецы производили трепанацию при помощи акульего зуба. А доктор Ральф Линтон видел и сфотографировал старый череп со следами трепанации на Хива-Оа. Его друг и коллега Э. Хэнди встретился на том же острове с внуком знаменитого полинезийского хирурга, и тот рассказал, что его дед накладывал на поврежденные черепа заплаты из скорлупы кокосового ореха с перфорированными краями
[95]. Нам тоже рассказывали в долине Омоа, что заплаты пришивали к черепам тонкой ниткой из кокосового волокна. Мы не верили своим ушам, но Вео однажды принес кусок трепанированного черепа, причем по краям травмированного участка образовалась костная мозоль: значит, пациент выжил. Больше того, вдоль тех же краев были просверлены крохотные отверстия, но Вео повредил их. По его словам, он очистил отверстия от грязи, потому что череп был наполовину засыпан землей в пещере. Теперь уже не установишь, шла ли речь о подлинной перфорации или Вео сам просверлил отверстия, зная, что так делали в старину.
Поразительно, что трепанация практиковалась на далеко отстоящих друг от друга островах Полинезии и Меланезии, причем таких островов известно много; похоже, это редкое и сложное искусство распространилось в Тихом океане из какого-то одного окраинного центра. Помимо Маркизов особенно надежно документированные данные собраны на островах Общества. Так, на Таити в прошлом травмы черепа заделывали скорлупой недозрелых кокосовых орехов, совсем как на Маркизских островах. В Полинезии такие операции носили как будто чисто хирургический характер. В Меланезии трепанацию, судя по всему, предпринимали с магико-терапевтической целью — чтобы излечить от головной боли или выпустить злого духа. Так, на острове Увеа почти все мужчины подвергались трепанации.
В Индонезии и Восточной Азии случаи трепанации черепа неизвестны. Зато она практиковалась у некоторых древних цивилизаций Внутреннего Средиземноморья, у берберов Марокко, у гуанчей Канарских островов, в Мексике доколумбовой поры и особенно в доинкском Перу, где найдено наибольшее количество трепанированных черепов. Образцы, обнаруженные в древних захоронениях на засушливом Тихоокеанском побережье Перу, показывают, что операция и здесь носила как хирургический, так и магико-терапевтический характер и выполнялась в точности, как на островах. Иногда в Перу для заплат применяли тонкие золотые пластины, иногда точно вымеренные куски от корки бутылочной тыквы.
Сидя на рокочущем галечном пляже лицом к горизонту, за которым далеко-далеко находилось Перу, и слушая рассказ Теи Тетуа о том, как таоа Теке латал дырки в черепе живых пациентов, я невольно представлял себе сотни перуанских лекарей, которые сидели, положив на колени окровавленную человеческую голову, и производили ту же сложную операцию. И возможно, что их пациенты тоже пострадали от палицы или от камня, пущенного пращой.
Мозг усиленно работал, когда я лег спать, и мне нескоро удалось уснуть под ритмичную барабанную дробь идущих с востока волн.
Сквозь дремоту я представлял себе Фату-Хиву лежащим посреди широкой реки. Ветер и волны, как всегда, упорно катили в нашу сторону. У Перу две реки, развивал я свою мысль: Амазонка, стекающая на восток через зеленые дебри Бразилии, и течение Гумбольдта, устремленное на запад через Тихий океан.
Кажется, я начинаю уподобляться полинезийцам… Для них восток всегда был «вверху», запад — «внизу». Ботаники установили, что большая часть флоры этих островов доставлена самой природой «вниз» из Южной Америки. Не только трава павахина, на которой я лежал, но и большинство диких растений Фату-Хивы оказались американскими видами, попавшими сюда задолго до людей. Даже сочный ананас в моей руке — сугубо южноамериканский вид, хотя ни ветер, ни птицы не могли его перенести.
Ананас!
Я сел рывком, словно очнулся от сна. Ананас! В отупевшей от зноя голове кусочки мозаики складывались в определенную картину. С золотистого плода я перевел взгляд на продуваемый ветром синий океан. Большой Восток. Родина Тики. Облака. Ананас. Праща. Трепанация. Огромные каменные статуи южноамериканского типа.
— Теи, — сказал я, — кто посадил здесь этот плод — двойные люди?
Теи посмотрел на меня, словно учитель, которому задали глупейший вопрос.
— Аоэ, — ответил он. — Нет. Двойные люди никогда сюда не забирались, чтобы посадить что-нибудь.
Нет, тут растет фаа-хока, древний плод, посаженный далекими предками Теи. Фаа-хока появился задолго до того, как первые чужеземцы посетили Фату-Хиву. Около деревни Омоа разводят другой ананас, много крупнее. Его привезли миссионеры, это всем известно. А этот сюда доставил Тики.
Сидя на каменистом откосе и глядя на маленький дикий ананас в моей руке, я громко рассмеялся: я ведь читал про этого плутишку. И он показался мне ароматнее прежнего… Вспомнилось, как профессора в университете поручили мне перед отъездом сделать на факультете доклад о Маркизах. Я проштудировал, в частности, три тома, в которых Ф. Браун описывал маркизскую флору. Ананас — сугубо американское растение, неспособное преодолеть океан без помощи человека. Но уже Браун знал, что вид Ananas sativus разводили на здешних островах задолго до прихода европейцев. Он записал шесть разных названий культивируемых вариаций; все они составляли элемент древней маркизской культуры и развились на островах из южноамериканского вида. По чисто ботаническим соображениям Браун заключил: перед нами свидетельство того, что полинезийцы получили исходный материал при прямом контакте с Америкой до того, как европейцы обнаружили Маркизы
[96].
К такому же заключению пришел он и относительно папайи. Папайя — еще одно сугубо американское растение доколумбовой поры; тем не менее на Маркизских островах выращивали два варианта. Более крупный и вкусный сорт островитяне называли «ви Оаху»; по их словам, он был привезен одним миссионером с острова Оаху на Гавайском архипелаге. Второй, менее крупный сорт назывался «ви ината»; его островитяне относили к своим собственным культурам, привезенным первоначальными поселенцами. Папайя тоже не могла попасть из Южной Америки на Маркизы без помощи человека, и Браун полагал, что перед нами еще одно свидетельство интродукции аборигенами
[97].
…Кругом американская трава, которой сама природа выстлала открытый ветру склон, в руке у меня древнее американское продовольственное растение. Почему эти интереснейшие ботанические факты не подстегнули раньше мое серое вещество? И почему с ними не считаются антропологи? А впрочем, кто из антропологов стал бы вообще читать три тома о маркизской флоре. Возможно, коллеги Брауна познакомились с его данными. Доктор Салливен, видный специалист по физическим типам маркизцев, самостоятельно пришел к мысли, что полинезийцы антропологически стояли ближе к древним жителям Америки, чем к азиатам и индонезийцам. Но вряд ли он знал, что то же относится к маркизским растениям. Он ведь измерял черепа, ему не приходилось считать тычинки. И вряд ли кто-нибудь рассказывал ему, что некий ботаник по фамилии Браун установил, что большинство растений Маркизов происходит из Америки, а не из Австралии или Индонезии. В свою очередь Браун как ботаник не осмелился подвергнуть сомнению слабо обоснованные, но широко известные антропологические гипотезы, будто люди пришли на Маркизские острова с запада, из какой-то области в Азии. И он скромно заключил: «Хотя получается, что главный поток полинезийской иммиграции направлялся с запада, а не с востока, как исконная флора, несомненно существовала какая-то связь между туземцами Американского континента и Маркизов».
У меня родилось сомнение, чтобы такая сложная проблема, как происхождение полинезийцев, могла быть решена узким специалистом. Тут требовался широкий подход на базе основательной научной подготовки. Это задача для детектива от науки, способного восстановить целостную картину из различных открытий, сделанных специалистами. Специалист может зарыться глубоко в свою нору и выдать на-гора тот или иной результат, но это еще не означает, что он решил весь ребус. Нужен исследователь, располагающий данными всех специалистов и обобщающий их. Для меня это было совершенно очевидно. Ботаник может подсказать ценные мысли антропологу, который пытается реконструировать древние морские пути. Человек способен дважды изобрести одно и то же каменное орудие, но ананас он должен привезти с собой.
Мы с Теи бежали бок о бок вниз по крутому склону. Жесткая трава обдирала мне ноги, солнце обжигало плечи. Добежав до места, где росли перувианские вишни, я сбросил на землю свою ношу. Лив обожала эти плоды. Величиной с черешню, а по виду и запаху — крохотный помидор. Карликовый помидор Physalis peruviana — еще одно несомненно американское растение, которое европейцы находили по всей Восточной Полинезии — от острова Пасхи до Гавайи, а ведь эта культура разводилась древними жителями Америки от Мексики До Перу. Я набрал несколько горстей и присовокупил их к ананасам. За это время Теи успел уйти далеко, и пришлось основательно потрудиться, чтобы догнать его. Вместе мы вошли в пальмовую рощу. Кокосовые орехи… Еще один указатель.
Лив и Момо встретили нас восторженными криками, но я был до того поглощен своими мыслями, что забрался в хижину и лег — лег головой в сторону качающихся пальм. Кокосовые орехи тоже…
Больше ста лет ботаники обсуждали вопрос о происхождении кокосовой пальмы. Ведь все родственные виды, общим числом около трехсот, были американскими. Большинство исследователей полагало, что течение доставило плоды из тропической Америки в Полинезию, а оттуда в Юго-Восточную Азию. Но кое-кто сомневался, чтобы ядро ореха с его гигроскопической кожурой и тремя мягкими глазками оставалось неповрежденным после многомесячного воздействия морской воды и различных организмов. Уже потом, после экспериментов, проведенных ботаниками в цистернах на берегу и командой «Кон-Тики» в океане, было установлено, что кокосовые орехи не могли сохранить всхожесть, плывя с морским течением из Южной Америки в Полинезию. Живя на Маркизах, я сам убедился, что ни один из выброшенных на берег намокших, гниющих орехов не давал жизнеспособных всходов. И ведь если ананас и папайя были доставлены человеком, то и кокосовые орехи могли попасть на острова таким же способом.
Кокосовый орех, содержащий пищу и свежий напиток, лучше всех своих многочисленных диких родичей среди южноамериканских плодов годился как провиант в дальних плаваниях. Капитан Портер больше ста лет назад услышал от маркизцев, что их предки доставили кокосовый орех из далекой страны на востоке. В прошлом веке один миссионер записал примечательную деталь, будто кокосовый орех был привезен на Маркизы «на каменном судне». У слова «паэпаэ» два значения; миссионер привык, что им обозначаются каменные платформы — фундаменты местных хижин, но в других частях Полинезии этим словом называют также плоты.
А не найдутся ли еще какие-нибудь ботанические указания на древнюю Южную Америку?.. Пожалуйста: вот эти бутылочные тыквы, подвешенные к потолочным балкам нашей хижины. Как и во всяком полинезийском хозяйстве, у нас были высушенные на костре калебасы с веревочной ручкой, в которых мы держали воду. Тыкву Lagenaria знаменитый шведский этнолог Эрланд Нурденшельд считал «важнейшим доказательством доколумбовых связей между Океанией и Америкой»
[98]. В самом деле, в могилах на Тихоокеанском побережье Перу были найдены высушенные на костре бутылочные тыквы, которые, как и на полинезийских островах, употребляли в качестве сосудов и поплавков. Их находили в погребениях рядом с мумиями доинкской поры. В древнейших перуанских могилах в Паракасе, а также в Арике — на взморье ниже Тиауанако — калебасы лежали вместе с гуарами, веслами и моделями плотов, принадлежавшими местным купцам и рыбакам.
Люди доинкской поры клали в миски из бутылочной тыквы сушеный батат, снабжая провизией покойников для их странствий в загробном мире. Я знал, что ботаники и антропологи особенно горячо спорили по поводу того факта, что батат Ipomoea batatas возделывался во всей Полинезии, когда туда пришли европейцы, хотя речь шла о типично американском растении, которое нуждалось в тщательном присмотре, чтобы клубни сохраняли всхожесть при перевозке через океанские просторы. Никакое другое растение не озадачивало и не раздражало антропологов так, как батат. Все полинезийские племена знали его под названием кумара, и так же назывался он у кечуа в древнем Перу и Эквадоре. Люди с наиболее богатым воображением намекали, что какой-нибудь клубень мог застрять в корнях дерева, которое упало в воду и было доставлено течением в Полинезию. А название тоже доставлено течением? Другие говорили, что растение могло быть привезено экспедицией Менданьи из Перу в Полинезию. Но штурман экспедиции сообщает о попытках посадить кукурузу, ни словом не упоминая батат. К тому же европейцы смогли убедиться, что кумара — важнейшая полинезийская пищевая культура, которая испокон веков возделывалась во всей области — от уединенного острова Пасхи на востоке до Гавайи на севере и Новой Зеландии на юге. За несколько лет до моего отъезда в Полинезию известный американский этнолог Р. Диксон еще раз обратился к этой проблеме и заключил: «Приходится считаться с возможностью доколумбовых контактов между Южной Америкой и Полинезией; выходит, своим присутствием в Океании батат обязан либо полинезийским мореплавателям, которые достигли берегов Америки и привезли растение оттуда к себе на родину, либо перуанским (или другим американским) индейцам, которые выходили на запад в океан и доставили батат за тысячи километров в Полинезию»
[99].
Однако я знал, что доктор Диксон вскоре уточнил свой вывод, поскольку в том же году, когда была напечатана цитированная статья, специалисты официально объявили южноамериканский бальсовый плот непригодным к мореплаванию. Видный американский археолог и знаток древних южноамериканских судов доктор С. Лотроп заявил, что на бальсовом плоту можно «было ходить только вдоль берегов, ибо гигроскопичность древесины не позволяла ему держаться на воде больше двух недель. И так как древние жители Перу располагали только бальсовым плотом и хрупкой камышовой лодкой, которую вообще нечего брать в расчет, моряки древнего Перу никак не могли дойти до Полинезии. Еще до нашего отплытия на Маркизы Диксон вновь обратился к батату и написал: „Растение могло попасть из Америки в Полинезию лишь с помощью человека, и поскольку у нас нет доказательств того, что индейцы тихоокеанского побережья Южной Америки, где возделывался батат, обладали необходимыми судами и знаниями для дальних плаваний, приходится заключить, что растение было доставлено полинезийцами“
[100].
Мы еще не вернулись с Фату-Хивы, когда известный ученый маориец Те Ранги Хироа (он же Питер Бак) издал свой бестселлер о Полинезии, в котором воспринял как аксиому непригодность бальсового плота к мореплаванию; книга заканчивалась словами: «Неизвестный полинезийский путешественник, который привез с собой из Южной Америки батат, внес величайший личный вклад в историю Полинезии. Он завершил серию плаваний через обширнейшую часть огромного Тихого океана между Азией и Южной Америкой. Как ни странно, предания умалчивают о нем. Мы не знаем ни его имени, ни названия его судна, хотя, неизвестный герой стоит в ряду виднейших полинезийских мореплавателей за свой великий подвиг»
[101].
Позднее Те Ранги Хироа повторил это положение в пособии для изучающих полинезийскую антропологию. В итоге утверждение, будто бальсовый плот непригоден к мореплаванию, стало общепринятым, а отсюда следовало, что бутылочная тыква и батат были привезены из Южной Америки полинезийцами, совершившими плавание в оба конца. Никто не задумывался над тем примечательным фактом, что, по словам полинезийцев, бутылочная тыква и батат росли на родине предков и что предания называли их древнейшими пищевыми растениями Полинезии, которые были доставлены первыми обожествленными поселенцами, в отличие от хлебного дерева и некоторых других меланезийских культур, интродуцированных позднее
[102].
Я не был моряком. Мое знакомство с океаном ограничивалось плаванием в качестве пассажира из Европы, которое уже воспринималось мной как нечто весьма отдаленное, да кошмарными переживаниями во время вылазки на долбленке и перехода на открытой шлюпке. Но мой взгляд на Тихий океан и на так называемые примитивные народы стал меняться. Здешний океан не барьер, нет, он связующее звено, ведь Маркизские острова лежат среди самой могучей из рек Южной Америки. Люди в древности были ничем не хуже нас, пусть даже они не располагали пишущими машинками и пароходами. С чего бы великие цивилизации Перу веками, даже тысячелетиями пользовались бальсовым плотом и камышовой лодкой, если эти средства не годились для мореплавания? По всему побережью, превосходящему длиной приморье Европы от Нордкапа до Гибралтара, инки и их предшественники кормились преимущественно морем — морской торговлей и глубоководным ловом рыбы с бальсовых плотов и камышовых лодок. Раскопки приносят множество свидетельств этого. Своими изобретениями и достижениями эти люди во многом превосходили европейцев той поры. Может быть, они были довольны своими конструкциями, переходившими из поколения в поколение. Может быть, для этого были причины.
Вечером у костра я повел разговор о плотах. Верно ли, что в море плот менее надежен, чем долбленка? Лив соглашалась, что долбленка не боится сильного волнения, лишь бы размеры позволяли ей умещаться между волнами. Большие волны не опасны малым судам, если не давать им наполнить корпус водой и утопить его.
Теи Тетуа тоже не был моряком, но он знал, что в прошлом плоты считали надежнее лодок. Правда, лодки ходят быстрее, ими легче маневрировать. И Теи рассказал одну историю.
В одной из последних войн на Фату-Хиве племя мануоо потерпело поражение; полчища врагов свалились с гор в долину, грозя всех перебить и съесть. Спасаясь от них, мануоо — мужчины, женщины и дети — погрузились на большие плоты из связанного лубяными веревками толстого бамбука. На борт погрузили множество кокосовых орехов, пои-пои и другое продовольствие. Взяли также рыболовные снасти, запасли пресную воду в бамбуковых сосудах. Флотилия покинула Фату-Хиву и исчезла в океане. Много лет спустя один из беглецов появился на острове Уапу в Маркизском архипелаге. От него стало известно, что плоты благополучно пристали к коралловому атоллу в архипелаге Туамоту, где беженцев радушно встретили и предложили остаться жить на атолле.
Мне вспомнилось, что Хэнди записал предание о туземцах с Хива-Оа, посетивших Гавайи. Племя, населявшее долину Ханаупе, было разбито в бою. В поисках спасения они тоже вышли в море. Под руководством своего вождя Хепеа-Таипи связали плот, настелив толстый бамбук в пять рядов. На этом плоту ходили на Гавайи и обратно. Рассказавший предание островитянин утверждал, что именно благодаря этому плаванию жители Хива-Оа узнали про Гавайи
[103].
— А какие лодки были у Тики? — спросил я Теи Тетуа.
Старик не знал. Ему было известно только, что Тики «спустился» из Те-Фити. «Спустился» с востока.
Мы смотрели на летящие в небе облака, на озаренный луной, изрезанный волнами океан. Теи поворошил прутиком угли в костре. Потом взял свою бамбуковую флейту, поднес к ноздре и принялся играть. Возбужденные романтической атмосферой, мы жадно впитывали все впечатления. Наши ноздри обоняли запахи пышной растительности и соленый океанский ветер; уши ловили изысканные звуки из настоящего и прошлого Фату-Хивы: пение флейты, шуршание ветра в пальмовых кронах, все заглушающий гул, когда могучая волна разбивалась о галечный барьер, на котором мы сидели. Я напряженно думал об этих волнах, неустанно твердящих: «Мы идем с востока, с востока, с ВОСТОКА…»
Теи Тетуа кончил играть. Вместе с Момо он направился в свою хижину на другом берегу речушки. Мы улеглись на пальмовых листьях в своей собственной свайной постройке. Но рассказ Теи не давал мне покоя. Я думал о плотах, о трепанациях черепа. Об ананасах и бататах.
— Лив, — не удержался я, когда она уже засыпала, — помнишь, до чего похожи каменные статуи Тики на южноамериканские?
Лив только буркнула что-то. Но прибой пророкотал утвердительный ответ.
Мне не спалось. Словно время перестало существовать, и Тики со своими мореплавателями на всех парусах входил в бухту. Рыжие и черноволосые мужчины и женщины высаживались на галечный барьер. Они выгружали корзины с фруктами и корнеплодами.
Я нащупал собранные мной ананасы. Вот они. Самые настоящие.
Я повернулся на бок и уснул.
Пещерные жители
На Фату-Хиве мы и впрямь вернулись к природе. Цивилизация находилась где-то невероятно далеко. Даже подумать о ней было иной раз страшновато. Когда мы рассказывали о нашем мире Теи и Момо, то и сами как будто не очень верили своим словам.
В один прекрасный день мы после купания в реке лежали на травке, любуясь черными фрегатами, которые стригли хвостами-ножницами воздух под синим небом и белыми облаками.
— Теи, — сказал я, — в моей стране люди умеют летать над деревьями, словно кукушка или фрегат.
Теи осклабился. Момо рассмеялась. Я усомнился в собственных словах. Может быть, мне это приснилось?..
— Нет, правда, Теи, — настаивал я. — Мы забираемся в этакий дом, похожий на птицу с расправленными крыльями. И вместе с нами эта штука поднимается в воздух. Один раз я летал со своей матерью. А всего нас было четверо. В хижине с двумя парами крыльев, и ее тянула вперед одна штуковина, которая все время вращалась.
Я оглянулся кругом — какой бы привести пример. Но на Фату-Хиве не было ничего вращающегося: ни ветряной мельницы, ни колеса.
Теи лукаво посмотрел на меня и повертел рукой в воздухе. Я понял, что он ничего не уразумел в моем описании и не поверил мне.
— Да, так вот, — нерешительно продолжал я. — Когда мы с матерью летели по воздуху, она спросила человека, который управлял этой вращающейся штукой, нельзя ли пролететь над нашим домом. В нашей деревне людей больше, чем на всех Маркизских островах вместе, и они смотрели, как мы кружили над крышами, и деревьями, и высоко над кораблями в море.
Я хотел еще рассказать про человека, который в одиночку пролетел через океан из Америки в Европу, но вспомнил, что географический кругозор Теи и Момо простирается немногим дальше гор Тауаоуохо.
Тогда я сбегал в нашу свайную хижину и отыскал листы из старого журнала, в которые мистер Боб завернул банки с вареньем. Ни одного снимка с самолетом. Вот досада. Зато нашлась фотография Нью-Йорка: очертания города на фоне неба. Манхэттен. Эмпайр-Стейт-Билдинг. Я торжествующе развернул лист перед нашими друзьями.
Теи и Момо внимательно посмотрели на снимок, потом на меня. Никакого впечатления.
— Видите, какие большие дома, — сказал я, удивленный их безразличием.
Они еще раз посмотрели.
— Э. Да.
Теи взял наконец лист, повертел так-сяк, заглянул с другой стороны.
— Глядите! — вдруг воскликнул он.
Глядим. Двухэтажный загородный домик, в дверях стоят мужчина и женщина. Теи и Момо были поражены. Дом на доме! Неужели бывают на свете такие большие дома!
Небоскребы Манхэттена они не восприняли как дома. Люди на улицах были очень уж маленькими. В пятнышке меньше муравьиного яйца они не распознали человека. Зато беленым загородным домиком восхищались до самого вечера. Я еще раз посмотрел на фотографию Манхэттена. Да есть ли он на самом деле? Или
— страшная мысль — передо мной видение из будущего?
Иногда я бродил один по лесу. Скажем, когда Теи готовил пои-пои или какой-нибудь роскошный обед. Или охотился с собаками на кабана. С моей стороны было ханжеством устраняться от охоты, ведь я с удовольствием ел жареную свинину. Вот только не мог смотреть, когда резали свинью. Момо и Лив не уходили далеко от хижин и пляжа.
Устав от жаркого солнца и от ходьбы, я садился в тени на поваленном дереве или на мшистых камнях старого паэпаэ. И предавался размышлениям, отдыхая душой. Дашь нагрузку рукам и ногам, потом так хорошо думается на свежую голову.
Вот мы с Теи охотимся, ловим рыбу, собираем ягоды, бродим по лесу, лазаем по горам, плаваем, добывая хлеб насущный… Это наша работа, а другие назвали бы ее отпуском. На моей родине люди сидят за пишущей машинкой, стоят за прилавком или станком одиннадцать с половиной месяцев, чтобы полмесяца использовать с удовольствием. На эти полмесяца они сбегают из больших домов в маленькие хижины или палатки. Куда-нибудь на волю. Где можно охотиться, ловить рыбу, собирать ягоды, бродить по лесу, лазать по горам и плавать. Что для первобытного человека было работой, для современного человека стало отдыхом. Даже солнце и свежий воздух — роскошь для современного человека… Мы запираемся в комнатах с электрическими лампочками и пылесосами и трудимся, чтобы оплатить счет за электричество и за две недели, проведенные на воле.
Нет, об этом я не буду рассказывать Теи. Я попытался рассказать ему про самолет. Но я никогда не скажу ему, что большинство людей в моей стране работают, неподвижно сидя на одном месте, а для отдыха поднимают гантели, бегают по кругу или машут веслами на лодке без дна, которая не двигается с места. Он этого не поймет.
Издалека донесся голос Теи. Собаки заливались лаем. Старику понадобилась моя помощь. Что было мочи я побежал через долину к склону, где не переставая лаяли псы. Теи приветственно помахал мне рукой; слава богу, цел и невредим. А собаки подпрыгивали на задних лапах, пытаясь взобраться на скальную полку. На полке стоял косматый козел, белоснежный красавец. Наклонив голову с роскошными рогами, он приготовился дать отпор. Дождавшись меня, Теи подкрался сзади и схватил козла за задние ноги, а я вцепился в рога. Поймали!
Мы основательно помаялись, пока, отгоняя собак, не доставили вырывающуюся добычу на берег. Здесь Лив и Момо помогли нам привязать красавца за колышек у нашей хижины.
— Теперь у нас будет молоко! — возликовала Лив.
Момо наклонилась и покачала головой. Какое там молоко от козла. Лив предложила ему банан. Съел. Набив живот листьями таро и плодами, дикарь совсем присмирел и перестал нас пугаться. Первый прирученный нами четвероногий обитатель острова. Мы назвали его Маита — «белый».
Шли недели. Настолько насыщенные недели, что каждый месяц был равен целой жизни, счастливой жизни. Никаких часов, отмеряющих время. Никаких магазинов, ярмарок, торговцев, расходов. Поиски хлеба насущного требовали определенного труда, но одновременно мы пополняли свои зоологические и этнографические коллекции, да еще оставалось время для отдыха и развлечений. Наземные моллюски и насекомые во многом отличались от фауны по ту сторону гор, но орудия труда — те же самые. Каменные топоры и песты, грузила и точила, скребки из раковин. Я ломал голову над одной вещицей, которую раскопал Теи и подобные которой часто находили в долине Омоа и на Хива-Оа: круглый каменный диск величиной с бутылочное дно, с отверстием посередине, как у колеса. Сами островитяне не могли объяснить, что это за штука. Одни полагали, что диски, возможно, катили по земле и соревнующиеся в меткости воины старались попасть в отверстие копьем. По мнению других, диски надевали на деревянные сверла, чтобы лучше вращались.
Но уж очень похожи были эти изделия на некоторые типы южноамериканских пряслиц. Правда, полинезийцы не занимались прядением и ткачеством, когда на острова прибыли европейцы. Тем не менее здесь водился хлопчатник. На многих полинезийских островах, Особенно на Маркизах, Гавайских и Общества, рос в большом количестве дикий хлопчатник. В Австралии и прилегающих к ней островах его не было до прихода европейцев. На Таити миссионеры, обнаружив пригодный для пряжи хлопчатник, попытались убедить островитян, чтобы они собирали его хотя бы для экспорта. Тщетно. Островитяне довольствовались легкими набедренными повязками и накидками из тапы; делать тапу из луба бумажной шелковицы, гибискуса и хлебного дерева было проще, чем прясть и ткать.
Оставалось загадкой, как хлопчатник попал в Полинезию. Из Австрало-Меланезии его не могли доставить в отличие от хлебного дерева и сахарного тростника. Морские птицы не едят семян хлопчатника и не могли перенести его на эти далекие острова. Зато рыбы едят семена и не дали бы им доплыть до Полинезии с течением из Южной Америки, где дикий и культурный хлопчатник был чрезвычайно широко распространен в доевропейские времена.
Бродя по Фату-Хиве и представляя себе древних мореплавателей, которые, судя по всему, пришли сюда из Южной Америки на примитивных судах с грузом клубней кумары, бутылочных тыкв, ананасных саженцев, кокосовых орехов, семян папайи и перувианской вишни, я почему-то не подумал о том, что этот список можно пополнить хлопчатником. Лишь много лет спустя, в тот самый год, когда я прошел на бальсовом плоту из Перу в Полинезию, специалисты включили хлопчатник в число кусочков мозаики. Три американских исследователя тщательно изучили все известные в мире виды хлопчатника. Они установили, что у дикого хлопчатника тринадцать хромосом. У культурного — тоже, с одним-единственным исключением: представители древних цивилизаций Мексики и Перу сумели путем искусной гибридизации вывести длинноволокнистый хлопчатник с двадцатью шестью хромосомами. И сразу поиски родины полинезийского хлопчатника упростились, ведь у него тоже двадцать шесть хромосом. Иначе говоря, речь шла вовсе не о диком хлопчатнике, а о гибриде, выведенном на хлопковых полях Мексики и Перу, когда здесь достигли полного развития доколумбовы культуры
[104].
Я не мог этого знать, но виденного мной было достаточно, чтобы убедить меня, что эти острова — во всяком случае отчасти — заселялись также из Южной Америки. В самом деле, ведь показал же Салливен, что островные племена, которые мы называем полинезийскими, возникли при скрещивании различных расовых типов и что у них нет прямых предков в Азии.
Я продолжал присматриваться к растениям Фату-Хивы — не обнаружатся ли еще свидетельства контактов с Америкой. И мне вспомнились жаркие научные споры по поводу столь важного в Полинезии гибискуса, который Браун назвал «одним из самых полезных деревьев, разводимых древними полинезийцами». Полезность гибискуса никто не отрицал. Молодые побеги шли в пищу; мы сами видели, как из цветков делали лекарство; луб шел на веревки; древесина годилась для добывания огня и изготовления тысячи бытовых предметов. Американские ботаники О. и Р. Кук уже за три десятилетия до этого показали, что гибискус использовался для одних и тех же целей в Полинезии и в древней Америке и даже назывался почти одинаково: в Америке-махо, на островах — мао и хау. Вообще-то гибискус широко распространен в тропическом поясе, но родиной его считалась Америка. И упомянутые ботаники заключили, что семена не боятся морской воды и могли быть принесены течениями до прихода человека, а вот название не могло приплыть само. Они рекомендовали антропологам учитывать, что налицо важное растение, мимо которого не следует проходить, когда изучаешь возможность доевропейских контактов между тропической Америкой и тихоокеанскими островами.
Не успели они изложить свой взгляд, как им решительно возразил другой ботаник — Э. Меррилл, страстный защитник догмы, по которой до европейцев ни— кто не отплывал из Америки и не приплывал в нее. По его мнению, полинезийский гибискус давным-давно мог попасть на острова с течениями. И лишь много лет спустя после моего пребывания на Фату-Хиве известный американский специалист по географии растений Дж. Картер, вернувшись к этой проблеме, заключил: «Трудно назвать более ясное свидетельство контактов между народами Тихого океана и Центральной Америки, чем то, которое дают нам батат и гибискус, известный под названием махо»
[105].
Мысленно я частенько возвращался в библиотеку Крэпелиена, стараясь по возможности вспомнить все прочтенное мной до того, как я приехал на острова и самолично ознакомился с обстановкой. На Фату-Хиве если и были книги, то лишь библии в двух конкурирующих церквах Омоа. У католиков и протестантов одна библия, но толкуют они ее по-разному. Не удивительно, что у биологов и антропологов, читающих разные книги, взгляды разные. Даже два антрополога могут по-разному толковать одну и ту же проблему, если один из них только измеряет черепа, а другой только занимается языками. Соединять Полинезию с Америкой было все равно что сунуть палец в осиное гнездо. Ибо ученые и любители, занимающиеся доколумбовой Америкой, давно разбились на два отряда, одержимых чуть ли не религиозным фанатизмом: на диффузионистов и изоляционистов. Первые не сомневались в том, что разделяющий Старый и Новый Свет океан был пройден до Колумба викингами, а еще раньше — другими мореплавателями. Вторые были не менее страстно убеждены, что до 1492 года мировые океаны представляли собой неодолимый барьер для человека. Пожалуй, скорее Пакеекее сумел бы обратить патера Викторина в свою веру, чем изоляционист переубедить диффузиониста или наоборот.
А сам-то я кто? Очевидно, диффузионист, поскольку склоняюсь к мысли, что люди могли прийти в Полинезию из Америки до того, как Колумб пересек Атлантику. Впрочем, какой же я диффузионист? Ведь я не верю, что полинезийцы попали на эти острова, следуя маршрутом, который даже все изоляционисты признают! Не желаю допустить возможность какихлибо контактов с Америкой до Колумба, они исходят из того, что полинезийцы прошли на пирогах вдвое больший путь против господствующих ветров и течений. Всячески изолируя Америку, они тем самым становятся крайними диффузионистами по отношению к Полинезии.
Диффузионисты подходят к решению проблем по меньшей мере так же нереалистично, как изоляционисты, ведь они совершенно не учитывают ветров и течений, смотрят на мировые океаны как на катки, по которым одинаково легко скользить в обе стороны. Сидят над плоской картой и прыгают карандашом с острова на остров, с материка на материк. Им бы очутиться в пироге на волнах, штурмующих Фату-Хиву, убедиться, как мы убедились, что у этого океана есть «верх» и «низ». А изоляционистам, допускающим, что батат и семена махо сами могли прибыть с течением из Перу в Полинезию, не мешало бы уразуметь, что судно могло проделать тот же путь.
В общем, диффузионисты и изоляционисты одинаково далеки от жизни. Тут надо быть хоть немного географом.
…И опять я вечером, лежа в хижине, размышляю об этих проблемах, которые все больше меня занимают. Намечался конфликт между бородатым дикарем, осуществившим возврат к природе, и бывшим студентом университета, решающим научный ребус. Меня огорчало, что антропологи так легко подходят к моим предметам — биологии и географии, даже не изучают их факультативно. Отрывают древних людей от природы и рассматривают их, словно черепки в музейной витрине.
Внезапно я из мира размышлений вернулся на свой матрац. Собаки! Чужие собаки. Точно: где-то в верховьях долины — собачий лай.
Теи в это время как раз шел через речушку, неся нам на большом зеленом листе горячий ужин. Оба его пса остановились, подняли головы и ответили своим сородичам яростным лаем.
Кто-то спускался с гор, потому что в долине Уиа мы ни разу не встречали диких собак. Днем, когда я ходил за хворостом, мне один раз послышалось, что на горе перекликаются люди. Но я решил, что мне это почудилось.
Собачий концерт стал оглушительным, когда целая свора пятнистых псов, напоминающих пойнтеров, выбежала из зарослей в пальмовую рощу. Следом за ними шли люди — мужчины, женщины, дети. Они кричали и махали руками, приветствуя нас. Наши друзья Вео и Тахиапитиани из Омоа, еще одна чета и гурьба ребятишек, среди которых мы узнали плутишку Пахо. Тихая долина наполнилась криками и смехом. Пахо первым делом осведомился у Момо, осталось ли что-нибудь от варенья и тушенки, купленных нами на Хива-Оа. Теи даже не прикоснулся к ним. И сладости мистера Боба мы приберегли, не желая быть виновниками порчи чудесных зубов Теи и Момо.
Судя по всему, не свежий воздух Уиа привлек нежданных гостей из-за гор. То ли им не давали — покоя мысли о товарах из лавки Боба, то ли на той стороне захотели проверить, чем мы тут заняты. Мы предпочли бы, чтобы там о нас вовсе забыли. И горячо поддержали старика Теи, когда он предложил гостям остаться. В Уиа хороший ветер, достаточно свиней и хлебных плодов, на склонах хватает фаэхока. Стоит ли возвращаться в Омоа, где столько больных?
Из земляной печи Теи только что был извлечен жареный поросенок, и пои-пои поспело, так что еды хватало на всех. Гостей не пришлось долго уговаривать. Вместе с детьми и псами они вошли в ограду вокруг резиденции Теи и, когда от поросенка не осталось даже косточек, устроились на ночлег в пустующей второй хижине старика.
Гости решили остаться. Они не стали строить новых домов, обосновались у Теи и ели у него. Лучшие представители той, западной стороны. Дружелюбные, веселые, здоровые, симпатичные. Вео был первым охотником на острове, и, хотя число полудиких свиней Теи быстро сократилось, в верховьях долины бродило предовольно их сородичей. Вео ходил на охоту со своими псами, вооруженный арканом из гибискусовой веревки. Тахо и другие шутя взбирались на деревья, на которые старику уже не влезть; в изобилии снабжали наше общее хозяйство свежей рыбой и другими дарами моря. Казалось, в долину вернулись старые добрые времена. Ожили склоны, ожил берег. Кричали дети, смеялись женщины. Теи был счастлив, все были счастливы. Мы работали сообща и всем делились.
Иногда океан успокаивался настолько, что можно было понырять и поплавать. Облака шли под углом к своему обычному курсу. Но это длилось всего несколько дней, потом они снова направлялись с востока на запад.
Ребятишки во главе с Пахо искусно ловили осьминогов. И ели их сырыми. Конечно, если нарезать спрута ломтиками и выдержать ночь в лимонном соку, получается очень вкусно. Но ребятишки, чтобы подразнить нас, ели свою добычу живьем. Жевали крупных осьминогов, которые обвивали им шею длинными щупальцами. И покатывались со смеху, видя наш ужас.
Момо обожала щекотать пятки Лив перышком или травинкой. Лив брыкалась, а Момо хохотала до упаду. Ее подошвы обросли толстой кожей, которую девочка срезала острыми камнями. Лив визжала от такого зрелища, к величайшему удовольствию ребятишек.
Вечером все собирались у костра и вместе с Теи пели старые песни. Или слушали рассказы старика про его детство в Уиа В ту пору на острове были школы Настоящие школы, где дети под страхом наказания заучивали наизусть предания о далеком прошлом, когда короли женились на родных сестрах и люди общались с богами. Тогда в прибрежных водах водилось много черепах, и люди населяли всю долину, даже склоны Натаху. Теперь же на горе остались лишь ка— кие-то вертикальные ходы в пустые подземные полости. Наступили другие времена… Казалось, Теи в глубине души надеется, что мы общими силами возродим былое. Старый отшельник стал бодрее прежнего.
А через две-три недели долину наводнили новые гости. Поскольку Вео и его спутники не вернулись, многие жители Омоа во главе с нашим первым провожатым перевалили через горы, чтобы выяснить, что, собственно, происходит. В их числе было несколько отчаянных бузотеров.
По приглашению Теи все втиснулись в его две хижины. Сам хозяин хлопотал на кухне. Новоприбывшие не участвовали в добывании пищи. Они ограничивались приготовлением своего рода пива из апельсинов. День-деньской сидели сложа руки или пролеживали бока, ожидая, когда поспеет пиво, и требовали, чтобы Теи обслуживал их.
Алкогольные напитки были неизвестны в Полинезии, когда туда пришли европейцы. Азиатский обычай жевать бетель с известью распространился на восток только до рубежа, разделяющего меланезийские и полинезийские острова. Зато практически на всех островах Полинезии укоренился обычай пить каву; это говорит о его древности и о том, что он, видимо, принесен в эту область из какого-то общего центра. Аналогичный обычай — ритуальное потребление касавы
— известен у американских племен от Мексики до Перу. На Тихоокеанском побережье Южной Америки этот напиток известен под названиями «чича», «акха», «кавау» и приготовляется точно так же, как полинезийская кава. Сначала разжевывают определенный корень (в некоторых районах Америки — кукурузу), и получившуюся кашицу выплевывают в миску с горячей водой. Дав смеси забродить, волокна отцеживают. Готовый безалкогольный сок, ферментированный слюной, пьют в честь обожествленных предков. Вплоть до прибытия европейцев американские индейцы и полинезийские племена не знали других хмельных напитков. Касава, кавау или кава не вызывает буйного веселья, как алкоголь, напротив, участники ритуала становятся молчаливыми, мрачными и сонными.
Когда же европейцы доставили на острова спиртные напитки, кава исчезла. И вот теперь у Теи мужчивы и женщины сидели и ждали, когда подойдет апельсиновое пиво, чтобы устроить настоящую попойку. Нам было не по себе. Мы знали, что пьяный полинезиец собой не владеет, он на все способен. Несколько десятилетий назад, когда на Маркизских островах впервые появилось спиртное, были отмечены случаи кровавых оргий, островитяне ели человеческие головы.
И началось… Теи тоже зазвали в компанию, заставили пить вместе с другими. Даже детей напоили допьяна и малышку Момо. Хуже всех буянил здоровенный детина, метис по имени Наполеон. Он в пьяном виде вообще терял рассудок. Двух жен уже забил насмерть. Теперь он ухаживал за Хакаевой, вдовушкой, которая, похоронив мужа, пошла через гору в Уиа. До отъезда патера Викторина она заплатила ему, чтобы быть уверенной, что покойный супруг попадет на небеса. Теперь Хакаева опять ходила в невестах с цветком за правым ухом.
В ту ночь незваные гости несколько раз пытались забраться к нам, но они были слишком пьяны, и мы
сталкивали их с лестницы. Тем не менее кое-что из подарков, отвергнутых Теи, исчезло. Шум стоял неописуемый. Нет, если так будет продолжаться, придется нам уходить…
Гости из Омоа явно не собирались возвращаться домой через горы. На другой день после попойки те из них, кто не слишком упился накануне, побрели в лес за новой порцией апельсинов для пива. К нашему ужасу, Теи Тетуа, шатаясь, доковылял до нашей хижины и стал звать меня хриплым, недобрым голосом.
Я спустился по лестнице. Теи уставился на меня воспаленными глазами и пробормотал «этоутемониэуатевасодисо».
Язык плохо слушался старика, и я не сразу разобрал, что речь идет о 17,5 франка. Столько мы платили Иоане и его друзьям, когда они строили нам дом. Теперь Наполеон и его приятели подбили Теи потребовать с нас жалованье.
— Но Теи, — сказал я, — какой тебе толк от денег? Ты вот не захотел взять от нас подарки — может быть, теперь возьмешь?
Но Теи не слушал меня. Повернувшись, он заковылял обратно через речку, твердя свое «этоутемониэуатевасодисо».
Понятно, Лив расстроилась. Да и я перестал ломать голову над загадкой, откуда пришли предки Теи Тетуа. Сейчас важнее было решить, куда нам самим деться. Здесь оставаться невозможно.
…Несколько дней спустя я сидел на нашей лестнице и смотрел в море. На участке Теи бездельники дожидались, когда поспеет очередная порция пива. Женщины, сидя нагишом в реке, плескались в свое удовольствие. Вдруг я заметил над горизонтом столбик дыма. Пароход! Первый пароход, увиденный мной с берега Фату-Хивы.
До сих пор я критически относился к историям о потерпевших кораблекрушение, которые, подобно Робинзону Крузо, очутившись на чудесном тропическом острове, нетерпеливо всматривались вдаль и ждали, когда их подберет какой-нибудь корабль. А теперь сам сидел, бородатый и длинноволосый, на лестнице робинзоновского домика в обрамленной горами зеленой долине и жадно следил за струйкой дыма. Над горизонтом показались мачты, потом труба, потом часть высокого черного носа.
Пароход приближался к острову!
Лив присоединилась ко мне. Уже весь пароход видно, идет наискосок, приближаясь к Фату-Хиве. Там, на палубе — люди из нашего собственного мира. Наверно, стоят вдоль борта и любуются красивым островом. Как мы любовались когда-то, приближаясь к Таити. Кажется, вечность прошла с тех пор.
Рассматривают в бинокль свайную хижину на берегу… И конечно, приняли ее за жилье островитян, потому что пароход стал удаляться, очевидно взяв курс на Таити.
Мы снова в одиночестве среди ненадежных людей.
На другой день в Омоа отправился один молодой парень. Мы просили его захватить письмо для Пакеекее, но он отказался. Даже за плату.
А затем Лив однажды ночью проснулась от острой боли в ноге. И закричала, что постель кишит какими-то тварями. Я сразу сообразил, в чем дело. Тварь была всего лишь одна — длиннющая тысяченожка.
В слабом лунном свете мы перетряхнули все пальмовые листья, но ядовитый агрессор исчез.
Мы намазали оставленную мощными жвалами двойную ранку лимонным соком. Боль унялась, и на следующий день осталась только немота в ноге. С первыми лучами солнца мы встали и снова переворошили постель. И нашли желтую тысяченожку, которая по-змеиному свернулась под нами. Я отсек ей голову мачете. Мы продолжали искать, я убил еще одну тварь, а третья улизнула в щели в полу.
Пришла Момо с красными от бессонницы глазами, сообщила, что заготовлено много мисок апельсинового напитка, предстоит еще более веселое гулянье. Она недоумевала: почему бы нам не присоединиться? Улучив минуту, я подошел к спустившемуся к реке пареньку, выяснил, что он знает дорогу через перевал, и попросил его ночью провести нас в горы. Получив от меня аванс, он согласился.
В эти самые дни в долине произошло счастливое событие: дикая свинья родила шестерых поросят. Собаки выследили ее, поросята разбежались, но одного Момо поймала и отдала Лив. Это было милейшее существо — задорные глазенки, довольная улыбка на длинном тонком рыле, кокетливая завитушка на хвостике, розовые ножки и мягкая рыжая щетина с красивыми черными пятнами. Лив сразу прониклась к поросеночку нежностью и спрятала его в нашей хижине. Мы были рады хоть как-то отвлечься от творившегося кругом безобразия и усыновили звереныша, дав ему имя Маи-маи — так Момо называла поросят.
В ночь, когда был намечен побег, мы ни на минуту не сомкнули глаз из-за шума и гама за рекой. Всех громче орал Наполеон. Парень, с которым мы договорились, сдержал слово, пришел за нами, к тому же относительно трезвый. Лив не возражала против того, чтобы я выпустил на волю козла Маита. Пусть бежит к себе домой в горы. Но когда она снесла вниз по лестнице и поставила на землю похрюкивающего поросеночка, я увидел, что шея его обвязана гибискусовой веревкой. Лив вознамерилась взять Маи-маи с собой, готова была хоть до Норвегии везти.
— Ты с ума сошла, — прошептал я. — К тому времени, когда мы выберемся с острова, Маи-маи превратится в огромную толстую свинью. Представляешь, что она учинит на борту.
Однако Лив стояла на своем. И когда мы углубились в темный лес, она передала поросенка нашему провожатому, потому что Маи-маи наотрез отказывался идти на привязи. Но провожатый ни за что не хотел его нести, пришлось мне завернуть Маи-маи в один плед с фотокамерой. Остальное имущество взял проводник; особенно счастлив он был, что ему доверили табак и другие предметы роскоши из лавки Боба, отвергнутые Теи.
Мы ни с кем не простились. Все были пьяны, а после встречи с тысяченожками нам стало ясно, что Наполеону и его приятелям лучше не знать о нашем намерении уйти.
Отойдя подальше от моря, мы решили подождать рассвета, чтобы не заблудиться на камнях в гибискусовых зарослях. Главное было сделано, мы убрались вовремя: когда пьяницы полезут в нашу хижину, они обнаружат, что она пуста.
Как только начало светать, мы продолжили путь вдоль русла. Маи-маи отбивался, будто выдернутый из реки лосось, и громко визжал. Я нес его под мышкой, на плече, на груди, за пазухой — визжит да и только. А тут еще солнце стало припекать. Пришлось извлечь Маи-маи из пледа, хотя руки тотчас вспотели от живой ноши.
Переправляясь через речушку, я окунул поросенка в воду, чтобы немного охладить. Маи-маи завизжал пуще прежнего, хоть уши зажимай.
Проводник прибавил ходу и скрылся впереди с нашим багажом. Вот и подножие Тауаоуохо, пошла трава теита в рост человека, а провожатого все не видно. Как сквозь землю провалился. Пришлось нам самим отыскивать в траве начало горной тропы.
Здесь кончалась долина Уиа, начинался серпантин по накаленным солнцем скалам. Ни одного деревца, ни единого клочка тени, и полное безветрие… Палящие лучи без помех пронизывали сухую теиту. От назойливого визга Маи-маи зной казался еще невыносимее, и я робко предложил отпустить поросенка. Лив решительно запротестовала.
— Бедняжка изжарится на раскаленных камнях, — сказала она.
Медленно продвигались мы вверх, где на двух ногах, где на четвереньках. Крутая тропа становилась все уже, потом и вовсе пропала, мы с трудом различали какие-то смутные следы на песке между кочками. В конце концов уперлись в бараньи лбы. Дальше ходу не было. Я опустился на колени, тщательно осмотрел следы, которые привели нас сюда. Дикие свиньи… Мы заблудились.
Пробиваться вверх в высокой траве было нелегко. Еще хуже — возвращаться по собственным следам. Поднимаясь, мы примяли длинные стебли, и теперь они встречали нас штыками, острые, словно край открытой консервной банки. Страшная мысль пришла нам в голову: мы попали в западню… Может быть, парень, который скрылся с нашим имуществом, преследует нас во главе шайки пьянчужек. Надо спешить! Скорей отыскать тропу. Скорей выбраться на плато, где можно спасаться бегством. Здесь мы в тупике.
Мы совсем обессилели, когда наконец выбрались на тропу. Воздух кругом был такой же неподвижный и горячий, как скалы; жар точно в печи. Солнце немилосердно жгло бесчисленные ссадины и порезы; пыль и пот законопатили все поры.
Мокрый распаренный поросенок не давал нам ни минуты покоя. Исступленный визг пронизывал до костей; меня так и подмывало сбросить в пропасть отбивающегося мучителя.
Над нами вздымались отвесные кручи, мы не прошли еще и половины пути до плато. Без отдыха вообще не дойти. А какой же отдых на солнцепеке… Песок и камни раскалены, и только сплетенные Лив и Момо из листьев пандануса широкополые шляпы спасали нас от солнечного удара. Вдыхаемый воздух нисколько не освежал легкие.
Надо подниматься выше, туда, где есть хоть какой-то ветерок. Мы наметили причудливое скальное образование, которое запомнилось нам во время перехода из Омоа в Уиа. Два лавовых шпиля, напоминающих троллей из норвежской сказки, словно два окаменевших стража, озирали долину и море. Между их широко расставленными ногами зиял короткий туннель — единственное тенистое место на всем этом склоне. В прошлый раз проводник говорил нам, что даже в самый тихий и жаркий день в туннеле дует слабый ветерок.
Казалось, прошла вечность, прежде чем расстояние до каменных троллей стало заметно сокращаться. Под конец Лив совсем изнемогла. На каждом шагу она спотыкалась, то и дело приходилось обмахивать ее шляпой. Маи-маи при этом довольно хрюкал, но стоило мне перестать махать, как этот негодяй принимался визжать громче прежнего.
Каким блаженством было очутиться в темном прохладном туннеле под могучими, троллями. Подъем еще не кончился, но во всяком случае мы видели сверху, что нас никто не преследует. Сиди хоть до темноты, пусть даже проводник унес приготовленный Лив провиант— кокосовое молоко и жареные корни таро.
Из туннеля тропическая долина под нами казалась ослепительно белой в ярком свете полуденного солнца. Маи-маи мирно похрюкивал, потом и вовсе уснул на руках у Лив. Ветерок освежил и осушил кожу, и часа через два мы почувствовали, что не усидим больше. Хотелось скорее выбраться на плато. Мы вышли из туннеля на солнце и продолжали подъем.
В одном трудном месте мне, чтобы освободить руки, пришлось повесить на спину плед с завернутой в него фотокамерой и четвероногим крикуном. Вскоре поросенок притих.
— Ему там нравится, в темноте, — сказал я, радуясь, что найдено решение.
Но Лив настояла на том, чтобы заглянуть внутрь пледа. И обнаружила, что поросеночек лежит недвижимо, как на рождественском столе. Она поспешно извлекла Маи-маи из мешка, и, очнувшись, он снова принялся голосить.
Наконец мы добрались до перевала. Перед нами простиралось внутреннее плато. На последнем этапе нас догнал ветер, теперь бы только до воды добраться…
Мы пили из каждого родника и ручья на нашем пути. Первый глоток показался нам вкуснее шампанского со льда. Маи-маи разделял нашу радость. Несмотря на голод, мы не спешили спускаться в Омоа. Незачем островитянам знать, где мы находимся.
Ночь застигла нас в небольшой расщелине. Сразу стало холодно. Мы стучали зубами и мечтали о костре. Пока Лив при свете догорающей зари собирала папоротник для постели, я добывал огонь трением. Палочка почернела, запахло дымком, но и только. Когда рука совсем онемела, я сдался. Однако холод заставил меня возобновить попытку. Снова дымок… Лив тотчас подошла с трутом, но силы оставляли меня. Придется померзнуть под открытым небом… Эх, сейчас бы хоть одну спичечку! Или хотя бы огниво Теи. Мне явно попалась неподходящая древесина. Внезапно на трут упала искорка. Словно крохотная звездочка. Лив тихонько подула. И когда трут охватило живое пламя, я ощутил такую гордость, словно в моих руках была лампа Аладдина. Я был волшебником, способным разогнать окружающий мрак и сотворить тепло в холодной горной ночи. Для защиты от тысяченожек и диких псов я сделал целый круг из маленьких костров. Тем временем Лив устроила мягкую зеленую постель прямо на тропе — другого ровного места не нашлось.
Мы легли и укрылись пледом, наслаждаясь видом на миллионы медленно вращающихся над нами звезд и созвездий. Угрюмые скалы обрамляли картушку вселенского компаса.
Но Маи-маи на руках у Лив визжал так отчаянно, что не давал нам спать. Мы уже установили, что наш поросеночек женского пола, и я дал ему новое, более подходящее имя — Сирена.
В конце концов даже Лив устала от такого шумного компаньона. Я предложил привязать Сирену гденибудь за пределами слышимости. Лив согласилась, но поставила условие, чтобы невинный мучитель получил наш единственный плед: второй унес провожатый. Отойдя на изрядное расстояние, я привязал плед с завернутой в него Сиреной к большому камню. Теперь только шелест ветра нарушал ночную тишину, и мы уснули в кольце догорающих костров.
Среди ночи нас разбудил топот тяжелых копыт. Он отдавался и в воздухе, и в земле, на которой мы лежали. Костры давно потухли, я окоченел от холода, но сразу ожил, увидев при свете луны, что прямо на нас скачут две дикие лошади. С развевающимися хвостами и гривами они мчались во весь опор по тропе.
Я сел и громко закричал. Поздно. Первая лошадь не успела притормозить, но, слава богу, могучим прыжком перемахнула через нас. Вторая круто остановилась, вздыбилась и поскакала в обратную сторону.
Вскочив на ноги, мы принялись шуровать в углях и подбросили хворосту, чтобы разогнать темноту и согреться.
— Сирена, — коротко заметила Лив.
Ну, конечно. Идя по тропе, лошади разбудили поросеночка. Он завизжал и заметался в пледе этаким привидением и основательно напугал лошадей. Сам того не ведая, маленький негодяй подверг нас смертельной опасности.
На другой день голод вынудил нас сдаться. В поисках пищи мы спустились в долину Омоа. Горная тропа кончалась на мысу в конце залива, и здесь мы, к своему удивлению, застали Вилли. Он сидел с таким видом, будто дожидался нас. Мягко улыбаясь, Вилли сообщил, что второй плед и прочее имущество, которое нес наш провожатый, лежат у него в доме. Он увидел парня, когда тот спускался по тропе, и забрал вещи к себе на хранение.
Мы как-то успели забыть, что у нас в Омоа есть еще один друг Вилли был скорее европейцем, чем островитянином, и не участвовал в кознях, которые затевали против нас другие жители деревни. Однако его замкнутость и стеснительность мешали нам наладить с ним более тесные отношения.
Основательно подкрепившись тушенкой и забрав свое имущество, мы с чувством глубокой благодарности к Вилли вышли из его дома. Куда теперь податься? Решили прежде всего навестить наших старых друзей Пакеекее и Тиоти.
По дороге нас остановил фатухивец в соломенной шляпе и набедренной повязке и предложил совершить обмен. Я уступлю ему Лив, а сам получу его жену и четверых детей в придачу. Он развел руками, словно обнимая бочку, чтобы я понял, как много выиграю на обмене. И был заметно удивлен, когда мы с Лив отвергли лестное предложение.
Поспешив дальше, мы отыскали Тиоти. Он искренне обрадовался нам и нашему подарку — Сирене. Поросенок успел охрипнуть от визга, но сразу успокоился и довольно захрюкал, когда его выпустили в загон к курам.
Как обычно, Тиоти придумал для нас выход: надо дождаться, когда все уснут, и идти на белый пляж Тахаоа. Он будет подбрасывать нам еду на лодке и немедленно известит о приходе шхуны.
Как только лесистую долину окутал мрак, мы прокрались на озаренный звездами берег и побрели со своим багажом через камни у подножия скал. Дорога на Тахаоа была нам знакома.
Ночью уединенный пляж с белым коралловым песком казался еще более пустынным, чем днем. Поистине уединенный уголок: впереди — открытый океан, позади — скалистая круча. Только птицы да холоднокровные обитатели рифа чувствовали себя здесь дома. Даже в ту пору, когда остров кишел людьми, вряд ли кто-нибудь постоянно жил на узкой полоске травы между галькой и отвесными скалами, на которую без конца сыпались сверху камни. Мы не нашли ничего похожего на паэпаэ, только две высокие кокосовые пальмы да несколько маленьких деревьев, среди которых зеленел букет стеблей с большими перистыми листьями, обнимавшими гроздь тяжелых плодов папайи с дыню величиной.
Тахаоа воспринимался как некий совершенно обособленный мир. Особенно глухо и тихо было здесь ночью. Даже птицы спали. Мы остановились, глядя на отражающий звездное небо океан, и безмолвно приветствовали наш новый приют: принимай жильцов… Все наше имущество было завернуто в два пледа. Палатка, которую негде было ставить из-за камнепада, мачете, две корзинки с плодами и жареными клубнямидар наших друзей в Омоа. Наконец-то мы избавились от дурацкого табака и сладостей, источников стольких неприятностей. Сами мы не курили, а сладости привели в восторг беззубого Тиоти. Я не взял даже банок и пробирок для зоологических образцов. Тут лишь бы выжить, какая там наука.
Только мелкие волны, ласкавшие плоский риф, отозвались на наше приветствие. Покрытый тонким слоем воды коралловый барьер преграждал путь яростному прибою, предоставляя ему бесноваться вдоль внешней кромки рифа. Но мы проникли в Тахаоа с черного хода, где не было никаких стражей. И соскочив на белый песок, стали присматривать себе место для ночлега.
Когда мы в первый раз приходили сюда с Тиоти и его вахиной, я приметил маленькую пещерку, где можно было не бояться падающих сверху камней. К ней мы и направились теперь со своими узлами. Палатка тут не годилась, только пещера. Потолок из затвердевшей черной лавы, прочные стены — никакой жучок не просверлит, никакая свинья не раскачает.
Пол пещеры был выстлан гладкой, как яйцо, крупной и мелкой галькой. Из камней побольше я соорудил у входа барьер, мелкую гальку убрал, расчищая ложе для сна. Под камнями был белый песок. Продолжая укреплять барьер снаружи, со стороны моря, я сдвинул большущий валун и увидел здоровенную злющую мурену, похожую на толстую черно-зеленую змею. Она извивалась туда-сюда, наконец решилась и проскользнула у меня между ногам в заводь на рифе.
Я не подозревал, что эти твари могут передвигаться по суше. Правда, в прилив море подходило к самой пещере, и песок под большими камнями был совсем влажный. Но ведь мурена не хуже какого-нибудь удава доползла до воды по сухой гальке.
Мы боялись этих змееподобных чудовищ больше, чем акул. Выходя на рыбную ловлю с островитянами, мы видели, как они подтягивают акулу к самому борту и бьют тяжелой дубинкой по голове. Если же на крючок попадалась мурена с острыми тонкими зубами и сатанинскими глазами, рыбаки, возбужденно крича, кололи ее длинными острогами и только потом извлекали на поверхность. Мало того, что зубы мурены ядовиты, — наши друзья уверяли, что крупные экземпляры могут перекусить руку человека. Здешние мурены достигали невероятной толщины; около Уиа я однажды глядел в змеиные глазки высунувшегося из подводной норы чудовища толщиной с мое бедро. Многие островитяне утверждали, будто видели мурен, равных в обхвате стволу кокосовой пальмы. Даже если сделать поправку на преувеличения, факт остается фактом: существуют огромные экземпляры, которых вполне можно принять за морского змея, не будь они такими короткими.
После этой встречи я стал действовать поосторожнее. Под любым камнем могла оказаться еще мурена, лучше поберечь пальцы рук и ног.
В тусклом свете звездного неба мы оборудовали свое новое жилье. Лив застелила пол травой, сколько нашлось; мы закутались в пледы и уснули.
День был уже в разгаре, когда яркий отблеск солнца на рифе разбудил нас. Я сел, сонно озираясь вокруг. Камни, вода… Рядом, подперев рукой подбородок, лежала Лив и глядела в море. На лице ее ничего не было написано. О чем она задумалась? Сколько испытаний выпало на ее долю, и ни разу не пожаловалась. Ни разу не упрекнула меня; дескать, ну и придумал, кому это надо, и так далее. Ни разу не просилась домой. Фату-Хива стал ее домом. Где бы мы ни устроили лагерь, она приноравливалась к обстановке.
Сам я уже не знал, что и думать. Мы побеждены, но не совсем Мы бежали, но все еще свободны, как парящие над рифом фрегаты. Мы прибыли сюда, чтобы жить на природе. И более, чем когда-либо, восхищаемся природой. Но все-таки эксперимент развивался не совсем так, как мы себе представляли. Мы пробовали жить в гуще леса, в горах, под пальмами на берегу. Некоторое время все шло хорошо, потом непременно возникали препятствия. Теперь вот испытаем жизнь пещерных людей… Зажатые между черным обрывом и облизывающим камни океаном. По скале струится пресная вода, в соленых заводях на рифе можно добыть достаточно пищи. Но ведь не об этом же мы мечтали, когда укладывали чемоданы, собираясь в далекий путь, собираясь возвратиться к природе.
Я выбрался из пещеры на солнце. До чего огромен океан. До чего узка полоска суши, которой мы располагаем. Я поглядел вверх — хоть бы козы и олуши поосторожнее ступали по скале, не бомбили нас камнями.
Нет, тут на всю жизнь нельзя оставаться. Семья есть семья, у Лив может появиться ребенок, против природы не пойдешь. И ведь она не лишена материнского инстинкта, вон как нянчила Сирену…
Молча мы продолжали свое устройство на новом месте. Будущее, каким оно нам рисовалось на берегу залива Тахаоа, не располагало к красноречию. Да и устройство не ахти какое сложное. Отгородить место для очага да сложить под обрывом побольше плавника в запас, чтобы костер не потухал совсем. Кровать, стол, лавка — все это здесь не нужно. Их заменили камни и песок. У нас были с собой миски из скорлупы кокосового ореха, бамбуковые ложки и кружки. Дверь для зашиты от комаров и диких свиней не нужна — тут нет ни тех, ни других. От дождя с моря можно завеситься палаткой, Я попробовал взобраться на кокосовую пальму. Куда там, слишком высокая. Подождем, когда появится Тиоти, а пока будем собирать орехи, которые сами упадут. При моих способностях к лазанью недолго и шею сломать, а таоа здесь нет.
Лив уже ходила по заводям, собирая в подол пареу съедобных моллюсков. Я присоединился к ней. Мы согласились, что в жизни не видели более роскошного природного аквариума, чем этот риф. Но вообще-то разговор не клеился. Я попросил ее остерегаться спрутов и мурен, не наступать на морских ежей. Она ответила «ладно». И все.
Потом мы сидели на камнях, ели моллюсков и пили кокосовое молоко. Я сказал, что не мешало бы поискать яйца морских птиц. Лив поддакнула. Мы закончили трапезу молча.
Пытаясь прочесть ее мысли, я заключил, что мы, наверно, думаем одно и то же. У нас были общие идеалы, одна мечта, когда мы начинали этот эксперимент. На нашу долю выпали одни и те же впечатления, мы вместе восхищались чудесами, сообща переживали неприятности. Теперь мы уже не такие зеленые, какими были. Получили кое-какую закалку. И оба начали понимать, что вели себя чересчур эгоцентрично, мало думали о том, что кроме нас на свете есть другие люди. Наша уверенность в абсолютной правоте своих идеалов и расчетов поколебалась. Действительность оказалась не такой, как мы ожидали. Непредвиденные препятствия заставили нас уклониться с пути, который, как нам представлялось, вел прямо к цели. А сейчас мы и вовсе уткнулись в символический барьер в виде отвесной кручи. Пришла пора осмыслить все сюрпризы, которые преподнесла нам жизнь, и как-то сориентироваться.
В пещере было сколько угодно времени для размышлений. О том, что было, о том, что будет. О том, какой нам теперь представляется цивилизация, от ко— торой мы бежали. Разобраться как следует, что же вышло из нашего эксперимента «возврат к природе». Что дальше? Как нам поступить? Ведь этот берег — несомненный тупик.
Шли дни, но никто из нас не начинал откровенного разговора. То ли друг в друге сомневались, то ли в самих себе. Купались в прозрачных заводях, ловили руками рыб и крабов на рифе. В отлив им некуда было деться из замкнутых лужиц и промоин. А сколько тут водилось вкуснейших моллюсков, которые даже и не пытались уйти от нас. Мы собирали их, как крестьянин осенью собирает помидоры.
Лишь однажды нас навестил Тиоти с женой. Зато они доставили множество фруктов, орехов, клубней, даже кур прихватили. Мы устроили кладовку в самом дальнем и прохладном конце пещеры. Потом желанные гости удалились, и снова потянулись дни, похожие один на другой. Мы вставали с солнцем и забирались в пещеру, когда солнце уходило. И следили за тем, чтобы не потухли угли в очаге.
Но большую часть времени мы сидели у входа и жадно всматривались в горизонт. Чувствовали себя, будто жертвы кораблекрушения на необитаемом островке, и с каждым днем все более страстно мечтали увидеть мачту, или струйку дыма, или белый парус там, где тонкая ниточка отделяла голубое небо от голубого океана. Вдруг покажется белая точка, которая будет расти и расти, а не просто скользить мимо, как эти бесчисленные барашки на волнах… Но желанная точка не показывалась, за рифом были только белые барашки и голубые просторы.
— Что мы сделаем, если увидим шхуну? — спросила Лив однажды, после того как мы полдня просидели, не отрывая глаз от волн и далекого горизонта.
— Поспешим в Омоа, — сказал я. — А если шхуна придет ночью, Тиоти даст нам знать.
— Почему? — спросила Лив с легким вызовом. Почему? Я продолжал глядеть на море, не зная, что ей ответить. До сих пор я упорно гнал от себя мысль о том, что мы зашли в тупик. А Лив пристально глядела на меня, пытаясь прочесть мои мысли.
— Я знаю, почему, — спокойно произнесла она. — Мы от всего бежали, укрылись здесь, в Тахаоа, от всех проблем. Но ведь мы не за этим ехали.
Лив сказала вслух то, о чем я думал.
— Да, сейчас мы просто убиваем время, — согласился я. — Вроде островитян, которые сидят и ждут, когда орехи сами свалятся на землю.
Итак, мы сознались друг другу, о чем думали в глубине души с тех пор, как обосновались в Тахаоа. И сразу будто лед растаял. Яркие переливы солнца на воде, теплые краски рифа стали такими же прекрасными, как в наше первое посещение этого пляжа. Мы здесь вовсе не узники. Мы не привязаны навсегда к Тахаоа. Беспокойный мир, в котором мы когда-то жили, который так долго был нами забыт, все еще существует. И наши родители тоже существуют.
Впервые с тех пор, как шхуна доставила нас на Маркизские острова, нам страстно захотелось вновь увидеть своих родных. В тот холодный рождественский день, когда мы садились на поезд, мы весело говорили вслух «до свидания», а в душе печально повторяли «прощайте». Тогда нам казалось, что мы навсегда расстаемся с цивилизацией. Нам пришлось оплатить обратные билеты, без этого французское Министерство по делам колоний не разрешило бы нам сойти на берег Таити, но я считал эти деньги выброшенными. Теперь было похоже, что билеты пригодятся.
И все же Лив говорила, что ни о чем не жалеет, не променяла бы пережитое здесь на островах ни на что другое. Я разделял ее чувства. Я был благодарен судьбе за каждый из проведенных здесь дней.
— Но согласись, — сказал я, — даже если бы все обернулось иначе, мы ведь все равно уехали бы с Фату-Хивы домой. Допустим, мы убедились бы, что человеку достаточно осуществить возврат к природе, чтобы избавиться от современных проблем, — так ведь пришлось бы ехать домой и рассказать об этом другим, не то бы нас совесть замучила.
В нас есть что-то от насекомых, говорил я. От муравья, которого невидимые нити привязывают к муравейнику. От пчелы, которой в голову не придет бросить улей и в одиночку слизывать пыльцу со своих ножек.
— Постой, — перебила Лив. — Допустим, Фату-Хива оправдал бы наши надежды — все равно мы не смогли бы ехать домой и выступать за всеобщий воз— врат к природе. Вспомни нашу карту.
Речь шла о карте, на которой мы перед отъездом браковали один материк за другим, остров за островом, пока не обвели кружочком Фату-Хиву — единственное место, казавшееся пригодным для нашего эксперимента. Даже Таити нас не устраивал. Не годились и другие виденные нами острова. Удобоваримая для современного человека пища не растет на деревьях на ничьей земле. Окружающая среда изменилась еще больше, чем сами люди, с тех незапамятных времен, когда наши предки вступили на долгий путь, уводящий человека от природы. К затерянной в тысячелетиях исходной точке нет возврата.
— Да, современному человеку некуда возвращаться, — признал я.
Признал нехотя, потому что удивительные дни и месяцы, проведенные в диком краю, позволили нам представить себе, от чего человек отвернулся и норовит уйти все дальше.
— Мы находимся в пути, — продолжал я. — Возврата нет, но это еще не значит, что любая дорога вперед означает прогресс.
Лив согласилась со мной.
Так мы подошли к уроку, который преподал нам год на Фату-Хиве. Самый долгий и самый поучительный год в нашей жизни.
Человек изобрел магическое слово. Выпустил его изо рта и позволил ему водить себя за нос. Слово это — прогресс. Оно было призвано обозначать движение вперед, от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему. Но не от хорошего к плохому. Однако мы на этом не остановились. С великой самоуверенностью внушили себе, что не способны изменить что-либо к худшему. И не долго думая стали обозначать тем же словом каждый шаг, отдаляющий человека от природы. Каждое изобретение, каждый искусственный продукт. Прогресс стал определяться не качественными критериями, а часами. Но ведь слово сохраняет свой исконный смысл, значит, прогресс не повернешь вспять, как бы мы его ни измеряли — компасом или часами.
Вот почему ни одно сооружение древних египтян не может быть названо прогрессом по сравнению с тем, что европейцы строили в средние века, хотя в любом конкурсе победил бы Древний Египет. И Венера Милосская не может быть названа прогрессом по сравнению с сюрреалистической композицией из штопора и шестеренки, подвешенных к зонтичным спицам. Слово «прогресс» всегда служит существующему поколению, а потому никогда не выйдет из моды. Мертвым не дано направить развитие в обратную сторону.
Мы любим представлять себе прогресс как борьбу современного человека за то, чтобы больше людей получали хорошую пищу, теплую одежду, просторное жилье, чтобы улучшить медицинское обслуживание больных, устранить угрозу войны, сократить преступность и коррупцию, обеспечить молодым и старым более счастливую жизнь. Но прогрессом называют и многое другое… Совершенствуется оружие, так что им можно убить больше людей на большем расстоянии, — прогресс. Маленький человечек становится исполином, которому достаточно нажать кнопку, чтобы земной шар разлетелся на куски, — прогресс. Рядовой человек отвыкает думать, потому что другие покажут ему, что случится, если он щелкнет тумблером или повернет маховичок, — прогресс. Специализация, достигающая такой степени, что один человек знает почти все почти ни о чем,
— прогресс. Люди ломают себе голову над проблемой свободного времени — прогресс. Действительность становится настолько тоскливой, что мы ищем от нее спасения, сидя и таращась на развлечения, которые нам преподносит светящийся ящик, — прогресс. Когда приходится изобретать пилюли для излечения болезней, вызванных другими пилюлями, — это тоже прогресс. И когда больницы растут как грибы, потому что наши головы перегружены, а тела недоразвиты, потому что сердца опустошены и кишки набиты тем, что подсунула реклама. И когда крестьянин бросает тяпку, а рыбак — сеть, чтобы встретиться у конвейера, потому что на месте поля вырастает предприятие, превращающее рыбную речку в клоаку. И когда города расширяются, а леса и луга усыхают, так что все больше людей проводят все больше времени в метро и автомобильных пробках, и приходится днем жечь неоновые лампы, потому что дома вздымаются до небес, а мужчины и женщины зажаты в тесных каменных ущельях среди шума и гари. И когда ребенку тротуар заменяет луг, когда благоухание цветов и панорама далеких гор заменяются кондиционером и видом на соседние дома. Срубают столетний дуб, чтобы поставить дорожный знак, — прогресс 6…
Мы прибыли на Фату-Хиву, исполненные презрения к цивилизации двадцатого столетия, убежденные, что человеку надо начать сначала. Прибыли, чтобы со стороны критически взглянуть на современный мир. И вот сидим в пещере, позади — скала, впереди — безбрежная синь, и ждем возможности вернуться не к природе, а к цивилизации. Сегодня мы судим мягче, чем судили вчера. Понимая, что без кисеи от комаров, которой нас снабдил Вилли, в дождевых лесах Фату-Хивы мы нажили бы слоновую болезнь и потеряли бы рассудок. Без мазей Тераи на Хива-Оа остались бы без ног.
Но наше доверие к современной цивилизации не возродилось в полной мере. Мы убедились, что можно жить очень просто, что человек способен испытать полную гармонию и счастье, освободившись от всего того, чем мы, живя в современном обществе, так стремимся обзавестись, чтобы не отстать от других.
И все же нас тянуло, против воли тянуло обратно к цивилизации. Но с тем, чтобы, возвратившись к ней, не удаляться от природы без крайней надобности. Уж очень хороша была простая жизнь в дебрях, она дала нам больше, чем когда-либо давал город. У себя на родине мы никогда не встречали людей, которые смеялись и веселились так беззаботно, как Тахиа, Момо и Теи Тетуа, хотя самый бедный из наших знакомых был богаче их.
Когда я сказал об этом Лив, она поправила меня.
— А старый француз в конурке на Хива-Оа? — напомнила она. — Такой же счастливый, как Теи. Хотя он вполне цивилизованный человек. Тьма всяческих изобретений в доме. Кучу книг прочитал.
Да, есть над чем призадуматься… Веселого старика француза нельзя было назвать неграмотным сыном дикой природы. Его рецепт гласил: ищи счастье у истоков, в себе самом. И если что-то в его окружении облегчило ему поиск, это «что-то» можно было определить одним словом — простота. Простота дала ему то, чего миллионы искали на пути сложности и прогресса. Все запросы старика, весь его мир сводились к маленькой лачуге и огороду. Ему не нужны ни уединенная пещера, ни дворец.
Поистине простота — тоже магическое слово. За видимой скромностью в нем кроется непритязательное величие.
Прогресс в наше время можно определить как способность человека усложнять простое.
Пищу можно добывать разными способами. Поступить на работу на бензозаправочную станцию. Получил жалованье, доехал на трамвае до магазина и заплатил за рыбу и за картофель столько, сколько надо, чтобы могли существовать крестьянин и рыбак, снабженец и лавочник, налоговый инспектор, владелец транспортной фирмы и хозяин завода, производящего холодильники. А затем снова на трамвай и домой к семье со своим уловом — юной замороженной рыбешкой и престарелым сморщенным картофелем.
Но как бы ни изощрялся современный человек, опираясь на всю современную технику, чтобы заработать на рыбу и на картофель, его добыча не станет вкуснее и доступнее, чем она была в те времена, когда каждый сам извлекал себе рыбу из реки или картофель из земли.
Без крестьянина и рыбака рухнет все современное общество с его торговыми кварталами, электрическими проводами и трубами. Крестьянин и рыбак
— благороднейшее сословие нашего общества, они делятся от своих щедрот с теми, кто носится с бумагами и отвертками, пытаясь вслепую сконструировать более совершенный мир.
Признавшись себе и друг другу, что нам не терпится покинуть пещеру и Фату-Хиву, мы с Лив сидели дотемна, ели моллюсков и обсуждали свой новый взгляд на цивилизацию, какой она представлялась нам со стороны, со всеми ее достоинствами и недостатками, проклятиями и благами. Солнце ушло за край света, увенчанное золотой короной; осталась только красная дорожка в небе на западе, да и ту быстро скатали звезды, развесив на востоке фиолетовый тюль. Пробил час сна для всех солнцепоклонников, но сегодня Лив стряхнула золу с наших драгоценных углей и раздула дремлющий костер. Впервые после нашего прибытия на этот пляж мы сидели на гальке и разговаривали до тех пор, пока не пропали все краски, а затем красная дорожка распласталась на другом конце неба.
Ни в этот день, ни на следующий мы не увидели шхуны. Бродя по берегу среди пустых раковин и суетливых раков-отшельников, мы продолжали разговаривать и не сводили глаз с горизонта. Далекая волна рассыпалась белыми брызгами, косатка выпрыгнула из воды, будто подброшенная трамплином, белая птица мелькнула в голубой дали — мы тотчас настораживались. И частенько карабкались на глыбы застывшей лавы, чтобы видеть дальше. Только не пропустить шхуну! С нашего берега открывался вид на весь западный горизонт, днем мы просто не могли прозевать судно, направляющееся в Омоа.
Казалось, океан выходит из берегов и вливается нам в душу… Соленый воздух наполнял легкие, в прилив даже самые маленькие волны доходили до пещеры. Раки-отшельники переваливали через наш барьер и воровали пищу, будто мыши. Рыбы ждали угощения из наших рук, словно пес под столом. И все, что мы ели, отдавало водорослями или морем.
Глядя на синий океан, срастающийся с небесной синью, я представлял себе его необозримым, безбрежным, бездонным. Настолько огромным, что человеческому разуму его просто не объять. Амазонка, Нил, Дунай, Миссисипи, Ганг, все реки, все клоаки мира, сколько бы ни вливались в океан, не поднимут его уровень ни на дюйм. Все текучие воды в мире оканчивают бег в океане, сам же он только гонит по кругу свои течения и тихо колышет свою поверхность во время прилива и отлива, но ему не придет в голову выйти из берегов, вторгнуться в нашу пещеру и карабкаться вверх по скале. Ни реки, ни дожди не влияют на его уровень. И сколько бы ила, сора и перегноя, сколько бы праха и экскрементов от животных, населяющих воду, сушу и воздух, ни попадало в море со времен гигантских ящеров и раньше, они не загрязнили океан, он оставался девственно чистым. Небо и океан стали для человека символами великого и необъятного, вечного и неизменного.
Таким представлялся мне безбрежный водный простор, когда мы сидели у входа в пещеру и смотрели, как дуга океана смыкается с небосводом и космосом. Из учебников я знал его протяженность в километрах и глубину в метрах, знал секрет постоянства уровня, но в эти минуты, подобно простодушным полинезийцам и средневековым европейцам, я ощущал, что суша — владение человека, океан же — часть необъятной вселенной.
Как я ошибался! И сколько лет еще предстояло мне меряться силами с мировым океаном, прежде чем я в корне пересмотрел свой взгляд, понял, что океан, да-да, океан, а не земная твердь — пульсирующее сердце нашей живой биосферы. Под видом морской пустыни без начала и без конца — вечный двигатель, служащий нашему миру насосом и фильтром. Чтобы осмыслить реальные масштабы океана, мне еще предстояло убедиться, что даже самый большой из земных океанов могут пересечь сухопутные крабы на маленькой скорлупке. Небоскребы Манхэттена, если перенести их на дно Северного моря, поднимутся высоко над водой; средняя глубина Мирового океана — немногим больше полутора тысяч метров, хороший бегун одолевает это расстояние менее чем за четыре минуты. Если на обычном глобусе попытаться слоем краски передать глубину океана, ничего не выйдет: нет такой краски, которую можно было бы нанести достаточно тонкой пленкой. В свою очередь в этом тончайшем слое почти вся жизнь сосредоточена у поверхности, пронизываемой животворными лучами солнца.
Пройдет много лет, и море призовет меня на свои просторы, заворожит меня, и я научусь подчиняться его законам. А пока я жил на суше, жил в пещере и еще боялся моря. Я только что научился кое-как плавать, и мы остерегались подходить близко к краю рифа, где бушевал неистовый прибой. Рев прибоя казался нам канонадой, когда мы по ночам, прислонясь спиной к скале, пытались читать звезды. У нас было вдоволь времени, чтобы грезить и гадать о будущем. Солнце, луна, Южный крест и другие тропические созвездия совершали свой круговорот у нас над головой, океан колыхался у наших ног.
Для нас было очевидно, что древние жители пустынь и древние мореплаватели, из ночи в ночь наблюдая звездное небо во всю его ширь, так хорошо изучили постоянные пути созвездий, что не нуждались в других ориентирах. Но вот что удивительно: выбор был куда как велик, однако жители полинезийских островов, разбросанных и в северном и в южном полушарии, начинали счет году от тех суток, когда над горизонтом показывались Плеяды. Удивительно, потому что такой же обычай был в древнем Перу и некоторых странах древнего Средиземноморья.
Мы строили планы на будущее. Вернемся в Норвегию — поселимся в избушке в горах, подальше от моря. Но будем и впредь путешествовать в поисках ответа на полинезийскую загадку. Вот только эта военная угроза… Я был уверен, что людям не избежать новой мировой войны. Мы уехали на остров в Тпхом океане, чтобы избежать ужасов войны, чтобы не стать участниками и очевидцами гибели современной цивилизации. И однако, теперь твердо решили вернуться и принять приговор судьбы, словно война была неизбежной карой, которую мы обязаны понести вместе со всеми.
Звезды ничего не могли сказать нам о будущем, ведь их свет отстал на миллионы лет от нашего времени, они еще не видели, как полинезийцы пришли на эти острова. Мы мечтали о будущем, не подозревая, что нас ждет на самом деле. Не подозревая, что через год будем жить среди индейцев белла-кула на тихоокеанском берегу Британской Колумбии. Будем искать следы, которые помогли бы выяснить, каким маршрутом древние мореплаватели шли из Азии в Полинезию. Жители Индонезии вполне могли приплыть сюда, а затем добраться до Полинезии. Такой маршрут позволял объяснить сложный комплекс полинезийской расы и культуры. Одна Южная Америка не давала ответа на все вопросы; и к тому же на севере Тихого океана путешественники и исследователи со времен капитана Кука и Ванкувера отмечали у индейцев Северо-Западного побережья множество черт разительного сходства с полинезийцами. Островной мир Северо-Запада Америки обогревается мощным течением Куросио, идущим от самых Филиппинских островов. И то же самое течение, описав широкую дугу, вполне могло донести не только бурелом, но и большие мореходные двойные лодки индейцев до Гавайских островов в Полинезии.
Плоты из Перу и лодки из Азии, совершившие заход на архипелаги Северо-Запада, — очень может быть, что именно так возникло смешанное полинезийское население. Но пока я гостил у миролюбивых индейцев, в Европе ревели танки и бомбардировщики, военные корабли захватили Норвегию. Не успел я опубликовать первый вариант моей гипотезы
[106], как судьба оторвала меня от Лив и моих увлечений. Оторвала от всех родных на четыре года и ввергла в тучи дыма над пожарищами, в полярный сумрак над минными полями между немецкими и русскими окопами в Финнмарке.
Звезды нам ничего не сказали об этом. Мы сидели под обрывом, отделенные мысом от зеленых долин Фату-Хивы, и ждали шхуны, которая
доставила бы нас в обреченный на погибель мир. Кто с кем будет драться? Я мог лишь гадать. У меня не было никаких врагов. Но светлые головы в правительстве решат этот вопрос за меня, назовут мне врага.
И как же непохоже на то, что рисовалось мне в волнах и небесах, сложилось все на самом деле. Цивилизация не погибла. Миллионы были убиты, а она уцелела и продолжала развиваться. Только люди, плоть и кровь, были уязвимы. Кое-кто из уцелевших молодых, вроде меня и Лив, после долгих лет разлуки и жизни в разных мирах навсегда разошлись духовно. Но миллион машин возместил потерянные танки и самолеты, появилось новое, еще более совершенное оружие, которое охраняло цивилизацию надежнее, чем когда-либо.
Океан? Разве мог я знать наперед, что безбрежный Тихий океан уменьшится в моих глазах до вполне постижимых размеров, как только кончится война и я уже не буду смотреть на него с палубы могучих авианосцев и крейсеров, одинаково враждующих с волнами и с людьми? Станет отнюдь не таким уж огромным и буйным, когда я увижу его с маленького бальсового плота, послушно пляшущего между волнами в его объятиях и свободно пропускающего воду. Разве мог я знать наперед, что буду чувствовать себя в совершенной безопасности на связанных вместе бальсовых бревнах, какими пользовались мореплаватели древнего Перу, после чего решусь испытать вторую конструкцию древних — камышовую лодку? Лодку, которая, похоже, играла главную роль в Южной Америке. И которой пользовались во всех углах полинезийского треугольника — на острове Пасхи, на Гавайских островах, в Новой Зеландии. И такого же рода лодка была первым судном там, где стояла колыбель культур, — в Месопотамии и в Египте.
Парадоксальный факт: выйдя в плавание на древнейшем в истории человечества мореходном судне, я узнал, как мал на самом деле океан и как велика нависшая над ним по нашей милости угроза. Да, океан неизмеримо меньше, чем нам представляется, он настолько мал, что несколько миллиардов людей, ежедневно сливающих в него свои сверхсовременные отходы, вполне способны погубить, отравить морское сердце нашей планеты.
Достаточно отчалить на бревнах или связках папируса от одного континента и через несколько недель причалить к другому, чтобы уразуметь то, что увидели из космоса астронавты: океан — всего-навсего озеро, его безбрежность — обман зрения. Да, у него нет начала и нет конца, но то же можно сказать о кожуре яблока. Кривая поверхность замыкается на себя. Океан не переливается через край, потому что дожди и реки несут ровно столько влаги, сколько испаряется с его поверхности и возвращается тучами. Миллионы лет он оставался чистым, потому что природа в отличие от современного человека тщательно избегает создавать из атомов вещества, которые морские бактерии и планктон не способны снова обратить на благо жизни. Природа с ее илом, экскрементами, трупами могла бы вечно использовать реки как сточные трубы. Океан с его бесчисленными организмами прилежно фильтровал поступающую в него воду и превращал отходы в новые организмы, продолжающие фильтрацию, чтобы тучи посылали на сушу прозрачную очищенную влагу. Но человек принялся как попало совать свои винты и гайки в безупречно действующий перпетуум-мобиле. Пластики, инсектициды, стиральные порошки и прочие синтетические молекулярные комбинации, которых природа предусмотрительно сторонилась, чтобы не испортить механизм, теперь поступают в океан и накапливаются там. Ежегодно из жилых домов и промышленных предприятий, из городов, пароходов, с полей и лугов в океан стекают миллионы тонн яда. Миллионы тонн, которые не испаряются, не разлагаются, а все копятся и копятся. Когда папирусная лодка «Ра-2» в 1970 году пересекала Атлантический океан, мы каждый день видели проплывающие мимо продукты загрязнения. Пятьдесят семь дней длился наш дрейф, и сорок три из них мы наблюдали комья мазута. В 1947 году на плоту «Кон-Тики» я прошел от Перу до Полинезии в совершенно чистой воде. Тогда не было никакого намека на загрязнения, а ведь мы ежедневно проверяли планктонную сеть, которая тащилась на лине за кормой плота.
…Какая-то точка на горизонте привлекла мое внимание.
— Лив! — закричал я. — Парус!
— Где? Да! Да! Я тоже вижу!
Поднявшись на большую глыбу, мы смотрели на великолепный белый парус, словно приклеенный к горизонту над полчищами беспокойных барашков. Шхуна. Ближе и ближе. Идет из Таити на Фату-Хиву.
Мы спрыгнули на песок и побежали в пещеру. Схватили камеру, мачете и, не теряя времени, помчались по белому пляжу и дальше по черным глыбам застывшей лавы, по камням у подножия круч.
Мы соскочили с последнего камня на траву в ту самую минуту, когда шхуна бросила якорь в солнечной бухте. На опушке уже стояли все те, кто встречал нас в день нашего приезда: Тиоти, Вилли, Пакеекее, Иоане. Они печально улыбались перед разлукой. Да ведь и мы успели к ним привязаться. Нам помогли принести из тайника в лесу тяжелые ящики с камнями и банками и погрузить их в шлюпку. Крепкую, надежную шлюпку.
Как же нам не хотелось уезжать. Не хотелось возвращаться к цивилизации. Но нас влекла сила, которой невозможно было противостоять. Зов муравейника. Мы были вынуждены покинуть Фату-Хиву. Мы не сомневались, и я по сей день не сомневаюсь, что первозданную природу можно обрести лишь в одном месте. В своей собственной душе. Там она сохраняется в неизменном виде. Человек сумел изменить окружающую его среду, изменить одежду. Люди прибегали к татуировке, к деформации черепа, удлинению ушей, перетягивались в поясе, подпиливали зубы, калечили себе ступни, стремясь улучшить свою внешность. Мужчины бреются и стригутся, женщины красят и завивают волосы, красят лицо, наклеивают искусственные ресницы, но под кожей-то все остается по-прежнему. Мы не можем бежать от самих себя. Да и некуда бежать, остается только вместе созидать прочную культуру, гармонирующую с той естественной средой, которая еще сохранилась. Чего уже не найдешь в диком виде, можно разводить. Природа
— будто огонь, что всегда может вновь разгореться, пока есть хоть несколько угольков.
Будущее для молодежи заключается не в бегстве и не в бездеятельном созерцании того, как другие совершают глупости. Надо бороться, рубить щупальца, которые увлекают нас по ложному пути. Бороться против всесильного спрута, которого мы сами взрастили. Укрощать его. Освободиться от вредоносных и лишних щупальцев и заставить спрута послушно следовать за нами, вместо того чтобы покоряться его воле.
Со всех концов света раздаются отчаянные голоса мрачных пророков. Ссылаясь на статистику и данные вычислительных машин, они утверждают, что человечество идет к катастрофе. Противники этих пророков, современные Оле-Лукойе, не менее энергично стараются убаюкать массы. Все в порядке, говорят они. Наука все наладит. Простые люди могут спокойно продолжать таращиться в телевизор.
Все больше молодых людей начинают метаться. Они протестуют, пытаются бежать от действительности. Меняют комфорт на бродяжничество. Прячутся от роскоши за лохмотьями и длинными волосами. Всячески демонстрируют свое презрение к современному миру, уходят от него в наркотики. Мы укоряем их, они укоряют нас. Но мы — родители прошлого, они — родители будущего. У них свежий взгляд, свежая голова, и они пытаются что-то втолковать нам. Втолковать, что мы усложняем жизнь, которую можно организовать намного проще.
Давайте же прислушаемся к ним, раз мы верим в прогресс и в то, что каждое новое поколение умнее предыдущего. Попробуем понять, попробуем найти общий язык с теми, кто неизбежно сменит нас. С теми, кто хочет упростить то, что мы так усложнили. Нам, с нашим опытом, следовало бы понимать, что подлинные ценности не добудешь с помощью войска, не завоюешь с помощью пращи или бомбы, которая способна пятнадцать раз облететь вокруг света и поразить нас заодно с нашими врагами. Подлинные ценности находятся не на земле противника и не в банке. Их не положишь на весы и не увидишь, потому что искать надо позади глаз.
Того, что хранится в душе, отнять нельзя. — Никто не отнимет у меня Фату-Хиву. Возвратившись домой, я издал книгу и закончил ее словами, которые хочу повторить в этой расширенной версии.
Когда мы заняли места в шлюпке и наши полинезийские друзья налегли на весла, я отыскал в заплесневелом чемодане контрольный талон на обратные билеты.
— Знаешь, Лив, — сказал я, — а ведь билета в рай все равно не купишь…
Послесловие
Казалось бы, нет нужды представлять советскому читателю автора этой книги. Тур Хейердал широко известен в нашей стране. Разные издательства не раз и не два издавали и переиздавали его книги. Особенно повезло двум: «Путешествие на „Кон-Тики"“ и „АкуАку“. А в 1969 г. в Ленинграде вышел в свет сборник научных работ Т. Хейердала „Приключения одной теории“. Статьи и интервью Хейердала множество раз помещались и в академических, строго научных, и в научно-популярных журналах, а также в центральных и местных газетах. Широко освещалась в нашей печати и полемика вокруг гипотез и плаваний Тура Хейердала. Да и сам Хейердал не раз бывал в Советском Союзе, встречался с десятками, даже с сотнями людей: учеными, журналистами, общественными деятелями, читателями. Немало рассказал нам о Туре Хейердале член экипажа „Ра“ и „Ра-2“ Юрий Александрович Сенкевич и в своей книге „На „Ра“ через Атлантику“, и как ведущий телевизионной программы „Клуб кинопутешествий“. Кстати, Ю. Сенкевич вновь отправился с Хейердалом теперь уже в плавание по Индийскому океану.
И все же… нет-нет да и встречаются на страницах наших газет и журналов, даже книг, или соскальзывают к нам с голубого экрана высказанные будто бы походя или в распаде «справедливого гнева» рассуждения о легковесности научной аргументации Тура Хейердала, о том, что его плавания ничего и никому не доказывают, что в изысканиях и экспедициях капитана «Кон-Тики» и «Ра» больше рассчитанного на рекламу авантюризма, нежели строгости научного поиска.
Любопытно, что в наши дни подобные пассажи попадаются порой даже там, где никакой необходимости вспоминать о Хейердале, его экспедициях и его научных гипотезах вовсе и нет. Но вот само, хоть и упомянутое всуе, имя Тура Хейердала придает упомянувшему и его рассуждениям аромат респектабельности, весомости, значимости.
И в самом деле. Знаменитый норвежский исследователь и путешественник давно уже стал persona gratissima в мире второй половины XX века. Вот уже сорок лет — с тех самых пор, когда он, сам юноша, вместе со своей столь же юной женой скрылся от цивилизованного мира в горных долинах острова Фату-Хива, — Хейердал наперекор всем авторитетам доказывает, что заселение архипелагов Южной части Тихого океана и Маркизских островов, куда входит остров Фату-Хива в том числе, шло не только из Азии, но и из Америки. «Американские индейцы в Тихом океане» — так острополемически назвал молодой Хейердал свою первую большую монографию, с великими трудностями опубликованную в 1952 году, да и то лишь после блистательного рейса на «Кон-Тики». Монографию, тут же подвергшуюся жестокой и пристрастной критике.
Да и как могло быть иначе? Ведь Тур Хейердал осмелился поднять руку на давно уже утвердившуюся в науке и потому ставшую традиционной, общепринятой теорию заселения Полинезии исключительно выходцами из Юго-Восточной Азии, посмел усомниться в доказательности — ни много ни мало — всей(!) совокупности аргументов, академическая корректность которых казалась более чем достаточной.
И конечно же, «еретик» получил сполна! Отринутый тотчас же большинством (!) от «церкви ортодоксальной науки», он не только не угомонился, а — надо же! — продолжал с еще большей энергией искать новые и новые доказательства для подкрепления своей еретической гипотезы.
Прошло пятнадцать лет. Пятнадцать лет поисков, борьбы и новых поисков… И вот, подчиняясь неумолимым фактам, значительное большинство (все то же большинство!) ученых, в том числе и завзятые сторонники гипотезы заселения Полинезии только из Азии, нашли необходимым включить американских индейцев в родословную островитян Тихого океана, что и было записано в одном из документов состоявшегося в 1961 г. X Тихоокеанского научного конгресса.
Это не значило, конечно, что споры о прародине и предках полинезийцев затихли, а дискуссия вокруг путей и дат заселения архипелагов Тихого океана мирно завершилась. Просто гипотеза Хейердала была наконец, если можно так сказать, допущена в «высший свет» ортодоксальной науки. Споры продолжались. И продолжаются с неослабевающим пылом.
А Хейердалу между тем уже виделись другие горизонты. И волны другого океана влекли его к себе. Это был исконный «внутренний океан» древнескандинавских викингов. Но только ли викингов — вот в чем вопрос! И в 1969, и в 1970 годах Хейердал во главе интернационального экипажа плывет от африканского берега к Америке, дважды пересекает Атлантику на судне, построенном из папирусных связок по древнеегипетским образцам. Рискованный эксперимент и на этот раз завершился успехом.
Оценивая результаты своего нового предприятия, Хейердал пишет: «Мы убедились, что папирус — вполне пригодный материал для строительства лодок, при условии, что лодку строят и управляют ею люди, знающие в этом толк. Следовательно, представители древних культур Средиземноморья вполне могли пересечь океан и доставить ростки цивилизации в далекие края… И мы доказали, — продолжает норвежец, — что люди из разных стран могут сотрудничать для общего блага даже в предельной тесноте и в самых тяжелых условиях, невзирая на цвет кожи и политические и религиозные убеждения. Достаточно уразуметь, что можно большего достичь, помогая друг другу, чем сталкивая друг друга за борт»
[107].
И вновь все уважающие себя ученые, прежде всего, конечно, египтологи и американисты, бросились в бой, «спасая» свою науку от хейердаловской «ереси», суть которой изложена им в первой фразе только что приведенной цитаты.
А вот мысль, высказанная Хейердалом во второй фразе этой же цитаты, прошла мимо ученых умов, во всяком случае не показалась им чем-то имеющим отношение к реконструкции ранних этапов истории человечества. А ведь главный смысл тех же плаваний на «Ра» заключался не в том, что интернациональный экипаж успешно справился с возложенной на него научно-исследовательской задачей и что кратковечный мирок семи-восьми человек, ограниченный к тому же площадью палубы папирусного судна, оказался, как и верил Тур Хейердал, жизне— и работоспособным.
Суть дела лежала гораздо глубже. Своими плаваниями Тур Хейердал снова и снова убеждает нас в том, что все мы — люди — живем на одной очень небольшой по размерам планете. И если мы вопреки всему тому, что нас разъединяет и сталкивает друг с другом, все-таки век за веком, тысячелетие за тысячелетием неуклонно движемся, пусть нередко оступаясь и падая, вперед по пути прогресса, то этим мы обязаны прежде всего совместности наших материальных и духовных усилий, совместности, преодолевающей неизменно рознь.
Во все предшествующие исторические эпохи силы общечеловеческой солидарности и прогресса в конечном счете преодолевали силы зла, реакции, социального и этнического эгоизма. С этой точки зрения история мировой культуры учит нас историческому оптимизму. Тур Хейердал сделал и продолжает делать очень многое, стремясь убедить нас в том, что конструктивные усилия древних были гораздо большими и более результативными, чем мы это до сих пор себе представляли. Что и на более ранних этапах развития мировой культуры взаимодействия между народами, даже весьма отдаленными друг от друга, были явлением не только обычным, но и весьма плодотворным. Что историческое единство человечества формировалось уже задолго до эпохи Великих географических открытий, и не только и не столько железом и кровью, сколько сотрудничеством и взаимопомощью.
И когда ученые-оппоненты Хейердала утверждают, что он своими гипотезами якобы умаляет вклад тех же американских туземцев в мировую культуру, то с этим просто трудно спорить всерьез. И древнеегипетская цивилизация, и древние цивилизации Центральной и Южной Америки, и любая другая цивилизация древнего мира в равной мере были результатом творчества многих народов. И вопрос о прародине тех или иных народов, прямо или косвенно причастных к этому созидательному процессу, — вопрос конкретной эмпирической истории: как было, так и было, тут уж ни отнять, ни прибавить.
Подтвердят или не подтвердят дальнейшие изыскания, что древние жители Средиземноморья причастны к возникновению и развитию древнейших цивилизаций Американского континента, — в любом случае мы узнаем о реальном ходе культурно-исторического процесса много больше, чем знали до сих пор.
А Тур Хейердал, помимо прочего, доказал — теперь мы уже вправе так говорить: доказал, — что океан и в далеком прошлом не только разъединял и обособлял области интенсивной исторической жизни, но нередко, наоборот, способствовал установлению между ними длительных и катализирующих развитие культуры связей, ускоряя тем самым поступательное движение мирового культурно-исторического процесса.
Но чтобы признать справедливость и научную плодотворность такой концептуальной исходной позиции Тура Хейердала, многим, очень многим необходимо освободиться от широко распространенного предрассудка, суть которого в следующем. С детских лет, со школьной скамьи нас приучают к мысли о непохожести мира древних цивилизаций на современный мир.
Нас прежде всего знакомят с поражающими воображение результатами многогранной деятельности древних: их дворцовой, храмовой и фортификационной архитектурой, их скульптурой, изобразительным искусством, их философскими трактатами и научными познаниями, сплетенными воедино с фантастическим миром богов и демонов, бесчисленными изделиями их разнообразнейших, зачастую изощренных ремесел — короче, со всем тем, что так разительно отличает мир, в котором жили и умирали древние, от мира, в котором живем мы.
Мир древних цивилизаций для нас — это прежде всего удивительный, особенный, странный мир, мир непохожего. И мы сами, не замечая уже этого, и ученые в том числе, отказываем этому миру в том, что связывает, соединяет, роднит нас и древних, — в мужестве и дерзании, в постоянной неудовлетворенности и стремлении к лучшему, в извечном всегда и везде и во веки веков приоритете мысли, дерзания и дела над суевериями, страхом и довольством животного благополучия. Мы попросту забываем порой о том, что человек только потому и стал человеком, что всегда им был.
Каждый из людей — сперва человек, землянин, а уже потом шумер, ахеец, ольмек, сакс или кривич, норвежец, итальянец, русский, японец, сомалиец или перуанец. Думается, что вот такой планетарный подход в оценке как отдельных людей, так и обществ, в том числе обществ седой древности, присущ Туру Хейердалу. Это и есть то ГЛАВНОЕ, что стоит за миром его исканий и свершений. Тем и мудр Хейердал, что он поверил в общечеловеческие возможности и способности людей древнего мира.
Создание такой принципиально новой исторической модели древнего мира удалось Туру Хейердалу именно потому, что он видит в прошлом прежде всего не экзотические руины, не загадочные письмена и таинственные изваяния, а самих творцов истории и культуры, дерзких, деятельных, предприимчивых и думающих, несмотря на сравнительную простоту и даже примитивность их материальных средств воздействия на природный мир.
Плавания Хейердала — и прошлые, и будущие — это прежде всего проверка за проверкой новаторской, безусловно прогрессивной и чрезвычайно актуальной в наши дни теоретической установки при реконструкции реалий культурно-исторического процесса в эпоху становления древнейших цивилизаций.
Материалистическая концепция исторического единства человечества, впервые научно обоснованная в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, непрерывно развивается и обогащается, вбирая в себя все лучшее, что накапливает современная мировая наука. Думается, что конкретно-исторические исследования Тура Хейердала не только нимало не противоречат сложившемуся у марксистов взгляду на конкретный ход мирового культурно-исторического процесса, но, наоборот, вводят в научный оборот ценнейший материал, свидетельствующий в пользу названной концепции.
И чрезвычайно полезно, поучительно и захватывающе интересно вернуться вместе с Туром Хейердалом к тем далеким дням, когда изложенный выше подход к истории культуры у него только-только зарождался. Вернуться вместе с прославленным исследователем спустя четыре десятилетия ко дням его молодости, к его первой встрече с Океанией, с полинезийцами, к его первым юношеским попыткам моделирования культурно-исторических процессов и ситуаций.
Тур Хейердал уже рассказал нам однажды о своем свадебном путешествии на Фату-Хиву. Советский читатель знаком с его книгой «В поисках рая», опубликованной у нас в 1964 г. Новая книга Хейердала отнюдь не расширенная версия старой, как он сам об этом пишет, но возвращение ученого к истокам своего пути в большую науку.
«Фату-Хива» примечательна прежде всего своей многоплановостью. В ткани изложения легко прослеживаются четыре ведущих, проникающих друг в друга мотива: 1) бегство от цивилизации XX века назад к природе, 2) взаимозависимость человека и природы, 3) колониализм в Океании и 4) проблема контактов между народами и взаимодействия их культур в древности и в наши дни.
На каждый из этих мотивов написаны многие десятки, если не сотни книг на многих языках мира. Но книга, где бы все четыре названных мотива были представлены в их органической взаимосвязи, — такая книга, пожалуй, еще не появлялась. И эта взаимосвязь — не умелый прием опытного литератора-полемиста, а отражение пришедшего к человеку второй половины XX века более глубокого понимания окружающей его действительности как нерушимого естественноисторического единства человека и природной среды — единства, целостности, внешне обособленные части которой не могут изменяться независимо друг от друга, но, напротив, изменение одной части сразу же сказывается на целом.
Наивны и обречены на неудачу попытки убежать, скрыться от тягот и угроз цивилизации и потому, что не дает покоя бремя ответственности за судьбы своего общества, общества, из которого ты вышел и от которого ты не в состоянии себя надолго оторвать, и потому, что цивилизация давно уже проникла, просочилась — и отнюдь не всегда в лучших своих проявлениях — в самые глухие, самые отдаленные уголки нашей небольшой планеты. И Тур Хейердал возвращается на родину, в Европу. А когда разразилась вторая мировая война, он принимает на свои плечи частицу общего бремени военной страды.
Интересны и впечатляющи страницы, на которых обсуждается экологическая ситуация на Маркизских островах. Перед нашими глазами один за другим проходят ландшафт за ландшафтом, и мы вместе с героями и автором книги убеждаемся в том, сколь велико воздействие человеческой трудовой деятельности на природу вообще, на природу островов в особенности. Даже тогда, когда человек вооружен лишь каменными орудиями и его общественная организация не выходит за узкие пределы племенной жизни. Тем более сокрушающее воздействие на природу островов оказало вторжение европейских колонизаторов, их непродуманные стихийные попытки изменения растительного и животного мира островов ради наживы и корысти.
Но мир островов — это и мир островитян. И вторжение колонизаторов деформирует и в конечном счете сокрушает и тот, и другой. На страницах книги Тура Хейердала перед нами проходит целая галерея образов европейских колонизаторов-поселенцев, осевших в силу различных причин на берегах Маркизских островов. Это убежденные расисты, всецело посвятившие себя наживе ради наживы, капитаны и тредеры, жалкие в своем духовном убожестве католические и протестантские миссионеры.
Тур Хейердал описывает Маркизы 30-х годов, когда позиции колониализма в Океании казались незыблемыми. Ныне на просторах Южных морей колониализм доживает свои последние дни, и уже пишут свою собственную историю свободные государства — архипелаги полинезийцев и меланезийцев. Но полная история преступлений колонизаторов в Тихом океане еще не написана. Ее еще предстоит написать. И тем. кто возьмется за этот нелегкий труд, понадобится книга Тура Хейердала.
Но ведь история колониализма в Океании, как и в любом другом месте, — это не только история преступлений и разрушений, чинимых колонизаторами в колонизуемом ими мире, это еще конкретно-историческая форма контакта двух столь различных общественных структур, а также их этнических форм, в которых они выступают на исторической арене, их культур, наконец. Полинезийцы, в той или иной степени принявшие культуру европейских колонизаторов, люди, оказавшиеся на рубеже двух культур, как пишут и говорят ученые, описаны автором книги очень выразительно. Но от этих колоритных фигур современной Океании Тур Хейердал переходит к общим размышлениям, раздумьям о природе и следствиях контактов между народами.
Развалины святилищ, каменные платформы-фундаменты истлевших жилищ исчезнувших поселений, высеченные на поверхности скал лики и изображения каких-то чудищ, затаившиеся в глубине пещер погребения и многие другие останки былого величия культурной и общественной жизни островитян Маркизских островов наводят Хейердала на мысль о возможности межостровных контактов, а может быть, и не только межостровных? Хейердал вместе с больной женой совершает здесь свое первое межостровное путешествие на утлом весельном суденышке. И может быть, именно здесь, среди вздымающихся волн, следя за неустанными усилиями мерно гребущих полинезийцев, юноша, мечтавший скрыться за океаном от цивилизованного мира, вдруг осознал, что океан — дорога! И более того — Великий Путь расселявшихся по Земле народов. Понял — и всю свою дальнейшую жизнь посвятил тому, чтобы убедить в этом своих сухопутно мыслящих современников.
Так в сложном красочном орнаменте четырех мотивов новой книги Тура Хейердала увлекшийся читатель вдруг обнаруживает для себя еще один, как бы исподволь обозначившийся пятый мотив — мотив становления ученого, мотив определения человеком своего главного призвания в жизни. И в этом еще одна примечательная черта «Фату-Хивы».
Новая книга Тура Хейердала увлекательна, поучительна и, что не менее важно, очень современна. К тому же она поможет нам лучше понять внутренний мир и ход рассуждений прогрессивных ученых западноевропейского мира.
В. Бахта
Примечания
1. Маркизские о-ва географически — часть Восточной Полинезии. Общая площадь около 1200 кв. км, наиболее крупные острова: Хива-Оа, Нуку-Хива, Хуа-Пу, Фату-Хива.
В 1842 г французский адмирал Абель Обер Дю Пти-Туар утвердил протекторат Франции над Маркизским архипелагом. С тех пор Маркизские о-ва — колониальное владение Франции.
2. Употребляя здесь и далее термины «король», «королева» по отношению к вождям местных обществ, автор следует давно уже утвердившейся в литературе традиции. Но в данном случае в термины вкладывается совершенно иное содержание. Социальный строй полинезийских обществ был не одинаков на личных архипелагах. Однако повсюду, в том числе, хотя в меньшей степени, и на Маркизских о-вах, классообразование ко времени вторжения туда европейцев зашло уже достаточно далеко и выделившаяся родоплеменная знать и культурно, и социально обособилась от основной массы рядовых общинников. Захватив господствующие позиции в обществе, родоплеменная аристократия уже выделила из своей среды наследственных верховных вождей, обладавших значительной и нередко деспотичной по форме властью.
Этих-то верховных вождей и называют обычно — с легкой руки первых европейских мореплавателей и путешественников — «королями» и «королевами» полинезийских обществ.
3. Здесь и далее в тексте автор не раз возвращается к теме людоедства (каннибализма) на Маркизских о-вах. По имеющимся данным, каннибализм действительно был на Маркизах укоренившимся военным обычаем. Впрочем, нужно иметь в виду, что славой кровожадных каннибалов обитатели Маркизских о-вов обязаны не столько этому не так-то уж и распространенному обычаю, сколько необузданной фантазии европейских моряков. Следует также помнить, что почти все народы, переживая определенный этап исторического развития (этап так называемой военной демократии), практикуют или, вернее, практиковали в далеком прошлом ритуальное людоедство. Этот обычай был связан с поверьем, будто человек, съевший мясо убитого врага, воспринимает его силу, ловкость, быстроту, ум, хитрость и прочие полезные качества.
4. Нет никаких оснований считать, что биологические закономерности определяют хоть в какой-то мере развитие и содержание социально-экономических процессов в человеческом обществе. Беседа между автором и женой, о которой сейчас идет речь, происходила задолго до наших дней и ведется молодыми людьми, не имеющими представления о материалистической концепции социально-исторического процесса.
5. Христианизация архипелагов Полинезии — одна из самых трагических страниц в истории коренных народов Южной части Тихого океана. Прибывая первыми и первыми из европейцев внедряясь в туземную среду, миссионеры христианской церкви всячески способствовали разрушению традиционных форм материальной и духовной культуры островитян. В большинстве своем миссионеры были к тому же ограниченными, малограмотными и фанатично настроенными мракобесами.
Несомненно, конечно, что среди миссионеров было немало людей, искренне верующих, людей мужественных, бескорыстных, даже жертвенных, посвящавших всю свою жизнь делу «спасения» язычников от адского пламени. Многие из миссионеров преуспели в распространении среди туземцев новых сельскохозяйственных культур, домашних животных, железных орудий труда и т. п. Из числа миссионеров, долгими годами, а то и десятилетиями живших среди своей новообращенной паствы, вышли и выдающиеся ученые: этнографы и лингвисты. Именно миссионеры составили первые словари и грамматики полинезийских языков и диалектов, записали циклы полинезийских мифов и исторических преданий — генеалогий, сделали первые переводы европейских текстов на полинезийские языки. Им же, кстати, принадлежит и разработка латинизированных алфавитов для бесписьменных полинезийских языков.
Однако существо миссионерской деятельности в Полинезии, как, впрочем, и повсюду, куда проникали миссии, определялось не личными качествами христианских проповедников, а тем, что миссионеры были — осознавали они это или нет — разведчиками и проводниками колониальной политики капиталистических держав: Англии, Франции, США и других 6. Верно обличая ханжеское, буржуазное по сути дела, толкование прогресса, автор в пылу полемики готов отказать понятию «прогресс» в каком бы то ни было объективном содержании. Однако прогресс — объективно существующая и имманентно присущая культурно-историческому процессу тенденция, которая пробивает себе дорогу вопреки всем препятствиям и противоречиям конкретной истории: из века в век, от тысячелетия к тысячелетию накапливается и обогащается сокровищница мировой культуры, совершенствуются общественные отношения, растет и ширится сотрудничество между народами, силы единения неизменно преодолевают недоверие, обособленность, рознь, вражду. Выявленный В. И. Лениным глобальный процесс интернационализации мировой культуры набирает все большую и большую силу и скорость, формируя фундамент единой, всечеловеческой культуры. Справедливости ради следует заметить, что в других местах этой книги автор приближается именно к такой точке зрения.
Тур Хейердал
Мальдивская загадка
ОДА МОРЕПЛАВАНИЮ
Северную часть Индийского океана образно называют "океаном нагретых вод". Здесь нет холодных течений, здесь - царство кораллов. Самые длинные цепочки коралловых островов - Мальдивские и Лаккадивские. Они венчают подводный горный хребет. Мальдивские острова протянулись вдоль меридиана 73° в. д. на 875 километров. Самый северный атолл лежит на 07°06' с. ш., самый южный - на 00°42' ю. ш. Архипелаг назван по главному атоллу Мале. Заметим также, что английское слово "атолл" произошло от мальдивского "атолу", что как будто бы означает "кольцо из островов".
Мне трижды посчастливилось побывать на Мальдивских островах, причем не только в столице архипелага Мале, расположенной на самом крупном острове, входящем в состав атолла Южный Мале, но и на нескольких других атоллах и островках. Не все из 1196 островов архипелага заселены. Постоянное население есть только на двухстах островах. ...Коралловые острова чуть-чуть возвышаются над океаном, и, когда подходишь к ним, сначала видны только перистые кроны пальм и часть стволов, как будто торчащих из воды. Затем различаешь прямо под пальмами белое кружево прибоя. Словно в немом кино, пена взлетает ввысь и опускается, исчезая из виду. Еще ближе - и слышен глухой рокот прибоя. Через проход в коралловом рифе попадаешь в лагуну с безмятежной зеркальной поверхностью. Сколько раз доводилось это видеть, но всегда производит неизгладимое впечатление.
По лагуне скользят рыбачьи челноки, как правило, с треугольным, косым, реже прямым парусом. Подходят к борту нашего судна. Мальдивцы - красивые, хорошо сложенные, но невысокого роста - жестами приглашают на берег, где под сенью пальм и других тропических деревьев прячутся их плетеные домики. На шестах вялится рыба, тут и знаменитый тунец, известный в соседних странах под названием "мальдив фиш". Около хижин пасутся козы. К сожалению, языковой барьер не позволяет подробнее узнать о жизни мальдивцев. Говорят они на языке дивехи, называя себя "дивехи" - "островитянами", а свою страну "Дивехи Рааджаре" - "царством островов". Тем неожиданнее для нас было услышать на Мальдивах русскую речь. В столице я познакомился с Абдуллой Самадом - выпускником ленинградского медицинского института. Теперь он врач в местном госпитале. Есть еще два врача - мальдивца, окончившие высшие учебные заведения в нашей стране.
С Абдуллой мы побродили но Мале. И надо сказать, по сравнению с моими прошлыми посещениями он мало изменился. Городок небольшой, чистый, беленький, какой-то сказочный, словно ходишь по придуманному Александром Грином Гель - Гью. Кварталы прямые, точно расчерченные по линейке, под ногами похрустывает мелкая коралловая крошка, которой посыпают улицы. На торговых улицах оживление - группы иностранных туристов, главным образом из ФРГ, Италии, приобретают на свои марки и лиры мальдивские сувениры: изделия из черного коралла, черепаховые гребни, вазы и чаши, покрытые желтым и черным лаком. "Чтобы привлечь туристов, говорит Абдулла, а это самая существенная статья нашей экономики, правительство разрешило беспошлинный ввоз товаров. Многие из островков атолла Мале сдаем в аренду иностранцам и предприимчивым мальдивцам, чтобы они создавали, как это называется у вас, туристические базы".
На другой день мы побывали на таком островке, арендованном приятелем Абдуллы Мохаммедом. На белоснежном коралловом песке на берегу лагуны ряд тропических бунгало, в которых живут туристы. В центре острова ресторан и кинотеатр. К услугам туристов опытные аквалангисты из ФРГ, с которыми можно совершить увлекательные подводные прогулки. Узнан, что меня интересует история острова, доктор Самад заметно оживился. "О Мальдивах говорят как о стране без истории. Приезжают иностранцы. Что их здесь интересует? Пляж, подводная охота, прогулки на яхтах. Устав от моря, они денек-другой побродят по Мале, осмотрят минарет Джума, откуда муэдзин с помощью репродукторов призывает к молитве, и приходят к выводу, что о каких-то древностях на Мальдивах говорить бессмысленно. Но они ошибаются. Я бывал на многих островах и видел древние развалины - хавитты. Недавно на атолле Ари нашли голову Будды и привезли сюда, в Мале. Встречаются дагабы. Ясно, что все это появилось на Мальдивах раньше, чем мы стали приверженцами ислама. Хорошо бы заняться нашей историей всерьез..."
С археологической экспедиции Тура Хейердала дело сдвинулось: оказалось, что Мальдивы одна из самых древнейших стран Индийского океана.
В предлагаемой вниманию читателей книге известный норвежский ученый Т. Хейердал высказывает гипотезу и о возможных трансокеанских путях между цивилизациями на берегах Индийского океана и Центральной Америки. Примечательно, что в этой гипотезе полукругосветного морского пути особая роль отводится Мальдивским островам.
С незапамятных времен и до наших дней мореплавание оказывало и оказывает влияние на развитие человеческих цивилизаций. Его история - это история и судостроения и судоходства, в которой прослеживается эволюция морских судов, совершенствование навигационного искусства, обогащение лоции морских путей. Специалисты в принципе сходятся во мнении, что самым первым мореходным средством, созданным руками человека, был плот. Предполагают, что еще 12000-14000 лет назад в водах Юго-Восточной Азии плавали бамбуковые плоты. Следующий шаг в эволюции морского судостроения - камышовые лодки, достигшие со временем, как считает норвежский ученый Тур Хейердал, исключительного совершенства. Именно на камышовых бунтовых судах, по мнению Хейердала, и были совершены самые выдающиеся плавания в древнем мире.
На заре мореплавания неолитические плоты выходили в открытое море, если видели на горизонте неведомую землю. Шли века, и мореплаватели неолита стали предпринимать намеренные плавания для поиска новых земель. Конечно, существовали и случайные плавания (дрейфовые), когда плот относило к неизвестной суше. Таким образом, основы мореплавания закладывались еще в неолите. Человек каменного века был способен преодолевать довольно значительные водные пространства. Хотелось бы сказать о несостоятельности теории "сухопутных мостов". А дело в том, что инерция сухопутного мышления проявляется и в наши дни. К сожалению, теории "островных мостов" придерживаются не только представители гуманитарных наук, но и некоторые естествоиспытатели. По их представлениям, дальние океанские плавания были возможны лишь при наличии островов, на которых древние мореплаватели останавливались перед каждым последующим этапом своего путешествия.
Известный советский океанолог, профессор Н. Н. Зубов, предполагал, что предки гавайцев переселились на свои острова из центра полинезийского треугольника через цепи островов Эллис, Гилберта, Маршалловых и затем на восток-северо-восток против северо-восточного пассата "от одного острова к другому". Теперь этих островов нет. Но ученый указал на батиметрической карте на ряд погруженных коралловых островов, о которых напоминают лишь горы - гайоты, находящиеся на 500-700-метровой глубине под уровнем океана. Действительно, многие из них были настоящими островами задолго до того, как появился Homo sapiens.
Примерно аналогичная история и с открытием Австралии. По современным представлениям, считается, что заселение пятого континента произошло 20-28 тысяч лет назад. Предки австралийцев -выходцы из Южной Азии, перемещаясь с одного индонезийского острова на другой, конечно, приобретали навыки мореплавания. Однако некоторые специалисты придерживаются мнения, что предки австралийцев перебрались на континент по суше, якобы существовавшей между южными островами Малайского архипелага и Австралией. В то же время геологические данные не подтверждают гипотезы. Подводный северный выступ Австралийского материка, в значительной степени заполняющий Тиморское и Арафурское моря, был сушей сотни тысяч лет назад. В монографии "Народы Австралии и Океании" высказывается компромиссное предположение, что предки австралийцев перебрались на свою новую родину через Новую Гвинею, а затем по "островному мосту" Торресова пролива. Авторы данного маршрута подчеркивают также, что "островной мост" Торресова пролива 20 000 лет назад был более монолитным, поскольку еще существовали банки между островами, исчезнувшие в послеледниковый период. Конечно, "островной мост" упрощает дело, но до него переселенцы должны были прежде преодолеть пролив, отделяющий континент от Новой Гвинеи, и совершить значительный переход по самому острову. А может быть, логичнее предположить, что предки австралийцев, уже знающие толк в мореплавании, не стали бы забираться так далеко на восток, да еще таким сложным путем, а форсировали непосредственно Тиморское или Арафурское море?
Сравнительно недавно в индонезийской печати появилось сообщение о необычном плавании девяти индонезийцев с острова Дамар во внутреннем море Банда. На парусной лодке они отправились за кокосовыми орехами на островок Нила в 75 милях к северо-востоку от Дамара. Когда индонезийцы возвращались домой, налетел жестокий шторм. Сорвало парус, а затем переломилась мачта. Лодка, оказавшаяся во власти стихии, стала дрейфовать... А поскольку в это время года господствовал муссон, небольшое суденышко неуклонно относило на юго-восток. Оно продрейфовало мимо островов Бабар, расположенных на стыке с Арафурским морем. Дрейф продолжался в этом море, где людям не приходилось ждать новых встреч с островами. Оставалась только надежда, что муссон сохранит силу и вынесет их к побережью Австралии. Потянулись томительные дни и ночи. К счастью, люди не испытывали нужды в пище и питье: то и другое им давали кокосовые орехи. По ночам они страдали от холода, а днем от палящих солнечных лучей. Через три недели невольные мореходы увидели наконец кейп-донский маяк на Австралийском континенте.
Не моделирует ли трехсотмильный дрейф индонезийского прау события глубокой древности? Не является ли он еще одним аргументом в пользу того, что заселение Австралии шло чисто морским путем?
Дадим волю фантазии. Сначала Зеленый континент был открыт случайно. Так же как прау с девятью индонезийцами, плот или неолитический челнок протоавстралийцев подхватил муссон и отнес к неведомому материку. В другой сезон, когда преобладающий ветер дул в противоположном направлении, мореплаватели могли вернуться на индонезийские острова и сообщить о своем открытии. И тогда люди каменного века, захватив с собой собаку динго, каменные топоры, завернутые в кору запасы пищи, отправились на новую родину.
У аборигенов полуострова Арнемленд пустынный мыс Кейп-Дон считается священным местом. По преданию здесь вышла из морских
волн богиня-прародительница, сотворившая австралийцев и все окружающее. Кто знает, может быть, девять индонезийцев, высадившихся у этого мыса, в точности повторили маршрут протоавстралийцев?
Плоты в древнем мире были пригодны не только для дрейфовых плаваний, но и для переходов в более сложной навигационной обстановке. Если экспедиция на плоту "Кон-Тики" была совершена в весьма благоприятных условиях с попутным пассатом и течениями, то древние перуанцы, владевшие искусством маневренного плавания с использованием выдвижных швертов-гуаров, пускались на тех же плотах в рейсы и за пределами пассатной зоны. Так ими был открыт лежащий в умеренных широтах остров Пасхи, где навигационные условия далеки от оптимальных. Большие трудности были и в обнаружении затерянного в океане острова. По-видимому, поисковая флотилия древнеперуанских мореплавателей, состоящая из десятков плотов, "прочесывала" океан, двигаясь веером.
Как уже упоминалось, огромную роль в мировом мореплавании сыграли камышовые суда. Т. Хейердал, совершивший три океанских плавания на судах такого типа - на папирусных судах "Ра" и "Ра II" и бунтовой ладье "Тигрис", на собственном опыте убедился в том, что камышовые суда не только обладают прекрасной плавучестью, гибкостью, но и приспособлены к морскому волнению. В "Мальдивской загадке" Т. Хейердал обращает внимание на это их свойство, получившее отражение в аллегорической форме в мифах и изобразительном искусстве древних народов - жителей разных континентов. Боги и легендарные герои часто изображались плывущими на плоту из змей. Это и ацтекский бог Солнца и индуистский бог Вишну и вождь Кон-Тики в древнем Перу. Т. Хейердал вспоминает, что, когда он ходил на камышовых ладьях, было такое ощущение, словно плывешь на связке извивающихся змей, - так чутко отзывалось судно на морские волны, большие и малые. "Может быть, сходство легенд у этих народов объясняется тем, что они пользовались одинаковыми судами? - спрашивает Хейердал.- Или сходство судов вызвано тем, что у них были одинаковые легенды?" Положительный ответ на любой из вопросов подразумевает контакт между цивилизациями. И здесь следует вспомнить глобальную концепцию самого Тура Хейердала, признанного знатока и смелого экспериментатора в области древнего мореплавания: для людей отдаленных эпох океаны не были непреодолимым препятствием; наоборот, они не разъединяли, а соединяли человечество. Много лет Т. Хейердал посвятил исследованию камышового судостроения в Старом и Новом Свете. Он изучает сохранившиеся изображения камышовых судов, посещает различные районы на Американском континенте, где сохранилось ремесло древних корабелов, исследует камышовое судостроение на острове Пасхи, у индейцев аймара и кечуа на озере Титикака в Перу и Боливии, а также у индейцев племени церис в Мексике.
В Старом Свете центров камышового судостроения оказалось больше. Это, в частности, "папирусная цивилизация" в Египте. Правда, с умением вязать папирусные лодки Т. Хейердал столкнулся не в Египте, а на озерах Тана и Звай в Эфиопии, а также на озере Чад в одноименной республике. Но, вероятно, самые древние центры обнаружены на Азиатском континенте: в Двуречье, где была построена камышовая ладья "Тигрис", и в стране Мелухха (так называлась Древняя Индия). Небезынтересно, что Тур Хейердал во время визита в нашу страну в 1982 году побывал в Гобустане (в 75 километрах от Баку), где ознакомился с наскальными изображениями камышовых лодок, типологически сходными с древними лодками Двуречья.
Совершив плавание на бунтовой ладье "Тигрис", Тур Хейердал доказал реальность торговых морских путей, соединяющих самые древние цивилизации человечества: шумерскую, протоиндийскую, египетскую. Возможность трансокеанского контакта цивилизаций древнего Средиземноморья и Американских была продемонстрирована плаванием "Бумажных корабликов" "Ра" и "Ра II".
И вот спустя несколько лет на островах Мальдивского архипелага он проводит археологические раскопки и этнологические исследования. Экспедиция Тура Хейердала проводилась с перерывами с осени 1982 по февраль 1984 года. Она как бы подразделялась на четыре этапа-путешествия. В промежутках между ними участники экспедиции посещали страны Индийского океана - ближайших соседей Мальдивов. Результаты исследований Т. Хейердала впечатляющие.
Во-первых, он доказал, что Мальдивы страна со сложной и весьма древней историей. Пока еще не ясно, кто был их первооткрывателем, однако не вызывает сомнений, что официальная дата заселения архипелага мореходами отодвигается на много веков в глубь истории. Исследования Т. Хейердала подтвердили, что в домусульманские времена на Мальдивах побывали мореплаватели индуисты и буддисты.
Во-вторых, он показал, что Мальдивы были страной, известной в древнем мире и игравшей связующую роль между цивилизациями не только Индийского океана. Здесь будет уместно обсудить с навигационной точки зрения гипотезу Т. Хейердала о морских контактах древних цивилизаций Старого и Нового Света.
Гипотеза опирается на факт появления в Новом Свете шестнадцати - хромосомного вида хлопчатника, который в незапамятные времена возделывали в долине Инда, а также на культурные параллели, свойственные Американской и Индоокеанской цивилизациям: сходная манера каменной кладки, наличие камышовых судов, обычай удлинять мочки ушей. Итак, первый этап плаваний в Индийском океане.
"Зимой попутный северо-восточный муссон благоприятствовал плаванию от Мальдивских островов к южной оконечности Африки", пишет Т. Хейердал. Северная часть Индийского океана образно именуется "морем муссонов". Сезонная смена господствующих ветров - муссонов - является главной чертой метеорологического режима этой части океана, определяющей и поверхностную циркуляцию вод. Действительно, зимний муссон и Муссонное течение способствуют плаванию парусных судов в юго-западном направлении. Для летнего сезона характерно противоположное направление муссона, соответствующим образом перестраивается и поверхностное течение. Эта природная закономерность издавна использовалась мореходами в Индийском океане. В кенийском порту Момбаса несколько лет назад я видел арабские парусники, ожидавшие наступления летнего муссона, чтобы плыть к берегам Персидского залива и Аравийского полуострова, откуда они прибыли с зимним северо-восточным муссоном. Но "море муссонов" имеет свою границу, за которой воздействие муссонов прекращается. Она проходит примерно по 10° ю. ш., тогда как южная оконечность Африки находится в умеренных широтах, около 34° ю. ш. Поэтому зимний муссон не будет сопровождать мальдивский парусник до мыса Игольного. Выйдя из зоны муссонов, он должен попасть в штилевую полосу, а затем в сферу действия юго-восточного пассата и Южного Пассатного течения. Здесь при общей тенденции сноса судна в западном направлении возможны два варианта: во-первых, имеется возможность обогнуть огромный Мадагаскар с севера и попасть в воды Мозамбикского течения, направленного на юг между Мадагаскаром и Африканским континентом. Моряки парусного флота рассказывали о коварстве ветров и водных круговоротов в Мозамбикском проливе. Недаром для африканцев с их немореходными лодками этот пролив был непреодолимой преградой, а вопреки географической логике Мадагаскар был заселен с востока малайскими мореплавателями, пускающимися в плавание на своих легких суденышках. Второй вариант - плыть в южной ветви Пассатного течения, вливающегося затем в Агульясское течение, и с ним обогнуть Африку. Это мощное устойчивое течение, сохраняющее направление на юг-юго-запад зимой и летом. Его скорость не менее 1,5 узла. Известно, что плавание вокруг мыса Игольного, особенно если дует юго-западный ветер штормовой силы, вершина мореходного искусства. При юго-западном ветре появляются очень крутые, горообразные волны, обрушивающиеся с огромной силой на палубы судов. Известно, что их не выдерживали даже современные стальные супертанкеры. Тем не менее, несмотря на встречный штормовой ветер, судно даже небольшой осадки все же продвигается на запад с Агульясским течением. В подобной ситуации оказался в 1958 году одиночный мореплаватель Джон Газуэлл на небольшой яхте "Трекка". Когда задул юго-западный ветер, он лег в дрейф, но за 10 часов яхта все же прошла на запад добрых полсотни миль.
В Атлантическом океане бунтовая ладья продолжила бы плавание с холодным Бенгельским течением, переходящим в Южное Пассатное. Попав в зону пассатов, парусное судно может вполне благополучно пересечь Атлантику. Затем плавание продолжится вдоль берегов Южной Америки в сторону Карибского моря, куда направлено мощное Гвианское течение. Вероятно, конечным пунктом этого плавания будет полуостров Юкатан, омываемый водами Карибского моря, где процветала цивилизация ольмеков.
Таким образом, вариант полукругосветного плавания от Мальдивских островов до Центральной Америки, предлагаемый Т. Хейердалом, весьма сложный и длительный, но не абсолютно безнадежный с навигационной точки зрения, хотя и не лишенный случайностей, которые могут свести на нет все предприятие. Добавим также, что имеются источники (увы, не очень надежные) о более поздних плаваниях малайских мореходов тем же путем до острова Св. Елены в центре Атлантического океана.
Нам представляется, читатель с неослабевающим интересом прочтет "Мальдивскую загадку", несущую огромный заряд информации об увлекательной истории, археологии, этнологии древних стран бассейна Индийского океана.
Оригинально уже само построение книги: автор вводит читателя в свою "творческую лабораторию", показывая, как при рассмотрении добытого исследователями материала рождаются импульсивные догадки. Одни из них рушатся под натиском новых фактов, другие - укрепляются, обретают черты завершенности. Читатель видит, как через сомнения и раздумья проклевываются ростки истины.
Своими исследованиями норвежский ученый внес весомый вклад в утверждение гипотезы, что именно Индийский океан был колыбелью мирового мореплавания. Наверное, пора ее считать теорией.
В. И. ВОЙТОВ, кандидат географических наук
ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 Путешествие первое
Путешествие первое
Глава I. Тайна тысячи островов
Погребенные скульптуры и жертвоприношение девственниц
Из старых мешков на красный ковер президентского дворца высыпались комья черной земли и зеленого мха, а следом за ними покатились прибывшие прямо из джунглей, одетые лишайником тяжелые камни.
Сановники, наблюдавшие необычную сцену, округлили глаза, и без того увеличенные стеклами очков. Его превосходительство Маумун Абдул Гайюм - президент молодой Мальдивской Республики не скрывал своего восхищения, как и почтительно стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники в темных костюмах. Зато солдаты, которые принесли мешки, и озадаченные служители испуганно попятились. Никогда еще среди изящного дворцового интерьера не появлялись такие вещи, да и в собственные лачуги эти люди ни за что не стали бы их вносить.
Перед нами на ковре лежали поврежденные эрозией известняковые блоки. Когда-то аккуратно высеченные из слагающей острова белой коренной породы, они успели потемнеть от времени, но на одной из граней под слоем лишайника все еще отчетливо выделялось рельефное изображение. Выпуклость на обратной стороне свидетельствовала, что эти камни вставлялись в стену.
Детали резьбы выступали над плоскостью примерно на толщину пальца. Особенно впечатляли большие - с суповую тарелку солнечные символы. Изображающий солнце круг обрамляли кольца, одно шире другого. Классическое изображение солнечного божества у всех солнцепоклонников со времен древнейших цивилизаций Месопотамии и Египта. Некоторые камни были отделаны с большим изяществом, по бокам солнца высечены крылья, образуя узор, напоминающий эмблему современной авиакомпании. Крылатое солнце тоже типичный мотив древнего искусства Египта и Месопотамии.
Два-три камня заметно выделялись более сложным оформлением. Ряд отдельно стоящих солнечных цветков чередовался с рельефным символом, в котором вертикальные полосы сочетались с тремя выстроенными по вертикали точками; примерно так изображались числа в письменности майя. Выше этого ряда по краю камня тянулась широкая кайма с мотивом лотоса. Солнечный цветок - еще одно изображение, характерное для древних солнцепоклонников, а лотос символизировал восход у народов, населявших обширную территорию от Египта поры фараонов до Месопотамии и Древней Индии.
Было очевидно, что нами найдены вещи, каких никто не ожидал увидеть на островах посреди Индийского океана. Сами островитяне признавали, что никогда не видели ничего подобного. Они верны исламу. Все жители Мальдивского архипелага мусульмане; их предки больше восьми веков исповедовали ислам, с тех самых пор, как в 583 году по мусульманскому календарю, то есть в 1153 году н. э., тогдашний султан указом утвердил здесь эту религию, после чего никто из жителей архипелага не решился бы вырезать такие мотивы. И ведь всякий, кто теперь захочет поселиться на Мальдивах, обязан принять мусульманскую веру.
Тем не менее мы, едва прибыв на Мальдивы, натолкнулись на камни с декором. Правда, их не так-то просто было отыскать под слоем мха среди джунглей. Блоки с рельефными изображениями были нами обнаружены на необитаемом острове в крайней южной части длинной цепочки атоллов, предельно далеко от главного острова республики - Мале - и всех туристских маршрутов. В столицу мы доставили лишь некоторые образчики того, что таили в своих недрах джунгли. Сначала привезли их в маленький столичный музей мусульманских реликвий, но президент пожелал лично ознакомиться с ними в своем дворце. Он принял нас очень любезно, с достоинством воспринял появление грязных мешков, когда же узрел их содержимое, просиял, словно мальчуган при виде подарков Деда Мороза. Медленно поднявшись с кресла, он гордо произнес:
- Конечно, наша республика молода. Но теперь мы получили доказательства, что и у нас, как у наших соседей на материке, есть древняя история!
Камни остались лежать на красном ковре, когда мы покинули дворец. Солдаты должны были отнести их обратно в единственный на Мальдивах музей, где этим реликвиям предстояло на время укрыться в каком-нибудь закутке, ибо они никак не совмещались с экспонатами, представляющими искусство и историю мусульман. Я же унес с собой из дворца выполненную из слоновой кости великолепную модель мальдивской парусной дхони и личное приглашение президента организовать первые археологические раскопки в государстве на архипелаге, насчитывающем около 1200 островов.
Приняв освежающий душ, я прилег на кровать в номере маленькой гостиницы неподалеку от дворца. Впрочем, на крохотном островке Мале все находится рядом.
Я было запустил вентилятор под потолком, но тут же выключил его: шум мешал думать. А думать было необходимо, хотя голова совсем не хотела работать в этом благодатном тропическом климате. Солнце, море, белый песок и кокосовые пальмы за окном манили предаться сладостному отдыху, не заботясь ни о чем, кроме радостей жизни. Тем не менее я призвал к порядку свой разгоряченный мозг, чтобы осмыслить в целом достаточно ясную ситуацию. Еще какой-нибудь месяц назад у меня было самое смутное представление о Мальдивах. На прошлой неделе я впервые прибыл в эту страну и провел сутки в той же самой гостинице, после чего мы с Бьёрном Бюэ отправились на южные атоллы. Теперь вот снова вернулись в Мале, и, пока из дворца в музей несут пять тяжелых камней в грязных мешках, а еще одиннадцать образцов находятся в пути на главный остров, я, лежа на знакомой кровати, размышляю над неожиданным предложением президента республики попытаться восстановить забытое прошлое его страны.
Есть отчего прийти в замешательство.
Вот именно, ведь я практически ничего не знаю об этой стране. Меня привела сюда чистая случайность, и я просто не успел подготовиться. Уж, наверное, прибывающие в аэропорт по соседству с Мале обычные туристы, вооруженные путеводителями на своем родном языке, подготовлены лучше, чем я. До прошлой недели эти острова были для меня лишь точками на карте океана с такими странными названиями, что я и читал-то их не без труда. Я не знал местного языка - дивехи. Мне ничего не говорили необычные знаки здешней письменности. Больше всего они напоминали мне мелко нарезанные полоски спагетти. Мальдивцы называют эти знаки габули тана или тана акуру и пишут их справа налево.
Так мне ли браться за осмысленный поиск неизвестных этим людям сведений об их собственных предках?
И где искать, на каком из 1200 островов?
По совести, это задача для человека, лучше меня знающего здешние обстоятельства.
Но в то же время до чего увлекательная задача.... Эта страна среди океана член Организации Объединенных Наций, а между тем никто не знает, как она возникла. Еще ни один археолог не исследовал эти острова - слишком удалены они от всех материков.
 Древние изображения предков. Фото 10-15. Скульптуры раскопаны на Мальдивах, где самодержцы-султаны больше восьмисот лет запрещали всякие изображения человека. Ближе всего к нашему времени сфотографированный в профиль курчавый Будда (фото 14). Буддизм господствовал на островах до 1153 года, когда сюда пришли мусульмане. Будда в юности был индусским принцем, поэтому у него удлиненные мочки ушей. Таков был обычай у индуистских божеств и моряков Лотхала, древнейшего известного порта Индии. Но кто изображен с удлиненными мочками и изящными усиками? (фото 13, 15)
Древние изображения предков. Фото 10-15. Скульптуры раскопаны на Мальдивах, где самодержцы-султаны больше восьмисот лет запрещали всякие изображения человека. Ближе всего к нашему времени сфотографированный в профиль курчавый Будда (фото 14). Буддизм господствовал на островах до 1153 года, когда сюда пришли мусульмане. Будда в юности был индусским принцем, поэтому у него удлиненные мочки ушей. Таков был обычай у индуистских божеств и моряков Лотхала, древнейшего известного порта Индии. Но кто изображен с удлиненными мочками и изящными усиками? (фото 13, 15)
Правда, у меня было одно преимущество. Я кое-что знал о древнем мореходстве. Нам потому и удалось найти эти камни. Я сознательно искал гам, где, скорее всего, могли пристать первобытные суда. Слишком долго господствовало воззрение, будто мореплаватели доевропейских цивилизаций предпочитали держаться берега континентов, потому что боялись заблудиться в открытом море. И потому что суда их не годились для серьезных плаваний. Однако за последние годы я испытал со своими друзьями разные типы древних судов и пересек на них три океана. Во время последнего эксперимента, пройдя на камышовой ладье "Тигрис" от бывшей Месопотамии к долине Инда, мы вполне могли продолжить плавание на юг вдоль берегов Индии и дойти до Мальдивов. Вместо этого мы предпочли идти через Индийский океан в Африку. Именно этот эксперимент побудил мальдивцев зазвать меня теперь в их страну. Они не верили, что доевропейские мореходы плавали только вдоль берегов. Они знали, что их собственные предки пересекли океанские просторы в доевропейскую эпоху. Не знали только откуда.
Кроме того, мальдивцам было известно, что следом за первопоселенцами на острова прибыли арабские мореплаватели - и тоже за много веков до того, как вышел в океан Колумб. Документированная история Мальдивов берет свое начало в XII веке н. э., она запечатлена знаками их письма на медных листах старинных книг, из коих явствует, что ислам был введен здесь в 1153 году арабскими мореходами. И вот теперь мы обнаружили в мальдивских лесах камни с резными узорами - памятники народа, который приплыл на здешние острова до арабов и поклонялся не Аллаху, а солнцу.
 Все началось с этой фотографии. Незнакомый человек прислал ее вместе с письмом в котором приглашал автора приехать на Мальдивы, чтобы решить загадку архипелага в Индийском океане. Статуя была найдена на одном из островов в стране, где ислам уже более восьми веков запрещал изготовлять какие-либо изображения человека.
Все началось с этой фотографии. Незнакомый человек прислал ее вместе с письмом в котором приглашал автора приехать на Мальдивы, чтобы решить загадку архипелага в Индийском океане. Статуя была найдена на одном из островов в стране, где ислам уже более восьми веков запрещал изготовлять какие-либо изображения человека.
Президент был прав. Мальдивская Республика молода - последний самодержавный султан уступил место демократическому правительству в 1968 году. Однако эти скромные островитяне, опираясь на письменные источники, могли кое-чему научить мир на примере восьми с лишним веков своей мирной истории. Все, что было до того, оставалось девственной почвой, ожидающей исследователя.
Если я возьмусь за исследование, придется начинать с азов. Прежде всего ознакомиться с тем, что уже известно другим. При этом у меня есть определенное преимущество - здравая гипотеза, указавшая мне прямой путь к камням, которые мальдивцы сейчас несли в свой музей. Разумеется, в пестром потоке посещающих Мальдивы туристов были и ученые. Туристы приезжали в роли этаких современных солнцепоклонников. Ученые изучали жизнь местного населения и сообщали о своих наблюдениях. Но среди них не было ни одного профессионального археолога. Я быстро выяснил, что в недалеком прошлом несколько энтузиастов поработали киркой и лопатой, однако их почин не был развит представителями современной науки.
Гул реактивного самолета привлек меня к окну. Исполин XX века приземлялся на узкой летной полосе, которую приверженцы ислама недавно пристроили к соседнему с Мале островку. Немецкие, итальянские и шведские туристы спускались по трапу, направляясь в маленькое здание аэропорта. Пока что другие нации вроде бы не открыли для себя этот лучезарный рай. И вряд ли кто-либо из прибывших гостей появится на Мале или на каком-нибудь другом острове, населенном мальдивцами. Поставщикам валюты власти отвели солнечные пляжи соседних атоллов, где сохранились необитаемые острова. Похоже, что солнце издревле привлекало людей на Мальдивский архипелаг. Даже в доисторические времена. Нашли же мы развалины солнечного храма, причем на нужный остров нас привело само солнце. Да-да, само светило указало нам кратчайший путь к солнечному храму. Хотя вообще-то не оно, а письмо с штемпелем авиапочты привело меня на Мальдивы. Чуть больше месяца назад, когда Мальдивские острова были для меня всего лишь точками на карте, я обнаружил в своем почтовом ящике плотный конверт с экзотическими марками Шри-Ланки. С этого все и началось.
В конверте лежала большая фотография. Я полагал, что увижу красочные снимки шри - ланкийских пляжей и пальм, но меня ждал сюрприз. На черно-белой фотографии - горчащие из земли голова и плечи крупной каменной скульптуры. Голова была искусно изваяна и хорошо сохранилась. Приветливое, чуть улыбающееся лицо, и одна особенность, которая тотчас привлекла мое внимание, - уши. Мочки ушей свисали до складок плаща на плечах изваяния. И хотя скульптура изображала мужчину, курчавые волосы, похоже, были собраны в пучок на макушке.
Каменное изваяние мужчины с удлиненными ушами и пучком волос. Меня охватило волнение. Что это, как не повторение загадки острова Пасхи, которая много лет не давала мне покоя! На Пасхе вот так же стоят сотни огромных каменных бюстов, изображающих мужчин с висящими до плеч мочками ушей и с пучком волос на макушке. Конечно, тамошние изображения достаточно условны. Изваяние на фотографии выглядело более реалистично. И все же, если снимок сделан не слишком далеко от Пасхи, если расстояние допускает связи по морю, можно предположить некое родство древних скульпторов, изваявших эти бюсты.
Горя нетерпением узнать, где снята фотография, я развернул приложенное к ней письмо. Оно и впрямь было отправлено с Шри-Ланки, но снимок сделан на одном из атоллов Мальдивского архипелага.
Какие уж тут связи! Мальдивские острова находятся по ту сторону планеты, от Пасхи их отделяет половина окружности земного шара.
Вспомнив, как мы на "Тигрисе" обсуждали, не пойти ли нам от устья Инда через океан на юг, к Мальдивским островам, я снял с полки глобус и отыскал Мальдивы. Ну да, как я и думал. Остров Пасхи и Мальдивский архипелаг - антиподы. Их разделяют 180 градусов долготы, как раз половина земной окружности. Зато от Мальдивов до долины Инда ближе, чем от Пасхи до Перу. Древние ваятели могли принести на Мальдивы обычай удлинять мочки ушей из континентальной Азии, где он существовал в приморье со времен Индской цивилизации. Пасхальцы заимствовали его из Перу, там этот обычай был распространен среди инков.
Никакой связи. Уложу-ка я лучше чемодан: завтра мне лететь через Америку в Японию.
Однако мысль о длинноухой статуе не давала покоя. Я снова взял фотографию и внимательно перечитал письмо. Оно было подписано незнакомым мне человеком: Бьёрн Руар Бюэ, директор Международного фонда "Уорлдвью", с главным правлением в Коломбо, столице Шри-Ланки. Когда я учился в школе, Шри-Ланка именовалась Цейлоном. Фонд "Уорлдвью" был мне известен: я сам записался в его члены, поскольку деятельность фонда направлена на лучшее взаимопонимание между экономически развитыми и развивающимися странами. "Уорлдвью" обучал студентов из так называемого третьего мира съемке видеофильмов для показа в индустриальных странах. У обеих сторон есть чем поделиться друг с другом. Некогда связи при помощи древних судов способствовали развитию первых цивилизаций. Мы и теперь можем многому поучиться у простых общин, пока не вытеснили их совсем.
Из письма следовало, что Бьёрн Бюэ только что побывал на Мальдивах, чтобы учредить там местный филиал своего фонда. Снимок ему показал один чиновник, когда увидел, что я значусь в списке членов "Уорлдвью". Мальдивцы внимательно следили за плаванием "Тигриса", надеясь, что камышовая ладья придет на их архипелаг. Недавно житель одного маленького атолла обнаружил это каменное изваяние, и упомянутый выше чиновник подумал, что не мешает послать мне фотографию может быть, она склонит меня приехать и поискать ответ на загадку, которая кроется за этим свидетельством древнего мореплавания.
Я вернулся к снимку. Похоже на изображение Будды. У Будды как раз были такие удлиненные мочки. Именно он и его последователи широко распространили этот обычай в странах Азии.
Будда родился в VI веке до н. э. Но не он положил начало упомянутому обычаю. В некоторых областях Индии задолго до его рождения у знати было заведено растягивать мочки ушей. Будда-эпитет действительно жившего человека, индийского принца Сиддхартхи Гаутамы. Он принадлежал к аристократическому роду, в котором свято блюли давнюю традицию продырявливать мочки и удлинять их тяжелыми затычками. И традиция эта старше самой индийской аристократии: множество больших затычек вроде тех, какими пользовались знатные инки и "длинноухие" острова Пасхи, недавно раскопано в Лотхале - портовом городе древней цивилизации долины Инда.
 Вместе с Бьёрном Бюэ автор тотчас отправился на Мальдивы, чтобы изучить статую, однако она уже была разбита на куски. Уцелела только г олова-изображение Будды
Вместе с Бьёрном Бюэ автор тотчас отправился на Мальдивы, чтобы изучить статую, однако она уже была разбита на куски. Уцелела только г олова-изображение Будды
Считать ли чистым совпадением, что далекие острова в океане, вроде Мальдивов и Пасхи, были открыты и заселены мореплавателями, чьи боги и представители знати украшали мочки ушей широкими дисками? Может быть, это и впрямь совпадение. А может быть, и нет, ведь речь идет о мигрирующих группах весьма искусных мореходов, о чем свидетельствуют их океанские плавания.
Во всяком случае, независимо от того, кого изображала статуя на снимке Будду или кого-нибудь из его длинноухих предшественников, - было ясно, что этот бюст изваян до того, как с утверждением ислама на Мальдивах был введен строжайший запрет на любые изображения человека. К тому же на фотографии статуя почти до плеч уходит в грунт - остается только гадать, что еще могут показать раскопки?.. Я продолжал восстанавливать в памяти ход событий. Минула всего неделя, как я впервые прибыл на Мальдивы. И каких-нибудь пять недель с тех пор, как получил загадочный снимок. В тот момент я собирался в дорогу, на руках у меня был авиабилет до Японии. Где уж тут заниматься подготовкой к визиту на Мальдивы. Я попросил одного из своих друзей ответить за меня директору "Уорлдвью". Сообщить, что я готов сразу после конгресса в Японии лететь на Мальдивы через Бангкок, если гам меня встретят и объяснят, как действовать дальше.
 Островитяне нашли в земле две бронзовые фигурки, свидетельствующие, что до прихода на Мальдивы мусульман в 1153 году сюда прибывали и другие мореплаватели. Статуэтка Будды (справа) говорит о том, что среди них были буддисты, а эродированная фигурка индуистского божества позволяет предположить, что буддистов опередили индуисты
Островитяне нашли в земле две бронзовые фигурки, свидетельствующие, что до прихода на Мальдивы мусульман в 1153 году сюда прибывали и другие мореплаватели. Статуэтка Будды (справа) говорит о том, что среди них были буддисты, а эродированная фигурка индуистского божества позволяет предположить, что буддистов опередили индуисты
Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя очень уверенно, когда, прилетев наконец в Бангкок, прошел через таможню и паспортный контроль. Все это время я не получал больше никаких известий с Мальдивов. Однако в зале аэропорта я увидел кинооператора, с которым относительно недавно встречался в Осло. Пожимая мне руку, Найл Холлэндер, коротыш с пышной бородой и большими очками, заверил меня, что с поездкой на Мальдивы все улажено. Он сам направлялся туда, чтобы отснять характерные для Мальдивов лодки дхони. Высокий изогнутый нос этих лодок заканчивался подобием веера, как у папирусных ладей Древнего Египта. Вообще Найл задумал снять в Азии документальный фильм о последних в мире людях, чья жизнь всецело связана с парусными судами, и теперь он вызвался сопровождать меня на Мальдивы. На другой день мы вместе вылетели в Шри-Ланку.
В столице Шри-Ланки, Коломбо, нас встретил другой бородач. С ним я не был знаком. Высокий, широкоплечий, голубоглазый, он провел нас через все аэропортовские препоны, сочетая нахрап викинга с кроткой улыбкой миссионера. Норвежец Бьёрн Руар Бюэ явно чувствовал себя как дома в тропических широтах и сумбуре аэропорта. Прибыв в Шри-Ланку из Норвегии как представитель протестантской Миссии, он благодаря знанию местного языка и обычаев в конце концов перешел в "Уорлдвью" и возглавил управление фонда. В число его обязанностей входило руководство всем, что касалось киносъемок.
Бьёрн весело рассмеялся, когда я поблагодарил его за фотографию, которая заманила меня в этот уголок земного шара. Из аэропорта через шумный тропический город Коломбо он повез меня к себе домой. Найл взял курс на маленькую гостиницу, где ему предстояло соединиться с двумя другими участниками киноэкспедиции на Мальдивы.
Дома у Бьёрна и Греты Бюэ я услышал первые лекции о Мальдивах. Но сперва мы совершили вылазку в город за картой. В невзрачном магазинчике, поместившемся в старой развалюхе, мы нашли последнюю во всем Коломбо навигационную карту Мальдивов и, торжествуя, вернулись с этим сокровищем в бунгало Бьёрна, где уже собралась куча желающих познакомиться со мной. Работа в "Уорлдвью" обеспечила Бьёрна Бюэ обширнейшими знакомствами в местных кругах. Представляя мне одного из гостей, Бьёрн пояснил, что он располагает важной информацией. Звали гостя Роланд Сильва; высокий джентльмен с аристократической внешностью, он возглавлял на Шри-Ланке археологическую службу, побывал и на Мальдивах. В прошлом архитектор, Сильва со временем увлекся археологией и теперь руководил программой ЮНЕСКО по раскопкам и реставрации трех наиболее важных исторических объектов Шри-Ланки - огромных буддийских храмов в так называемом археологическом треугольнике.
Я рассказал, что собираюсь выкопать каменное изваяние на Мальдивах. Услышанное в ответ потрясло меня.
Боюсь, эта статуя уже выкопана и разбита, - сказал Роланд Сильва. - Жители Мальдивов - фанатичные мусульмане, они не терпят ничего, что запрещено Кораном. Не признают собственной истории своего народа до введения ислама.
Я узнал от него, что шри-ланкийские археологи давно мечтают провести раскопки на Мальдивах, но кто же даст им, буддистам, разрешение. Мальдивские власти решат, что их интересуют буддийские памятники. О мальдивцах как о народе Роланд Сильва мог сказать только хорошее, но во всем, что касается религии, они упрямы и несговорчивы.
Я раскрыл купленную нами карту Мальдивов. Сильва согласился, что архипелаг лежи г как раз на пути мореплавателей, желавших обогнуть южную оконечность Азии. Пролив шириной 40 миль, отделяющий Индию от Цейлона, то бишь Шри-Ланки, опасен из-за обилия рифов и отмелей. Огибая Индийский субконтинент, парусные суда должны были спускаться на юг достаточно далеко, чтобы миновать также Шри-Ланку, а тогда им неизбежно следовало искать проход в длинной цепочке Мальдивских островов. На обычной карте цепочка эта выглядит как россыпь безобидных зернышек; подробная навигационная карта рисует совсем другую картину. Моим глазам предстала весьма коварная преграда. Никакой адмирал не смог бы выбрать лучшей позиции для минного поля, чтобы перекрыть морские пути южнее этой оконечности Азии. На 600 миль с севера на юг из пучин Индийского океана вздымается вверх острый горный хребет. На поверхности моря он увенчан коралловыми рифами, песчаными отмелями и двумя рядами атоллов. Этот двойной барьер сулит большие неприятности мореплавателям. Острова так незначительно выступают над водой, что, не будь кокосовых пальм, они оставались бы невидимыми до той минуты, когда судно окажется во власти прибоя. И только в южной оконечности длинной коралловой баррикады открываются два пролива, допускающие безопасное сообщение между западным и восточным побережьем полуострова Индостан.
Чем больше смотрел я на эту карту, тем сильнее манили меня острова, занимающие столь важное положение. Независимо от того, уцелела статуя или нет, хотелось своими глазами увидеть, что на них скрывается. Понимая это, Роланд Сильва дал мне почитать очень ценную давнюю публикацию о Мальдивах. И так как другого экземпляра в Коломбо не оказалось, он разрешил мне снять фотокопию. На Мальдивах, подчеркнул он, я вряд ли найду этот материал.
Составил публикацию бывший британский комиссар на Цейлоне Г. С. П. Белл. Первый раз он попал на Мальдивы в 1879 году в результате кораблекрушения. Из предисловия явствует, что Белл затем дважды побывал на архипелаге, выполняя поручение цейлонского правительства "исследовать существование в прошлом буддизма на этих островах" (Bell (1940)). При таком задании ему приходилось действовать чрезвычайно осторожно, чтобы не задеть религиозные чувства мусульман. Белл раскопал несколько курганов, которые определил как остатки разрушенных дагаб
(Дагаба - мемориальное буддийское сооружение (в Шри-Ланке), подобное индийской ступе.- Прим.ред.) или ступ
(Ступа (санскр., буквально куча земли, камней) - буддийское символическое и мемориальное сооружение, хранилище реликвий. С первых веков до н. э. известны полусферические, позже башнеобразные ступы.- Прим. ред.), напоминающих буддийские храмы Цейлона.
Словом, на Мальдивах, несомненно, было что искать. Понятно, методы раскопок Белла оставляли желать лучшего. За пределами Шри-Ланки мало кто читал его отчеты, и почин не был подхвачен профессиональными археологами. Тем не менее записи услышанного от островитян и собственные наблюдения Белла могли стать великим подспорьем для всякого, кто, подобно нам, надеялся организовать исследования на Мальдивах.
И еще один интересный труд привлек мое внимание - только что вышедшая из печати книга Кларенса Мэлони "Народ Мальдивских островов". Правда, в ней речь шла не о прошлом архипелага, а о современных мальдивцах. Но доктор Мэлони, сотрудник Пенсильванского университета, был профессиональный антрополог, специалист по народам Южной Азии. Это позволило ему высказать примечательные суждения о происхождении мальдивского языка дивехи. В некоторых словах дивехи он усматривает родство с санскритом и иными древними языками Северной Индии; другие связывает с языками Южной Индии и Шри-Ланки.
Хотя Мэлони, естественно, не мог знать об открытии длинноухого изваяния, его тем не менее заинтриговало большое разнообразие физического типа людей, живущих бок о бок на океанских островах, а также комплексное происхождение их языка. Наблюдения над современными мальдивцами навели его на такое заключение: "...следует быть готовым к тому, что история мальдивской культуры окажется более сложной, чем принято думать". Мэлони допускал, что в доисторические времена на эти далекие острова могли прибыть представители разных народов.
Сказано яснее ясного. И если можно сделать такой вывод, даже не копнув землю, уж, наверно, есть смысл провести на Мальдивах археологические раскопки. Правда, Мэлони смотрел на это менее оптимистически, чем Белл:
"Археологические исследования древней истории этих островов не производились, да это вообще затруднительно, учитывая состав грунта - коралловый песок и высокий уровень грунтовых вод".
И, похвально отзываясь о современных мальдивцах, он все же делал оговорки: "Полевые антропологические исследования на Мальдивах сопряжены с у томительными переездами, а также с трудностями в получении доступа на многочисленные мелкие островки, чье население по традиции недоброжелательно относится к иноземцам, и в налаживании контакта с чрезвычайно консервативным обществом, приверженным строгим исламским идеалам" (Maloney (1980, p. х, 48)) .
Эти слова, как и новость, которую сообщил мне Роланд Сильва, не очень-то обнадеживали. Но теперь ничто не могло меня остановить. И вообще, если бы мальдивцы не желали, чтобы я приехал производить раскопки, почему же они попросили Бьёрна переслать мне фотографию длинноухого изваяния?
Три дня спустя мы увидели Мальдивы с воздуха, и точки на карте, как говорится, ожили. Из иллюминатора они смотрелись, точно разложенные на синем бархате нефритовые ожерелья и изумрудные броши. Безбрежный Индийский океан под нами отливал особой синью, присущей морской пучине, когда она отражает безоблачное тропическое небо. Солнце стояло у нас прямо над головой, и острова лучились яркой зеленью сплошного полога пальмовых крон. Каждый островок был драгоценным камнем в оправе из золотистого пляжного песка, и широкое кольцо бутылочно-зеленой воды обрамляло цепочку коралловых рифов, исполинским грибом вздымающуюся из бездонной синевы. Уже теперь одно было совершенно очевидно: Мальдивский архипелаг - подлинное украшение лика нашей планеты.
Рокочущий воздушный лайнер был битком набит организованными группами бледнолицых европейцев, которые толкались у иллюминаторов, чтобы хоть одним глазком взглянуть на несравненную картину великолепия природы. Да и я уже не был одинок в своем путешествии. Кроме Найла и его товарищей-кинооператоров, со мной летели Бьёрн и два шри-ланкийских студента, приглашенных им в расчете на то, что они найдут сюжеты для учебных съемок.
Вот скользнул назад под нами первый остров; приближаясь, вырос второй. Показалась узкая посадочная полоса в обрамлении морской воды. Рядом, на краю той же тихой лагуны, весь в зеленых садах - остров Мале с одноименным городом. Легкий толчок возвестил, что мы приземлились в Мальдивской Республике, древней обители народа неизвестного происхождения, а в наши дни - развивающейся стране с населением около 160 тысяч правоверных мусульман.
Мы явились гостями на земли древнейшей цивилизации, со своей собственной письменностью. Ныне эти острова составляют территорию неприсоединившегося государства с демократическим правительством, которое приобщает мальдивцев к реальностям реактивного века. Пожалуй, это единственная в мире страна с таким обилием разрозненных клочков земли, что подсчеты никогда не сходятся и до сих пор нет единого мнения, сколько же в архипелаге островов. На английской навигационной карте показано около 1100; недавний подсчет, проведенный властями, дал цифру 1196; туристский путеводитель утверждает, что их 1983. Да и как тут угадаешь, если какие-то островки возникают на месте подводных рифов, а другие тем временем исчезают, разрушенные океанскими валами. Самые высокие поднимаются на неполных два метра над уровнем моря, их свободно захлестывали бы волны, не будь образуемых рифами естественных барьеров. Постоянное население есть лишь на 202 островах; еще кое-где сохранились следы прежнего обитания. И на одном из несметного множества клочков суши была найдена статуя, ради которой я прилетел на Мальдивы.
Никогда еще не доводилось мне путешествовать в обществе такого количества кинооператоров. Тут и Найл в сопровождении Харальда из ФРГ и Джона из Канады, тут и Бьёрн со своими шри-ланкийскими подопечными Палитхой и Салией, а в аэропорту нас встречал бывший ученик Бьёрна, мальдивец Абдул, - он взялся помочь нам пройти через таможню. Абдул работал на мальдивском телевидении, передачи которого можно смотреть только в Мале. Правда, в столице живет около трети всего населения республики, и теснота здесь такая, что приходится отвоевывать новые площади у океана, сваливая в него твердые отбросы.
Катер быстро доставил нашу восьмерку из аэропорта в столицу, где отряд Найла сразу затерялся в скопище снующих навстречу друг другу дхони. Тех самых суденышек, которые интересовали Найла. Вдоль берега бок о бок выстроились полчища дхони, многие с мачтами и парусами и все-с знаменитым, изогнутым кверху носом, так что их можно было принять за деревянные копии изящных папирусных ладей фараонов.
Туристы исчезли. Прямо из аэропорта быстроходные катера и дхони с кабинами увезли их на выделенные для иностранных гостей островки. Днем туристы могут приезжать в Мале для посещения магазинов, но после 22 часов столица для них закрыта. Еще в самолете каждый пассажир получил памятку с перечнем, из коего следовало, что в Мальдивскую Республику запрещено ввозить собак, спиртное и фото! рафии обнаженных красоток. Но на отведенных иностранцам островах запреты ислама на туристов не распространялись.
Абдул сообщил, что для нас забронированы номера в правительственной гостинице "Сосунге" в Мале. А так как номеров в этой гостинице совсем немного, фактически она вся была в нашем распоряжении. Отправив багаж вперед на такси, Абдул повел меня и Бьёрна вдоль оживленной набережной на встречу со своим начальником, Хасаном Манику, возглавляющим мальдивское телевидение и министерство информации; это по его просьбе Бьёрн прислал мне снимок длинноухой статуи.
В просторной приемной министра царила атмосфера, не сулившая нам ничего хорошего. Никто не встретил нас. Сидевшие за столами девушки либо что-то печатали на машинке, либо читали детективы. Сам шеф восседал за стеклянной стеной, отвечая на телефонные звонки и делая какие-то записи. Он был так занят, что ему было не до посетителей. Мы посылали ему записки и делали учтивые знаки, однако что-то явно не ладилось. В конце концов я сдался и пошел в гостиницу. Вскоре раздался телефонный звонок: директор мальдивского телевидения желает немедленно принять нас. На этот раз мы проникли за стеклянную стену, и
оказалось, что Хасан Маннику - очень славный человек. Невысокий на европейскую мерку, за) о плечистый, с круглым лицом, какое обычно (но не в этом случае) выдает любителя поесть. Официальная маска быстро исчезла с его лица, и оказалось, что под ней скрывается весьма приветливый, а главное, прекрасно осведомленный руководитель. Правда, когда дошло до сути, нас ожидал холодный душ. Статуя? Каменное изваяние с длинными ушами?
-Эта статуя уже выкопана,- твердо произнес Манику.- Она была в виде бюста.
-Выкопана? - повторил я.- Каким-нибудь археологом?
-Местными жителями,- последовал невозмутимый ответ. - Они разбили бюст на
мелкие куски.
Невероятно. Предположение Роланда Сильвы оправдалось.
- Религиозные фанатики. - Манику пожал плечами. Голову нам удалось спасти. Вы можете ее увидеть, она хранится в музее в парке Султана.
- Но мне хотелось бы посетить остров, где ее нашли,- огорченно заявил я. Может быть, там найдется еще что-нибудь, если покопать в том же месте.
- Нет, там вы больше ничего не найдете.
- Хорошо бы все-таки посмотреть. Я проделал такой длинный путь. Бесполезно. Манику снова надел строгую маску. На этом острове больше нечего смотреть. Все выкопано и разбито. Даже остатки какого-то древнего храма сровняли с землей. Ничего нет. Манику так упорно отвергал саму идею посетить этот остров на катере, что я понял: продолжать дискуссию бесполезно. Либо там и впрямь больше нечего смотреть, либо они по какой-то причине не хотят нас туда пускать. Посмотрю хоть голову в музее... Манику взял телефонную трубку и отдал соответствующее распоряжение.
Когда Мальдивы стали республикой, дворец султана был разрушен, однако в парке остался летний дом, в котором поместили национальный музей. По бокам крыльца лежали две-три ржавые пушки и старая немецкая торпеда; отряд престарелых пенсионеров исполнял обязанности сторожей, кассиров и билетеров. Манику распорядился, чтобы нам дали осмотреть и сфотографировать каменную голову, и четыре старца проковыляли вниз по ступенькам на парковый газон, неся на куске мешковины белую как мел тяжелую скульптуру. Напрашивалось сравнение с выглядывающим из гамака призраком... И хотя лица носильщиков выражали крайнее отвращение к языческому изделию, они бережно опустили огромную голову на газон.
Освещенный жаркими лучами солнца, призрак смотрел на нас широко открытыми глазами, слегка улыбаясь. При всей своей величине реалистичная, как посмертная маска, великолепно исполненная голова Будды. С туловищем и конечностями искусно вырезанное из белого островного известняка изваяние, наверно, было много выше человеческого роста. Лицо-то самое, выразительное, с кроткой улыбкой на сжатых губах, которое я узнал по фотографии. Глаза первоначально были покрашены, придавая живость приветливому лику. Волосы обозначены мелкими кудрями и собраны в узел на макушке. Спускавшиеся до плеч мочки ушей внизу повреждены, но все равно неестественно длинные. Похоже было, что кто-то давным-давно пытался замазать все лицо и глаза скульптуры тонким слоем известки, чтобы ослепить ее. Возможно, это сделали сами буддисты, когда с введением новой религии восемь веков назад их вынудили отречься от своего божества. После 531 года по мусульманскому календарю, или 1153 года нашего летосчисления, ни один мальдивец не стал бы приходить с жертвоприношением в виде цветов к этому улыбающемуся великану.
Но самый большой сюрприз ожидал нас за одной из дверей внутри маленького музейного здания. В двух комнатушках на первом этаже были выставлены троны, кровати и прочее имущество бывших султанов. В зале и на втором этаже - продолжение экспозиции : оружие, музыкальные инструменты, гобелены, великолепные образцы старинных мальдивских лакированных изделий. Все это перемежалось антиквариатом вроде слоновых бивней, оленьих рогов, разных вещиц, выброшенных волнами на берег. Был даже камень с изображением флага - сувенир в память о полете "Аполлона-14" на Луну.
Изрядно ошалев от пестрых впечатлений, мы спустились по крутой лестнице обратно и тут сделали подлинное открытие. Принеся обратно большую голову Будды, сторожа открыли дверь чулана, из полумрака которого на нас воззрилось диковинное собрание жутких демонов и причудливых фигур из дерева и камня. Возвращенная на свое место голова Будды казалась улыбающимся белым ангелом в окружении страшилищ с высунутым языком и оскаленными клыками, призванными подчеркнуть свирепое выражение злобных глаз. Добро и Зло воплощенные в камне разными ваятелями и лежащие бок о бок на каменном ложе султана.
 Гротескные лики демонов с большими дисками в растянутых ушных мочках, высунутым языком и кошачьими клыками украшали со всех сторон две стелы, найденные там, где, по преданию, совершалось жертвоприношение девственниц приплывавшему с моря джинну. Кроме ликов, на стелах вырезаны знаки забытой письменности
Гротескные лики демонов с большими дисками в растянутых ушных мочках, высунутым языком и кошачьими клыками украшали со всех сторон две стелы, найденные там, где, по преданию, совершалось жертвоприношение девственниц приплывавшему с моря джинну. Кроме ликов, на стелах вырезаны знаки забытой письменности.
Избавившись от тяжелой ноши, сторожа поспешили покинуть чулан. При этом они поглядывали на нас, как бы желая удостовериться: понимаем ли мы, что это не их боги, что они были бы рады вовсе от них избавиться. Кроме скульптур, в чулане лежали ржавые якорные цепи и другой металлолом, два разбитых камня с мусульманских могил, набор старых телефонных аппаратов и с десяток игрушечных моделей пушек. Глядя на это нагромождение всякой всячины, я обратил внимание на два существенных обстоятельства. Во-первых, соседствующие с улыбающимся Буддой демоны изваяны древними скульпторами, которые не были ни мусульманами, ни буддистами. Во-вторых, эти художники тоже изобразили длинноухих с широкими дисками в растянутых ушных мочках.
 Гротескные лики демонов с большими дисками в растянутых ушных мочках, высунутым языком и кошачьими клыками украшали со всех сторон две стелы, найденные там, где, по преданию, совершалось жертвоприношение девственниц приплывавшему с моря джинну. Кроме ликов, на стелах вырезаны знаки забытой письменности
Гротескные лики демонов с большими дисками в растянутых ушных мочках, высунутым языком и кошачьими клыками украшали со всех сторон две стелы, найденные там, где, по преданию, совершалось жертвоприношение девственниц приплывавшему с моря джинну. Кроме ликов, на стелах вырезаны знаки забытой письменности
В темном чулане невзрачного музея находилось неопровержимое свидетельство того, что на Мальдивах в ходе столетий сменились по меньшей мере три различные культуры, представленные ложем султана, Буддой и демонами. (Добавим и четвертую, если считать новейшую, представленную телефонами и пушками.) Помимо каменных изваяний, на ложе стояла довольно крупная, старинная деревянная скульптура, изображающая восточного вельможу в пышном одеянии. Однако она в счет не шла - эта вещица явно была найдена островитянами на берегу, куда, основательно потрепав, ее выбросили волны. А вот каменные головы, несомненно, были вытесаны на Мальдивах из местного известняка и служили объектами культа представителям двух разных немусульманских верований. Из чего следовало, что им больше восьмисот лет. В ряду скульптур лежала еще одна голова Будды, величиной всего с яблоко. Тоже со следами излома на шее. И кончик носа отбит. При всем том великолепное изделие искусного мастера. Та же спокойная улыбка, только губы чуть толще и отчетливее выражены завитки волос. И длинные, до плеч, петли мочек с большими отверстиями. Сам Будда не носил затычек или каких-либо украшений в мочках, они свободно свисали, удлиненные еще в детстве этого индийского принца. А вот у демонов с кошачьими клыками и высунутым языком в отверстия мочек были вставлены широкие диски. Два самых крупных изображения этого демонического типа были выполнены не объемно, а высечены на стелах, как в искусстве майя, с гротескными ликами на каждой грани, кое-где даже друг над другом или на верхушке камня. В самом деле, обнаженные клыки, высунутый язык и диски в мочках придавали этим рельефам такое сходство с майяскими стелами или доинкскими статуями Южной Америки, какого не увидишь в изделиях, найденных на других островах Индийского океана. Поверх некоторых демонов были вытесаны криволинейные знаки какой-то диковинной письменности. Нам с Бьёрном показалось, что они напоминают письмена мальдивских манускриптов, однако ни Абдул, ни музейные сторожа не брались их прочесть. А на одной стеле сохранились отчетливые следы красной краски.
Подле маленькой головы Будды лежала реалистично вырезанная каменная черепашка. На брюшной стороне панциря тщательно подогнанная крышка закрывала прямоугольную полость, очевидно, служившую хранилищем для каких-нибудь вотивных предметов.
Рядом с огромными каменными ликами сидели два лилипута - две бронзовые фигурки, достаточно маленькие, чтобы какой-нибудь вороватый любитель антиквариата, заглянув в этот закуток, мог незаметно сунуть их в карман.
Сторожа называли их "будду". Но на Мальдивах любое человеческое изображение называлось будду, будь то портрет Будды, дева Мария, персонаж из мультфильма или Черчилль.
Правда, одна из фигурок и впрямь изображала Будду. Типичный Будда, скрестив ноги, сидел в позе медитации, которую буддисты называют самадхи мудра и которая призвана олицетворять сострадание, любовь и красоту. Вторая фигурка, со следами эрозии, явно была намного старше. И изображала она не Будду - об этом говорили замысловатое одеяние и прическа, широкое ожерелье и множество браслетов на запястьях и лодыжках, а также цветочные узоры на плечах, груди и животе. Элегантная особа восседала то ли на подушке, то ли на пьедестале, поджав левую ногу и свесив правую. Индуистское божество по всей вероятности, милосердный творец и верховный владыка Шива. Два соперника в сфере религии - Шива и Будда - мирно сидели бок о бок на мусульманском ложе.
Скульптуры не были снабжены ярлыками, и сторожа посоветовали нам обратиться к Хасану Манику. Судя по всему, он один мог что-то знать об этих экспонатах, и только ему вообще было дело до них.
Манику подтвердил, что все каменные и бронзовые скульптуры найдены на Мальдивах. Но отдельно от большого Будды. Бронзовые фигурки давным-давно выкопали на одном из южных атоллов. Изображения демонов обнаружены недавно здесь, в Мале. Обратил я внимание на три плоские каменные маски, у двух из них - усы и длинные уши?
Да, конечно. Они находились на каменном ложе вместе с другими образцами.
Так вот, с легкой улыбкой объяснил Манику, одну из них нашли, когда рабочие прокладывали канализацию перед его собственным домом. Он вовремя ее увидел и спас от уничтожения.
-А две большие стелы? спросил я.
Их нашли во время строительства на крайней восточной оконечности острова Мале. Как раз там, где, по преданию, с моря являлся демон, который требовал, чтобы ему приводили юных девственниц.
Я вспомнил эту древнюю легенду, записанную, в частности, Беллом. Давным-давно каждый месяц остров посещал грозный джинн, или демон. Сойдя на берег восточного мыса Мале, где помещался языческий храм будкхана, он требовал дани в виде девственницы. На другой день островитяне находили жертву в храме мертвой. Эта напасть продолжалась, пока на Мальдивы не прибыл благочестивый бербер-мусульманин из Северной Африки. Решив положить конец безобразию, он вечером спрятался вместо девственницы в храме и всю ночь громко читал Коран. Это заклинание оказалось таким сильным, что джинн больше не возвращался. Согласно некоторым старинным мальдивским рукописям, именно после этого мальдивцы приняли мусульманскую веру.
Мне хотелось посмотреть место на восточном мысу, где легенда помещала языческий храм и где были найдены две самые большие стелы с демоническими ликами. Однако Манику холодно воспринял мою просьбу и решительно заявил, что там теперь нечего смотреть. Одни лишь новые каменные стены и склады современного центра технического обслуживания. Но если мы пожелаем, можем увидеть человеческий череп, найденный вместе со стелами. Когда копали землю под фундамент, в ней оказалось множество истлевших человеческих костей. От этой находки сохранили только череп, лежавший наверху самой большой стелы, на которой высечено пять длинноухих ликов.
Мы возвратились в музей, и сторожа извлекли из картонной коробки черен короткоголовой формы. Сразу вспомнилась древняя легенда, и нас пробрала дрожь: по всем признакам череп принадлежал молодой женщине.
Вот так прошел мой первый день на Мальдивах, и, возвратясь в гостиницу, я опустился в глубокое кресло, чтобы разобраться в обилии новых неожиданных впечатлений. От длинноухой статуи, ради которой я приехал, осталась только голова, но зато мы обнаружили полный чулан других длинноухих ликов, памятников еще более древней цивилизации, чьи представители, очевидно, достигли Мальдивов до буддистов и мусульман.
 Прежде всего мы обнаружили известняковые блоки с солярными символами, разбросанные вокруг разрушенного храма в джунглях
Прежде всего мы обнаружили известняковые блоки с солярными символами, разбросанные вокруг разрушенного храма в джунглях
Развернув на коленях навигационную карту, я решил посмотреть на заметно осложнившуюся мальдивскую загадку глазами мореплавателя. Пусть не говорят мне, что на этих островах больше нечего открывать, если мы в первый же день обнаружили столько интересного. Я никак не хотел уезжать, не поискав самолично памятники, которые могли быть не замечены другими.
Но где начинать поиск? По последним официальным данным, островов 1196, и между ними нет регулярного сообщения. Большую голову Будды доставили с острова Тодду, к западу от Мале; маленькую нашли на Куранду, далеко на севере; обе бронзовые фигурки - откуда-то с южных атоллов; каменные демоны откопаны на самом Мале. И если верить Манику, на всех этих островах больше нечего искать.
 О передовой культуре говорит и плита с символами, напоминающими иероглифы
О передовой культуре говорит и плита с символами, напоминающими иероглифы
Однако, узнав, что я хотел бы посетить какие-нибудь другие острова, Манику великодушно вручил мне ксерокопию рукописи, подготовленной им для печати
(Maniku (1983).). Будущая брошюра содержала алфавитный перечень всех островов архипелага с короткими справками о наличии мечетей и о судах, которые разбивались на местном рифе. В нескольких случаях Манику добавил название возвышающегося на острове холма. Холмы - Манику, естественно, знал это - были рукотворные; сами по себе сооруженные коралловыми полипами известняковые атоллы - плоские, как теннисный корт. В некоторых из холмов люди успели покопаться - где Белл, где какой-нибудь кладоискатель. Но большинство оставались нетронутыми грудами коралловых обломков. Вряд ли внутри них что-то кроется.
А вдруг?
С первого взгляда само обилие островов могло обескуражить всякого, кто задался бы вопросом, где начинать поиск. Карта была испещрена контурами и названиями островов и рифов. В перечне Манику названия были хоть расставлены по алфавиту. Я посмотрел на первую страницу: Аахураа, Аахураа, Аахураа, еще раз Аахураа. Четыре одноименных острова. Три из них образовались после шторма в 1955 году, четвертый разрушен эрозией. Другая страница. Шесть островов Вилигили и еще столько же Вилигили с добавкой суффикса. Нет уж, лучше вернуться к картам.
 На некоторых блоках было вырезано подобие стилизованного изображения черепа
На некоторых блоках было вырезано подобие стилизованного изображения черепа
На них с наименованиями дело обстояло не легче. У каждого атолла два, а то и больше названий, причем на разных картах разные. Да еще нынешние власти, чтобы внести хоть какую-то ясность, дали каждому атоллу свое имя. Эти новые, более короткие наименования звучат как знаки мальдивской письменности.
И только позиции островов читались однозначно.
- Искать надо здесь,- сказал я Бьёрну, ведя пальцем по линии экватора там, где она пересекала Мальдивский архипелаг.
Длинная гряда рифов и островов спускалась чуть ниже этой линии. И как раз на экваторе показан открытый в широтном направлении, свободный от рифов пролив с названием "проход Экваториальный". Я уже говорил об этом широком проливе - самом благоприятном пути для парусного судна, идущего в обход южной оконечности Азии. Кроме него, в Мальдивском барьере есть еще только один просвет, обеспечивающий свободное сообщение между западной и восточной частями Индийского океана,- так называемый пролив Полуторного градуса. Однако меня больше привлекал Экваториальный проход.
 Местами в кладке остались пазы после металлических скоб - признак развитой техники
Местами в кладке остались пазы после металлических скоб - признак развитой техники
- Зачем забираться так далеко на юг? - поинтересовался Бьёрн.
Я назвал две причины. Для древних мореходов, которые ориентировались по солнцу и звездам, не составляло трудности выйти на экватор и следовать вдоль него. А еще эти мореплаватели поклонялись солнцу. Первой религией всех древнейших цивилизаций, чьи кормчие выходили в Индийский океан, было солнцепоклонничество. Основатели первых династий в Месопотамии, Египте и в долине Инда называли солнце своим прародителем. Следы этого верования можно видеть в индусских королевских генеалогиях; даже в именах Будды отразилось указание на происхождение от солнца. По своим исследованиям в Тихом океане я знал также, что полинезийские кормчие связывали с солнцем своего прародителя, бога Кане; великие мастера астронавигации, они называли экватор "золотой дорогой Кане, бога Солнца". Другие солнцепоклонники, инки, отметили в Эквадоре путь своего небесного предка монументом на экваторе.
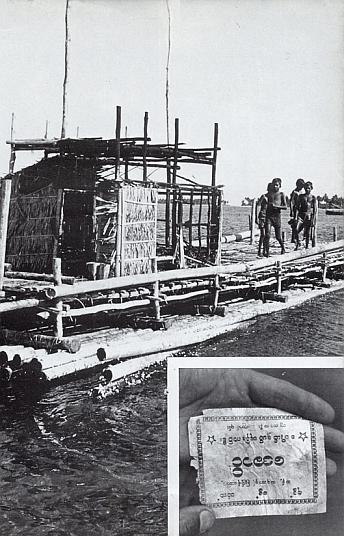 Волны прибили к рифу острова Вилигили большой бамбуковый плот без людей. Судя по конструкции и по найденной в каюте этикетке, плот вышел из Бирмы, от которой до Мальдивов 4000 километров
Волны прибили к рифу острова Вилигили большой бамбуковый плот без людей. Судя по конструкции и по найденной в каюте этикетке, плот вышел из Бирмы, от которой до Мальдивов 4000 километров
Все эти древние народы верили, что в обитель бога Солнца и священных королей-героев можно было проникнуть через подземный ход, которым оно, пройдя днем на запад, ночью возвращалось на восток. Так что вполне естественно предположить: если в далекую пору солнцепоклонничества кормчие доходили до Мальдивов, Экваториальный проход был для них вдвойне важен - и как удобный путь, и как место особого религиозного значения. И окажись на экваторе среди океана кусок земной тверди, сам бог велел древнейшим мореплавателям соорудить на нем храм Солнца.
Терпеливо выслушав мои рассуждения, Бьёрн раздумчиво заметил, что у Экваториального прохода есть аэродром, единственный на Мальдивах, помимо столичного. Во время второй мировой войны британские ВМС соорудили взлетно-посадочную полосу на острове Ган, который был важной военной базой. База прекратила свое существование в 1976 году, но аэродром по-прежнему используется небольшими мальдивскими самолетами для перевозки туристов по круговому маршруту из Мале. Совпадение?
Нисколько. История повторяется. Выбирая среди тысячи с лишним островов архипелага, британские стратеги остановились на атолле у Экваториального прохода, потому что здесь пролегает кратчайший путь для судов, огибающих Южную Азию. Дальше на север мальдивские рифы составляют лабиринт, не менее опасный, чем минное заграждение.
Найл зашел в мой номер вместе со своими двумя коллегами, чтобы узнать о наших планах. С самого утра, когда мы приземлились в Мале, они прилежно снимали дхони в порту.
-Мы уже завтра отправляемся в путь,- решительно заявил я.- Курсом на Экваториальный проход.
Три киношника просияли и заявили, что хотят лететь с нами, если мы не против. Им говорили, что на юге архипелага можно увидеть дхони с прямыми парусами, похожие на древнеегипетские. Здесь, на севере, давно перешли на современные, треугольные паруса.
По правде сказать, я сам удивился, узнав, что на другой день и впрямь есть рейс на остров Ган у Экваториального прохода. Шестнадцатиместный самолет, очень похожий на крылатый вагон, стоял наготове. Нам требовалось восемь мест - половина всего наличия. Без помощи Манику мы не попали бы на этот рейс; да и то пришлось оставить весь провиант и половину съемочной аппаратуры. К тому же наш отряд пополнился представителем местных властей Мухамедом Вахидом - ему было поручено следить, чтобы нам не чинили препятствий.
Шагая к самолету под огнем семи нацеленных на меня камер киношников, предвкушающих драматические открытия, я чувствовал себя этаким Чарлзом Линдбергом перед историческим перелетом через Атлантику. Кто знает, возможно, последующие кадры запечатлеют открытие некой забытой цивилизации на островах у Экваториального прохода. Начало явно смахивало на инсценировку. Но ведь это было только начало.
Глава II. Большой холм на Фуа-Мулаку
Кто такие редины?
Летя из Мале на юг над океаническим архипелагом, мы купались в солнечном сиянии, пронизывающем голубой простор над самолетом и под ним. Так и следовало быть, раз мы приближались к Золотой Дороге Солнечного Бога Кане. Однако над самым экватором мы с удивлением узрели внизу вереницу облаков
(Полоса облаков на экваторе связана с, явлением экваториальной дивергенции - выносом более холодных вод на поверхность океана вдоль всего экватора. По современным представлениям, экваториальное течение в восточной части Индийского океана, по крайней мере до Мальдивов,- постоянное и всегда направлено на запад.- Прим. ред.) , точно след от реактивного лайнера. И так как кругом в голубой океанской глади отражалось чистое голубое небо, можно было подумать, что тропическое солнце, пройдя на своем пути с востока на запад над самой водой, вскипятило часть поверхности. Узкая лента облаков, несомненно, возникла потому, что в этой части моря, над которым поднимались испарения, была другая температура. По нашим расчетам, где-то под нами проходило быстрое Экваториальное течение, меняя курс с восточного на западный вместе с сезонными ветрами - муссонами - над Индийским океаном. Возможно, эта могучая морская река вызывала вертикальные движения воды, наталкиваясь на острова, а может быть, Экваториальное течение гонит относительно холодный поток через просвет в Мальдивском барьере. Кстати, и пилот тут объявил, что мы пролетаем над Экваториальным проходом.
Вслед за этим наш самолетик описал круг над атоллом Адду, крайней южной точкой Мальдивского архипелага. Последний клочок суши... Сверху мы видели широкое кольцо коралловых рифов и отмелей, на которое были нанизаны плоские песчаные острова с зеленой шапкой кокосовых пальм, словно затеявших хоровод вокруг тихой лагуны. Один из островов назывался Ган, и здесь мы совершили мягкую посадку на бывшем британском аэродроме. Черный асфальт оказал нам горячий прием, и, спасаясь от полуденных залпов экваториального светила, мы в поисках тени поспешили к навесу, под которым укрылись от пламенного гнева бывшего солнечного божества служащие аэропорта.
Усилиями людей на Гане не осталось никаких природных убежищ. Лес был вырублен, и с ним исчез лиственный навес, созданный самим солнцем для зашиты и питания всякой тропической живности.
На этом некогда цветущем острове Белл в 1922 году обнаружил рукотворный холм высотой около 10 метров, "укрытый в густом кустарнике с частоколом деревьев"
(Bell (1940, p. 119).).
На гладкой поверхности острова вокруг взлетно-посадочной полосы не было видно никакого холма и никаких зарослей, и мы обратились за советом к наиболее пожилым из стоявших под навесом островитян. Где можно увидеть устубу - большой холм, который Белл посчитал развалинами буддийской ступы? Нам указали рукой на асфальтовую дорожку. Во время второй мировой войны, когда на атолле Адду размещались британские военные, некоторые островитяне научились объясняться по-английски. Устубу был вон там, в конце полосы, - сказал один из них, ухмыляясь. Когда англичане решили разместить аэродром на Гане, старый холм оказался нежелательным препятствием. Его снесли бульдозерами, и обломки погребли под асфальтом. На идеально ровной взлетно-посадочной полосе не было видно ни одного бугорка.
Чем не трагикомедия? Мальдивцы своими силами расправились с прекрасным изваянием Будды, памятником их далекого прошлого. А здесь английские бульдозеры помогли им стереть с лица земли огромное сооружение, в котором бывший британский верховный комиссар усмотрел руины доисторического храма.
Глядя, как я таращусь на уходящую к голубому горизонту пустую летную полосу, киношники рассмеялись. Если бы не раскаленный асфальт, они попросили бы меня выйти с ними на дорожку, чтобы снять, как я показываю на точку у моих ног, где находилось древнее сооружение. Право же, трагикомедия. Притом ставящая в неловкое положение как меня, прибывшего сюда в поисках доисторических памятников, так и тех, кто лишил последующие поколения возможности увидеть и, быть может, реконструировать примечательное древнее сооружение.
Кроме нашей восьмерки разочарованных чужеземцев, самолет доставил мальдивцев, которые сразу разошлись, встреченные родными и друзьями. Нам же оставалось только принять предложение расположиться в одном из бывших бараков ВВС. Мальдивцы превратили его в гостиницу для туристов, однако мы оказались единственными гостями. Свежая рыба под острым соусом в бывшей офицерской столовой вернула нам хорошее настроение. И поскольку гостиница была резервирована для иностранцев, нам подали пиво.
Захватив холодный напиток, мы сели в кресла на защищенной от солнца веранде нашего барака, чтобы поразмыслить. Я достал свою фотокопию публикации Белла -может быть, мы что-то упустили? Из текста следовало, что, когда Белл приезжал сюда, густые заросли не позволили досконально исследовать огромный холм. Длину окружности у основания он определил в 87 ярдов
(1 ярд равен 3 футам, или 0,9144 м.- Прим. ред.) . Изначально все сооружение было одето тесаными коралловыми блоками, однако со временем облицовка исчезла. Белл сообщал, что холм не один век снабжал мусульманских обитателей атолла Адду готовым строительным материалом для мечетей и домов вождей. Так что сам он застал только массивный круглый холм:
"От облицовки на этом оголенном реликте давно исчезнувшей на Мальдивах религии буквально не осталось камня на камне, по которым можно было бы судить о его первоначальном виде". И еще: "Всю добычу... после двух дней "обработки" холма составили две старинные бусины, вероятно выброшенные предшественниками нынешнего мусульманского населения, когда они грабили эту "анафемскую" святыню". Из других островов атолла Адду лишь на северной оконечности Хитаду, который напрашивается на сравнение с пальцем, указывающим на Экваториальный проход, Белл нашел древние руины. Там ему попались остатки коралловых стен старинного укрепления неевропейского происхождения. Тем не менее старики на Гане посоветовали нам посетить Хитаду - дескать, там есть кое-что, помимо старой крепости.
И вот мы снова в пути, едем в тесном кузове аэродромного грузовика на Хитаду, уповая на то, что вдали от аэропорта, на другом конце атолла удастся найти какой-нибудь уцелевший памятник. Англичане засыпали мелководные просветы между островами вдоль западной дуги Адду, и по проложенной ими дороге мы проехали мимо селений и кокосовых рощ до самого Хитаду. У конца дороги мы застали несколько островитян, которые смотрели, как с дхони на берег доставляют серебристых тунцов. Один из зрителей заверил нас, что знает, где находятся важные древние развалины.
Ободренные таким заявлением, мы углубились в густые заросли; впереди шел наш босоногий проводник, за ним следовал я, возведенный моими спутниками в ранг этакого Шерлока Холмса. Как-никак я прибыл на Мальдивы разгадывать тайну, а остальные по своему почину присоединились ко мне, рассчитывая снять то, что я обнаружу. Группа Найла была вооружена обычной съемочной и звукозаписывающей аппаратурой, подопечные Бьёрна - видеокамерами, и, пока одни снимали нас со спины, другие забегали вперед или забирались в кусты, чтобы снять, как мы приближаемся, проходим мимо и удаляемся туда, где (как мы надеялись) в чащобе нас ждут открытия.
Мне так никогда и не довелось увидеть отснятые метры пленки, запечатлевшие мое долгое шествие по стопам проводника, а заодно услышать, как мы пыхтели от жары и как хрустели под ногами сучья и коралловая крошка. Наконец мы вышли на какую-то прогалину, и проводник поднял руку: смотрите.
Смотрю: ничего не вижу.
- Ванна королевы! - гордо произнес проводник; тотчас перед лицом у меня и переводившего мне Абдула возникло по микрофону.
Я все еще ничего не видел. Островитянин шагнул вперед и показал на землю у своих ног. Маленькое углубление и лужица солоноватой воды, королеве разве что пальцы окунуть.
Видя, что я не в большом восторге, проводник объяснил:
-Раньше она была больше. Но стенки обрушились, когда люди забрали камни для своих домов.
Мы и тут опоздали.
Может он показать что-нибудь еще? Проводник ответил утвердительно. На острове есть очень древняя каменная башня, ее воздвигли предки островитян, когда впервые прибыли сюда.
Снова камеры нацелились на исчезающие в кустах две пары ног. Вскоре послышался рокот прибоя, который ворошил на берегу обломки коралла. Проводник сказал, что идти осталось совсем немного. И вот он снова показывает на землю у своих ног.
Под просушенной солнцем растительностью - короткий ряд тесаных коралловых плит. Озадаченный, я наклонился, чтобы потрогать камни, и камеры взяли на прицел мою руку.
- Какая же это старая постройка, - разочарованно молвил я.
- Не очень старая, - согласился проводник. - Один английский офицер построил
здесь себе дом.
- Но вы ведь обещали показать древнюю башню, которую воздвигли ваши предки!
-Так и есть! - Мое нетерпение явно удивило его.- Когда-то была древняя башня.
Вот, смотрите!
Он указал на источенную эрозией плиту, выступавшую из-под фундамента английского дома. В самом деле - блок, обтесанный много веков назад. Возможно, он и впрямь был частью древнего сооружения. Скажем, основания башни изрядной высоты. Вот только самой башни не было. Однако это ничуть не смущало нашего проводника.
Могу ли я сомневаться в его словах, если он от своего деда слышал, что именно здесь стояла башня, построенная предками?
Обратно мы шли молча, и камеры не стрекотали. В одном месте я нагнулся, чтобы поднять какой-то вмятый ногами в землю предмет терракотового цвета, но тут же отбросил его, словно обжегся, обнаружив, что это кусок пластика, а чья-то камера уже нацелилась на мою руку.
Асфальт, пластик, жалкая лужа и дом английского офицера - жидковатый итог первого дня наших исследований вне музейных стен. Я спрашивал себя, что думают мои товарищи, - наверно, так же разочарованы, как и я. Во всяком случае, по ним этого не было видно. Вернувшись на дорогу, мы тепло попрощались с нашим приветливым проводником и, смеясь, забрались в кузов грузовика.
Итак, мы ничего не нашли. Однако то, что еще успели застать до нас другие, позволяло сделать определенный вывод. В древности на атолле Адду было два высоких каменных сооружения. Может быть, домусульманские храмы, может быть, оборонительные посты во всяком случае, их поместили так, чтобы они были видны с моря задолго до того, как покажутся сами низкие острова. Одно сооружение, о котором помнили островитяне и руины которого, вероятно, видел Белл, стояло на мысу, подобном пальцу, указывающему на Экваториальный проход. Другое, описанное Беллом как груда коралловых обломков высотой около 10 метров, помешалось в противоположном конце атолла, где волны Индийского океана омывают южную оконечность Мальдивского архипелага. С этих двух точек можно было обнаружить приближающегося с моря врага и помочь друзьям взять правильный курс. Самые подходящие места для современных маяков, если бы понадобилось ставить их на пути мореплавателей, огибающих южную оконечность Азии. Башня на Хитаду могла служить ориентиром для тех, кто шел через Экваториальный проход; холм на Гане для предпочитающих более долгий путь южнее атолла Адду, в обход всего Мальдивского архипелага.
Вечером мы услышали от молодого мальдивца, который обслуживал нас в столовой, что в том же атолле есть еще руины на другом острове, куда нельзя добраться посуху. Он обещал завтра найти для нас лодку.
Окрыленные новой надеждой, мы поднялись рано утром, и за пятьдесят минут бы-проходная моторная дхони доставила нас через всю лагуну на остров Миду, лежащий так же далеко к северо-востоку от Гана, как Хитаду к северо-западу. Миду и Хитаду отделены друг от друга длинной подводной секцией кольцевого рифа у входа в лагуну.
Здешние жители знали про руины и сразу проводили нас на место. Мы увидели мощные бетонные бункеры и заросшие траншеи английские укрепления времен второй мировой войны, оборонявшие Экваториальный проход. Киношники даже не стали забирать с дхони свою аппаратуру. От их энтузиазма и чувства юмора мало что осталось; они не сразу взбодрились даже после того, как я воспрянул духом, почувствовав, что нам наконец-то немного повезло. Не такой уж эффектной была моя находка, но все же хоть какой-то ключ. От песчаного пляжа Миду в мелководную лагуну метров на 800 протянулся мол, к которому могли причаливать дхони с пассажирами и грузом. Что-то заставило меня присмотреться к бесформенным кускам коралла и белым известняковым блокам, образующим это сооружение. Мое внимание привлекли несколько камней, заметно отличающихся отделкой: гладко обтесанные, с желобками на одной грани, как будто они прежде составляли часть сложного архитектурного сооружения. Интересно... В начале мола у самого берега еще несколько тесаных глыб подпирали коралловую насыпь. Их уложили кое-как, не считаясь с рисунком орнамента.
-Эти камни взяты из какого-то храма,- объяснил я киношникам.
Они возразили, что такие изящные блоки не могли быть делом рук островитян, однако круглая войлочная шляпа, подаренная мне в тот день Бьёрном, явно заставила их опять вспомнить про Шерлока Холмса, и камеры операторов неотступно следили за моими руками, когда я указывал на беспорядочно торчащие из груды известняковых глыб торцы и грани блоков с декором. Не послужат ли эти необычные камни своего рода пальцевым отпечатком?
Абдул спросил островитян, откуда они взяты. Послали за самым старым жителем селения, которому перевалило за девяносто, и он провел нас к площадке между высокими деревьями, где, по его словам, некогда стояли две "древние мечети". Дескать, тесаные камни брали в развалинах этих строений.
Я попросил показать мне нынешнюю мечеть. Нас привели к скромной постройке из дикого камня, скрепленного раствором. Ни один мусульманин не стал бы разрушать две великолепные мечети, сложенные из орнаментированных плит, с карнизами и фризами, чтобы соорудить взамен такую невзрачную конструкцию, а оставшиеся блоки использовать для садовых оград и мола. И где бы английские военные взяли средства и время, чтобы в разгар войны строить бункеры и бараки из камня с изящным декором наподобие эллинских храмов. Словом, связывать заинтриговавшие меня плиты с заброшенными мечетями и бункерами было бы полной нелепостью. Оставался вопрос: почему правоверные мусульмане разорили красивое культовое строение и обошлись с ним так неуважительно? Наконец-то нам встретились первые следы какой-то высокоразвитой цивилизации, чьи представители обосновались на этом экваториальном атолле задолго до того, как Мальдивами завладели мусульмане.
Вождь селения Миду разрешил взять с мола один блок с декором и увезти его на Ган, чтобы оттуда переслать в музей на Мале.
На атолле Адду нам явно больше нечего было делать, зато были все основания поближе взглянуть на некоторые другие острова в Экваториальном проходе, не испытавшие на себе воздействия современной цивилизации. Особенно заманчиво выглядел лежащий в центре широкого пролива, лишенный кольцевого рифа одинокий остров Фуа - Мулаку.
Мы тщетно пытались найти дхони для этой вылазки, наконец Бьёрн и Абдул сумели договориться с владельцем и капитаном сравнительно крупного судна местной постройки. Пришлось согласиться не только оплатить каждый день фрахта, но и позволить капитану взять других пассажиров. По имени острова судно называлось "Миду"; его построили из вытесанных вручную досок, на которые пошли срубленные на атолле кокосовые пальмы. Высокий и широкий корпус придавал ему сходство с огромной ванной, накрытой палубой и покрашенной в зеленый цвет.
Когда рано утром следующего дня "Миду" пришел за нами на Ган, палуба уже была забита островитянами всех возрастов, так что судно напоминало Ноев ковчег с милых моему сердцу детских картинок. Правда, из животных на судне были только куры, зато потомки Ноя представлены по меньшей мере четырьмя поколениями. Команда и пассажиры благополучно сосуществовали, и юный араб усердно пек лепешки на очаге за штурвальным колесом. Наша восьмерка, зафрахтовавшая судно, втиснулась на борт и разместила свои камеры и прочее нехитрое имущество между узлами, сумками и грудами зеленых кокосовых орехов.
Хрупкие поручни, напоминающие садовую ограду, отделяли нас и наших попутчиков от океана, не давая свалиться за борт. Над палубой от кормы почти до самого носа был растянут брезент очень кстати, заключили мы, поскольку ночью над бывшей базой ВВС бушевала гроза с проливным дождем и в небе кругом все еще чернели завесы, чреватые шквалами.
Над головами скопища людей на палубе покачивались три деревянные койки, если так можно назвать подобие дверей, подвешенных на привязанных к углам веревках. Они были зарезервированы для самого капитана, Бьёрна и меня. Наши неунывающие товарищи улеглись на палубе в окружении смешливых мальдивских красавиц с детьми, с мужьями и без оных.
Пассажир первого класса Бьёрн, покачиваясь на койке, вытащил потрепанную фотокопию публикации Белла и принялся читать вслух раздел, посвященный острову, к которому мы направлялись. Белл указывал, что Фуа - Мулаку - одинокий атолл, расположенный в Экваториальном проходе почти на самой линии экватора. Пребывая там в "блаженном одиночестве", продолжал Белл, он по праву слыл у мальдивцев самым красивым и наиболее осчастливленным природой изо всех островов обширного архипелага.
"О полной изоляции Фуа - Мулаку говорит тот удивительный факт, что даже теперь, в XX столетии, он, по сути дела, остается неизвестным для европейцев. Факт почти невероятный, но тем не менее неоспоримый - единственные сведения об этом острове находим всего только в двух источниках: в середине XIV века о нем вскользь упоминает арабский путешественник Ибн Баттута; несколько больше написали два француза, братья Жан и Рауль Парментье, которые тоже ограничились коротким заходом на Фуа - Мулаку в первой половине XVI века..."
(Bell (1940, p. 122).).
Миновав остров Миду, мы вышли из лагуны в открытый Экваториальный проход. Сила течения здесь чрезвычайно велика, в справочнике записано, что скорость его достигает 5,5 узла. Пассажиров нашего высокого корыта стало клонить в сон от бортовой качки, а некоторые женщины и малыши вынуждены были расстаться с недавно съеденным завтраком. Непривычный к морю Бьёрн утратил интерес к Беллу, и дальше я уже читал сам.
Из текста следовало, что на Фуа - Мулаку нет ни гавани, ни лагуны, ни надежной якорной стоянки. Во всем Мальдивском архипелаге это единственный остров, не защищенный от волн барьерным рифом. Пляж из коралловой крошки, в которую нога погружается по щиколотку, круто уходит под воду навстречу подводному рифу. "В нескольких сотнях метров от рифа глубина никем не измерена, ибо дно обрывается в пучину. Подход к такому берегу в любое время неизбежно чреват риском; в иные сезоны он почти невозможен, во всяком случае, чрезвычайно опасен".
Мы поглядывали на окружающие нас черные тучи, однако капитан валкого корыта был совершенно невозмутим. По его команде юный кок разносил горячий чай и фунтики из зеленых листьев, содержащие бетель
(Смесь бетель, используемая как жвачка, возбуждающая нервную систему, помимо пряных листьев перца бетель и небольшого количества извести, содержит обычно кусочки семян арековой пальмы.- Прим. ред.)) для жевания в смеси с известью.
На полпути к месту назначения кокосовые пальмы оставшегося позади нас острова Миду - крайнего форпоста атолла Адду - скрылись за горизонтом. И в эту минуту я увидел впереди черное пятнышко, которое сперва принял за судно. На самом деле это были деревья, и росли они на каком-то холме, заметно возвышаясь над кронами показавшихся вскоре пальм. Интересно! Мы явно приближались к совсем другому, редко посещаемому миру, и похоже, нам предстояло увидеть не совсем еще разрушенное древнее сооружение. Белл провел здесь всего несколько часов - приехал утром, уехал в полдень. И с сожалением записал, что ему не суждено было проникнуть в тайны "этого восхитительного самоцвета Мальдивских морей, никем по-настоящему не изученного. Быть может, когда-нибудь повезет другому, более счастливому страннику, нам же остается сказать: прощай, красавец-остров!"
Пришло время убирать публикацию Белла в непромокаемую сумку. Перед нами совсем близко зеленела стена кокосовых пальм. Слышен рокот прибоя, видно, как разбиваются о берег белопенные валы. И никаких пристаней... Не без волнения смотрели мы как кучка людей, борясь с пенящимся прибоем на крутом коралловом пляже, спускает на воду маленькую дхони. Буйно подпрыгивая на волнах, суденышко подошло к "Миду", приняло конец и пришвартовалось у нашего борта, вслед за тем несколько смуглых островитян с лодки и с "Миду" прыгнули в воду. Они ныряли снова и снова, пока один из них не отыскал длинный трос, закрепленный на дне и позволяющий небольшому судну, вроде нашего, стоять на якоре при благоприятном ветре. Такой же трос был закреплен с другой стороны продолговатого острова, обеспечивая надежную стоянку, когда с переменой сезона менялось и направление ветра.
Группами по три-четыре человека мы спускались с нашим имуществом в пляшущую на волнах весельную лодку и на гребне прибоя шли к берегу, где протянутые руки островитян выдергивали нас на крутой откос, после чего лодка с двумя гребцами антилопьими прыжками скакала через гребни обратно за новой партией пассажиров.
Приключения начались в первый же день нашей высадки на Фуа - Мулаку. Наскоро осмотрев наиболее многообещающий объект, мы возвратились на берег, чтобы извлечь свои вещи из горы доставленного на берег багажа. Явился какой-то доброволец с ручной тележкой, и через чистенькое селение, где из-за каменных стен на нас глядели любопытные глаза, в сопровождении приветливых островитян мы проследовали почти до противоположного берега. Здесь нам отвели недавно построенный опрятный домик с
белоснежными стенами из коралловой крошки и известняка. До нас в нем жили только короткохвостые гекконы, которые сновали по стенам и потолку, ловя комаров и мошек. Мебели никакой не было, если не считать принесенные для нас раскладушки.
Фуа - Мулаку - один из крупнейших островов Мальдивского архипелага; в разбросанном среди кокосовых пальм и плантаций хлебного дерева селении живет около 5600 человек. Над каменными оградами вокруг маленьких домов выступали широкие листья бананов и деревья, увешанные апельсинами, лимонами, папайей, манго и другими тропическими плодами. Из-под кухонных навесов на открытом воздухе струился синий дымок. Большинство домов - беленые, сложенные из коралловых обломков и известняка, но можно было увидеть и побуревшие от солнца лачуги, сооруженные по старинке из сплетенных листьев кокосовой пальмы. Грунт, как и везде на Мальдивах, песчаный и ровный, как пол, однако, шагая через остров, мы с удивлением приметили поблескивающие лужицы и плантации влаголюбивого таро.
О нашем визите никто не был предупрежден, и нас поразила деталь, которая, как мы потом убедились, типична для Мальдивов: улицы были посыпаны свежим белым коралловым песком с пляжа. В любое время можно было видеть женщин, прилежно подметающих улицу веником. Они даже собирали куриный помет, блюдя безукоризненную чистоту для босых пешеходов.
Чужеземцы не селились на Фуа - Мулаку, но нам рассказали о двух гостях, которые побывали на острове уже после Белла. Его описание сохраняло свою силу: природа одарила Фуа - Мулаку таким плодородием и таким разнообразием плодов и корнеплодов, какого нет на всех других островах архипелага, вместе взятых. И люди здесь удивительно красивые, с гораздо большими вариациями физического типа, чем мы наблюдали на Мале. Несколько человек выделялись высоким ростом.
Был жаркий предвечерний час, когда мы разместились в отведенном нам доме. Харалд и Джон сбросили свои сумки на пол и разрешили нам расставить кровати по нашему усмотрению - им не терпелось искупаться в океане, пока солнце не зашло. Напрасно мы пытались отговорить их от этой затеи. Они твердили свое: дескать, знаем, что тут нет лагуны, знаем про течения и прибой, все эти опасности знакомы, не один месяц снимали жангады на буйных волнах Атлантики и сампаны в прибойной зоне у берегов Бангладеш. Ныряли с всевозможных примитивных суденышек, даже перевертывались вместе с ними. Я сознавал, что они не обязаны мне подчиняться - прилетели с Найлом на Мальдивы снимать парусные дхони, а тут их от главной задачи отвлекла надежда найти следы забытой цивилизации. Одолеваемые искушением освежиться в море, они схватили свои полотенца и поспешили на берег, дав слово не совершать безрассудных поступков.
Спустя несколько минут я тоже вышел из дома - посмотреть, куда они пошли. До берега было всего метров двести, но штормы нагромоздили высокий барьер из песка и коралловых обломков, так что от дома не было видно моря. С гребня барьера мне открылся вид на весь западный берег. Рядом два островитянина конопатили перевернутую килем вверх лодчонку. Наши приятели уже отплыли довольно далеко и весело махали мне руками. Они качались на волнах за пределами подводного рифа, и глядя на них, я не знал, как реагировать то ли сердиться на беспечных пловцов, то ли восхищаться их отвагой и искусством. Но затем верх взяло недоумение: почему-то они продолжали усиленно махать руками и после того, как я ответил им тем же.
Внезапно до меня дошло, что они машут не просто так, от избытка чувств, а зовут на помощь.
Было слишком очевидно, что мне не под силу заплыть за риф и отбуксировать человека к берегу через буруны. Меня расколошматит о скрытую под водой острую коралловую стену - и то же грозит нашим приятелям, если они приблизятся к рифу. Им оставалось лишь держаться на воде за пределами бурунов.
Я подбежал к островитянам, которые спокойно продолжали конопатить свою лодку, ведь никакие крики с моря не могли пробиться сквозь несмолкающий рокот прибоя. Схватив одного из них за руку, я развернул его лицом к рифу и показал на пловцов, которые продолжали отчаянно махать руками, борясь с океанским накатом. Островитянин посмотрел, вырвался из моей хватки и нагнулся, чтобы продолжать свое дело. Не зная языка, я не мог с ним объясниться, а потому снова взял его за руку и жестами дал понять, что эти люди рискуют утонуть, мы должны спустить лодку на воду и спасти их.
Явно рассердившись, островитянин что-то рявкнул и, сверкая глазами, опять принялся за работу. Его товарищ тоже прилежно трудился. В эту минуту подоспел наш мальдивский переводчик Абдул. Мгновенно оценив опасность, которой подверглись пловцы, он что-то крикнул лодочникам. Они отвечали ему, не поднимая головы.
- Они говорят, что у них нет весел, - перевел Абдул.
- Ну и что! яростно воскликнул я. - Скажи им, что на этой лодчонке мы можем грести руками!
К этому времени нас уже обступила кучка любопытствующих фуамулакцев. Мне казалось, что местные жители должны быть отменными пловцами. Однако отчаянные усилия наших незадачливых приятелей противостоять накату за рифом явно оставили их равнодушными. Абдул перевел мне только что услышанную новость: в прошлом месяце три островитянки утонули потому, что им достало глупости купаться в этом самом месте. Тем временем в открытом море показалась лодка с двумя рыболовами. Я облегченно вздохнул: они гребли очень медленно, но как будто курсом на двух пловцов, которые, увидев лодку, еще сильнее замахали руками. Мы тоже, бегая взад-вперед по берегу, махали руками, рубашками, пальмовыми листьями и кричали во все горло, хоть и понимали, что из-за прибоя услышать нас за рифом невозможно. Рыболовы явно заметили злополучных пловцов и направили лодку к ним. Но наша радость была преждевременной. В нескольких метрах от наших друзей лодка остановилась, и мы, не веря своим глазам, увидели, как вновь заработали весла и она стала медленно удаляться. Просвет между ней и пловцами увеличивался на глазах, и вот она уже ушла так далеко в море, что мы перестали рассчитывать на нее.
Между тем Абдулу сообщили, что кто-то побежал в селение за веслами. Внезапно я заметил в толпе бородача в очках - это был Найл. Весь любопытство, он подошел ко мне и справился, по какому случаю такой переполох. Я показал рукой и назвал имена его товарищей; в ту же секунду он ринулся к воде и нырнул под волну прежде, чем кто-либо мог его остановить. Вынырнул он уже без очков, ничего кругом не видя. Тут же новая волна опрокинула его и, отступая, потащила к рифу.
Когда показались люди с веслами, за жизнь отчаянно боролась уже вся троица киношников - один в бурунах на рифе, двое за рифом. Солнце быстро катилось вниз; еще немного и, как всегда на экваторе, нырнет в океан, не оставив времени для сумерек. Дальше все происходило стремительно и беспорядочно. Еще не подоспели люди с веслами, а другие уже выкатили из укрытия иод деревьями другую лодку, вошли с ней в воду и принялись грести руками. Добравшись до двух пловцов за рифом, они извлекли одного из них из воды. Найл сам возвратился на берег, барахтаясь на гребне могучей волны, - то ли потому, что был искусным пловцом, то ли потому, что Аллах сжалился над ним. Без очков он двигался наугад, но сильные руки подхватили его и втащили на пляж. С той же волной пришла лодка, которая подобрала Джона. По крутому пляжному склону он поднялся без посторонней помощи, мертвенно-бледное лицо говорило о том, какое потрясение он испытал. Сразу же вслед за тем на берег вынесли безжизненное по видимости тело Харалда. Но и он ожил, когда Бьёрн принялся его откачивать, и рот Харалда уподобился насосу, извергающему струи морской воды. Солнце скрылось, и тропический мрак окутал Фуа - Мулаку, когда Харалд и Джон наконец пришли в себя и, сидя с нами у керосиновой лампы, смогли рассказать, что с ними приключилось. Вместе с вождем селения явился Абдул; от него мы узнали, что островитяне возмущены поведением рыболовов, которые подошли вплотную к тонущим иностранцам лишь затем, чтобы тут же бросить их на произвол судьбы. Джон и Харалд видели лодку все время с той минуты, когда придонное течение неожиданно отнесло их за риф. Они кричали: "Помогите, помогите!" и лодка была уже совсем близко, но гребцы вдруг круто развернули ее. Один из них презрительно крикнул: "Помогите!"-передразнивая наших друзей, после чего оба навалились на весла и ушли.
- Почему? - спросили мы.
Мы не дождались ответа от островитян. Может быть, они и знали его, да держали про себя. Во всяком случае, они явно не одобряли такое враждебное поведение, пусть даже по отношению к немусульманам из чужой страны.
Всю ночь над островом бушевала гроза, и к пяти часам утра бригада Найла заключила, что сыта по горло островом Фуа - Мулаку. Мы тоже поднялись, чтобы проводить трех друзей. Мальдивское приключение перестало их привлекать, и они справились, нельзя ли воспользоваться зафрахтованным нами судном, чтобы вернуться на Ган, где они собирались ждать первого авиарейса до Мале. Мы с Бьёрном не возражали, лишь бы Найл не забыл сразу послать "Миду" обратно за нами. Со мной и Бьёрном оставались наш переводчик Абдул и два шри-ланкийских студента Бьёрна с видеокамерами.
Когда показалось солнце, я спустился на берег, где накануне едва не случилась трагедия, чтобы посмотреть, нельзя ли все-таки принять утреннюю ванну на мелководье, подальше от обрывистой грани рифа. Памятуя о вчерашнем, я не собирался рисковать: осторожно вошел по колено в теплую воду и лег, чувствуя себя последним трусом. Был отлив, и только легкая рябь морщила поверхность воды. Тем не менее я придвинулся к большому шаровидному кораллу, чтобы держаться за него, если через риф хлынет внезапная волна.
Жизнь была прекрасна. Новорожденное солнце проглядывало между стволами кокосовых пальм, окрасив небо на востоке в пурпурный цвет. Внезапно уровень воды поднялся от волны, которая катилась со стороны берега. Ощутив ее напор, я поспешил ухватиться за коралл обеими руками. Поток оторвал мои ноги от дна, и я напряг все силы - ведь отпусти я сейчас коралл, и меня вынесло бы в океан, как это было с нашими друзьями накануне.
Странное дело: коварный накат подкрался не с моря... Тут надо быть начеку. Уловив момент, когда напор потока ослаб, я живо выбрался на берег. Мне стало ясно, что никакая осторожность не гарантирует безопасного купания в этом месте, а может быть, вообще на этой стороне острова. Видимо, где-то поодаль на крутой берег обрушился могучий вал - и покатил вдоль пляжа, пока не нащупал выход над коралловым рифом как раз там, где мы нашли, казалось бы, подходящую для купания глубину.
Плечистый здоровяк - хозяин снятого нами дома - и его помощник, улыбчивый коротыш, принесли нам из селения пресные лепешки, бананы, чай и кокосовое молоко, и после завтрака мы отправились знакомиться с первым из увиденных нами на Мальдивах внушительным древним сооружением.
Судя по всему, огромный рукотворный холм был средоточием загадок Фуа - Мулаку. Белл успел лишь бегло осмотреть его, и здесь пока не работал ни один археолог. Возможно, холм был сродни тому, который возвышался на Гане до строительства аэродрома.
Впервые про холм на Фуа - Мулаку Белл услышал от одного островитянина, когда после кораблекрушения в 1879 году очутился на Мале. В его записках той поры значится, что, по словам местных жителей, на Фуа - Мулаку можно видеть обросшие лесом развалины, "которые напоминают колоколовидные дагабы, возвышающиеся на платформах на Цейлоне, и среди этих развалин есть каменное изображение Будды в позе стхана - мудра (стоящий)".
Тогда Белл пришел к такому заключению:
"Хотя наличные свидетельства слишком неопределенны и недостаточны, чтобы делать определенный вывод, отнюдь не исключено, что... буддийские миссионеры, которые по заветам Ашоки странствовали, чтобы, смешавшись с неверующими, заниматься их просвещением, принесли свое учение через моря даже на незначительные, малоизвестные Мальдивские острова"
(Bell (1940, p. 104).).
Сам Белл побывал на Фуа - Мулаку при повторном посещении Мальдивов в 1922 году и за короткие часы, проведенные на острове, успел только обмерить остатки древнего сооружения. Обросшее пальмами и другими деревьями, оно все еще возвышалось почти на восемь метров. Часть кладки была разобрана; тем не менее фрагменты первоначальной облицовки из тесаных коралловых блоков склонили его к выводу, что перед ним и впрямь были остатки буддийской дагабы или ступы.
Белл записал, что обитающие на острове мусульмане унесли большинство прямоугольных облицовочных плит, однако не смогли разрушить высокий холм, образованный компактным заполнителем. Стоящий Будда исчез, и про него никто не помнил. И Белл заключил, что услышанное им в 1879 году "тогда могло быть правдой; однако сорок с лишним лет спустя ни о каком буддийском изваянии не было известно, во всяком случае, ничего не говорилось вслух"
(Bell (1940, p. 126-127).).
И вот еще шестьдесят лет спустя мы, предвкушая интересные открытия, направляемся осматривать остатки хавитты, как называли загадочную конструкцию островитяне. В наше время на Фуа - Мулаку появился колесный транспорт: несколько ручных тележек и изрядное количество велосипедов. Плоский остров протянулся с севера на юг на шесть с половиной километров, его ширина около трех километров. Одолжив велосипеды, мы проехали по озаренным утренним солнцем улицам селения, затем по узкой тропе углубились в густой вечнозеленый лес. У северо-восточной оконечности острова тропа подошла вплотную к подножию крутого каменистого холма, густо поросшего кустарником и панданусами. Соскочив с велосипедов, мы спрятали их в тенистом подлеске и по канаве на склоне холма полезли на четвереньках вверх. На макушке нашим глазам предстало подобие кратера.
Курган был разграблен.
Во всяком случае, не Беллом во время его короткого визита. Широкая яма была почти свободна от растительности; ее заполняли грубые обломки кораллов разной величины, среди которых выделялись тщательно обтесанные известняковые блоки, явно составлявшие часть прежней облицовки.
С вершины холма не было видно домов, только зеленые заросли; жители острова оставили в неприкосновенности прилегающий к хавитте участок. От селения холм был отделен густым лесом; к берегу моря опускалась каменистая равнина с кокосовыми пальмами; дальше до самого горизонта простирались голубые воды Экваториального прохода. Один престарелый островитянин подтвердил мою догадку, что хавитта служила ему и другим здешним мореходам ориентиром для навигации. Особенно в былые времена, когда ее каменные стены были покрыты слоем белой известки.
Продираясь сквозь заросли, мы принялись обследовать подножие холма, сопровождаемые по пятам любопытными островитянами. Нам попалось несколько искусно обработанных блоков, предназначенных для пьедесталов, плинтусов, цоколей, фундаментов, колонн и других архитектурных элементов, которым, казалось, было место скорее в Древней Греции, чем на этом скромном островке. Но разве не видели мы нечто похожее в насыпи мола и в садовых оградах на Миду - ближайшем к Фуа - Мулаку острове у южной стороны Экваториального прохода?
 Видимые с моря большие рукотворные холмы остатки насыпей, составлявших заполнитель пирамидальных храмов, облицованных известняковыми блоками
Видимые с моря большие рукотворные холмы остатки насыпей, составлявших заполнитель пирамидальных храмов, облицованных известняковыми блоками
Продолжая затем двигаться по тропе, мы почти сразу наткнулись на еще одну заметную неровность - широкий низкий бугор, также усыпанный плинтусами, частями дверных перемычек, другими камнями со следами обработки. То были жалкие остатки куду хавитта, или малой хавитты, как просветил нас один из членов непрерывно растущего эскорта. Другой добавил, что в прошлом эта хавитта была намного больше, но люди унесли все камни. Мы попросили разрешения очистить бугор от покрывающих его широколиственных и вьющихся растений, и несколько взрослых и юных островитян весело взялись нам помогать.
В приливе оптимизма мы справились, нет ли на острове других хавитт. Нет, только эти две, гласил дружный ответ.
В эту минуту мы услышали громкий возглас обычно столь молчаливого Мухамеда Вахида, представителя мальдивской администрации. Стоя на возвышении, укрытом за плотной лиственной завесой, он кричал, что тут есть еще одна хавитта. Обступившие нас островитяне явно были удивлены и даже озадачены; по их словам, речь шла о совершенно новом открытии. Стремясь развеять наши сомнения, они тут же постановили в честь гордого открывателя назвать эти руины Вахид хавитта.
Нас окружали обширные непролазные заросли пандануса разной высоты, с острейшими шипами по краям длинных кожистых листьев. Без сомнения, в этих дебрях могли скрываться остатки и других сооружений, скорее всего, разрушенных до основания. Посреди густой чащи нам встретилась глубокая впадина, и лишь позднее мы установили, что некогда здесь был ритуальный бассейн, возможно, того же типа, каким, по словам жителей Хитаду, пользовалась тамошняя королева. Мы обнаружили многочисленные следы былого обитания, в том числе очень древние черепки.
На почти голом, усыпанном галькой участке за обращенным к морю скатом большой хавитты Бьёрн набрел на выложенные правильным кругом, искусно обтесанные и пригнанные друг к другу камни. Диаметр круга равнялся росту взрослого человека, и камни были обтесаны под небольшим углом, словно они служили первым ярусом сводчатой кладки наподобие эскимосских иглу.
Через нашего верного переводчика Абдула я наладил что-то вроде дружбы с приветливым пожилым островитянином по имени Ибрахим Сайд, который внимательно следил за тем, какое впечатление производят на меня замечательные образчики работы с камнем. Теперь я услышал от него, что в прошлом большая хавитта была очень красивой. Он видел ее до того, как ее окончательно разрушили. Вверх по обращенной к морю стене поднимались ступени. Там же довольно высоко были высечены строки неведомых письмен. Длина строк достигала почти двух с половиной метров, высота - сантиметров двадцать пять. Старик и дальше охотно просвещал меня. Найдя хорошо сохранившийся сегмент круглой каменной колонны диаметром около 45 сантиметров, я спросил его, что бы это могло быть. Он ответил, что это часть колонны, которая возвышалась по грудь человека.
- Для чего она служила?
- На нее клали бетель с известью.
- Разве люди приходили к хавитте жевать бетель? Почему не заниматься этим дома ?
- Он предназначался не для людей. Бетель приносили каменному будду. Зная, что на Мальдивах словом "будду" называют всякие статуи, я спросил, как выглядел этот будду.
Ибрахим Сайд сам не видел статую. Но мать говорила ему, что рост будду достигал примерно 170 сантиметров.. Рядом на земле стояла другая статуя, высотой меньше метра. Одна рука будду была согнута в локте. Мать Ибрахима сама видела это изваяние, пока его не разбили молодые парни. Но жертвоприношений бетеля она не наблюдала, поспешно добавил Ибрахим. Сам он и вовсе не видел ничего в этом роде. Только каменного слоника длиной 20-25 сантиметров, с хоботом и бивнями, которого кто-то подобрал поблизости от маленькой хавитты и принес в деревню; потом он потерялся. Я попросил Ибрахима нарисовать слоника по памяти. Он изобразил нечто похожее на спичку с четырьмя ногами, хвостом и опушенной головой. Заметив, что другие островитяне прислушиваются к нашему разговору, Ибрахим примолк.
Полуденное солнце нещадно жгло, все мы проголодались, и вскоре длинная череда велосипедистов и пешеходов потянулась обратно в селение.
Мы быстро уразумели, что островитяне избегают говорить на людях о предметах, которые привыкли считать языческими. С помощью наших друзей из Мале - Абдула и Вахида,- а также местного вождя мы отыскали старика, сопровождавшего Белла к хавитте, и вечером пригласили его в наш уединенный домик на краю селения. Семидесятичетырехлетний Маги Эдуруге Ибрахим Дидди мало что помнил о визите Белла, видел только, как тот проделывал на хавитте различные измерения и собирал древние изделия. Ибрахима Дидди удивило, что Белл не смог прочитать чужеродные письмена над ступенями, хотя знал и европейские и сингальские буквы, так как отец его был англичанин, а мать сингалка с Шри-Ланки.
Затем старик сказал, что Белл не видел изваяния.
- Какого изваяния?
- Каменного изваяния Махафоти Калеге.
- Это кто же такой?
- Изваяние изображало человека с рыбой. "Махафоти Калеге" означает "Владелец Рыбы". Так называли это изваяние старики. Они дали ему такое имя потому, что каменный человек держал в руках веревку с куском рыбы.
Мы никогда не слышали, чтобы Будда держал веревку с куском рыбы. Да и наш собеседник отнюдь не утверждал, что "Владелец Рыбы" - изображение Будды. Когда мы заметили, что буддисты, кроме Будды, никого не изображали, Ибрахим Дидди молча пожал плечами.
Зато он помнил, что после Белла с Мале приезжал кто-то еще; именно этот человек выкопал глубокую канаву на склоне хавитты. Тогда нашли четыре каменных ящика и каменную курильницу. В ящиках было по два отделения, в одном лежали угли и зола, в другом какие-то "штуки" вроде золотых лент. В ту пору около хавитты лежало много обломков каменных изваяний, в том числе кисти рук и другие фрагменты.
Следующим нашим гостем был Ахмед Али Дидди, примерно того же возраста, что Ибрахим Дидди. Он помнил, что у хавитты была коническая вершина, накрытая большими плитами. О письменах ничего не мог сказать, но про каменную статую слышал. Ее называли "Махафоти Калеге", она изображала человека с веревкой и куском рыбы. "Маха" означает "рыба", "фоти" - "кусок", "калеге" - "человек", но не просто человек, а господин. Так, Аллаха островитяне называли "Маикалеге" - "Большой Господин".
Вот и разберись тут! Жители острова были мусульманами, а мусульманам возбранялось создавать статуи, изображающие человека. Белл определил хавитту как буддийское сооружение, однако буддисты не стали бы приносить бетель человеку с рыбой на веревке.
Вместо того чтобы и дальше приглашать к себе стариков, заставляя непривычных к велосипеду людей шагать к нам через весь остров, мы начали сами навещать их по вечерам. Сидя дома у них на деревянных койках, мы слушали речи бывалых людей. Конечно, мы отлично сознавали, что никакие рассказы не заменят нам археологических свидетельств. Пусть даже рассказчик ничего не сочиняет намеренно, все равно есть достаточно оснований подвергать сомнению детали его версии. Все, что касается других религий, на этих островах - деликатнейшая тема. Да и память человеческая не всегда так уж надежна. Наша задача - извлечь из услышанного все крупицы информации, позволяющие предположить, что в прошлом на Фуа - Мулаку, кроме предков нынешних островитян, побывали другие люди.
Али Муссе Дидди исполнилось 75 лет. Он присутствовал при ограблении большой хавитты. Видел, как были найдены человеческие кости. На небольшой глубине раскопали известняковую плиту, под которой лежал не каменный ящик, а скелет с черепом. Кости унесли и захоронили рядом с мечетью. Мусса Дидди помнил также двухкамерные ящики, их вместе с бутом бросили обратно в хавитту, а содержимое увезли в Мале. Он сам видел Махафоти Калеге поблизости от малой хавитты. Изваяние стояло там во времена Белла, но он его не тронул. Статуя изображала обнаженного мужчину без бороды и волос, с обломанным пенисом и куском рыбы на веревке. Видел Мусса Дидди и слона. Это был точно слон, высотой около тридцати сантиметров.
Переходя из дома в дом, мы снова и снова слышали рассказ о Махафоти Калеге.
Абдулла Муфед даже поведал нам историю, объясняющую происхождение этой статуи. Как рассказывал его дед, в далеком прошлом какие-то мореплаватели, пересекая океан со стороны Аравии, сбились с курса и попали на этот остров. Через некоторое время мужчина по имени Амболакеу отправился ловить рыбу. Его жена осталась ждать на берегу. Только он приготовился передать ей свой улов, как неожиданно появившийся джинн бросил в них горсть кораллового песка, и оба - мужчина и женщина - обратились в камень. Абдулла сам видел эти изваяния до того, как их разбили. У обоих были очень большие головы с продолговатыми лицами. Руки и ноги короче, чем у обычных людей. Большие уши, маленькие глаза; ни волос, ни бороды. Похожи на японцев. У женщины лоб был меньше, чем у мужчины, но лицо тоже продолговатое. Мужчина держал в вытянутой вперед руке короткую веревку с круглым куском рыбы. Женщина-обнаженная, с маленькими сосками и ложбинкой в паху. Мужчина - тоже обнаженный, но пенис был обломан. До того как статуи уничтожили, они стояли на каменных столбах около малой хавитты. Женщину никак не называли, а мужчина получил имя Владелец Рыбы. Абдулла видел также каменного слона, он был величиной с кролика, с четырьмя ногами, бивнями и хоботом.
Конечно же, легенда о джинне, бросающем песок и превращающем рыбака и его жену в камни, была сочинена людьми, которые застали уже готовые изваяния. Не зная их происхождения и назначения, они придумали свое объяснение.
Менее успешно сложилась наша беседа с девяностолетним Абдулом Раджмалом. Почтенный старец говорил на местном диалекте, которого наш переводчик с Мале не понимал, так что пришлось прибегнуть к помощи молодых родственников Абдула. Очень скоро в сад старца набился народ, и хозяин, поначалу говоривший свободно, вдруг заявил, что ничего не помнит. Другие тоже ничего не помнили. Решив проверить их, я громко произнес магическое имя:
- Махафоти Калеге!
Реакция не заставила себя ждать. Стоявший рядом со мной молодой парень повторил это имя и добавил слово "хавитта", улыбаясь и показывая рукой в сторону северовосточного мыса. С разных сторон послышался робкий смех, но в это время из дома выбежал, размахивая палочкой, мужчина среднего возраста. Начертив круг на земле у моих ног, он твердо возвестил:
- Вот так выглядел Махафоти Калеге - круглый камень с дыркой, больше ничего! Обыкновенный каменный якорь, какими здесь пользовались в прошлом.
Я спросил, почему же круглый камень назвали "Господин Куска Рыбы". Ответ последовал тотчас, положив конец дискуссии:
- Кусок рыбы может быть любой формы.
Поблагодарив хозяев дома за прием и интересные сведения, мы оседлали велосипеды и покатили в темноте по широким, длинным улицам селения. Дома стояли далеко друг от друга, только и видно, что свет керосиновых ламп в некоторых окнах, устремленные к небу силуэты банановых листьев и над ними, в окружении звезд,-кривые стволы и дольчатые листья хлебных деревьев.
На другом конце селения нам больше повезло. Семидесятилетний Мухаммед Манику не боялся рассказывать. От него мы услышали, что в прошлом остров посещали рыбаки с Шри-Ланки, чтобы "выразить благодарность". Они были очень религиозны. Отец Мухаммеда видел сингальских рыбаков, которые приходили на Фуа - Мулаку, чтобы принести статуе жертву в виде сырой рыбы. У них были "хорошие отношения" со статуей. Сам Мухаммед участвовал в раскопках большой хавитты, но к уже слышанному нами мог лишь добавить, что приезжавший с Мале человек видел письмена на облицовке и усмотрел в них сходство с тамильскими. От Абдуллы Муфеда мы слышали, что они напоминали сингальские письмена; ему об этом сказали старики, которые плавали на Шри-Ланку. Они же говорили, что хавитта похожа на сингальские храмы и что сингалы иногда останавливались на близлежащих островах.
Когда уже поздно вечером мы вернулись в отведенный нам дом, пришел его хозяин - Кеннари Ибрахим Дидди, крепкий мужчина средних лет, бывший капитан. Одно время он жил на Мале в качестве официального представителя Фуа-Мулаку. Кеннари держался спокойно, с достоинством, как человек, повидавший мир. На наш вопрос, слыхал ли он о статуях на этом острове, Кеннари ответил, что знает человека, который закопал одну в землю.
- А не две? спросил Бьёрн.
- Это вы про женскую фигуру? - выпалил Кеннари.
И добавил, что когда-то фигур, очевидно, было много. При раскопках большой хавитты были найдены руки и другие фрагменты разных изваяний. Но раскопки велись только в поисках клада, поэтому остальные находки побросали обратно в яму и закопали. Если мы желаем знать больше, он готов провести нас к старому родственнику, который руководил рабочими на раскопках.
Семидесятитрехлетнего родственника Кеннари звали Хусаин Калефан. Он сообщил нам, что через много лет после Белла на остров прибыл некий Адам Насер Маник, заявивший, что прислан с Мале раскапывать хавитту. Хусаин помог ему нанять людей, и в толще холма были найдены каменные ящики с крышками. В ящиках было золото; его гость с Мале увез с собой. Еще глубже нашли другой каменный ящик, в котором лежала маленькая скульптура, высотой всего около тридцати сантиметров. Ее не увезли на Мале и не уничтожили. Она изображала не Махафоти Калеге с рыбой и на Будду не похожа: прямая обнаженная фигура, руки с длинными пальцами опущены вниз; глаза, нос и рот скорее как у обыкновенного человека, чем как у демона; ни длинных ушей, ни торчащих клыков. "Начальник" с Мале этой фигурой не заинтересовался. Вообще на Мале запрещалось показывать человеческие изображения; люди и за меньшие проступки могли угодить в кутузку, даже если просто рисовали человечка на песке.
Важные сведения! Выходило, что маленькая скульптура все еще лежит в каменном ящике под коралловой крошкой, которой засыпали выемку в хавитте, и ее легко найти, не повреждая древнее сооружение. Надо только копать там, где копали до нас, и достать каменный ящик.
Мы попросили Кеннари возглавить бригаду для вскрытия старого шурфа, но сперва сопровождавший нас представитель мальдивских властей Вахид должен был запросить разрешение в Мале. На каждом атолле был свой вождь, и он ежедневно связывался по радио со столицей. Вахид не один час провел у маленькой радиостанции в конторе вождя, чтобы передать наш запрос. В конце концов из Мале сообщили, что учрежден Национальный мусульманский комитет, который и должен будет решить -вскрывать или не вскрывать хавитту вновь. А до тех пор нам возбранялось трогать холм.
В ожидании ответа мы продолжали собирать информацию у местных жителей. Нам представили еще одного старика - Ибрахима Диди Кало Сехиге, видевшего каменные ящики, когда их извлекли из хавитты. Двухкамерные ящики были накрыты сводчатой крышкой, похожей на крышу дома. В одной камере лежало золото в бронзовом сосуде, в другой жаровня с углями и золой. Ибрахим подтвердил, что в закопанном обратно ящике была маленькая статуя.
Нас познакомили также со старой женщиной по имени Кадия Ибрахим Калифан, вдовой островитянина, который был на Фуа - Мулаку вождем, когда из хавитты достали золото. По словам Кадии, это сделал некий "начальник" из Мале. Все найденное им в хавитте хранилось в ее доме до его отъезда. Он показал ей две миски, полные мелких золотых изделий и янтаря, а также талисманы, предназначенные для колдовства. Но Кадия знала, что, кроме того, были найдены человеческие кости и череп. ,По ее словам, их захоронили около хавитты, а не у мечети.
Записывая на пленку местные песни и сказания, Бьёрн и его сингальские студенты побывали у пожилого островитянина по имени Ахмед Мусса, который исполнил для них песнопение, известное, как потом оказалось, и его молодым соплеменникам. Так мы впервые услышали про рединов. Думается, не присутствуй это слово в местном сказании, восхваляющем Фуа - Мулаку, никто из островитян не стал бы говорить о них. Один куплет касался большой хавитты:
Редин танеке хеди ихао
Хавиттаи дагебо сингхала мауморе ко.
Эта будде хутте до
баланг дама хури это.
С помощью знающих местный диалект Абдул перевел:
Это здесь редины когда-то создали
хавитту, очень старую, построенную сингалами.
Говорят, там стояла статуя;
не пойти ли нам посмотреть,
стоит ли она на месте...
Тонкий намек на то, что статуя, возможно, спрятана, был достаточно понятен, а вот упоминание двух разных создателей хавитты сперва меня озадачило. Белл определил здешнюю хавитту как бывшую буддийскую ступу древнейшего сингальского типа, какие ему приходилось видеть на Шри-Ланке. Таким образом, утверждение автора сказания, что хавитта построена сингалами, выглядело резонным. Но кто такие редины? И если хавитту воздвигли сингалы, то как же она могла быть создана рединами?
Лишь много позже до меня дошел скрытый смысл этого текста. А тогда, в наши первые дни и ночи среди необычной общины, где по пятам доверия шла секретность, я просто не успевал все переваривать и толком осмысливать. Молодой учитель, уроженец одного из северных атоллов, пришел к нам, чтобы сказать, что жители Фуа - Мулаку знают о древней истории и немусульманских верованиях немало такого, чем не станут делиться с иноземцами. Наверно, он был прав, и все же мои записные книжки продолжали пополняться новыми деталями о прошлом острова. Меня особенно занимали загадочные редины. Было очевидно, что речь идет о каком-то народе. Перечитывая богатую сведениями публикацию Белла, я обнаружил беглое упоминание рединов в описании холма, который показали автору на одном из островов атолла Хаддумати:
"С этим холмом не связано никаких преданий, если не считать, что его создание приписывают так называемым "рединам", предполагаемым древним строителям всех таких огромных сооружений".
Дальше Белл говорит об еще одном сооружении, на острове Миланду в северной части архипелага:
"Суеверный страх удерживает островитян от раскопок этого холма, который они называют Рединге Фут" (
Bell (1940, p. 105, 106).).
"Рединге Фуни" означает "Холм Рединов". Атоллы, на которых Белл услышал про рединов, находятся в противоположных концах длинной цепочки Мальдивов. И вот теперь мы узнали, что рединов считают также первоначальными создателями большого холма на Фуа - Мулаку.
Доискиваясь сведений о поре, к которой относили пребывание на острове легендарных рединов, мы с удивлением отметили распространенное среди местных жителей убеждение, что, когда редины сооружали хавитту, Фуа - Мулаку был атоллом с внутренней лагуной. В давние времена, утверждали островитяне, суда могли заходить в середину атолла и швартоваться или бросать якорь там, где теперь находится возделываемая земля. Из поколения в поколение передавалось, что некогда страшный шторм закупорил вход в лагуну коралловыми глыбами и песком, и постепенно на ее месте образовались плодородные поля с пресноводным озером в центре. Фуамулакцы так твердо верили в эту версию, что даже показали нам сплошные нагромождения глыб на южном берегу, где, по их словам, находился пролив.
Еще больше мы удивились, когда нас привели к красивому пресноводному озеру внутри острова шириной около 300 метров, от которого по каналам через трясину расходилась вода, орошающая плантации влаголюбивого таро. Озеро называлось Банда - Ра - Кали; ни до, ни после не доводилось мне видеть или хотя бы слышать про озера на коралловых островах. Зеркальная гладь отражала зеленое кольцо тропической листвы, бананов, кокосовых пальм. По преданию, сюда заходили редины, прежде чем закрылся ход для акул и ракообразных и коралловый сад на дне сменился темным плодородным гумусом,- вот и объяснение, почему во всем архипелаге только Фуа - Мулаку осчастливлен богатым разнообразием тропических цветов, плодов и овощей.
Считается, что где-то в сердце этого зеленого рая скрыты остатки древней пристани, но нам не довелось их увидеть.
Картина дивного озера стояла у нас перед глазами, когда мы слушали рассказ семидесятитрехлетнего Мухаммада Али Дидди о бывшей лагуне. Дед Мухаммада говорил ему, что Фуа - Мулаку очень, очень давно изменил свой облик, перестав быть атоллом.
- Это произошло до того, как мы стали мусульманами,- сказал Мухаммад.- Когда наш народ принял ислам, люди уже жили в центре острова.
Но в самом начале, продолжал он, когда люди только пришли сюда, внутри острова была лагуна, и, чтобы попасть к тем, кто обосновался на другом берегу, надо было обходить ее по кругу. В то время жил на Фуа - Мулаку рыбак по имени Амбола Key, или Амбола Кеола. Он пересек лагуну на лодке и в той части тогдашнего атолла, где стоит хавитта, встретил двух старцев с длиннейшими бородами, спускавшимися на грудь. Они были не мусульмане. Их белое одеяние, сделанное из листьев, прикрывало только половые органы. (Абдул сначала перевел "из банановых листьев", но тут же поправился и уточнил, что речь шла о листьях пандануса. У древних жителей острова было заведено вымачивать в воде узкие полосы из листьев пандануса, которые очищали и соединяли, отбивая деревянными колотушками, так что получалась своего рода материя, гладкая, как шелк.) Оба старца опирались на посохи и производили впечатление религиозных людей. Амбола Key как раз возвращался с рыбной ловли, и они приказали ему: "Дай рыбы!" Амбола дал им куски рыбы, нанизанные на веревку. Они повесили веревки на свои посохи, которые положили на плечо, и ушли. Когда деду Мухаммада поведали эту историю, он спросил:
- Кто были эти люди, которых встретил Амбола Key? Ему ответили:
- Это были люди хавитты.
Место, где причалил Амбола, называлось Идуга-Колетере; теперь там кругом сплошная суша.
Между описанным выше эпизодом и пропавшей статуей "Владельца Рыбы" явно угадывалась какая-то связь. Обратившись к своим записям, я обнаружил, что имя Амбола Key, встретившего двух старцев, совпадает с именем рыбака в легенде, которого джинн превратил в каменное изваяние, названное впоследствии Махафоти Калеге - "Владелец Рыбы".
Мухаммад не смог добавить ничего нового, когда мы упомянули статую.
- Она уничтожена, - сказал он. - Все статуи были уничтожены.
- А кто их создавал?
- Редины. Редины соорудили хавитту, и они же создали статуи. Ну, а кто такие эти редины?
Старик пожал плечами. Возможно, предположил он, они были сингалами; во всяком случае, их язык отличался от дивехи, на котором говорили мальдивцы. Редины первыми поселились на этих островах, затем пришли мальдивцы. У рединов была белая кожа; волосы - коричневые (в этом месте рассказа наш собеседник для наглядности коснулся рукой каштановых волос Бьёрна). У них были продолговатые лица, изогнутые носы с горбинкой и голубые глаза. Их отличал также высокий рост. Они создавали статуи и поклонялись им.
Мухаммад подтвердил, что внутри большой хавитты нашли какую-то другую статую, но ее разбили. "Владелец Рыбы" и женская статуя стояли около малой хавитты. О рединах он больше ничего не знал.
Мы снова пошли к Хусаину Калефану, руководившему бригадой на раскопках, и спросили его, что слышал он о рединах. Разговор происходил в доме Хусаина, у стола собралась вся семья, они лишь молча переглянулись, словно не поняли вопроса. Я подумал, что им неизвестно слово "редин", но, хотя взрослые явно опешили, один смышленый мальчуган, выйдя вдруг из-за моей спины, воскликнул: - Я знаю редина, он тут жил!
Родители смутились, и отец мальчугана поспешил отвлечь наше внимание от его слов, высказав догадку, что редины - название некоего мифического народа. Я спросил, как они выглядели. Никто не брался описать их, но хозяин дома предположил, что это были просто-напросто индусы. Поскольку мальчуган продолжал настаивать, что видел редина в этом доме, я осведомился у родителей, не гостил ли у них какой-нибудь индус. Они смущенно усмехнулись и ответили, что индусов не было, а гостил один иностранец, похожий на нас, по имени Майкл, редином же его прозвали потому, что у него были коричневые волосы и внешностью он напоминал рединов. Спасибо мальчугану за то, что его реплика вынудила отца сообщить нам эти сведения. Итак, в представлении островитян, у рединов были коричневые волосы и они походили на нас!
Из чего следовало, что странная древняя легенда, широко распространенная в других частях света, достигла и этих уединенных островов в Индийском океане. Светлокожие люди с коричневыми волосами часто упоминаются в преданиях Мексики и Перу доколумбовой поры, даже на далеком острове Пасхи в Тихом океане. Разумеется, эти легендарные строители и мореплаватели не были выходцами из Европы. Но ведь люди, отвечающие такому описанию, жили и за пределами Европы. Светлая кожа и коричневые волосы отличали некоторых обитателей Ближнего Востока и Западной Африки. Из услышанного нами от фуамулакцев можно было уверенно заключить только одно: нынешние жители острова считают, что большие холмы были сооружены не их предками, а более древними обитателями острова, представителями другого народа.
Нам предстояло вскоре убедиться, что и на других островах архипелага большинство взрослого населения слышало про рединов. Правда, мало кто открыто признавался, что верит в эти древние предания. Для современной мальдивской молодежи слово "редин" стоит в одном ряду со словом "джинн" и другими словами, обозначающими всякую нечисть. Пройдет немного времени, и на Мальдивах совсем ничего не останется от домусульманских легенд.
Пока мы ждали разрешения Мале вскрыть шурф, в котором, по словам островитян, был повторно захоронен маленький будду в каменном ящике, в селении разгорелся спор, стоит ли возобновлять поиск языческой скульптуры. Кое-кто стал вдруг ревностно убеждать нас, что это будет пустой тратой времени. Один старик категорически утверждал, что в каменных ящиках не было никаких будду. Мы захотели проверить его слова и снова обратились к руководителю бригады, работавшей на раскопках. Он заявил, что сей "очевидец" тогда вообще не подходил близко к хавитте, а вот сам он совершенно точно видел будду. Когда мы еще раз пришли к "очевидцу", тот признался, что только передал нам услышанное им от верного человека, который ходил к хавитте и заверил его, что не видел никаких будду. Бьёрн и Абдул не поленились разыскать "верного" человека и с удивлением обнаружили, что он слепой...
Было бы неразумно раздражать суеверных островитян, да и разрешение Мале заставляло себя ждать, так что нам оставалось лишь на время забыть про хавитту. "Миду" уже отвезла трех киношников на Ган, и мы решили осмотреть острова к северу от Экваториального прохода. Однако тут возникло неодолимое препятствие: отказал двигатель нашего судна. После рейса на Ган "Миду" стояла в ожидании у подветренной стороны острова, когда же мы собрались плыть дальше, выяснилось, что кто-то поковырялся в двигателе и винт не вращается. Капитан заявил нам, что "Миду" останется здесь навечно, если кто-нибудь не одолжит ему компрессор. На Фуа - Мулаку компрессора не было, оставалось только послать за ним на Ган, если мы не хотели навсегда поселиться среди
фуамулакцев. Шестнадцать гребцов на открытой дхони пересекли Экваториальный проход и через два дня вернулись с компрессором.
Тем временем мы искали на острове другие следы рединов. Кто бы ни были эти люди, после них должно было остаться что-то еще, кроме огромной хавитты.
Глава III. Первый пальцевый отпечаток
Путешествия в пространстве и времени
В нескольких сотнях метров от большой хавитты возле лесной тропы особняком стояла старая заброшенная мечеть, маленькая и неказистая на любую мерку, особенно же в сравнении с остатками ее соседа-великана. Редины, воздвигшие могучую пирамиду, фыркнули бы презрительно, увидев скромное культовое строение, которое заменило их храм, когда на Фуа - Мулаку утвердилось учение Мухаммада.
Однако в жизни фуамулакцев эта мечеть играла важную роль: она была первым молитвенным домом, построенным их предками, когда те приняли новую веру. Контраст в размерах двух древних святынь выразительно говорил о том, что сила веры может спорить с физической силой. Кем бы ни были редины, они вложили в свое сооружение огромный груд, опыт и немало средств. Что до мечети, то ее без особого напряжения соорудил некий каменщик, воспользовавшись тесаным камнем из превосходной кладки величественной конструкции рединов.
Местные старики подтвердили, что так оно и было. Маленькая мечеть - старейшее на острове мусульманское строение. Отшлифованные известняковые блоки ее стен взяты на древней хавитте. Редины обработали их для облицовки насыпи, по которой ныне только и можно судить о масштабах бывшего храма. Когда фуамулакцы приняли ислам, они раздели хавитту и отнесли камни на строительство первого молитвенного дома в честь Аллаха.
Перед мечетью лежала могильная плита с высеченным на ней именем Юсуфа Наиба Калегефана, обратившего островитян в ислам. Отец Юсуфа, Яхья Наиб Калегефан, приплыл на Фуа - Мулаку из какой-то далекой страны вскоре после того, как ислам утвердился на Мале.
Стены Юсуфовой мечети с первого дня привлекли мое внимание. Никогда еще мне не доводилось видеть столь искусно обтесанные и отшлифованные известняковые блоки, плотно пригнанные друг к другу, словно то были куски огромного сыра, а не плиты из коренной породы острова. Правда, на углах постройки грани некоторых блоков выступали из ряда, выдавая их стороннее происхождение, а одна стена и вовсе была сложена из обломков известняка на цементирующей смеси, как принято строить здешние дома.
Изучая кладку, я обнаружил, что основанием для Юсуфовой мечети послужил фундамент более древнего, классического строения. Сохранившие первоначальное положение камни этого фундамента были украшены изящными желобками.
Стремясь не пропустить ни одного следа древних рединов, которые явно потрудились и здесь, мы прошли вдоль мощеной дорожки, какие обычно соединяют двери мечети со священным колодцем. Тесаные блоки настила были так тщательно пригнаны друг к другу, что казались частью сооружения домусульманской поры. И в самом деле, миновав маленький колодец, мощеная дорожка углубилась в заросли. Продолжая идти по ней, мы увидели среди кустарника большой прямоугольный бассейн, доверху наполненный зеркальной водой.
Под слоем дерна скрывалась искусная плотная кладка из шлифованных блоков. Судя по всему, фундамент мечети, дорожка и бассейн входили в единый комплекс и относились к одному периоду. Местные жители подтвердили, что в прошлом богомольцы совершали ритуальное омовение в этом бассейне. Теперь им пользовались очень редко, да и то всего лишь для стирки белья.
Превосходные образцы каменотесного искусства домусульманской поры позволяли сделать вполне определенный вывод. Было совершенно очевидно, что хавитту воздвигла не горстка дикарей, случайно высадившихся со своими женами на острове в незапамятные времена. Увиденные нами около лесной тропы фрагменты сооружений говорили о том, что здесь трудились опытные архитекторы и профессиональные каменщики, которые обосновались на острове у экватора, приплыв по морю из некой области, где их предки уже достигли высокого уровня культуры. Здесь, в Экваториальном проходе, мы обнаружили первые на Мальдивах следы мореплавателей, представляющих древнюю цивилизацию.
Мечеть Юсуфа была не единственной на Фуа - Мулаку. На территории селения помещались более просторные молитвенные дома, но их соорудили позже, используя, как и в жилых строениях, грубые обломки коралла и известняка. И лучшие части кладки Юсуфовой мечети казались нам непревзойденными по совершенству, пока мы не наткнулись на большое полузасыпанное сооружение перед мечетью Кедере. Саму мечеть скорее можно было назвать сарайчиком в окружении скромного мусульманского кладбища. Мы опять приметили тут и там в могильных оградах великолепные камни с каннелюрами из храмовой кладки. От входа в мечеть мощеная дорожка привела нас к обширной выемке. По широкой лестнице из огромных тесаных блоков мы спустились на усыпанное гравием дно. В обложенном камнями небольшом мусульманском колодце посредине выемки поблескивала вода. Обрамляющие выемку высокие стены уходили в толщу песка, под которым, видимо, скрывался пол. Шлифованные блоки стенной кладки плотно прилегали друг к другу, образуя водонепроницаемую чашу.
Мусульманский колодец явно был более позднего происхождения, вся же выемка, судя по всему, представляла собой остатки полузасыпанного ритуального бассейна квадратной формы, точно ориентированного по странам света. Стены длиной 5,3 метра поднимались выше моей головы.
Мегалитическая лестница, на ступенях которой можно было лечь в полный рост, спускалась в чашу с восточной стороны. Большие блоки кладки были отшлифованы до гладкости стекла. Мы измерили одну плиту: длина 2,45 м, ширина- 63 см, толщина на всем протяжении-10 см. Поистине изумительно искусство тех, кто с такой точностью обрабатывал твердый известняк, коренную породу острова! Плиты были пригнаны одна к другой так тщательно, что между ними не просунуть лезвие ножа, а ведь они отличались размерами и отнюдь не все были прямоугольными. Попадались камни с ломаным контуром; тем не менее они примыкали к соседним плитам, словно кусочки мозаики.
Словом, в таинственной мозаике, которая завлекла меня на Мальдивы, врытое в землю сооружение заняло весьма важное место. Я даже назвал бы его пальцевым отпечатком. Снятые с древней хавитты блоки в стенах мечети Юсуфа укладывали довольно небрежно, тогда как эти стены никто не разбирал, перед нами была первоначальная кладка. Следуя важной эстетической или магико-религиозной традиции, знакомой лишь нескольким доевропейским цивилизациям, создатели этой конструкции пользовались чрезвычайно трудными приемами, которых не знали лучшие каменщики ' не только Европы, но и большинства стран мира. Тем сильнее бросается в глаза, что упомянутая традиция прослеживается на путях распространения народов, вязавших лодки из камыша и подобных ему материалов.
Эти стены напомнили мне про далекие уголки Земли, которые я посещал, пытаясь проследить морские пути древнейших миграций человека. Передо мной была кладка, типичная для народов, связанных с морем, чьи представители пересекали океаны. Впервые я увидел такие стены на самом уединенном в мире клочке суши - на острове Пасхи; затем - в местах былого обитания инков в Южной Америке. После они встречались мне на атлантическом побережье Северной Африки, в Малой Азии и, наконец, на острове Бахрейн в Персидском заливе. Всякий раз характерным стенам сопутствовали суда, связанные из стеблей, всякий раз я все больше приближался к Индийскому океану и вот теперь вижу знакомый образец своеобразной кладки на одном из островов в этом океане. Таким образом, эта техника распространилась вдоль половины окружности земного шара, и в роли антиподов - остров Пасхи и Мальдивы. Казалось бы, какой-либо контакт тут невозможен. Однако, если вдуматься, прошел же я через разделяющие их океаны на судах древнейшего типа...
Во всей огромной области Тихого океана такие стены известны только на острове Пасхи. Длинноухие пасхальские статуи, изваянные скульпторами забытой цивилизации, были установлены на мегалитических стенах, сложенных с применением именно такой специализированной техники
(Хейердал (1974).).
В тихоокеанском полушарии лишь на ближайшем к Пасхе, Южноамериканском материке видим сходную кладку. В Перу именно так сооружали мегалитические стены творцы длинноухих статуй, предшественники инков. И представители этого народа выходили в открытое море на камышовых ладьях и бальсовых плотах, причем ладьи и формой, и материалом были похожи на лодки острова Пасхи; сходство настолько разительное, что одни ученые пытались объяснить его удивительным совпадением, другие - древними контактами между Перу и островом Пасхи. Возможность таких контактов я доказал в 1947 году, пройдя со своей командой на бальсовом плоту "Кон-Тики" инкского типа от Перу до островов Туамоту-путь, вдвое превышающий расстояние от Южной Америки до Пасхи.
Следующая встреча с необычной каменной кладкой произошла совсем неожиданно. В 1969 году я прибыл в марокканское селение Лике, чтобы познакомиться с местными строителями камышовых лодок, перед тем как самому построить папирусную ладью и испытать ее в Атлантике. На всем атлантическом побережье Африки только в Ликсе, бывшем финикийском порту, еще умели вязать такие ладьи. Словом, я приехал изучать суда, а не каменные стены. Однако там, где судоходная река Лике впадет в Атлантический океан, на высоком мысу вздымались к небу огромные мегалитические стены, и я был поражен, обнаружив, что здесь применена такая же техника пригонки блоков, как в Перу и на острове Пасхи. Год спустя, в 1970-м, я прошел на папирусной ладье "Ра II" с многонациональной командой от африканских берегов до острова Барбадос, лежащего в относительной близости от Мексиканского залива. Кем созданы древние сооружения Ликса?
Никто не знает ответа. Пока что археологи сходятся во мнении, что они были построены либо финикийцами, либо какими-то их предшественниками. Во всяком случае, принято считать, что основатели Ликса, воздвигшие здесь астрономически ориентированный мегалитический храм в честь бога Солнца, приплыли откуда-то с Ближнего Востока. Много веков спустя сюда пришли римляне и поверх древних развалин соорудили свой храм, посвященный богу морей Нептуну. Возможность плавания основателей Ликса из стран внутреннего Средиземноморья к атлантическим берегам Марокко никем не оспаривалась, и я не считал нужным моделировать такое путешествие. Судя по всему, выходцы из нынешнего Ливана, пройдя на древних судах через Гибралтарский пролив, обосновались в той самой области, от берегов которой мощное океанское течение направляется к тропической зоне Америки.
Поскольку архитекторы и каменщики, соорудившие солнечный храм Ликса, были сынами великих цивилизаций Ближнего Востока, нет ничего удивительного в том, что они владели искусством обработки огромных камней. Мегалитические стены из гигантских блоков, доставленных из далеких каменоломен, отнюдь не редкость на Ближнем Востоке. Их можно считать одной из типичных черт большинства древних государств, чьи мореплаватели начали осваивать внутреннее Средиземноморье в тысячелетии, предшествовавшем началу истории Европы. В наши дни даже самые пресыщенные туристы, путешествующие с комфортом на автобусах и морских судах, восхищаются величием колоссальных стен.
И особого внимания заслуживает способ пригонки блоков - "пальцевый отпечаток", который я наблюдал на всем пути от острова Пасхи до Ликса и дальше, пути, где указателями служили древние суда. В поисках рисунков папирусных ладей в гробницах и храмах фараонов я увидел образцы специфической кладки в том самом месте, где мы строили "Ра I", когда осматривали мегалитические стены мастаб
(Мастаб - каменная скамья, современное название древнеегипетских гробниц.- Прим. ред.) и солнечных храмов по соседству с великими пирамидами. Однако в Египте эти приемы не были широко распространены.
Испытав в Атлантике папирусные суда "Ра I" и "Ра II" египетского типа, я отправился в Малую Азию, чтобы изучить местные разновидности древних судов и опробовать в Индийском океане камышовую ладью шумерского типа.
Среди развалин в стране хеттов я словно бы прикоснулся к истокам кладки, по следам которой шел, путешествуя во времени и пространстве назад от острова Пасхи через Перу и Лике. Учитывая древность и историческую важность культуры хеттов, я ничуть не удивился бы, если они оказались бы творцами специфических приемов обработки камня.
Но кто такие хетты и где они жили?
Пока археологи уже в наше время не открыли руины хеттских сооружений, о них никто ничего не знал. А между тем хетты - народ, заслуживающий признания со стороны всех современных государств, считающих себя цивилизованными. Через них дошли из древности до новейших времен ремесла и искусства, обусловившие культурный прогресс. Хетты были предшественниками финикийцев. Их родина, территория нынешних Сирии и Ливана, простиралась в Малой Азии узкой полосой, отделявшей реки Месопотамии от Средиземного моря. От них финикийцы на средиземноморском берегу восприняли искусство письма, изобретенное в Шумере.
Хетты не были самостоятельными творцами основных элементов своей цивилизации. Они усваивали идеи, которые продвигались вверх по судоходным рекам Тигру и Евфрату от шумерских портов Персидского залива. Шумеры научили хеттов воздвигать солнечные храмы, высекать большие каменные статуи с инкрустированными глазами, писать иероглифами и клинописью, строить большие морские суда. На землях хеттов в верхнем течении Евфрата археологами найдена цилиндрическая печать с изображениями камышовых ладей, в точности похожих на ладьи на шумерских печатях.
Процветание хеттов обеспечивалось их командной позицией на торговых путях, соединяющих восточную и западную сферы мореплавания в древнем мире. Всего 200 км отделяли судоходное верхнее течение Евфрата от средиземноморского побережья. Преуспевание самих шумеров основывалось на морской торговле, причем камышовые суда, пересекая Персидский залив, могли затем по Тигру и Евфрату подняться прямо в страну хеттов. Хетты перевозили товары по суше по короткому пути к собственным средиземноморским портам и дальше - в Египет, на Кипр и в разные пункты на берегах примыкающего к их стране внутреннего моря.
Хетты исчезли и были забыты задолго до того, как древние греки стали записывать исторические события. Древнегреческие историки утверждают, что финикийцы первыми начали строить парусные суда и плавать в открытом море. Благодаря археологии сегодня мы знаем, что греки ошибались. Задолго до финикийцев от берегов Ливана и Египта выходили в море корабли. На петроглифах и египетской керамике до-фараоновой поры видим большие суда с двумя каютами, парусами и рангоутом. И когда впервые в песках Малой Азии были раскопаны великолепные хеттские солнечные храмы, их каменные стены явили взгляду рельефные изображения больших парусных судов. Вытесанные за сотни лет до финикийского периода, они тем не менее снабжены оснасткой, не уступающей той, какую тысячи лет спустя несли каравеллы Христофора Колумба.
Итак, в стране хеттов, в верховьях Тигра и Евфрата, обрывался зримый след характерной кладки, по которому я шел от одного порта камышовых ладей до другого. В устье названных рек на шумерских землях такой кладки не было, хотя хетты большинство своих ремесел унаследовали от шумеров.
Уверенный, что техника, ставшая для меня пальцевым отпечатком, распространилась с территории хеттов, я решил, что это они ее создали. В самом деле, где еще ей возникнуть, как не в горной стране на севере Месопотамии. На юге, у берегов Персидского залива, где обосновались шумеры, камня вовсе не было. Весь этот край представлял собой огромную песчано-илистую равнину, и здешние жители сооружали свои огромные ступенчатые пирамиды из сырцового кирпича, а статуи высекали из привозного камня.
В 1977 году на реке Тигр, в самом сердце бывшей территории шумеров, я построил камышовое судно "Тигрис" и вышел в море курсом на легендарную родину шумеров - Дильмун. Почти пять тысяч лет назад шумеры записали на своих глиняных плитках, что после великого потопа их предки высадились в Дильмуне; оттуда на самых больших своих камышовых судах магур они пришли в Месопотамию и основали в Уре первую шумерскую династию. Многочисленные плитки с письменами сообщают, что шумерские мореплаватели постоянно возвращались по торговым делам на свою священную родину.
Долго Дильмун оставался лишь легендарным названием, пока археологи совсем недавно не установили, что речь идет об острове Бахрейн в Персидском заливе. Около 100 тысяч больших и малых могильников шумерского периода привлекли на Бахрейн отряд датских археологов во главе с П. Глебом и Дж. Бибби. Они раскопали засыпанные песком остатки древнего портового города, а также сложенный из песчаного камня небольшой храм, напоминающий конструкцией зиккураты Месопотамии (Bibby (1969). ). Когда мы высадились на Бахрейне, Джеффри Бибби прилетел из Европы посмотреть на нашу камышовую ладью - копию тех, что во времена Дильмуна приходили на остров из Шумера, - и провел нас по улицам раскопанного порта.
Мы увидели правильную планировку с улицами, ориентированными на север-юг и восток - запад, как это было заведено у солнцепоклонников. Главные ворота соединяли городскую площадь с портом - свидетельство тесной связи населения с морем. Бибби обратил наше внимание на мелкое коралловое дно гавани, недоступной для килевых судов, и с интересом отметил, что связанный из двух бунтов с малой осадкой корпус нашей камышовой ладьи позволял ее прототипам свободно входить в гавань во время прилива и ложиться на дно в отлив, что облегчало погрузку и разгрузку. Вне всякого сомнения, дильмунцы тоже строили камышовые суда. Бибби познакомил меня с островитянами старшего поколения, которые все еще выходили ловить рыбу на лодках, подобных тем, какие я видел на острове Пасхи, в Перу, Ликсе, Египте и Месопотамии. Вот почему я не очень удивился, узнав в раскопках Бибби образцы характерной каменной кладки.
Именно на острове Бахрейн я снова вышел на след, потерянный мной в моем странствии назад во времени, вниз по рекам из страны хеттов на илистые равнины Шумера. Некоторые из древнейших стен в расчищенном Бибби портовом городе были сложены с применением специфической техники. Но если шумеры и впрямь пришли на материк с этого острова, они должны были еще раньше освоить эту технику в таком месте, где не было недостатка в камне.
Сам тот факт, что шумеры торговали с Бахрейном и переправляли товары вверх по рекам в страну хеттов, показывает, что между народом Дильмуна и хеттами не было географического барьера. Поскольку шумеры связывали свое происхождение с Бахрейном, а культура хеттов моложе шумерской, мне подумалось, что Бибби подвел меня еще ближе к родине характерной кладки. Мысль о том, что каждый шаг дальше на восток ведет нас все больше назад во времени, порядком озадачивала меня. Бахрейн находился на полпути между Шумером и Ормузским проливом - воротами в Индийский океан,- однако было бы неверно делать вывод, что своеобразное каменотесное искусство зародилось здесь. По словам Бибби, нигде на Бахрейне не было превосходного известняка, какой пошел на кладку необычных стен, так что сотни тысяч тонн строительных блоков явно были доставлены морем, а где их заготавливали, еще не установлено.
Получив разрешение местных властей посетить лежащий по соседству с Бахрейном остров Джида, где помещается исправительно-трудовая колония, мы обнаружили искомые каменоломни. Известняковые холмы Джиды основательно изрезаны людьми, которые были искусными каменотесами и мореплавателями. Строители порта и мини - зиккурата на Бахрейне не плавали пассивно по течению; они явно пришли из страны, чьи жители знали толк в горных породах, мастерски обрабатывали камень и поднаторели в перевозке его по морю к месту строительства. Некоторые блоки, доставленные с Джиды на Бахрейн, отличались громадными размерами и безупречной отделкой. Но самое сильное впечатление произвела на нас кладка, которую мы увидели, сойдя по ступеням на дно раскопанного Бибби ритуального бассейна у подножия мини-зиккурата. Не подозревал я тогда, что через несколько лет увижу похожий бассейн на острове Фуа - Мулаку далеко в Индийском океане. Вот мои записи той поры:
"Бибби не без удивления смотрел, как я, опустившись на колени, штудирую гладкую поверхность раскопанных им дильмунских плит и способ их соединения. Камни... без малейших просветов прилегали друг к другу... Мои товарищи по плаванию глядели на меня, как на какого-нибудь Шерлока Холмса, пытающегося обнаружить отпечатки пальцев или следы инструмента, чтобы выйти на след исполнителей. Изумительно обработанные и подогнанные блоки воплощали специфическую технику, с которой я уже не раз встречался. И я объяснил своим озадаченным спутникам, как эти каменные стены увязываются с нашим плаванием и с плаваниями людей, которые воздвигали их на Бахрейне"
(Хейердал (1981, гл. 5).).
Покинув остров Бахрейн с его дошумерским портом, мини - зиккуратом и ритуальным бассейном, мы вышли на "Тигрисе" через Ормузский пролив в Индийский океан. Здесь наша первая остановка была в Омане, и археолог Паоло Коста отвез нас к огромным древним копям, которые поставляли медную руду дильмунцам и шумерам. На самой территории месторождения мы увидели только что открытые остатки мини-зиккурата, а в приморье Коста показал нам все еще используемые местными рыбаками лодки шумерского типа
(Хейердал (1981).). Однако характерной каменной кладки здесь не было.
 Заложив шурф и просеивая землю в поисках черепков, каменных бусин и органического материала, археологи вышли на остатки каменной кладки
Заложив шурф и просеивая землю в поисках черепков, каменных бусин и органического материала, археологи вышли на остатки каменной кладки
После Омана наша камышовая ладья взяла курс на Пакистан и долину Инда, где мы посетили частично раскопанные руины Мохенджо - Даро - столицы давно забытой цивилизации, расцвет которой начался около пяти тысяч лет назад, вскоре после утверждения династии первых фараонов в Египте и основания первого царства в Шумере. Мой интерес к Мохенджо - Даро объяснялся тем, что цивилизация долины Инда приблизительно с 2500 года до н. э. по 1500 год до н. э. (когда она внезапно прекратила свое существование) поддерживала тесные связи по морю с Бахрейном и Месопотамией. Множество печатей с не расшифрованными до сих пор индийскими письменами найдено на островах Персидского залива и в Месопотамии - от Ура в приморье до страны хеттов на территории нынешней Сирии. На одной из печатей в Мохенджо - Даро мы увидели изображение камышового судна с каютой, двуногой мачтой и двойным рулевым веслом - совсем как у ладей Древнего Египта и Шумера, как у нашего "Тигриса". Плавая между Месопотамией, Бахрейном и долиной Инда - путь, только что пройденный нами, - древние торговцы могли перевозить тонны груза и провианта, будучи избавленными от трудностей и опасностей сухопутного транспорта через пустыни, горы и земли враждебных племен.
Итак, в Мохенджо-Даро были камышовые суда, увидели мы и ритуальный бассейн, вот только пальцевого отпечатка - характерной кладки - не оказалось; как и в Шумере, на равнине у Мохенджо - Даро не было строительного камня. Кварталы, площади и улицы строго ориентированы в направлении север - юг и восток - запад, как в городах солнцепоклонников Месопотамии и Бахрейна. В число главных сооружений входил террасированный храмовый холм, и у его подножия помещался большой ритуальный бассейн. Широкая лестница, по которой спускались к воде, скамьи вдоль стен - все походило на сооружение, виденное нами на Бахрейне. Однако индский бассейн в отличие от бахрейнского был сложен из кирпичей, скрепленных асфальтом.
Именно далекий Бахрейн, а не Мохенджо - Даро вспомнился мне, когда я увидел древний ритуальный бассейн на Фуа - Мулаку. Я ощупывал характерные гладкие стены, проводил ногтем по тонким швам между камнями, а перед моим мысленным взором проходили картины путешествий в пространстве и времени, которые привели меня в этот уголок. Сходство сооружения на мальдивском острове и подобного ему на Бахрейне не могло не волновать.
Может быть, есть и родство?
Может быть, древние мореплаватели, которые использовали Бахрейн как транзитный порт в торговле Месопотамии с долиной Инда, доходили также до Мальдивов?
Расстояние от Лотхала, главного порта Индской цивилизации, до Мальдивского архипелага не больше пути от устья Инда до Месопотамии. И не больше дистанции, которую покрыли мы на камышовом "Тигрисе", когда под конец нашего плавания прошли без заходов от долины Инда до Джибути в Африке. Зная, что древняя Индская цивилизация распространяла свое влияние на юг вдоль западного побережья Индии, естественно предположить, что бесстрашные мореплаватели исследовали собственные берега в восточном направлении так же уверенно, как плавали на запад в далекий Шумер.
Но в таком случае они неизбежно должны были натолкнуться на Мальдивский барьер и обнаружить проход у экватора. Истые солнцепоклонники и сведущие астрономы не могли не заинтересоваться Экваториальным проходом.
И мне пришла в голову фантастическая догадка. Я ведь видел такой же бассейн, только еще больших размеров, в Перу, на равнине у берегов Тихого океана. Он был построен из сырцового кирпича предшественниками инков, солнцепоклонниками области Чан-Чан. Они воздвигли большие и малые ступенчатые пирамиды типа зиккурата. И район обитания этих людей был главным центром доинкского мореплавания. Герои, плывущие по морю на камышовых судах, - обычный мотив декора их керамических сосудов. А лепные фигурные сосуды изображают их древних царей с вытянутыми ушными мочками, в отверстия которых вставлены большие диски.
Нет ли тут связи?
На первый взгляд эта идея была слишком уж фантастической. Я давно подозревал, что представители ближневосточных культур за много веков до Колумба достигали по морю тропических областей Америки, но при этом мне мыслился прямой путь от Африки, а не из далекой Азии. Некоторые авторы рассматривали возможность древних плаваний из Индии в Америку через Тихий океан. Я, как и абсолютное большинство других исследователей, отвергал подобные предположения как географический нонсенс. Если мореплаватели из Индии доходили до азиатских берегов Тихого океана, им предстояло еще обогнуть половину земного шара, чтобы достичь Америки. Тихоокеанское побережье Юго-Восточной Азии и тихоокеанские берега Южной Америки - антиподы. Больше того, в Тихом океане древние парусные суда любого типа ожидало противоборство преобладающих ветров и течений, которые в этой части планеты направлены от тропической зоны Америки к тропическим областям Азии. Сам земной шар в своем вращении придал им постоянное мощное движение.
Никто, похоже, не задумывался над тем, что Америка гораздо ближе к Индии, если плыть на запад, через Атлантический океан. К тому же на этом пути мореплавателю благоприятствуют стихии.
Обнаружив теперь, что древние мореходы прочно утвердились на Мальдивских островах, мы понимали, что эта позиция вполне позволяла им плыть дальше до самой Америки. Зимой попутный северо-восточный муссон благоприятствовал плаванию от Мальдивов к южной оконечности Африки, за которой открывается Атлантика. В любое время года Южное Пассатное течение и юго-восточные пассаты могли донести мальдивских мореплавателей до Мексиканского залива-этого магнита, притягивающего любые предметы, очутившиеся на воде у африканских берегов. Я сам дошел со своим экипажем на папирусной ладье "Ра II" из Северной Африки до Америки, влекомый Северным Пассатным течением и северо-восточным пассатом. С таким же успехом мы могли дойти до Америки от Южной Африки с Южным Пассатным течением и юго-восточным пассатом. Два течения - две могучие атлантические реки - встречаются у берегов Бразилии и вместе входят в Мексиканский залив.
Если рассматривать Мальдивы как исходную точку плавания и следовать курсом, начертанным стихиями, географическая картина выглядит совсем иначе. Мореплавание становится вполне возможным. Считать, как думалось мне до сих пор, что с практической точки зрения путешественники из Южной Азии никак не могли достичь тропических областей Америки, было бы неразумно.
Но главное место в моих размышлениях о том, что же происходило в далеком прошлом, занимали длинноухие скульптуры, заманившие меня на Мальдивы. Наметилась их связь с местными мастерами специфической кладки. Еще раньше я проследил эту кладку и камышовые лодки вкупе с обычаем удлинять мочки ушей, начиная с острова Пасхи и кончая Перу и Мексикой. Пасхальцы всё еще растягивали мочки до самых плеч, когда остров посетил капитан Кук, меж тем как ни на одном из тысяч других островов Тихого океана не было такого обычая. Представители инкской знати вплоть до прибытия в Южную Америку испанцев тоже растягивали мочки подобными дисками, утверждая, что их научил этому легендарный солнце-король Кон - Тики - Виракоча. По словам инкских историков, этот король правил жившим в Перу народом длинноухих, пока не покинул страну, выйдя в Тихий океан.
В Мексике испанцы не застали обычай растягивать мочки, однако многие майяские стелы, а также ольмекские и ацтекские скульптуры и рельефы изображают людей с длинной бородой и огромными дисками в мочках ушей. На фресках одного майяского храма в Чичен-Ице видим мореплавателей с белой кожей и желтыми волосами, которые подходят к берегу, где их весьма нелюбезно встречают темнокожие люди,- и у всех белокожих длинные ушные мочки. Судя по изображениям в керамике и камне от Мексики до Перу, растягивание мочек исстари было распространено среди аборигенов Америки. Притом распространено именно там, где представители местных цивилизаций начали поклоняться солнцу и строить пирамиды типа зиккурата, живя организованными общинами в городах с квадратной планировкой, в домах из сырцового кирпича - совсем как в древних государствах Ближнего Востока.
Я тщетно искал следы обычая удлинять ушные мочки среди строителей пирамид Месопотамии и Египта, среди древних мореплавателей, заселивших Кипр, Крит и Мальту, у финикийских мореходов, у основателей Ликса. Видимо, им этот обычай был незнаком. У меня накопился перечень более ста присущих культурам Мексики и Перу доколумбовой поры своеобразных черт - настолько специфических, что они неизвестны больше нигде в Америке; однако все эти черты налицо там, где сложились древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Вот только удлинения мочек нет в этом списке. Хотя в Мексике и Перу знали этот обычай, у древних мореплавателей по другую сторону Атлантики я его не обнаружил.
Но вот через год после экспедиции "Тигрис" я вновь посетил долину Инда; на сей раз - чтобы осмотреть недавно открытую искусственную гавань Лотхала, главного порта Индской цивилизации. Его портовые сооружения - древнейшие в мире. Расцвет Лотхала пришелся приблизительно на период с 2500 года до н. э. по 1500 год до н. э. Сотрудники Университета Барода сортировали материал, раскопанный ими в доках и складах, возраст которых превышает четыре тысячи лет. Один ящик был заполнен напоминающими огромные позвонки круглыми керамическими дисками с рифленой кромкой, в точности похожими на керамические ушные затычки древней Мексики и Перу. И на инкские, сделанные из чистого золота. На острове Пасхи мы сами находили в раскопах затычки, вырезанные из толстых раковин. Ни секунды не сомневаясь в назначении предмета, раскопанного археологами в Лотхале, я все же обратился к ним с вопросом.
- Ушные затычки, последовал ответ.- Понимаете, эти древние мореплаватели делали отверстия в мочках и растягивали их, вставляя такие диски. Итак, мореплаватели Индской цивилизации были длинноухими! От них обычай удлинять мочки был воспринят индусской знатью, затем распространен по всей Азии Буддой и его последователями. Ничего удивительного, что на Мальдивах появились длинноухие статуи, изваянные древними скульпторами. Лишь позднее я узнал, что на Мальдивах растягивали мочки ушей вплоть до недавнего времени. Изучавший местные обычаи Мэлони, цитируя одного наблюдателя, пишет, что женщины делали отверстия в мочках, и добавляет: "Некоторые мальдивцы и теперь помнят, что мочки ушей их бабушек свисали почти до плеч"
(Maloney (1980, p. 172).). Все говорит за то что своеобразный обычай принесли на Мальдивы каменщики, которые в древности плавали по морям на камышовых судах.
Поднявшись по ритуальной лестнице из чаши бассейна на Фуа - Мулаку, я любовался искрящейся синей гладью Экваториального прохода, и казалось, сам воздух насыщен волнующими подсказками. Если мы, новички "камышового мореходства", успешно пересекали океаны, наверно, то же могли сделать многоопытные длинноухие из Лотхала? Кто ведает, какое движение шло через этот пролив в течение тысячелетий, какие суда первыми пристали к этим уединенным берегам и какие люди соорудили большую хавитту и совершали омовение в великолепном бассейне?
Оседлав велосипеды, мы доехали по тропе до пустоши к югу от селения и остановились на участке, изобилующем признаками былого обитания. На сухой каменистой почве деревья не росли, но остатки стен и могильников покрывал низкий кустарник.
Посреди этого участка помешался большой круглый бассейн, врытый глубоко в грунт и облицованный тесаными плитами с известковой штукатуркой. Чаша диаметром 20,6 метра была такая ровная и гладкая, что местные жители были убеждены, что некий древний каменщик вырубил ее в одном огромном куске породы.
В метре с лишним ниже края вдоль всей стены тянулась полка, от которой до дна был еще один метр. К полке почти вплотную подступала чистая свежая вода, хотя дно чаши выстилал толстый слой ила. Часть восточной стены составляла лестница, спускающаяся к воде.
Каково было назначение старинного сооружения?
Островитяне явно знали об этом не больше нашего. Им представлялось, что ваша вео (Абдул перевел это как "круглый бассейн") служил какому-то предшествовавшему им народу для священных ритуалов, и они показали нам остатки основательно разрушенного храма в нескольких шагах к востоку от лестницы.
А мне вспомнилось, что я уже видел бассейн такого типа-с большой круглой чашей. Видел на Бахрейне, где его соорудили древние мореплаватели. Те самые, которым приписывали прямоугольный бассейн с его специфической кладкой. Само то, что люди Дильмуна строили ритуальные бассейны двух совершенно различных типов, было загадкой, и вот здесь, на Фуа - Мулаку, мне снова встретились обе разновидности.
Делать какие-либо выводы было бы преждевременно, зато самое время быть начеку и искать другие следы на островах, которые до сей поры не привлекали внимания историков. Утверждать, что Фуа - Мулаку посещали дильмунские мореплаватели или длинноухие из Лотхала, было слишком рано, однако увиденное нами убедительно говорило о том, что Мальдивы служили одной из многих промежуточных станций для представителей великих цивилизаций морских скитальцев, бороздивших океаны за сотни лет до того, как началась история европейского мореходства.
Когда капитан "Миду" доложил, что винт его судна снова вращается, мы поднялись на борт и на время оставили Фуа - Мулаку. Предвкушая новые открытия, мы вечером вышли, в море курсом на ближайшие острова к северу от Экваториального прохода с таким расчетом, чтобы дойти до цели на заре.
Снова над нами тропическое небо с мерцающим среди сонма созвездий Южным Крестом. Силуэт низкого атолла Фуа - Мулаку очерчен торчащими над морем перистыми кронами пальм, которые медленно сливаются воедино, образуя сплошную черную стену, и пропадают во тьме за нашей кормой.
Пять часов спустя, перед самым восходом, мы вошли в тихую лагуну атолла Гааф, прежнее название - Хуваду.
Глава IV. Пирамида в джунглях
Солнечный храм на Гааф-Гане
Оставив позади узкий пролив, мы плыли по озаренной утренним солнцем мирной лагуне вдоль песчаного берега длинного низкого острова, густо поросшего тропическими деревьями. Только лес - и ни одного дома. Почему-то этот плодородный остров был необитаем.
Назывался он Ган, как и остров с аэропортом по ту сторону Экваториального прохода, где началось наше знакомство с атоллом Адду. Мы решили называть его Гааф - Ган, так как он был частью широкого атолла Гааф. В Мальдивском архипелаге есть еще один крупный остров Ган, в атолле Ламу к северу от прохода Полуторного градуса. По сведениям, собранным Хасаном Манику, на всех трех одноименных островах находились древние холмы, самый большой - как раз на том Гане, вдоль которого мы сейчас следовали. Сам Манику его не видел, не упомянут он и у Белла, но в рукописи Хасана говорилось, что среди жителей соседнего острова он известен как Гаму хавитха - "Холм Гаму" - и высота его достигает почти 20 метров.
 Когда рабочие расчистили от зарослей холм на Гааф-Гане, оставив только огромное дерево на вершине, остатки здешней хавитты напомнили нам огромный муравейник
Когда рабочие расчистили от зарослей холм на Гааф-Гане, оставив только огромное дерево на вершине, остатки здешней хавитты напомнили нам огромный муравейник
В Мале я спрашивал Манику, почему три крупных острова в архипелаге названы одинаково и что означает слово "Ган"? Он ответил, что "Ган" и "Гаму" - всего лишь две разные грамматические формы одного и того же слова, по-настоящему все три острова должны называться Гаму, причем "гаму" - древнее санскритское слово, означающее "селение". Известно, что в мальдивском языке дивехи много санскритских корней. Санскрит - один из основных древнеиндийских языков, распространившийся из области долины Инда около 1500 года до н.э., как раз в ту пору, когда произошло крушение Индской цивилизации. Но ведь остров, на который мы сейчас смотрели с палубы "Миду", был необитаем; странно, что его назвали Ган, если это слово означает "селение" или "деревня"...
 Атоллы Мальдивского архипелага. Цифры указывают последовательность расселения легендарных рединов. Острова Расгетиму, Гиравару, Мале и Исду играли важную роль в индуистском и буддийском периодах до введения ислама в 1153 году
Атоллы Мальдивского архипелага. Цифры указывают последовательность расселения легендарных рединов. Острова Расгетиму, Гиравару, Мале и Исду играли важную роль в индуистском и буддийском периодах до введения ислама в 1153 году
Узкий пролив, через который из Экваториального прохода в лагуну вторгался накат, отделял Ган от значительно меньшего, густо населенного островка Гаду. В занимающем всю площадь Гаду селении теснятся 1600 жителей, а на необитаемый Ган они приплывают только за пищей.
 Острова у Экваториального прохода. На увеличенном отрезке карты видно обозначение черным острова на кольцевом рифе
Острова у Экваториального прохода. На увеличенном отрезке карты видно обозначение черным острова на кольцевом рифе
Мы бросили якорь около Гаду, и местная дхони отвезла нас на берег. Приветливые островитяне отвели нам дом собраний с щедро посыпанным белоснежной коралловой крошкой земляным полом, на котором поставили раскладушки с камышовыми матами.
Первым делом я спросил, почему необитаем большой остров Ган. И с удивлением услышал, что давным-давно на Гане жили люди, но однажды остров подвергся нашествию огромных свирепых кошек. Часть жителей Гана была убита, часть спаслась, уйдя на своих лодках в океан. С той поры на острове никто не селится, и жители Гаду посещают его только днем.
Кошки - единственное домашнее животное на Мальдивах; вообще мальдивцы прежде не знали других наземных животных. Но предание подразумевало кошек совсем иного рода, это были какие-то демоны в рост человека в кошачьем обличье.
По словам жителей Гаду, в лесу на Гане осталось множество руин. Их никто не раскапывал, и там действительно есть большой холм, но здесь его не называли Гаму Хавитта - "Холм Гана", - потому что на Гане холмов несколько. Самый большой из них (островитяне говорили о нем "Воду хавитта", что означет "Огромный холм"), сооруженный в давние времена людьми народа редин, назывался Вадамага хавитта. Все считали, что внутри него спрятаны всевозможные предметы.
Вождь Гаду познакомил нас с высокорослым островитянином, который явно занимал видное место в общине. Его звали Хасан Манику, как и нашего ученого друга в Мале, и Абдул, чтобы различать их, стал величать местного Хасана "хозяином" Гана. При этом он объяснил нам, что ни один из островов архипелага не находился в чьем-либо личном владении, просто мальдивское правительство разрешило Хасану арендовать Ган. Жители Гаду собирают там кокосовые орехи и отдают одну восьмую сбора "хозяину".
Услышав, что мы мечтаем посетить необычный остров, "хозяин" охотно согласился доставить нас туда. С двумя помощниками он повез нас через пролив на маленькой дхони. Покачиваясь на волнах, вторгающихся в лагуну через пролив, мы зашли за песчаную косу. Здесь лодка легла на грунт, и по теплой воде мы прошагали вброд на берег Гана. Усмиренные широкой лагуной волны поглаживали белый песок на пляже. Гааф - Ган, как и все мальдивские острова, - образованная кораллами плоская платформа, возвышающаяся от силы на два метра над уровнем Индийского океана. Высокие волны Экваториального прохода свободно перекатывались бы через него, не будь защитной преграды в виде чуть скрытого водой прибрежного рифа. Осаженные в своем вольном движении известняковым барьером, океанские валы поднимаются на дыбы и, усмиренные, доходят до суши мелкой рябью.
Около часа длился пеший переход - сначала через травянистую равнину с высокими кокосовыми пальмами, затем по хорошей тропе, окаймленной плотными зарослями. В непролазной чаще совсем рядом могли скрываться невидимые с тропы сооружения. Густое сплетение ветвей, листвы и колючек оставляло пространство лишь для тоненьких ящериц. Зато высоко над подлеском на макушках деревьев висели вниз головой коричневые летучие мыши величиной с кролика. Спугнутые нашими голосами, они улетали прочь, расправив кожистые крылья, словно ведьмы в широких плащах. Эти летуны явно оказались единственными теплокровными животными на острове, после того как большие кошки изгнали людей.
Меня изрядно озадачило предание о больших кошках. Никакие тюлени или другие морские животные не могли обратить в бегство людей, которые смело сражались с самыми крупными акулами. Проще всего посмеяться над этой историей, посчитав ее чистым вымыслом, призванным объяснить, почему Ган обезлюдел. Однако, беседуя с "хозяином" острова и другими, кто верил в старинное
предание, легко было убедиться, что перед нами не какие-то недоумки, а наследники цивилизации, не менее - а то и более-древней, чем наша.
Мне вспомнилось, что жители ближайшей большой страны, Шри-Ланки, называют себя сингалами - "львиными людьми". На Шри-Ланке никогда не водились львы, но сингалы считали своими предками древних мореплавателей из Индии, потомков легендарного правителя-льва. По этой причине они высекали из камня изображения львов и изготавливали другие символы, в том числе устрашающие маски с кошачьими клыками, которые надевали как в мирное, так и в военное время.
Конечно же, мальдивцы, никогда не видевшие крупных представителей семейства кошачьих, должны были воспринять львов как "очень больших кошек". И многое говорило за то, что "львиные люди" доходили до Мальдивов. Большую хавитту на Фуа - Мулаку Белл определил как разрушенную сингальскую ступу. Отбитая голова Будды и бронзовая буддийская фигурка, которые мы видели в Мале рядом с изображениями демонов и индусской фигуркой, убедительно свидетельствовали, что до мусульман на Мальдивы пришли буддисты (и застали здесь людей, исповедовавших еще более древнюю религию). "Львиные люди" Шри-Ланки были ревностными буддистами и ближайшими соседями мальдивцев. Вполне возможно, что именно сингалы в львиных масках были "большими кошками с моря", чья свирепость заставила все население Гана покинуть остров.
Мы продолжали шагать по тропе, когда "хозяин" острова вдруг остановился и что-то произнес, показывая рукой на заросли. Абдул перевел: где-то в той стороне, возле другого берега, находятся развалины "буддийского дворца". От него почти ничего не осталось.
Я спросил, были ли редины буддистами. Нет, редины - это те, которые построили хавитты, "буддийский дворец" был сооружен другими людьми. Вечером, сказал "хозяин", когда мы вернемся на Гаду, он соберет стариков, и, может быть, они согласятся поведать нам, что им известно.
Тем временем мы вышли на прогалину, с которой открывался вид на море. Песок на опушке был изрыт черепахами. Короткая трава в центре прогалины окружала глубокий каменный колодец. Рядом лежала длинная палка с привязанной к ней половинкой скорлупы кокосового ореха, и наши спутники зачерпнули ею свежей чистой воды. От колодца в глубь острова уходила заросшая тропинка. Повинуясь "хозяину", его помощники возглавили наше шествие, чтобы прокладывать длинными секачами путь в зарослях.
Темп движения заметно снизился. Пробираясь вперед шаг за шагом, мы любовались отдельными могучими стволами, равных которым нам еще никогда не доводилось видеть в джунглях. С зеленого свода канатами свисали лианы; толстые сучья напоминали полки в цветочном магазине, выстланные мхом с живым орнаментом из орхидей и паразитических папоротников. Было жарко. Жарко и душно. Ветру сюда не было хода. Ничто не нарушало недвижность листвы безмолвных экваториальных джунглей.
Мы обливались потом и отбивались от комаров. Наконец наши проводники остановились и, указывая на что-то секачами, пропустили меня вперед. Прямо передо мной была сплошная зеленая стена, однако, приглядевшись, я рассмотрел в гуще листвы какую-то темную, почти черную массу. Словно кто-то много веков назад нагромоздил здесь гору кокса, обросшую мхом и травой.
Гора оказалась очень широкой; шагнув ближе, я увидел, что и справа, и слева за лиственной завесой чернеют камни, одетые мхом. О высоте горы мы не могли судить, так как макушка ее терялась в зеленом покрове вверху.
Это была она - большая ганская хавитта. Стоя у ее основания и пытаясь, запрокинув голову, составить себе хоть какое-то представление о размерах необычного сооружения, мы с Бьёрном не могли удержаться от удивленных возгласов. Потом опустились на четвереньки и полезли по камням вверх, в гущу зелени, протискиваясь между папоротниками и кустами.
Поднявшись вровень с головами стоящих внизу, я наткнулся на извивающиеся среди камней толстые корни. На сплошной, казалось бы, груде камней ухитрилось вырасти могучее дерево. Холм был сложен из грубых обломков известняка и коралла. На свободных от мха участках некогда белые как снег обломки успели почернеть от времени.
Кладка ничем не была скреплена, и, карабкаясь на четвереньках вверх, мы хватались за стебли папоротника, корни и стволы, стараясь не столкнуть какой-нибудь камень на голову тех, кто лез следом за нами. Широкие листья облепившего склон растения, похожего на ревень, ограничивали видимость во всех направлениях; тем не менее, поднявшись над подлеском, я прикинул, что нахожусь примерно на высоте трехэтажного дома.
Тем сильнее было мое удивление, когда, выпрямившись в рост на вершине холма, я обнаружил, что стою между разлапистыми корнями огромного дерева, нисколько не уступающего великанам, которых мы видели на земле внизу. Взявшись за руки, мы едва сумели вчетвером обхватить ствол, величественным шпилем устремленный к голубому небу. Словно сама природа внесла свой вклад в украшение руин внушительного храма.
Будь это дерево дубом, я определил бы его возраст лет в пятьсот с лишним. В джунглях многие деревья растут очень быстро, но ведь это росло на сплошной груде камня высоко над почвенным слоем. Наверно, ему понадобилась дополнительно не одна сотня лет, чтобы пустить корни и утвердиться на макушке рукотворной горы.
Мы поискали камни с резьбой, но, помимо могучего дерева, на вершине не было ничего интересного, и мы осторожно спустились по осыпи обратно. Склон был не настолько крут, чтобы камни произвольно скатывались вниз; напрашивался вывод, что этот холм всегда был таким, каким он предстал нашим глазам, - груда камня, на сооружение которой ушло порядочно физического труда, нечто вроде могильных курганов викингов. Но и другой вариант возможен: перед нами остатки ступенчатой пирамиды, чья облицовка со временем обрушилась или была разобрана, после чего холм утратил первоначальную правильную форму.
Вернувшись к подножию искусственного возвышения,"хозяин" острова и его помощники сели отдохнуть, весьма довольные результатом экскурсии. Они выполнили свое обещание, привели нас к вадамага хавитте. И все, больше тут нечего показывать, хотя люди и говорят, будто внутри хавитты лежат всякие ценные предметы. Однако мы отнюдь не собирались ограничиваться беглым осмотром.
Один из островитян принес с собой зеленые кокосовые орехи; теперь он длинным ножом срубил их макушки, словно то были страусиные яйца. Мы с Бьёрном стоя выпили свои порции кокосового молока, после чего стали пробираться в противоположных направлениях сквозь заросли, окаймляющие подножие холма. Из-за обилия съехавших сверху камней деревья здесь росли редко, позволяя протискиваться между кустами и папоротниками.
Первое открытие не заставило себя ждать: по южному скату холма поднимался пандус
(Пандус - наклонная площадка.- Прим. ред.)) четырехметровой ширины. Видимо, он служил лестницей для участников какого-то ритуала, исполняемого на вершине искусственной горы. И мы снова спросили себя: всегда ли этот холм являл собой лишь груду обломков коралла и известняка или же тут первоначально высилась пирамида с облицованными стенами?
У северного склона я обнаружил остатки бывшей облицовки-с десяток уложенных друг на друга, поросших мхом прямоугольных блоков. Неожиданностью было и то, что уцелевшая часть стены образовала прямую линию. У хавитты на Фуа - Мулаку было круглое основание, как и следовало ожидать, коли речь шла о буддийской ступе. Здесь же, судя по оставшейся кладке, основание было прямоугольное. Намечалось сходство со снабженными пандусом ступенчатыми пирамидами Месопотамии, Бахрейна, Омана и доколумбовой Америки.
Взволнованный этим открытием, я позвал Бьёрна, который продирался сквозь чашу с другой стороны, и показал на заинтересовавшие меня камни.
Бесстрастное "ага", услышанное в ответ, заставило меня обернуться, и я увидел, что внимание Бьёрна обращено совсем на другое. Что это такое? - воскликнул он.
Я посмотрел влево и вверх, куда он показывал. Из-под корня на нас таращился огромный глаз. В первую минуту я подумал, что он является частью каменной скульптуры. Древние солнцепоклонники часто именно так изображали глаза, высекая концентрические круги вроде тех, какие можно видеть на наших мишенях для стрельбы. В окружении кустов и папоротников широко открытый глаз казался странно живым, как будто из толщи холма на нас уставился одноглазый гоблин. Четкие рельефные круги были одеты тонким слоем зеленого мха, облегающего камень так же плотно, как шкура облегает тело животного.
- Что это? - нетерпеливо повторил Бьёрн, заметив, что его открытие ошеломило меня.
- Солнечный символ! - воскликнул я.- Мы прибыли сюда искать у экватора следы солнцепоклонников, и вот тебе искомое. Концентрические круги, обрамляющие центральный диск. Священный символ солнца, хорошо известный в Древней Азии, Африке и Америке.
- Так чего еще тебе надо? Бьёрн торжествующе хлопнул меня по плечу, громко смеясь.
Спеша разделить наше веселье, островитяне направились к нам, прокладывая секачами путь в зарослях. Вид диковинного камня поразил их не меньше, чем нас, и после минутного замешательства они принялись расчищать участок вдоль основания хавитты, чтобы мы могли осмотреть все съехавшие с нее камни. Мы решили ограничиться тесаными блоками; на грубой поверхности камней, служивших ядром пирамиды, не было смысла искать декор. Каждый осмотренный блок возвращали на место.
Вскоре возглас одного из островитян привлек наше внимание к накрытому срубленным папоротником прямоугольному блоку с уже увиденным нами солнечным символом. Еще один такой блок лежал по соседству. Потом я обнаружил изображение несколько другого вида. По бокам солнечных колец торчали три "пальца", как будто солнце снабдили крыльями. Крылатый солнечный диск - распространенный символ верховного божества, бога Солнца, у древних скульпторов Месопотамии и Египта.
Число камней с солнечным декором обоих типов множилось. Нашелся даже угловой блок: высеченные на двух прилегающих гранях символы убедительно говорили о том, что сооружение было не круглым, а прямоугольным. Выступ на тыльной стороне остальных блоков с декором позволял вставлять их в кладку так, что наружу смотрела слегка выпуклая грань с резьбой. Прием, который широко применяли великие строители пирамид Старого Света и Древней Америки.
Продолжая высматривать орнаментированные блоки, я отошел чуть в сторону от подножия холма и наткнулся на маленький бугорок, вершину которого составляли частично засыпанные землей тесаные камни. Такой же бугорок торчал по другую сторону большой хавитты. Первый находился к востоку, второй к западу от главного сооружения. Видимо, и тут были какие-то постройки; возможно части храмового комплекса.
В груде камней к западу от холма лежали длинные плоские плиты, на которых искусные мастера вырезали не солнечный диск, а цветки. Солнечные цветки! Рельефные изображения маленьких изящных цветков выстроились в ряд под волнистым краем плит, возможно служивших частью дверных или оконных перемычек. Цветки чередовались с причудливым символом; по-разному оформленный, он состоял из вертикальных палочек и был очень похож на цифры майя в доколумбовой Мексике, отличаясь от них лишь тем, что палочки помещались по обе стороны точек. Кстати, цветок в качестве символа или орнамента я также видел на древних майяских храмах, но еще чаще - в религиозном искусстве индусов.
- Погляди на орнамент "черепаха"! - воскликнул я, показывая Бьёрну на высеченную параллельно цветкам, палочкам и точкам широкую полосу языковидных выпуклостей.
Вспомнив каменную черепашку, выкопанную вместе с головами демонов у жертвенника на Мале, мы с Бьёрном подумали было, что на камне изображены черепашьи щиты с гребнем и задними ластами. Но почему-то не были показаны голова и передние ласты, и, поразмыслив, я понял свою ошибку. Никакие это не морские черепахи, а цветок лотоса, типичный для декора великих древних цивилизаций Старого Света. Еще один "пальцевый отпечаток" в мальдивских джунглях! На Мальдивах, в том числе и на этом острове, хватает морских черепах, однако лотос здесь не растет. Как декоративный символ, он представлен в искусстве древнеегипетской, финикийской, месопотамской и индусской цивилизаций. Задолго до того, как он проник в Европу и украсил капители греческих колонн, лотос прочно утвердился в орнаментах культовой архитектуры Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, символизируя восходящее солнце.
Солнечные диски, солнечные цветки и цветки лотоса!
Нужны ли еще свидетельства? Все говорило за то, что ни мотивы декора, ни приемы строительства не родились на этом или каком-либо другом мальдивском атолле, - они ввезены в готовом виде мореплавателями из дальних стран.
"Хозяина" острова беспокоила мысль о судьбе обнаруженных нами камней с декором. Все предметы, относимые к языческому наследию, напомнил он, уничтожаются. Что верно, то верно... Достаточно было вспомнить, как быстро обезглавили прекрасное изваяние Будды, исчезновение скульптур на Фуа - Мулаку. Лучше уж доставить эти камни в надежное место - музей на Мале. Все равно ведь они найдены не там, куда их укладывали строители. Общими усилиями мы отнесли в лодку тринадцать камней, оставив один на следующий день.
Хотя лучи солнца не проникали сквозь полог листвы, тускнеющий свет говорил нам, что светило прошло над хавиттой и склонилось к западу. Возвращаясь к лодке, мы свернули на боковую тропу, чтобы осмотреть старое мусульманское кладбище. Некоторые плиты в оградах явно были взяты из кладки какого-то более древнего, немусульманского храма. Никто не присматривал за могилами; плиты с великолепной резьбой и арабскими письменами были либо разбиты, либо наполовину засыпаны землей. "Хозяин" острова показал нам щедро орнаментированную плиту на могиле священного деятеля, утвердившего ислам на этом острове. Странно было мне, что островитяне без всякой робости и почтения относятся к реликвиям, связанным с их собственной верой.
Сразу за кладбищем мы наткнулись на остатки каменного забора. В зарослях кругом были заметны следы обитания.
- Замок буддистов, - сказал "хозяин" острова, указывая кивком вправо и влево.
Какое бы строение ни находилось здесь прежде, его разрушили до основания, и лишь поросшие травой бугорки напоминали о нем.
Мы сели в лодку и пошли на веслах к селению на Гааф - Гаду. Гааф - Ган опять обезлюдел; единственными представителями мира теплокровных животных остались огромные летучие мыши, которые начали парить над лесом.
Старые добрые керосиновые лампы освещали нашу комнату, когда "хозяин" Гаду, выполняя свое обещание, привел двух старцев. И каких старцев - один из них ходил и говорил с трудом. Но когда их усадили на деревянные кресла, мы убедились, что голова у обоих работает, хоть и со скрипом.
Ибрахиму Фута, по его словам, было 104 года; Дону Фута исполнилось 102. На вопрос, что они знают о Гане, оба ответили, что, когда там появились большие кошки, одни жители острова погибли, другие бежали. Большие кошки это ферета, чудовища, помесь кошки и человека, которые в прошлом приходили из-за моря. Из нынешних островитян никто не видел ферета.
Большую хавитту построили редины. Но редины были людьми, а не ферета, и они были изгнаны не большими кошками, а другими людьми, которые населяли остров после рединов, но до появления ферета. Правила этими людьми королева по имени Хан-зи. Она построила малые хавитты, однако пользовалась и большой, воздвигнутой рединами. Она отличалась темной кожей и высоким ростом. Ее сына звали Ханзи Боду Такуру, у него был очень громкий голос.
Бьёрн, которому довелось жить среди санталов в Индии, шепотом объяснил мне, что Такур - имя их древнего доброго божества; кроме того, в индийском языке это слово означает "жрец". Мы уже знали, что "воду" значит "большой". Что же до общего для королевы и ее сына имени Ханзи, то его можно было понимать либо как королевский титул, либо как фамилию.
Старики еще раз подчеркнули, что Ханзи была правительницей на острове. Ее люди были такие же высокорослые, как она сама. Они жили на Гане до прихода сингалов, которые их изгнали. Люди Ханзи перебрались на остров Ваду в том же атолле. Некоторое время Ган оставался во власти сингалов; они основали там "королевство кошек". В конце концов они отправились на Ваду и перебили всех людей Ханзи.
Хотя никто из наших собеседников впрямую не отождествлял сингалов с большими кошками, вывод напрашивался. Ведь было же сказано, что "королевство кошек" возникло после того, как сингалы изгнали с Гана людей Ханзи. Вот и получалось, что "королевство кошек" было королевством сингалов, "львиного народа".
Прямо какая-то детективная история... Напрашивалось предположение, что рослые темнокожие люди Ханзи, назвавшие своего принца Такуром в честь индийского бога, были индусами. И вполне возможно, что индусских поселенцев вытеснили исповедовавшие буддизм сингалы с Шри-Ланки; мы же сами видели археологические свидетельства того, что оба народа оставили свои изделия на Мальдивах.
Но если люди Ханзи - выходцы из Индии, а ферета - "львиные люди" с Шри-Ланки, то кто же тогда редины, первыми прибывшие на эти острова и соорудившие большие холмы?
В легендах о Ханзи и "кошачьем народе" речь шла о племенах, которые воевали между собой на Мальдивах до утверждения здесь в 1153 году мусульманской веры. Иначе говоря, так давно, что эти предания можно было бы отнести в разряд сказок, не окажись на островах буддийские и индусские скульптуры. Обратившись к своей записной книжке, я убедился, что обе бронзовые фигурки, хранимые вместе с большими каменными головами в кладовке музея Мале, обнаружены на Гааф - Гаду - том самом острове, где мы теперь находились. Индусская фигурка старше, повреждена эрозией больше, чем буддийская. Это говорило в пользу гипотезы, что индусы (по преданию - люди Ханзи) пришли сюда раньше буддистов, или "кошачьих людей".
Введение ислама восемь веков назад ознаменовало начало нынешней эры и для жителей Гаду. Они до сих пор помнят имя первого человека, обратившего их буддийских предков в мусульманскую веру. Его звали Фагир Хафис Хасан Фали Такур. Это его могилу нам показали на Гане поблизости от "буддийского замка". Погребение по соседству с буддийской святыней можно толковать как свидетельство того, что он был не прибывшим на острова арабом, а местным жителем, принявшим ислам. А добавление к мусульманскому имени слова "Такур" позволяло предположить, что среди его предков были члены королевского рода Ханзи.
Старики сообщили нам, что со времен мусульманского миссионера Аль Фагира были запрещены всякие портретные изображения, тогда как "во времена сингалов" у их предков были скульптуры сидящего Будды. Что до людей Ханзи, то они поклонялись другим изображениям. Копая землю на плантациях ямса на Гане, жители Гаду по сей день находят древние скульптуры.
Меня порядком удивило, что эти люди говорят о сингальском, то есть домусульманском. периоде на их атолле как о широко известном факте. Похоже, как ни старались султаны на Мале из века в век стирать в памяти людей все, относящееся к временам, которые предшествовали их династии, эти потуги теряли силу по мере удаления от столицы.
Один из старцев заявил, что редины и люди Ханзи поклонялись не только скульптурам, но и огню.
Нет-нет, поправил его другой, огню поклонялись редины, а люди Ханзи поклонялись только скульптурам.
Возникло разногласие; один из старцев даже предположил, что люди Ханзи, кажется, пришли сюда раньше рединов. В конце концов они все же согласились, что первыми были редины. И поклонялись они как огню, так и скульптурам.
И в завершение нашей беседы старики заявили, что внутри вадамага хавитты должно храниться много ценных предметов. Прежде, сказали они, это сооружение было значительно выше, с лестницей на одной грани. Дон Фута слышал от старых людей, что большая хавитта внизу была квадратная, а на площадке наверху находилось некое "помещение", которое обрушилось, потому что оно было "полое". Больше они ничего не знали; видимо, хавитту венчала какая-то маленькая молельня.
Когда старцы побрели домой, вождь селения пригласил нас к себе на ужин. Воздав должное поданным женщинами черепашьим яйцам и рыбе под острым соусом, мы вернулись в отведенный нам дом с раскладушками на полу из белой коралловой крошки. Задувая лампу, я успел приметить за двумя незастекленными окнами любопытные физиономии островитян обоих полов и всех возрастов. Должно быть, они еще никогда не видели, как ложатся спать иностранцы. Постепенно их лица смешались с видениями кошачьих людей и рединов, я погрузился в мир снов, и даже тучи комаров не могли извлечь меня оттуда.
На заре меня разбудил заманчивый запах чая и свежих лепешек. Я сел и увидел, что за окнами снова собрались зрители. Собрались снова - или простояли там всю ночь? Кое-как надев штаны, я дал понять, что мне необходимо посетить одно местечко. Через узкую дверь меня провели в защищенный высокой оградой от посторонних взоров маленький сад, где зрели помидоры невиданной величины, и вооружили лапчатым ломом. Сообразив, в чем дело, я выдолбил глубокую ямку ^одноразовое персональное отхожее место. Неудивительно, что тут такие помидоры, сказал я себе.
Было еще раннее утро, когда мы в сопровождении наших вчерашних друзей втиснулись в лодку и снова взяли курс с перенаселенного Гаду на необитаемый Ган. На сей раз нам не пришлось останавливаться за песчаной косой, как это было накануне; благодаря приливу уровень воды в лагуне поднялся, и, работая где веслами, где шестом, мы пошли вдоль берега Гана, намного сократив тем самым пеший путь.
Вода была такая прозрачная, что казалось, ничто не отделяет нас от едва не царапавших днище лодки кораллов. Но ведь только в воде они сохраняют свои чудесные краски. Выброшенные на берег обломки, цветом такие же белые, как образованный с их участием песок, напоминали мертвые кости, а в воде под нами, на расстоянии вытянутой руки, простирался восхитительный живой сад. Безграничное разнообразие форм и красок... Кораллы, кораллы, сплошь кораллы, не оставляя места ни плавно качающимся водорослям, ни мягким актиниям. Кораллы круглые, точно яйца или грибы разной величины, кораллы плоские, как поднос, кораллы словно веера, поставленные в вазу, но больше всего было причудливо искривленных кустиков и изящных канделябров. Все дно лагуны напоминало переливающуюся красками исполинскую палитру. Но если ветер доносил из леса пряные благоухания, то чудо - кораллы, извлеченные из воды, пахли несвежей рыбой. Причудливые обители крохотных полипов, махавших нам из своих окошек, были рассчитаны на подводный мир, и разноцветные рыбешки порхали вокруг них, точно бабочки. Более крупные хищные рыбы, словно чувствуя за собой вину, бросались наутек, когда их накрывала тень нашего киля, а мелюзга ничуть не боялась, разве что на миг спрячется среди острых ветвей кораллов. Меня удивило полное отсутствие морских ежей и звезд, которыми обычно изобилуют подводные сады.
Мы сидели, не отрывая глаз от дивных картин, пока лодка не уткнулась носом в известняк. Шлепая по воде, мы вышли на берег, и "хозяин" показал нам следы мальчишек, которые, несмотря на ранний час, уже прошли по периметру острова, собирая черепашьи яйца. Сегодня как раз был день уборки урожая. Скоро и взрослые жители Гаду приплывут на Ган копать ямс, и наш друг получит положенную ему одну восьмую сбора. Это касалось яиц от трех морских черепах. "Хозяин" предполагал, что их в этот день будет собрано около 400. Ежемесячно на берег Гана выходят 34 черепахи. Они откладывают яйца раз в тринадцать дней, так что в год здесь собирают до 30 тысяч яиц. Правда, теперь на Мальдивах становится все меньше черепах. "Хозяин" Гана пометил особи, посещающие остров, считая их чем-то вроде своих кур. На большинстве островов черепах вовсе не осталось, и мальдивцы были серьезно обеспокоены тем, что скоро исчезнет один из важнейших в прошлом источников пищи.
- В чем причина?- спросили мы. Тот же вопрос я задал министру рыбного хозяйства потом, когда вернулся на Мале.
Прежде мальдивцы черепах не ловили, ели только яйца. Но когда лет десять назад сюда докатилась волна туризма, возник спрос на сувениры из черепаховых панцирей. Туристы платили хорошо, а тут еще мальдивцы в нарушение старых правил стали есть мясо черепах. Продажа панцирей была запрещена законом, но изделия из них свободно продавались в Мале. И кому под силу контролировать охоту на черепах на тысяче необитаемых островов?
У верхней кромки пляжа, где начинались заросли, мы перебрались через несколько глубоких черепашьих гнезд; дальше внутрь острова вела едва различимая тропа. Когда она кончилась, два островитянина принялись прокладывать путь секачами.
И вот мы стоим перед Коли Явали второй по величине хавиттой на Гане. Еще одна груда обломков; не видно ни одного тесаного камня. Без облицовки пятиметровый холм совершенно утратил свой изначальный облик. Правда, на южной грани можно было рассмотреть остатки пандуса. И основание хавитты позволяло предположить, что она была четырехгранная, однако для полной уверенности требовалось произвести раскопки. В нижней части восточного ската находилось заполненное песком углубление, возможно след какой-то ниши.
Комары быстро прогнали нас обратно на берег, к зовущей освежиться купанием голубой лагуне. Шероховатое коралловое дно царапало ступни, точно битая посуда, а тут еще пришлось шагать довольно далеко, чтобы войти по колено в прогретую солнцем воду. Мы легли на кораллы, став недосягаемыми для комаров; тем временем "хозяин" острова послал своих помощников за камнем с резьбой, который мы оставили накануне.
Около часа пролежали мы на колючем матраце, причем тело варилось в воде, а голова поджаривалась на солнце; наконец наши спутники вернулись с камнем. Однако камень был не тот, который мы нашли вчера. На этом обозначенное концентрическими кольцами солнце было крылатым.
Одним словом - новая находка.
Уразумев, что они ошиблись, коренастые крепыши тотчас вновь углубились в заросли - искать нужный камень. Им были нипочем зной и комары. Когда же они еще через час вышли на берег, то каждый нес по камню. Искали один с солнечным символом, а нашли два. Судя по всему, около руин солнечного храма валялось изрядное количество камней с этим мотивом.
Вечером второго нашего дня на Гаду нам рассказали о каннибалах (
По сообщениям Т. Хейердала, каннибализм на небольших островах Индийского океана не известен. - Прим. ред.).). Кое-что мы уже слышали на Фуа - Мулаку. Копая яму под фундамент для дома, один из тамошних жителей наткнулся на кучу человеческих костей, и фуамулакцы считали, что здесь находился "дом костей". На вопрос, что такое "дом костей", нам объяснили, что это место, где оставляли кости съеденных людей.
Есть человеческое мясо не совместимо ни с мусульманской, ни с буддийской религией, однако же нам снова и снова преподносили версию о распространенном в прошлом людоедстве. Старик Абдулла Муфед говорил, что и после утверждения ислама не был полностью изжит каннибализм. От него мы услышали невероятную историю про женщину, которой муж скормил куски собственного мяса, сказав, что это курятина. Увидев рану и раскрыв обман, жена убила его и съела. После того она лакомствами приманивала к своему дому детей, хватала их и тоже съедала. Три года она ела человечину, потом покончила с собой.
Мы можем только гадать о происхождении этой невероятной истории, но похоже, в ней отражены воспоминания о каких-то жутких событиях доисламской поры, свидетелями которых были предки столь миролюбивых ныне островитян. Точно такую же версию услышали мы от старика Мухамеда Дидди; причем он говорил, что героиня этой истории была не одинока в своем чудовищном пристрастии, вместе с ней людоедством занимались ее подруги, и среди них одна акушерка. Ловушками для жертв служили кровати, стоявшие над ямами с острыми кольями на дне.
Жители Фуа - Мулаку настаивали на том, что это было уже после введения ислама, тогда как "дома костей" связывались с какими-то событиями домусульманских времен.
То, о чем нам рассказали на Гаду, происходило не на этом острове. От Дона Футы мы услышали длинную историю о десяти островитянах с атолла Адду, которые, сбившись с курса, после долгого плавания очутилсь в стране Азекара, где жили людоеды.
Здесь они попали в плен, их заточили в большой дом и стали откармливать. Одного за другим пленников куда-то уводили, и под конец остались только двое. Им удалось тайком проследить, какая судьба постигла их товарища: он был отведен в дом вождя и там съеден.
Подкравшись позже в ту же ночь снова к этому дому, они заглянули в окно и увидели, что вождь спит. В пылающем очаге посреди помещения лежали два железных прута. Посовещавшись, они убили вождя раскаленными прутьями, вылезли через окно обратно и побежали к берегу. Здесь беглецы потеряли друг друга, но один из них по имени Кирудуни Алибея несколько дней прятался в куче мусора на берегу. Спасаясь от преследования, он в конце концов попал к хорошим людям, и ему помогли сесть на судно, шедшее в Карачи. Тогда мореходы из Карачи посещали Мальдивы, и после долгих мытарств Кирудуни вернулся домой через Шри-Ланку и Мале.
Географический круг действий в этом поразительном повествовании был поистине огромен, и все же мы не очень удивлялись, ибо уже слышали множество историй о том, как мальдивские суда вплоть до недавней поры ходили во все концы Индийского океана. Другие участники беседы подтвердили, что Азекара - хорошо известное на Мальдивах название далекой страны, которую посещали их предки. Один из наших собеседников считал, что Азекара находится где-то в Индонезии; возможно, в прошлом так называлась вся Индонезия. Наше замечание, что путь домой из Индонезии через Карачи выглядит неправдоподобно, так как Пакистан лежит совсем в другой стороне, никого не убедило. Эти люди отлично знали, где находится Индонезия, а где - Пакистан, и продолжали настаивать, что, хотя Кирудуни вернулся через Пакистан, с каннибалами он столкнулся в Азекаре.
Мы еще раньше знали, что в далеком прошлом торговые суда уже ходили между Индонезией и портами долины Инда. Теперь наши собеседники предположили, что Кирудуни Алибея мог наняться на такое судно и через некоторое время возвратился на родину.
Мы многих мальдивцев спрашивали, где находилась страна Азекара. Большинство, как и первый рассказчик, думало, хотя и не бралось утверждать, что Азекара - часть Индонезии. Далекая страна Азекара... Уж не страна ли ацтеков? Ацтеки все еще практиковали человеческие жертвоприношения и культовый каннибализм на своих солнечных пирамидах во времена, когда на Мальдивах мусульманское население уже давно вытеснило представителей прежних культур, но дело в том, что Мексика находилась слишком далеко, чтобы можно было проделать обратное путешествие так, как оно описано в предании. Видимо, Азекара лежала где-то у пределов Индийского океана, либо в Индонезии, как полагали мальдивцы, либо в Восточной Африке.
Позднее мы убедились, что далекая страна Азекара часто упоминается в старинных преданиях по всему Мальдивскому архипелагу. О том, что в прошлом совершались плавания между Мальдивами и Индонезией, сомневаться не приходится. Всем историкам известен также поразительный, хотя еще до конца не объясненный факт, что древние мореплаватели из Индонезии пересекли весь Индийский океан и обосновались на Мадагаскаре у берегов Восточной Африки. Малагасийский народ и его культура - индонезийского, а не африканского происхождения. А Мальдивский архипелаг лежит как раз на полпути между Индонезией и Африкой.
Мне вспомнились слова Белла о судах, которые строили мальдивцы на островах у Экваториального прохода:
"В последние годы не одно судно, хотя и непреднамеренно, доходило до восточных берегов Африки. Сбившись с курса, люди совершали отважные путешествия, влекомые коварными ветрами и течениями, из-за которых плавание в проходах Экваториальном и Полуторного градуса сопряжено с риском для небольших, но обладающих хорошими мореходными качествами мальдивских барк" (
Bell (1940, p. 116).).
В примечании Белл приводит свежий пример, свидетелем которого он был. Три судна с острова Миду в атолле Адду вышли в Экваториальный проход, направляясь на Мале. Встречные ветры и течения повлекли их на запад через Индийский океан; в конце концов они благополучно пристали к берегам Восточной Африки. Команды всех трех судов были доставлены на Цейлон (Шри-Ланка) и прибыли на Мале в 1922 году, как раз во время последнего визита Белла.
Разумеется, отнюдь не все мальдивские плавания в дальние страны носили случайный характер. Некоторые потомки древних судостроителей и мореплавателей удивили нас знанием портов на периферии окружающего их микромир океана. Города в Индии, Йемене и Сомали, о которых мы знали только понаслышке, были известны этим наследникам древней цивилизации - и вовсе не благодаря современным средствам информации.
Белл, судя по его запискам, тоже был удивлен. Он цитирует первых европейцев, описавших свою встречу с мальдивцами, - французских братьев Парментье. В 1529 году на кораблях "Пенсе" и "Сакр" они обогнули Африку с юга и вышли к острову Фуа - Мулаку в Экваториальном проходе. Приветливый островитянин - видимо, местный вождь или верховный жрец - оказал им радушный прием. В путевых заметках братьев говорится:
"...верховный жрец, человек весьма знающий и учтивый... показал капитану, в какой стороне находятся страны Адам, Персия, Ормуз, Каликут, Мулукве и Суматра; было очевидно, что он хорошо осведомлен и немало странствовал"
(Bell (1940, p. 125).).
Вот какие познания французские современники Колумба обнаружили на крохотном островке в Экваториальном проходе. Каликут - важный порт на западном побережье Индии; Васко да Гама в своем историческом плавании дошел до него всего за тридцать лет до того, как братья Парментье посетили Фуа - Мулаку. арабы же еще в VII веке сделали Каликут одним из центров заморской торговли. Ормуз - пролив, соединяющий Аравийское море с Персидским заливом, морские ворота Месопотамии. Страна Адам - прямое указание на Месопотамию, где как христианские путешественники, так и их мусульманские информаторы помещали (у слияния рек Тигр и Евфрат) легендарные сады Эдема. Назвав Суматру и Молукку, мудрый житель Фуа - Мулаку обнаружил, что ему были известны индонезийские территории, лежащие так же далеко от Мальдивов, как Персия, Ормузский пролив и страна Адам.
Снова и снова мы убеждались, что европейцы только новички в этом океане. Возвращаясь в Европу с претензией на звание "открывателей" Мальдивских островов, на самом деле они были всего лишь поздними гостями морского султаната с многовековой историей и с традициями мореходства, возраст которого измерялся никем не исчисленными столетиями, а пути охватывали изрядную площадь нашей планеты.
Поздно ночью мы простились с нашими новыми друзьями на Гаду, чтобы идти обратно на Фуа-Мулаку. Тяжело груженная дхони повезла нас к стоящему на якоре судну, как всегда битком набитому терпеливо ожидающими пассажирами. Только что над лагуной прошел шквал, и полная людей и камней с декором гребная лодка с трудом одолевала волны. Подойдя к "Миду", мы должны были отталкиваться шестами, чтобы пляшущая на гребнях дхони не врезалась в высокий деревянный борт, и в то же время заботиться о собственном равновесии, передавая мешки с тяжелыми камнями добровольным помощникам, которые распластались на палубе, светя нам фонариками.
Наш капитан с атолла Адду твердо верил в надежность своего судна, его не страшили ни волнение, ни темнота, и, подняв якорь, мы вышли из защищенной лагуны в коварный Экваториальный проход. Темные очертания суши с двух сторон, гул бурунов на рифе, и вот пролив пройден, мы в открытом море. В три часа ночи мы простились с атоллом Гааф, а уже в десять утра были на знакомой стоянке у южного берега Фуа - Мулаку.
Из Мале все еще не поступило никакого ответа. Пока Мусульманский комитет не отозвался на наш запрос, мы не могли приступать к поискам скульптуры, будто бы хранившейся в холме рединов. Ожидая в деревне известий, я воспользовался случаем побеседовать с островитянами. Хотелось выяснить, всегда ли Фуа - Мулаку был обитаем. Первым нашим собеседником на этот раз был слепой старец. По его словам, люди дважды оставляли Фуа - Мулаку. Один раз - в домусульманские времена, когда из-за моря прибыли некие существа, получившие имя ферета. Они убивали островитян и съедали их. Тогда все население покинуло остров, только одна женщина осталась и видела ферета вблизи. Она обварила одного ферета сладким аро, которое кипятила, размешивая палкой. Ферета убежал из ее дома и больше не возвращался. Когда фуамулакцы вернулись на остров, она рассказала им, что ферета ходил на двух ногах и у него было человеческое лицо.
Вторично Фуа - Мулаку был оставлен уже в мусульманские времена. Селение находилось поблизости от ваша вео - большого круглого бассейна, виденного нами. Какие-то путешественники принесли на остров лихорадку, и начался мор. Часть фуамулакцев перебралась на Миду в атолле Адду; там в это время жили люди народа ратин. На Миду еще сохранились следы бассейна, устроенного этими людьми. Восемь лет Фуа - Мулаку оставался необитаем. Когда об этом стало известно правительству султана в Мале, оттуда прислали одного муллу, который вернул фуамулакцев с Миду на родной остров. Семьи островитян тогда делились на четыре группы. Одну возглавлял Мускули Калеге, что означает "старик"; вторую - Матти Атти Калеге, выходец из знатного рода; третью - Али Адалфи Калеге, непрестанно жевавший бетель; четвертую - Бул Хадакене, чьим делом было заботиться о прическах и головных уборах своих соплеменников. Соответственно остров поделили на четыре части, и в каждой была своя мечеть.
Вечером по радио пришел ответ из Мале. Мусульманский комитет решил, что нам не следует искать закопанную статую. Не надо трогать древний языческий холм; лучше не будить спящую собаку...
Восемь дней аренды доброго суденышка "Миду" с атолла Адду истекли, и на другой день мы пересекли вторую половину Экваториального прохода курсом на Адду - Ганн - остров с аэропортом. Отобрав пять лучших образцов облицовочных камней солнечного храма на Гааф - Гане, мы увезли их с собой в Мале. Капитан "Миду" пообещал захватить остальные, когда в очередной раз соберется посетить столицу.
Итак, нам удалось найти то, на поиски чего мы отправились в район Экваториального прохода. После недельного отсутствия мы возвратились в Мале с доказательствами того, что задолго до прибытия на острова у экватора арабов древние солнцепоклонники строили там храмы в честь солнца. И кроме них, исламу предшествовала еще одна древняя цивилизация со своей религией. Без сомнения, происхождение мальдив-цев было достаточно сложным. Островитяне не раз сменяли веру, прежде чем стали мусульманами.
Мы никак не ожидали, что за дверью кладовки в музее Мале нас ожидают еще сюрпризы. Помогая сторожам укладывать привезенные нами камни с солнечным орнаментом на пол рядом с немусульманскими скульптурами, мы обратили внимание на то, что дверная створка упирается в сваленную в углу груду каменных обломков. Я видел их еще в прошлый раз, но тогда заключил, что это мусор, оставшийся после очередного ремонта. Теперь же мы поднакопили кое-какой опыт, знали, как выглядят куски известняка, которые составляли основу разрушенных храмов, и Бьёрн, нагнувшись, перевернул один крупный обломок.
- Странно... Ого, что это? - пробурчал он себе под нос.
На полу перед нами лежал кусок плиты с гладкой, как мрамор, отшлифованной гранью, на которой были высечены какие-то символы.
- Иероглифы! - воскликнул я.- Точно, иероглифы. Но отличные от египетских. Зато очень похожие на письмена долины Инда.
Над строкой диковинных знаков тянулась цепочка из свастик, типичного для Индской цивилизации символа, который в наше время приобрел сомнительную славу, когда его использовали в нацистской Германии. В древности в долине Инда свастика символизировала священное солнце. Ниже пиктограмм над краем излома выступали контуры большого колеса с множеством спиц: знаменитое солнечное колесо той же цивилизации. Сбоку камень украшала широкая полоса характерных изображений лотоса - еще один древний символ обожествляемого солнца. Восходящее солнце... Три варианта солярного символа доминировали на каменной плите.
Однако главное внимание привлекали к себе расположенные в центре пиктограммы. Бросались в глаза стоящие перпендикулярно морские символы: рыболовный крючок, раковина и две рыбы. Кстати, рыба - один из наиболее употребительных знаков нерасшифрованной письменности долины Инда. Две палки с шипом на конце опять же напоминали рыболовное орудие. Был и еще один типичный для индской письменности знак, похожий на кубок; по мнению ученых, он изображает священный барабан. Срединное место в строке занимал сложный знак, что-то вроде сосуда с узким горлом, из которого торчали три стрелы с треугольным наконечником. Стрела также важный знак в письме долины Инда.
Цепочка гравированных знаков обрывалась у отбитого края. Рядом с солнечным колесом помещались еще какие-то непонятные символы. Мы поискали в груде обломков недостающие куски плиты, но их там не было.
Когда мы показали этот камень музейным хранителям, они лишь пожали плечами. Дескать, ничего особенного, какое-то старье, найденное где-то на Мальдивах. Больше они ничего не знали, если не считать, что камень принесли совсем недавно.
Где остальная часть плиты? Недостающие куски?
Они не были в курсе. Между тем, судя по свежему излому, части плиты все еще могли находиться там, где был обнаружен этот фрагмент. Где-то на одном из тысячи атоллов лежали обломки, позволяющие восстановить всю плиту с письменами.
- Придется организовать экспедицию! - сказал я, отрываясь от созерцания драгоценного образца.
- Никуда не денешься! - рассмеялся Бьёрн.
Мы еще находились под впечатлением от всего увиденного за прошедшую неделю и не успели толком переварить открытие, сделанное за дверью музейной кладовки, когда слух о наших наблюдениях дошел до президента республики.
Вот и вышло так, что камни, привезенные нами в музей с атолла Гааф, из грязных мешков перекочевали первым делом на красный ковер в президентском дворце.
После чего
президент, не меньше нас взволнованный нашими находками, предложил мне провести раскопки.
- Организовать археологическую экспедицию здесь - дело непростое,- сказал я Бьёрну, когда схлынуло возбуждение, вызванное открытием плиты с пиктограммами.
Предложение президента организовать раскопки было таким же неожиданным, как отказ Мусульманского комитета разрешить нам вскрыть траншею на фуа - мулакской хавитте. Провести поиск закопанной скульптуры было бы несложно. Что же до серьезных археологических раскопок, то они требуют точного определения стратиграфии с применением специального инструмента и профессионального глаза, чтобы ничего не повредить и все тщательно измерить, описать и отобразить в схемах.
Желают эти люди узнать свое прошлое, скрытое под землей, или не желают?
Мне было еще невдомек, что мы потревожили осиное гнездо. Я не уразумел, что мальдивское общество с его корнями в древних цивилизациях, прочно спаянное воедино строгими правилами ислама за восемь столетий консервативного правления султанов, всего каких-нибудь десять лет назад столкнулось с полчищами иностранцев реактивного века. Ворота во внешний мир только что отворились, и молодая демократическая республика уподобилась тиглю, в котором происходила плавка старого вместе с новым. Кое-кто разделял убеждение бывшего султана, что не следует будить спящую собаку, однако была и прогрессивная группа молодых лидеров, желающая познать собственные корни, утвердиться в своей культурной неповторимости, выявить истину о таинственной неписаной истории своего народа. Нам было ясно, что они прочно связаны с арабским миром и признательны ему за религиозный и культурный переворот в знаменательном 1153 году. Однако вместе с тем они прекрасно знали, что народ Мальдивов не только арабского происхождения. Их предки были обращены арабскими мореплавателями в другую веру, но не вытеснены ими.
На другое утро после приема во дворце нам предстояло покинуть Мальдивы, и мы получили подтверждение, что места в самолете забронированы. Однако президент попросил задержаться на день в Мале, чтобы я мог выступить с докладом о наших открытиях. По этому случаю местное телевидение отменило передачи, чтобы обеспечить нам полный зал. Вопросы аудитории отражали растущее стремление граждан юной республики узнать, что происходило на их родном архипелаге до периода султаната, о котором они были хорошо осведомлены.
Хавитты, скульптуры, редины-все эти понятия им известны, но никогда не обсуждались публично. Я был приглашен осмотреть статую, пока ее не разбили на мелкие куски. Теперь мне предложили приехать снова, чтобы доискаться истины о прошлом Мальдивов. Вызов, который надлежало принять.
И я принял его.
На следующий день мы с Бьёрном вылетели из Мале. Был конец ноября 1982 года. Я наметил вернуться на Мальдивы в конце января 1983 года с отрядом археологов, чтобы приступить к раскопкам до начала дождей. Дожди начинаются на Мальдивах весной, когда северо-восточные муссоны сменяются юго-западными. Солнце и муссоны направляли древних мореходов в их первых плаваниях в этих районах Индийского океана. Солнце и теперь подсказывало где, а муссоны - когда лучше всего работать современной археологической экспедиции.
ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 Второе путешествие
Второе путешествие
Глава V. Археологи прибывают на Мальдивы
Надо ли будить спящих собак?
Вереница атоллов в Индийском океане, сонм не поддающихся точному счету островов. Вот они вновь возникают из голубых безбрежных далей и обретают четкие контуры, скользя под крылом нашего самолета. Точно так же явились они моему взгляду, когда я впервые прилетел сюда три месяца назад. Свой особый маленький мирок. Гирлянда из кувшинок, занесенных ветром на просторы океана.
Но теперь я всматривался в них через телескоп памяти и размышлений. Там, внизу, мне довелось увидеть неисследованные хавитты, потаенные скульптуры, плиты со странными знаками. Летучих лисиц
(Летучие лисицы относятся к подотряду крыланов отряда рукокрылых. По-видимому, речь идет о роде птеропусов (Pteropus medius). Обитают в Юго-Восточной Азии, в бассейне Индийского океана, в Восточной Австралии и т. д.-Прим. ред.), висящих вниз головой под пологом джунглей. Комаров и ритуальные бассейны. Деревни, жители которых поведали мне никем еще не записанные предания о рединах и ферета. Мне не терпелось поскорее выйти из самолета и вновь отправиться на удивительные острова у Экваториального прохода.
В Шри-Ланке и на этот раз ко мне присоединился Бьёрн с двумя помощниками, вооруженными видеоаппаратурой. Был в нашей группе и один мой старый друг из Норвегии, Мартин Мерен, первым после Нансена пересекший на лыжах Гренландию. Мечтая о приключениях в более теплых, непривычных ему широтах, он вызвался вести счета экспедиции. У меня заведено финансировать мои экспедиции выручкой от книг и фильмов. Вот и теперь нас авансировало шведское телевидение взамен на право распространения будущего телефильма; два оператора должны были прилететь на Мальдивы следом за мной.
Было намечено, что два норвежских археолога, которым предстояло руководить раскопками, прибудут через три дня после меня. Я считал, что столько времени потребуется мне, чтобы подготовить выезд экспедиции из Мале дальше на юг. Похоже было, что посланные загодя телеграммы и телефонограммы не находили адресата, так что, помимо личного приглашения от президента и данного мной перед отъездом в прошлый раз согласия, все свелось к одностороннему потоку информации с моей стороны о том, кто из нас и когда приедет в Мале.
Уже во время короткой остановки в Шри-Ланке я почувствовал, что назревают какие-то проблемы. Бьёрн встретил меня известием, что мальдивский деятель Хасан Манику, с которым мы были связаны, только что прилетел в Шри - Ланку и будет отсутствовать на Мальдивах ровно столько, сколько мы собираемся там пробыть. Это ему адресовались все наши послания. Это он первоначально заманил нас на Мальдивы.
Он хорошо знал древнее прошлое своего народа и вроде бы горел нетерпением принять участие в нашем археологическом приключении.
- Хасан Манику, почему вы здесь, когда мы едем в вашу страну производить раскопки?- спросил я, выследив его в одном частном доме в Коломбо.
Ответ последовал лишь после того, как мы за чашкой чая обменялись традиционными арабскими вежливыми фразами.
Хасан Манику устал от политики. Он слишком долго занимал свой ответственный пост. Скорее всего, откажется от должности министра информации и телевидения. Пока вот приехал в Шри-Ланку с семьей, чтобы отдохнуть. Очень сожалеет, что не сможет быть с нами, когда мы займемся исследованиями на его любимых островах, однако не сомневается, что его заместители сделают для нас все необходимое. Так распорядился сам президент.
Вот и вышло, что, когда мы вылетели на Мальдивы, человек, на помощь которого мы рассчитывали, остался в Коломбо. В аэропорту нас встретила крохотная служащая одного из правительственных учреждений. Очаровательная и предупредительная особа, она знала только, что ей поручено отвезти нас в гостиницу на моторном катере, однако опасалась, что могут быть трудности с нашим устройством.
Тем не менее нам, похоже, повезло: на пристани в Мале мы неожиданно для себя увидели личного советника и доверенное лицо президента - Аббасса Ибрахима. Мне был очень симпатичен этот плечистый коротыш с располагающей скромной улыбкой, которого я знал не только по канцелярии президента, но и как члена правления и мальдивского уполномоченного Международного фонда "Уорлдвью". Возглавляющий МФУ Бьёрн не один год был знаком с Аббасом Ибрахимом и охарактеризовал его мне как одного из самых сведущих и влиятельных людей на Мальдивах.
Аббас Ибрахим присутствовал во дворце, когда мы показывали там камни с солярными знаками, и ему было известно, что мы приглашены президентом. Да вот ведь какая незадача - президент только что улетел в Египет...
 Солярные символы типичны для древнейшего пирамидального храма, каким его сооружали на островах у Экваториального прохода
Солярные символы типичны для древнейшего пирамидального храма, каким его сооружали на островах у Экваториального прохода
Сейчас нам было не до поисков гостиницы. Оставив девушку присматривать за багажом, Аббас повез нас на прием к важному деятелю, который замешал Хасана Манику.
На этот раз за знакомой стеклянной стеной в министерстве информации нас принял государственный министр при президенте, его превосходительство Абдулла Джамель. Сердечно поприветствовав гостей, он объяснил, что временный Мусульманский комитет, который отказал нам в разрешении искать каменную статую на Фуа - Мулаку, заменен недавно учрежденным Национальным советом лингвистических и исторических исследований в составе пятнадцати человек. К сожалению, продолжал господин Джамель, этот совет не представляет себе суть намеченных нами занятий. В Мальдивской Республике никогда еще не работали настоящие археологи, и в отсутствие президента никто не уполномочен принимать решения.
Наверно, стеклянные стены вибрировали от нахлынувших на меня противоборствующих чувств. Сидевший по другую сторону служебного стола официальный представитель мальдивского правительства, весьма приятный и учтивый человек, говорил от имени комитета, у которого были все основания неодобрительно относиться к иностранцу, приехавшему раскапывать запрещенного Аллахом идола, пусть даже найденного на их земле. Но ведь и сам этот иностранец не стал бы приезжать для раскопок, не будь ясно выраженной просьбы главы вышеупомянутого правительства. Наши приветливые мальдивские собеседники заверили нас, что понимают необходимость удовлетворительного для обеих сторон решения. Они тотчас распорядились забронировать номера в гостинице "Алиа", и мы договорились вечером, когда спадет жара, собраться там, чтобы продолжить переговоры.
В гостинице у нас не было ни минуты покоя. Все время кто-нибудь заходил, чтобы убедиться, что мы не чувствуем себя покинутыми, и заверить, что все будет в порядке, надо только набраться терпения. Пришел Абдул, наш бойкий молодой переводчик в прошлой поездке; заглянул степенный Мухамед Вахид, который тогда сопровождал нас как представитель мальдивских властей.
Большое впечатление произвело на нас знакомство с Мухамедом Лутфи; он занимал высокий пост в министерстве просвещения и был одним из пятнадцати членов Национального совета лингвистических и исторических исследований. Высокий и плечистый, немолодой уже мужчина с приветливым лицом и темной кожей, Лутфи рассказал нам, что двенадцать поколений назад eго предков привезли из Хадрамаута в Южном Йемене в качестве рабов и сделали телохранителями султана в Мале. Потом они взбунтовались, стали вольными людьми и обзавелись семьями, так что добродушный статный Мухамед Лутфи и по отцовской, и по материнской линии был в родстве с султанами. Он поразил нас основательным знанием истории Мальдивов и местонахождения различных древностей. Но еще больше мы удивились, услышав от Лутфи, что ему предложено быть нашим гидом, когда начнутся археологические изыскания на островах. Похоже было, что, несмотря на отсутствие президента, можно надеяться на удачный исход.
Однако вечером над отелем "Алиа" вновь сгустились темные тучи. Когда пришли наш улыбчивый друг Аббас и господин Джамель и мы расположились в креслах в саду, государственный министр сообщил, что ни он, ни Аббас не уполномочены разрешать нам производить какие-либо раскопки. В отсутствие главы государства этот вопрос может быть решен только Национальным советом. И Джамель добавил, что созовет заседание совета, как только все пятнадцать его членов соберутся в Мале. Похоже было, что наша экспедиция сорвется, даже не начавшись... Спокойно, но достаточно твердо я ответил, что не намерен дискутировать с полутора десятками людей, которые все равно не придут к единому мнению. Время дорого, и я обязан положиться на слова президента, сказанные в присутствии Аббаса Ибрахима. Через три дня прибудут археологи, отпущенные на короткое время университетом и музейным руководством, и каждый лишний день, проведенный нами в Мале, сократит срок, предусмотренный для полевых работ.
Аббас поспешил заверить, что абсолютно все за то, чтобы исполнить волю президента. Вылетая из Мале, президент в последнюю минуту поручил Аббасу проследить за тем, чтобы нам было оказано всяческое содействие. За нами даже закреплено на один месяц правительственное госпитальное судно, и господин Лутфи покажет нам все, что мы пожелаем увидеть. Вот только раскопки производить нельзя.
Я выразил признательность за то, что нашему отряду предоставляется чудесная возможность совершить круиз, который, конечно же, доставит нам огромное удовольствие. Однако археологи, несомненно, будут слегка озадачены, если, приехав из далекой Норвегии, в отпущенное им строго ограниченное время не смогут заниматься раскопками. Боюсь, что дело обернется скандалом для всех сторон, хотя, конечно, еще не поздно послать телеграмму, чтобы они не выезжали.
Наш друг Аббас был в отчаянии, и, озабоченный тем, как нам помочь, Джамель тоже чувствовал себя весьма неловко. Подали новую порцию прохладительных напитков, и Аббас сказал, что просит меня извинить мальдивские власти, но ведь до сих пор здесь не работали археологи, поэтому они просто не знают, что это такое. Национальный совет плохо представляет себе, чем мы будем заниматься.
Я понимал, что ситуация и впрямь необычная. Поскольку Манику оставил свой пост, наши письма, похоже, где-то затерялись; тем не менее, хотя почтового диалога не вышло, хозяева в Мале не отрицали, что ждали и желали нашего приезда.
Время было позднее, и, так как Аббас и Джамель утверждали, что воля президента будет нарушена, если я отменю приезд археологов, мне виделся лишь один выход. Составлю за ночь проект контракта, в котором укажу все, что хотели бы сделать археологи, какая помощь потребуется от властей, перечислю права и обязанности обеих сторон. Мое предложение было принято.
Утром до начала рабочего дня мой проект был готов, и Аббас забрал его, чтобы отдать на машинку и затем представить на рассмотрение Национального совета.
Вскоре прибыл самолет, доставивший одного из двух кинооператоров экспедиции; второй вынужден был остаться в аэропорту в Шри-Ланке, потому что кто-то похитил его паспорт. С тем же самолетом прилетели первые журналисты, прослышавшие о наших планах.
Мы с Бьёрном покинули гостиницу через черный ход. Как ни дорог был каждый час, мы не могли ничего затевать, пока не получили добро от властей. Впрочем, зато мы теперь располагали временем, чтобы немного осмотреться. И мы знали, что именно хотим увидеть. Наш путь лежал через весь невеликий город Мале, столицу Мальдивов, насчитывающую около тридцати тысяч душ. Мале занимает всю площадь одноименного кораллового острова длиной около полутора километров и шириной меньше километра. Городские улицы - без тротуаров и мостовых, чтобы дождевая вода свободно просачивалась в грунт, пополняя колодцы,- образуют сплошной лабиринт, так что нам пришлось ориентироваться по солнцу. А целью нашего похода был крайний восточный мыс, где в домусульманские времена с моря в пору полной луны являлся падкий на мальдивских девственниц демон.
В наши дни мальдивские девы преспокойно катят на велосипедах, петляя между лужами, чтобы не испачкать свою чистенькую школьную форму. Единственная грозящая им опасность - столкновение с редкими здесь такси, которые тоже выписывают зигзаги, огибая упомянутые лужи. Мужчины выглядели такими же спокойными и беззлобными, как женщины. Никаких криков, громких споров, наглых лиц. "Мир вам",- гласит обращенный из маленьких мечетей к мусульманской общине призыв, и похоже, что он действует безотказно.
При всем том Мале уже не тот тихий уголок, каким, наверно, был всего десяток лет назад, когда закрытая прежде страна только-только открылась для внешнего мира. В протянувшейся вдоль лагуны пристани и торговых кварталах бурлила жизнь, словно активная деятельность развернулась здесь лет сто назад. И хотя в гавани все еще преобладали дхони местной постройки, а на улицах - велосипеды, в жизнь мальдивцев на полном ходу вторгался моторизованный транспорт.
 Веселые исследователи на борту дхони, направляющейся к островам у Экваториального прохода. Слева автор, справа кинооператор Оке Карлссон. На заднем плане просматривается съемный нос лодки. Специалисты считают, что у дхони те же традиционные формы, что у деревянных судов Древнего Египта и Финикии
Веселые исследователи на борту дхони, направляющейся к островам у Экваториального прохода. Слева автор, справа кинооператор Оке Карлссон. На заднем плане просматривается съемный нос лодки. Специалисты считают, что у дхони те же традиционные формы, что у деревянных судов Древнего Египта и Финикии
Большинство домов Мале - одноэтажные. Однако в торговых кварталах можно видеть строения в два этажа, а в центре города краны на наших глазах переносили железные балки для первых трех - четырехэтажных правительственных зданий. Появится здесь и огромная новая мечеть, сооружаемая на средства, предоставленные в дар другими арабскими государствами; в лучах тропического солнца блеск ее золотого купола будет виден с моря издалека.
В деловой части города растут словно грибы лавки для туристов, где можно купить изделия из черепаховых щитов, ожерелья из черных кораллов, раковины, акульи челюсти и модели дхони. Здесь же мальдивцев с других островов соблазняют разнообразным ассортиментом магазины, где под одной крышей собраны железные бочки, кровельное железо, нейлоновые веревки, освежающие напитки, жевательная резинка, консервы и пластмассовые фляги. В одном магазине мы увидели рядом с металлическими изделиями свежие помидоры с Канарских островов и огурцы из Голландии. В другом месте нам бросилась в глаза целая полка с дезодорантами!
Днем не составляло труда опознать по красным потным лицам немногочисленных туристов с отведенных иностранным гостям островков; одни охотились за сувенирами, другие тщетно искали какой-нибудь бар или тенистое местечко, где можно было бы перевести дух.
Большая часть города напоминала деревню с низенькими лачугами из битого коралла на строительном растворе. Часто стены были окрашены в светлые тона - голубой, зеленоватый, розовый, желтый. Мы видели даже хижины из сплетенных листьев кокосовой пальмы; правда, в наши дни это преимущественно кухонные пристройки. Из-за жаркого солнца местные жители предпочитают окнам открытые двери, что позволяло нам рассмотреть обитателей домов, сидящих на кроватях или подвесных койках; во многих случаях рядом с кроватью стояли велосипеды. Возможно, по случаю пятницы - мусульманского праздника - чуть ли не из каждого жилища рвались звуки музыки или речи, исторгаемые транзисторами. Эти новейшие блага были включены на полную мощность, так что от дома к дому прохожий шел как сквозь строй. Большинство участков соединялись высокими коралловыми оградами, за которыми размещался пышный тропический сад. Кокосовые пальмы, широкие листья бананов, кривые ветви вечнозеленных хлебных деревьев и магнолий возвышались над приземистыми постройками, создавая впечатление, что вы идете через обширный парк или ботанический сад. Глухой стук ведра, опущенного в колодец, сменялся плеском воды, когда то же ведро, мелькнув над оградой, опрокидывалось на голову нуждающегося в холодном душе.
Чистота здесь в почете. Мы снова увидели женщин в длинных платьях, старательно подметающих улицу веником. Окончив работу, они удалялись, словно скользя на роликовых коньках, держа корпус совершенно прямо, как это свойственно женщинам, с детства приученным носить на голове поднос или кувшин.
Чем-то все эти картины напоминали мне Полинезию времен Гогена, когда смуглые босоногие прелестницы, с длинными черными волосами, в юбках по щиколотку, очаровывали своим обаянием заморских гостей. Понятно, обрамление из пальм и бананов усиливало это впечатление. Но хотя мальдивские женщины, как и полинезийские вахины, выбирали самые яркие и пестрые ткани для платьев, они в отличие от своих сестер в Тихом океане славятся целомудрием. Во всяком случае, по отношению к немусульманам.
Большинство мужчин Мале также одевались на полинезийский лад, обертывая тело куском ткани. Отнюдь не такие яркие, как платья женщин, эти набедренные повязки обычно тоже доходят до щиколотки, реже - до колена. Один юноша заставил нас подскочить от неожиданности, промчавшись мимо на рокочущем мотоцикле; сам он рокота не слышал, так как уши его были зажаты наушниками мини-проигрывателя. Вообще молодые мальдивцы мало чем отличались от молодежи других стран. Наверно, родители мечтают, чтобы их чада, вырастая из школьной формы, тут же сменяли ее на строгий костюм служащего правительственного учреждения.
Никто на улице не здоровался с нами. На Мальдивах это не принято. В мальдивском языке нет соответствующих слов; впрочем, постепенно внедряются арабские приветствия.
Приближаясь к восточной оконечности острова, мы за последним перекрестком увидели проблески морской синевы. В этой части мальдивской столицы жизнь поистине била ключом. Каждый день еще до восхода солнца гавань наполнялась гулом-тарахтели моторные лодки и мотоциклы, гремели бочки и брякали цепи на палубах и пристанях, звучала громкая радиомузыка, тысячи мужских и женских голосов на берегу и в лодках силились перекричать друг друга.
Синие волны за молом бороздили дхони всех размеров - быстрые и тихоходные, моторные (по преимуществу) и парусные. Время от времени, перелетая с волны на волну с такой скоростью, будто за ним гнался сам древний демон моря, мимо них проносился чей-нибудь глиссер. Воздух дрожал от рокота соревнующихся в быстроте судов, послушных зову внешнего мира, где наша развитая смена словно спешит растратить глобальные запасы топлива, пока они совсем не иссякли.
Наконец мы вышли на берег, оставив за спиной гавань с ее сумятицей. Перед нами простирался океан.
Здесь, на восточном мысу, дорога следовала вдоль самой воды, окаймленная с одной стороны рифом, с другой - высокой стеной. Мы могли созерцать страницы мальдивской истории. На рифе лежали чуть покрытые водой, обросшие кораллами старинные пушки, как если бы кто-то свалил здесь ненужный металлолом. Мы насчитали около полутора десятков пушек, и стоимость этого металла определялась отнюдь не весом - речь шла о ценнейших образцах, обладать которыми был бы счастлив любой исторический музей или коллекционер старинного оружия. Пушки были португальские и напоминали о первом появлении европейцев в этих водах. Их сбросили на риф больше четырехсот лет назад, а точнее, в 1573 году, когда португальские оккупанты после пятнадцати лет хозяйничанья были изгнаны мальдивцами. В долгой истории Мальдивов это единственный период, когда архипелаг находился под чужеземным игом.

Мальдивский архипелаг протянулся баррикадой из рифов и низких атоллов на 900 километров с севера на юг до самого экватора. С моря заметить острова невозможно, пока не покажутся кроны пальм на горизонте, так как кромка их пляжей поднимается всего на два метра над уровнем моря
Высокая стена по другую сторону дороги была совсем новая, однако включала в себя следы гораздо более древней эпохи, хотя взгляд обычного прохожего могли бы привлечь только крупные буквы на воротах: "Мальдивский Центр Технического Обслуживания". Стена поднималась выше нашего роста; ее сложили из битых кораллов, скрепленных строительным раствором. Однако некоторые камни выделялись теперь уже знакомыми нам чертами. Они были обтесаны под прямым углом и сохранили следы декора - блоки из разрушенных храмов. Вырванные из контекста страницы древней истории Мальдивов.
Происхождение этих тщательно обработанных блоков было очевидно. Мы находились на крайней восточной оконечности острова. Это сюда в домусульманские времена приводили девственниц. Здесь в озаренном полной луной океане загорались огни, знаменующие приход злого джинна, демона, который в далеком прошлом терроризировал жителей Мале и о котором до сих пор рассказывали легенды старики.
Ворота были открыты, и мы вошли. Никого. На земле лежали части моторов и несколько катеров. Стояла подпертая камнями маленькая лодка. Один камень явно был взят из храмовой кладки. На куче гравия валялся другой, подобный ему.
Из сарая вышел молодой парень.
Неполадки с мотором? Нет? Тогда зачем мы пришли? Он недоумевал.
Верно ли, что с этим местом связаны истории о девственницах и истуканах?
Молодой мальдивец посмотрел на нас подозрительно, вытер о джинсы вымазанные машинным маслом руки, вежливо проводил нас обратно до ворот и запер за нами.
Мы нашли искомое место. Об этом говорили камни из храма джинна. Дьявол оставил свои следы на стене. Но для современного поколения детей Аллаха идолами стали моторы.
Решив обойти вдоль берега весь остров, мы вскоре очутились у городской свалки. Обширные коралловые отмели были завалены наступающими на море горами мусора, на которых прижился куцый камыш. При нас мусорщики опорожнили очередную ручную тележку. Двое рабочих сжигали то, что могло быть унесено волнами, и сгребали золу на отмель. Большую часть свалки составляли обломки снесенных построек и бытовые отходы.
Мир пластика, банок, бутылок, тряпья, мелкого мусора - так выглядел новый берег. Вонь стояла, как от тухлых яиц. Металлические баллончики, бутылки из-под кока-колы, битые горшки, старые покрышки, сандалии и пластик, пластик, пластик...
Сидя на корточках у воды, споласкивала руки миловидная женщина. Жительницы близлежащих домов спускались на берег мыть посуду. Кое-где вода в лагуне была такая же черная, как закопченное дно их кастрюль, так что им приходилось искать места почище. Да, куда там человеку со всей его современной техникой тягаться с Аллахом в создании красивых коралловых островов...
А что оставалось делать этим беднягам? Как и везде в современном мире, жители захолустья норовят перебраться в столицу. Так уж вышло, что главный город Мальдивской Республики занял крохотный островок, отличающийся от тысячи других островов архипелага тем, что здесь есть магазины, телевидение, рабочие места. И нет ни пахотной земли, ни холмов, за счет которых мог бы расширяться город - только то. что можно отвоевать у необозримого Индийского океана.
 Мальдивский архипелаг протянулся баррикадой из рифов и низких атоллов на 900 километров с севера на юг до самого экватора. С моря заметить острова невозможно, пока не покажутся кроны пальм на горизонте, так как кромка их пляжей поднимается всего на два метра над уровнем моря
Мальдивский архипелаг протянулся баррикадой из рифов и низких атоллов на 900 километров с севера на юг до самого экватора. С моря заметить острова невозможно, пока не покажутся кроны пальм на горизонте, так как кромка их пляжей поднимается всего на два метра над уровнем моря
Далеко в море просматривались очертания других зеленых клочков суши. То были островки, отведенные для туристов, источник твердой валюты для современной экономики Мальдивов. А за домами позади нас полз огромный желтый автокран, подобный древнему динозавру.
Вернувшись в гостиницу, мы поспешили стать под душ и обратили внимание на странный запах воды. Она пахла тухлыми яйцами. Хозяин гостиницы, когда мы к нему обратились, учтиво заверил, что со временем дурной запах исчезнет, просто гостиница построена на участке, недавно отвоеванном у моря, и колодец только что вступил в строй.
Остаток дня мы провели в ожидании, когда вернется проект контракта, утвержденный Национальным советом. Он не вернулся.
Не дождались мы его и на следующий день, когда наши археологи должны были вылететь из Норвегии. Положение было критическое, и я пошел к Аббасу Ибрахиму, чтобы сказать, что мне необходимо связаться с президентом, где бы он ни находился. Увы, никто не знал, по какому номеру можно застать президента в Египте. И вообще, зачем звонить президенту, коль скоро он распорядился, чтобы мне было оказано всяческое содействие. Предназначенное для нас судно уже ждет в гавани, готовое сняться с якоря, как только мы получим разрешение на раскопки. К сожалению, все больше членов Национального совета выступают против раскопок, добавил Аббас. Стремясь продемонстрировать доброжелательство властей, он повел меня в гавань и показал стоящий за молом на якоре белый красавец-корабль, зеленый ниже ватерлинии, с надписью "Золотой луч, Мале" поперек широкой кормы.
Так состоялось мое первое знакомство с правительственным госпитальным судном, оставленным в дар британскими ВМС, когда они после второй мировой войны покинули Адду - Ган.
Англичане не оккупировали Мальдивские острова, авиабаза была размещена на Гане по договору с местным правительством. Аббас рассказал, что длина "Золотого луча" -23,5 метра; команду составляют одиннадцать мальдивцев. Отличное судно готово везти нас, куда мы пожелаем.
Однако мне от этого было не легче, поскольку, ложась вечером спать, я не мог не думать о том, что завтра в час дня в Мале должны прибыть археологи.
Следующий день было воскресенье, но магазины работали. Не в силах сидеть сложа руки, я назначил Бьёрна генерал - квартирмейстером, и, вооружившись длинными списками, мы отправились закупать провиант с таким расчетом, чтобы по меньшей мере двадцать два человека были обеспечены всем необходимым на тридцать дней вдали от всех источников снабжения. Через полтора часа после того, как мы приступили к делу, нас разыскал посыльный из министерства информации и сообщил, что мне нужно срочно явиться к его начальству.
Я поспешил в министерство, однако там мне сказали, что встреча назначена в другом месте. Не мешкая, пошел по указанному адресу, где выяснилось, что совещание вообще отменено за ненадобностью.
Вернувшись в министерство, я нашел там записку, которая гласила, что некий доктор Хидрал будет ждать меня в "Амини билдинг" в 12.30. То есть, как раз тогда, когда я должен был встречать в аэропорту археологов.
Поручив Бьёрну привезти их на катере в город, я направился в "Амини билдинг". Поскольку я считал бесцельным обсуждать свои планы с целым синклитом местных деятелей, Аббас терпеливо осведомился, не соглашусь ли я поговорить хотя бы с двумя членами совета. Я дал согласие и для численного равновесия захватил с собой Арне Фьертофта, норвежского сопредседателя Международного фонда "Уорлдвью", который вместе с журналистами прилетел с Шри-Ланки, чтобы проводить нашу экспедицию в путь на острова. Будучи в дружбе с Аббасом Ибрахимом, он мог оказаться ценным напарником в странном поединке, который мне навязали.
В "Амини билдинг" я с радостью увидел двух симпатичных деятелей из Национального совета лингвистических и исторических исследований, ранее называвшегося Мусульманским комитетом. Одним из них был темнокожий богатырь Мухамед Лутфи, тот самый, который предупредил меня, что назначен сопровождать наш отряд, другим - Мухамед Вахид, плотный крепыш с косматой черной бородой и лучащимися дружелюбием глазами.
Только я приготовился занять место у разделявшего нас длинного стола, как меня остановили. Что-то не устраивало маленькую секретаршу, которая то входила в кабинет, то снова выходила, манипулируя стульями, предназначенными для двух мальдивцев и для меня с Арне. Посчитав, что двух пар стульев мало, она добавила один стул у торца стола. Тут же унесла его, но только затем, чтобы через минуту на то же место поставить два кресла.
Только тут я сообразил, что встречавшие нас деятели - не главные действующие лица, ибо они почтительно вытянулись в струнку, когда в кабинет вошли еще два представителя администрации. Оба выступали так важно, что сразу было ясно: перед нами высокопоставленные сановники. Притом равные по рангу, потому-то секретарше в конце концов и было сказано, что они будут сидеть бок о бок у торца стола.
Одного нам представили как достопочтенного Мусу Фатхи, председателя Верховного суда республики, а это на Мальдивах, где законы основаны на предписаниях Корана, чрезвычайно важная должность.
Вторым был достопочтенный Мухамед Джамель, и, хотя он держался так, словно впервые увидел меня, я-то знал, что передо мной председатель Национального совета, от которого зависит решить, чем нам будет позволено заниматься, когда мы отправимся в путь на "Золотом луче".
Поскольку эти двое были высшими представителями религиозной иерархии, их могущество мало в чем уступало власти демократически избранного президента. Оба молчали с важным видом, предоставив открыть совещание Мухамеду Вахиду. Выступая от имени своих начальников, вроде бы не понимавших английского языка, он в самых учтивых оборотах призывал извинить мальдивцев, понять их психологию и опасения в отношении раскопок. Многие рассуждают так: сотни лет хавитты оставались нетронутыми, зачем же теперь рисковать, почему не оставить все по-прежнему?
Я объяснил, что мы отнюдь не собираемся грабить хавитты. Мы вообще не станем их трогать, если власти против. Нас в такой же мере занимает поиск других памятников прошлого, например древнейших поселений, вообще любых предметов, способных что-то рассказать о предках нынешних островитян. Именно об этом просил нас президент.
И сразу тучи развеялись. Нам было разрешено производить раскопки на любом из островов архипелага, только бы мы не трогали хавитты. Затем наши собеседники посовещались между собой на дивехи, и Аббас, снова перейдя на английский язык, поразил меня заявлением, что нам разрешается также раскапывать хавитты. Правда, не больше трех; сверх этого числа надлежит запросить новое разрешение.
Мы внесли в составленный мной проект ряд незначительных поправок, после чего я, окрыленный достигнутым, покинул совещание и поспешил на встречу с археологами, которых Бьёрн привез из аэропорта в гостиницу. Мне было сказано, что в 16.00 я получу перепечатанный контракт с подписями членов Национального совета.
В тот день контракт так и не появился. До самого конца работ я вообще не увидел ни его, ни какой-либо другой документ, заверенный Национальным советом или иным правительственным учреждением. Но Мухамед Лутфи явился в гостиницу и, широко улыбаясь, заверил нас, что отныне мы можем спать спокойно, больше проблем не будет. Решать, где можно производить раскопки, поручено ему, и я могу всецело положиться на него, так что никаких бумаг не понадобится.
Уже стемнело, когда я отправился осматривать "Золотой луч". Отплытие было назначено на 7.00 следующего дня. Корабль был отличный; просторный трюм как нельзя лучше подходил для хранения наших припасов и снаряжения. В этом же бывшем лечебном помещении стояло множество раскладушек. На палубе находились три маленькие одноместные каюты плюс спальное место позади штурвала, предназначенное для капитана.
Однако, осматривая единственную на судне деревянную спасательную шлюпку, я обнаружил в днище дыру, в которую свободно могла бы пройти моя голова. Шлюпка явно повстречалась с каким-то рифом. Я сказал, что без плавсредств для высадки на берег отказываюсь выходить в море. Мне ответили, что сейчас уже поздно и вообще - для беспокойства нет причин, ведь на борту есть радиостанция, так что мы сможем связаться с вождями интересующих нас атоллов, и за нами вышлют дхони. Но я настаивал на своем. Нельзя, чтобы возможность высадки всякий раз зависела от присутствия на острове вождя, тем более что большинство островов архипелага необитаемы. К тому же в мире трудно найти более опасные для навигации воды, ведь Мальдивы - это сплошной лабиринт приливо-отливных течений, подводных рифов и песчаных баров. Но решающим аргументом стало основанное на моем морском опыте предупреждение, что выходить в океан с двадцатью двумя человеками на борту без единого спасательного плота - грубейшее нарушение международного законодательства.
Всю ночь в Мале звонили телефоны и колесили посыльные, и, когда взошло солнце, к высокой корме "Золотого луча" подвели снабженный прочным буксирным тросом, идеально подходивший для наших целей большой металлический плоскодонный катер.
Горы закупленных накануне предметов, доставленных в наши гостиничные номера, несколько осложнили нам утренний подъем. Между кроватями громоздились ящики, мешки, корзины, лежали лопаты, канистры, кастрюли, ножи, веревки, керосиновые лампы, крупногабаритный инструмент, который археологи не стали везти из Норвегии, полевое снаряжение, продукты, лекарства. По мере того как члены экспедиции и наши мальдивские помощники выносили имущество на ожидавшие на улице ручные тележки, я отмечал красной галочкой артикулы, уже зачеркнутые синим в моих блокнотах. Все необходимое было налицо. И мы в отличном настроении помогли владельцам тележек катить тяжелый груз через город до гавани.
На го, чтобы затем переправить наше имущество на борт "Золотого луча", ушло немало времени, и было уже не семь часов, а 8.30. когда наконец загремели якорные цепи и Мухамед Лутфи беспокойно посмотрел на свои часы.
- Мы опаздываем на полтора часа,- сказал он. - До захода солнца не успеем пройти столько, сколько было намечено. А капитан хотел бы засветло бросить якорь в какой-нибудь лагуне. Слишком опасно плавать среди здешних рифов в темноте. Капитаном "Золотого луча" был немолодой уже, жилистый коротыш по имени Мухамед Манику, который, однако, просил звать его Накаром: дескать, слишком много на Мальдивах Мухамедов и Манику. Он был скуп на слова, а его запас английских оборотов и вовсе равнялся нулю. Но тут неожиданно выяснилось, что наш сопровождающий Лутфи ко всему еще и опытный моряк. У него был диплом на право судовождения, а поскольку в обязанности Лутфи входило инспектирование всех мальдивских школ, он - в чем мы со временем убедились как никто иной знал свой родной архипелаг. И так как на судне Лутфи представлял правительство, капитан Пакар во всем, что касалось маршрута, подчинялся ему.
Кроме Мухамеда Лутфи, на борт "Золотого луча" с нами поднялся мужчина эфиопского типа, с аккуратной черной бородкой, в очках. Его звали Кела Али Ибрахим Манику; ответственный сотрудник планового управления мальдивской администрации, владеющий английским языком, он был назначен нам в помощь для переговоров с местными вождями.
Только теперь, когда судно тронулось с места, могли мы расслабиться и сказать себе, что наша экспедиция наконец-то началась. И только теперь, когда стали уходить назад шеренги мачт дхони за молом и дома в порту Мале, у меня появилась возможность толком поговорить с нашими двумя археологами. Стоя у фальшборта, мы любовались растянувшейся по фронту флотилией зеленых островков, которые были прочно пришвартованы к кольцевому рифу Мале, тогда как наше судно скользило к выходу из тихой лагуны.
И вот осталась позади окаймляющая столицу цепочка туристских островов. В нашем десятилетии, когда и мальдивское телевидение уже начало распространять космическое умонастроение, напрашивалось сравнение этих клочков суши со спутниками, на которых обосновались инопланетяне. Во всем Мальдивском архипелаге только здесь могли находиться немусульмане.
Велико было наше облегчение, когда "Золотой луч" вышел в изборожденное пологими волнами открытое море. Однако сразу за горизонтом с обеих сторон были и рифы, и острова. Мы шли юго-западным курсом, пересекая наискось водное пространство, разделяющее две параллельные гряды мальдивских атоллов и отмелей, которые протянулись с севера на юг приблизительно на 950 километров.
Принесли шезлонги, и, пока Пакар и его люди занимались своими делами, мы собрались на кормовой палубе, чтобы обсудить наши планы. Лутфи согласился со мной и Бьёрном, что самое правильное - идти к Экваториальному проходу, где мы рассчитывали на интересные находки. Он прикинул, что при нашей скорости, которая из-за катера на буксире не превышала 5,5 узла, и при том, что капитан не советует продолжать движение по ночам, на путь до этого пролива у нас уйдет три дня.
Наш молодой переводчик Абдул и его два шри-ланкийских друга, студенты Салия и Палитха, не скрывали своей радости, что вновь увидят Фуа - Мулаку. От капитанского мостика до машинного отделения эта веселая троица щедро делилась с командой "Золотого луча" своими воспоминаниями о прелестных девушках и лакомых плодах этого острова.
Большинство бледнолицых нашего отряда, обнажившись в пределах, допускаемых мусульманскими правилами, приняло горизонтальное положение на палубе, спеша наверстать упущенное за долгую северную зиму. Смелее всех разоблачился мой давний друг Мартин Мерен. Старший на корабле по возрасту, он был страстным любителем гольфа и лыж и в своей конторе почти не сидел, предпочитая свежий воздух. Он и в экспедицию со мной поехал из любви к приключениям.
Главное ядро нашего отряда составляли два археолога. Руководить раскопками должен был еще один мой старый друг Арне, то бишь профессор Арне Шёльсволд. Впервые мы с ним поработали вместе в Галапагосской экспедиции 1952-1953 годов, затем в 1955-1956 годах провели целый год на острове Пасхи и других островах Полинезии. Глядя на длинную бороду и оседлавшие кончик носа очки рассеянного профессора, руководителя археологического факультета в Университете Осло, вряд ли вы догадались бы, что перед вами двужильный экспедиционный труженик и первейший весельчак в любой компании. Арне только что возвратился с Пасхи, где мы возобновили раскопки, и я был весьма благодарен университету, когда его отпустили еще на месяц с лишним для работы на Мальдивах.
Арне Шёльсволд сам подобрал себе помощника, незнакомого мне потомственного археолога по имени Эйстейн Юхансен. Кто не знал, что этот молодой улыбчивый человек - опытный полевой исследователь и директор одного из областных музеев Норвегии, вполне мог принять его за светловолосого скандинавского киноактера, глядя, как он позирует перед камерами на носу "Золотого луча". Это наши кинооператоры попросили его встать там и показывать рукой на кувыркающихся дельфинов, которые наподобие собачьей упряжки плыли веером впереди нашего судна.
Рассказом о кинооператорах, уроженцах лесов Центральной Швеции, я и завершу представление членов нашего отряда. Бенгт Юнссон в прошлом лесоруб; Оке Карлссон был официантом в сельском кафе. Они познакомились, когда Оке попросил Бенгта помочь ему спилить дерево перед своим домом. Дерево стоит там и сейчас, потому что Оке и Бенгт повели разговор о фильмах и с тех пор странствуют по свету, снимая собственные документальные ленты. Внешне Бенгт был все тот же добродушный плечистый лесоруб, микрофон держал в своих лапищах, словно топор. Да и в Оке оставалось что-то от
элегантного официанта, когда он с камерой продирался сквозь чащу так же ловко, как если бы пересекал с подносом зал, набитый танцующими парами. Обоих распирала энергия, и оба не знали, что такое уныние. Глядя на своих товарищей, я не сомневался, что скука не угрожает нам ни на борту, ни на суше.
Разгорался день, и на свежем морском воздухе при минимуме качки вместе с ним разгорался наш аппетит. По виду тощего судового кока можно было подумать, что этому человеку противен сам вид еды, однако плывущие из камбуза запахи убедительно говорили, что недостаток аппетита отнюдь не мешает ему знать толк в кулинарии. Долговязый каютный юнга сразу заявил о себе как о комике. Чем-то он напоминал этакого стройного итальянца, и ему доводилось прислуживать итальянцам на одном из туристских островов около Мале, в связи с чем он выучил итальянское слово "манджаре" ешьте. И вот теперь, вооруженный кастрюлей и ложкой, он зашагал по палубе, изображая барабанщика и выкрикивая: "Манджаре, манджаре, манджаре!" Тут жевыяснилось, что он знает, кроме одного итальянского, еще и три английских слова: "Фуд из реди!" - "Пища готова!" Тотчас в затылок ему пристроились Мартин и оба шведа, а там и весь наш отряд зашагал по направлению к столовой, отбивая такт ладонями и с растущим воодушевлением повторяя магические слова.
Возраст членов экспедиции варьировал от семидесяти с хвостиком (Мартин) до двадцати двух (Абдул), но было очевидно, что этому никто не придает значения.
Воздав должное аппетитному мальдивскому ленчу - рыба и рис с острой подливой, мы предались пополуденной дреме на солнышке, следя одним глазом за летучими рыбами и резвящимися дельфинами. Вот только акул и китов не было видно.
Под вечер впереди справа показалась длинная цепочка отороченных пальмами низких островов - атолл Ари. Солнце было еще довольно высоко в небе, когда мы, миновав красивый необитаемый остров Дигура, вошли в лагуну Ари через ворота в рифе, окаймленные напоминающими морских животных коралловыми глыбами. Следуя вдоль внутренней стороны кольцевого рифа, мы провожали взглядом удивительно живописные клочки суши без каких-либо признаков обитания, пока Лутфи и капитан Па-кар не заключили, что лучше бросить якорь, не покидая лагуну. Поскольку утром мы стартовали с опозданием на полтора часа, нам теперь не удалось бы до захода солнца пересечь пролив, отделяющий Ари от следующего атолла и присмотреть надежное место для стоянки.
И вот якорь отдан. Лутфи объявил, что у нас еще есть время побывать на берегу. Два острова находились в пределах досягаемости нашего катера с подвесным мотором. Лутфи предложил нам выбрать либо обитаемый остров Маамигили, где можно утолить жажду свежим соком купленных кокосовых орехов, либо необитаемый Ариядду, где можно самим залезть на пальму за орехами. Мартин поспешил высказаться за необитаемый остров, суливший купание в чистых водах лагуны. И когда Лутфи добавил, что некогда на Ариядду жили редины, отпали все сомнения. Желающие заняли места в катере и направились к берегу.
Меня удивило, что Лутфи заговорил о рединах. Что ему известно об их пребывании на этом острове. Только то, ответил он, что когда-то, согласно мальдивским преданиям, они жили здесь. Потом их сменили другие обитатели, но и это было очень давно. Правительство располагает данными двухсотлетней давности обо всех обитаемых островах архипелага, и Ариядду не значится в их числе.
Приближаясь к острову, мы увидели, как из-за песчаного бара выходит большая дхони, битком набитая людьми. Вслед за этим наше внимание привлекла стоящая на берегу группа солдат. Наш катер остановился на мелководье, мы дошли вброд до берега, и Лутфи спросил солдат, что тут происходит. Выяснилось, что Ариядду принадлежит министру обороны, который приказал срубить подлесок, чтобы расчистить место для опытной плантации и разведения птицы и коз.
Нам разрешили свободно ходить по острову, и мы убедились, что работы идут полным ходом. Кругом лежали толстые стволы пандануса и кучи хвороста, перемежаясь участками, где прошелся огонь, обнажив каменные россыпи. Лишь кокосовые пальмы остались нетронутыми. Вся местность просматривалась насквозь между их стволами, и, оставив позади песчаный пляж, мы почти сразу увидели первые следы былого обитания. Чем дальше внутрь острова, тем выше громоздились бесформенные груды известняковых глыб и битого коралла. Плотность и размеры некоторых груд говорили о том, что здесь находились разрушенные впоследствии внушительные строения. В одном месте нам попались остатки фундамента небольшой мечети. Она была тщательно ориентирована на Мекку, однако ее строители явно позаимствовали материал из руин какого-то более древнего и крупного сооружения.
Здесь я впервые на Мальдивах обратил внимание на прямоугольные блоки с неглубокими пазами в виде ласточкиного хвоста на обоих торцах - знак того, что камни плотно соединялись между собой металлическими скобами. Но скобы то ли выпали, то ли были кем-то извлечены, и в кладке мечети камни лежали без учета расположения пазов.
Неподалеку возвышалась гора развалин с плоской вершиной, и Лутфи подтвердил мою догадку, что это - остатки разрушенной в незапамятные времена хавитты. Рядом в земле была глубокая ямина, куда солдаты свалили предназначенные для сжигания сучья и листья. И как же мы обрадовались, обнаружив, что перед нами широкий круглый ритуальный бассейн. Разгребая хворост, мы обнажили участок тщательно обтесанных прямоугольных блоков с пустыми пазами для особых, фигурных скоб на стыках, но большая часть кладки была совсем засыпана землей.
Во всем мире я лишь в одном месте видел этот специфический способ соединения блоков - в древнем финикийском порту Библ в Ливане. Точно так соединялись элементы кладки бывших портовых сооружений, ныне наполовину скрытых под водой перед входом в нынешнюю гавань, причем фигурные бронзовые скобы еще лежали в пазах. Кем бы ни были редины, построившие эту хавитту и бассейн, они находились на достаточно высоком уровне развития, чтобы знать медь или бронзу. И они поддерживали какие-то связи с материком, так как на здешних коралловых атоллах никогда не было рудных месторождений. Насколько известно, финикийцы плавали только в Средиземном море и Атлантическом океане; исключение составляет отраженный в древних источниках случай, когда объединенный египетско-финикийский флот фараона Нехо около 600 года до н. э. обогнул всю Африку. Словом, упомянутые фигурные скобы - настолько специализированный элемент древней каменной кладки, что мальдивские редины явно заимствовали его у какого-то заморского народа, у которого были прямые или косвенные связи с финикийцами в Малой Азии.
Лутфи слышал, что на этом острове был найден каменный фаллос типа, известного у индусов под названием лингам. Его измерили, прежде чем уничтожить; длина изделия была около сорока сантиметров, ширина в основании - около тридцати. Лутфи спросил солдат, что они знают об этом, и один из них вызвался показать, где была сделана находка. Пройдя через весь остров, мы увидели большую хавитту, над которой явно потрудились кладоискатели, о чем говорила широкая яма на вершине. Рядом с хавиттой лежал красиво оформленный ступенчатый блок с квадратной выемкой на верхней плоскости. Солдату говорили, что этот блок служил пьедесталом для лингама.
Прощаясь с островом рединов, мы еще полюбовались великолепной картиной солнечного заката за кокосовыми пальмами. Утром следующего дня с восходом солнца мы вышли из лагуны.
Глава VI. Раскопки начинаются
Погребенный "фаллический храм" на Ниланду
За завтраком мы говорили, смеясь, как нам повезло: не задержись мы с выходом из Мале, так и не бросили бы якорь поблизости от острова Ариядду. И если бы Лутфи случайно не упомянул рединов, возможно, мы предпочли бы посетить другой, обитаемый остров в том же атолле.
 Шёльсволд рассматривает хорошо сохранившийся экземпляр. Что это - фаллические изображения или модель ступы?
Шёльсволд рассматривает хорошо сохранившийся экземпляр. Что это - фаллические изображения или модель ступы?
- Как вы думаете, кем были эти редины?- спросил я Лутфи, который не скрывал своей радости, что мы довольны сделанными открытиями.
Не знаю,- ответил он, широко улыбаясь.
- Но вы допускаете, что в самом деле был такой народ?
- Конечно. Наши предки говорили о них как о реально существовавших людях, твердо произнес он.
После завтрака я поднялся вместе с двумя археологами и Лутфи в рулевую рубку к капитану Пакару. Перед нами на столике лежала навигационная карта, впереди расстилался синий океан. Мы вышли на морской простор к западу от двойного ряда мальдивских атоллов.
 Юхансен нашел обломок, в точности подходивший к ранее найденному
Юхансен нашел обломок, в точности подходивший к ранее найденному
- Где вы хотите остановиться теперь? спросил Лутфи, шагая циркулем по карте в сторону экватора.
- На нашем пути будут еще острова, где, по преданию, побывали редины?
- Конечно - Лутфи внимательно посмотрел на карту, затем показал:- Вот здесь, на Ниланду.
Я поднял глаза на археологов. Они прочли мои мысли.
- Ну что ж,- сказал Арне Шёльсволд.- Зайдем на Ниланду.
Я сходил за рукописью Хасана Манику и прочитал: "Ниландхуу в атолле Фааф. Необитаем. К востоку от центра острова есть развалины около 50 метров в окружности, высотой 120 сантиметров". Дальше упоминались другие древние руины, а также мечеть, построенная первым султаном Мальдивов в 1153-1166 годах. В заключение говорилось следующее: "Здесь выкопан каменный ящик, в котором находился ярко-красный порошок и золотая - скульптура".
 Два наших местных помощника держат в руках образцы многочисленных найденных нами миниатюрных башенок
Два наших местных помощника держат в руках образцы многочисленных найденных нами миниатюрных башенок
- Это был золотой петух,- пояснил Лутфи.- Его отправили в Мале, потом он пропал.
В десять утра "Золотой луч" бросил якорь в открытом море перед рифом Ниланду. Мы рассчитывали хотя бы услышать, что известно о золотом петухе островитянам. По словам Лутфи, селение на Ниланду насчитывало 760 жителей. Нас уже заметили, и Лутфи сообщил по радио вождю, что мы намерены высадиться.
Навстречу нам вышла дхони, чтобы провести наш катер через длинный узкий проход в рифе, расчищенный от коралловых выступов. Кристально чистая вода казалась прозрачнее воздуха, и фантастические фигуры на дне смотрелись как будто через увеличительное стекло. Мы любовались восхитительным зрелищем, идя по бутылочно-зеленой отмели, которая защищала золотистый пляж от натиска небесно-синего океана за нашей спиной, где покачивался на волнах наш красавец-корабль.
 Углубившись в землю вокруг холма в лесу, мы увидели кладку из тесаных блоков. Некогда представители неизвестной культуры воздвигли здесь ориентированную по солнцу пирамиду-храм. Насыпь из кораллового песка была облицована известняковыми блоками. Слева направо: автор, Лутфи, Юхансен, Шёльсволд
Углубившись в землю вокруг холма в лесу, мы увидели кладку из тесаных блоков. Некогда представители неизвестной культуры воздвигли здесь ориентированную по солнцу пирамиду-храм. Насыпь из кораллового песка была облицована известняковыми блоками. Слева направо: автор, Лутфи, Юхансен, Шёльсволд
На пристани нас встретили горячими рукопожатиями вождь, его заместитель и другие видные представители маленькой островной общины. Справившись, по арабскому обычаю, о здоровье друг друга и обменявшись добрыми пожеланиями, мы направились в селение. Лутфи сразу начал задавать подготовленные нами вопросы, обращаясь к одному из старейшин, которому, судя по всему, принадлежало право вести беседы такого рода.
Ну как же, из Мале приезжали какие-то люди, и они откопали три каменных ящика с крышками, шириной от тридцати до сорока пяти сантиметров. Два ящика унесли, не вскрывая, но один взломали, и в нем находился золотой петух. Еще там лежала металлическая пластинка с письменами, которых никто не смог прочесть. Все находки были отправлены в Мале.
Заметно озадаченный Лутфи вынужден был признать, что в Мале упомянутых предметов нет. Между тем вождь настаивал, что ни одна из находок не была присвоена жителями Ниланду. Есть официальные бумаги, говорил он, свидетельствующие, что золотой петух и пластинка с письменами уехали в Мале. Он согласился показать нам место, где были выкопаны каменные ящики.
Миновав подступающие к пляжу пальмы, мы вышли на широкие, замечательно чистые песчаные улицы маленького селения. Стоящие на обочинах или в открытых дверях своих домиков женщины и дети провожали нас взглядами. Как бы извиняясь за их любопытство, вождь объяснил Лутфи, что уже семь лет остров не посещали чужеземцы.
 И на острове Ниланду археологи Шёльсволд и Юхансен раскопали кладку неизвестного храма
И на острове Ниланду археологи Шёльсволд и Юхансен раскопали кладку неизвестного храма
А я поймал себя на том, что рассматриваю вереницы зрителей с таким же вниманием, с каким они глазели на нас. Тут были удивительно красивые лица, и не только молодые члены нашего отряда громко восхищались несравненной красотой местных жительниц. По меньшей мере две из них могли рассчитывать на победу в конкурсе красоты в любой части света: молодая женщина, которая сидела на скамье, бесстрастно куря кальян, и высокая длинноволосая островитянка с младенцем на руках. Впрочем, обе никак не реагировали, когда на них нацелились объективы кинокамер.
Не буду утверждать, что все местные жители были одинаково пригожи. Физический облик мальдивцев сильно варьирует. Вообще говоря, у мальдивцев приятная внешность, с каким бы народом ни сравнивать, вот только ростом большинство не вышло - примерно по грудь среднему европейцу, так что их можно было бы посчитать карликами, если бы не на редкость пропорциональное телосложение, благодаря чему они до самой старости выглядят подростками.
 Откуда пришли их предки? Приплыв на далекие острова в Индийском океане в 1153 году, арабы застали здесь неведомый народ. Разнородный антропологический состав нынешнего 150-тысячного населения свидетельствует о том, что Мальдивы были связаны по морю с разными странами на востоке, севере и западе. Об этом же говорят и раскопки.
Откуда пришли их предки? Приплыв на далекие острова в Индийском океане в 1153 году, арабы застали здесь неведомый народ. Разнородный антропологический состав нынешнего 150-тысячного населения свидетельствует о том, что Мальдивы были связаны по морю с разными странами на востоке, севере и западе. Об этом же говорят и раскопки.
Не только в Мале, но и на других островах преобладают типы ближе к сингальскому или индийскому. Более высокорослых можно принять за арабов, евреев, эфиопов или иных уроженцев Малой Азии и Восточной Африки. Самые красивые женщины, как правило, выделяются хорошим ростом и напоминают скорее светлокожих полинезиек европеоидного типа, чем жительниц соседних стран Южной Азии. Но в отличие от полинезийских прелестниц здешние красавицы не склонны прельщать чужеземцев своими чарами. Законы ислама сильнее всех соблазнов, так что иностранцу не дозволяется обнимать мальдивскую девушку - во всяком случае, пока он не принял мусульманство. И Абдул, весело смеясь, поддразнивал буддистов Салию и Палитху и христианина Эйстейна Юхансена - дескать, им тут не обломится, только он может на что-то рассчитывать.
Сопровождавшие нашу группу старейшины заверили нас, что на острове не осталось ни скульптур, ни каких-либо еще древних предметов, однако семенивший рядом с нами мальчуган простодушно возразил, что у него есть кусок "статуи". К немалому замешательству старших, он сбегал за своим трофеем и принес обломок, который можно было принять за шею и плечо какой-то скульптуры. Рассказывая, как выглядела вся фигура, прежде чем он ее разбил, мальчик нарисовал на песке что-то вроде бюста.
Мы поощрили его за смелость мальдивскими монетами, после чего и другие юные островитяне поспешили принести маленькие куски обработанных камней, по которым, во всяком случае, было видно, что они обязаны своей отделкой не игре природы и не руке мусульманина. Так или иначе, каждый мальчуган был вознагражден. Тут и взрослые не устояли, и один мужчина приволок большой куполообразный обломок известняка. Эйстейн Юхансен вытаращил глаза.
Часть фаллоса! - воскликнул он.- Моя диссертация как раз посвящена распространению древних фаллических изображений, так что я в этом разбираюсь! Шёльсволд согласился с ним, а Лутфи заметил, что вроде бы так выглядел лингам, который был найден на Ариядду, но потом затерялся. Предъявленное нам изделие было расколото вдоль, и вторая половина отсутствовала. Мы показали островитянам на излом, тотчас два молодых парня нырнули в заросли поблизости и откопали руками большой обломок подходящего по величине фаллоидного камня. Однако обломки не подходили друг к другу. Было очевидно, что где-то поблизости разбросаны и другие фрагменты.
Под впечатлением этих находок наши археологи заключили, что здесь стоит поработать. Разбитые изделия явно были связаны с каким-то домусульманским культом. Похоже было, что в наших руках оказалось конкретное подтверждение того, что Лутфи говорил о лингаме, найденном на Ариядду, где нам смогли показать только пьедестал с пазом, видимо представляющий женское начало. Если эти камни и впрямь остатки лингамов, то авторами самих изделий были индуисты, потому что ни у мусульман, ни у буддистов не было фаллического культа. А так как в музее Мале мы видели не только буддийские, но и индуистские скульптуры, у нас были все основания считать, что обнаруженные нами изделия - индуистского типа.
Лутфи согласился с пожеланием археологов начать здесь раскопки и посоветовал провести день-два на Ниланду. Нас это вполне устраивало, и мы немедля приступили к работе.
 Раскопанные нами на Ниланду стены были сложены искусными мастерами. Перед одной из них сохранились остатки пандуса, поднимавшегося к вершине пирамидального сооружения, ориентированного по солнцу
Раскопанные нами на Ниланду стены были сложены искусными мастерами. Перед одной из них сохранились остатки пандуса, поднимавшегося к вершине пирамидального сооружения, ориентированного по солнцу
Совсем рядом возвышался обросший кустарником песчаный бугор, на который мы вряд ли обратили бы внимание, не скажи нам островитяне, что именно здесь были найдены каменные ящики и золотой петух. На нашу просьбу выделить людей, чтобы помогли расчистить бугор, вождь ответил, что завтра предоставит в наше распоряжение столько мужчин, сколько потребуется, а сейчас мы можем рассчитывать на помощь двадцати женщин. Не успели мы оглянуться, как вооруженный секачами отряд босоногих островитянок в длинных цветастых одеяниях принялся лихо рубить кусты, отбрасывая в сторону зеленые ветки. Очень скоро весь участок был расчищен, остались лишь большие деревья и пальмы. Куча белого пляжного песка между ними обозначала место, где нашли золотого петуха. В нескольких шагах оттуда было видно ямку, где островитяне только что при нас откопали обломок фаллоидного изделия. Мы поспешили всех предупредить, чтобы больше ничего не трогали: раскопки - дело археологов.
Островитяне поделились с нами тонкой веревкой из кокосового волокна, и археологи огородили размеченную ими площадку для разведочного шурфа. Едва они начали разгребать лопатками песок, как сразу же наткнулись на куски обработанного камня, которые после очистки щетками оказались обломками фаллоидных изделий, причем один из них в точности подошел к найденному островитянами. Когда мы сложили их вместе, получилось тщательно оформленное и отшлифованное, целое изделие без малейшего изъяна. Ямка наверху и кольцо ниже головки, обозначающее обрезание, не оставляли сомнений в характере изображения.
 Рядом с храмом мы раскопали прекрасную лестницу, которая спускалась в чашу круглого бассейна, чьи стены были выложены из искусно обтесанных блоков. Мы углублялись в грунт, пока не вышли на пресную воду у нижней ступени лестницы, обращенной точно на восток
Рядом с храмом мы раскопали прекрасную лестницу, которая спускалась в чашу круглого бассейна, чьи стены были выложены из искусно обтесанных блоков. Мы углублялись в грунт, пока не вышли на пресную воду у нижней ступени лестницы, обращенной точно на восток
Продолжая работу, археологи в том же шурфе находили все новые обломки фаллоидных изделий, а кроме того, вырезанные из кусков известняка своеобразные предметы, напоминающие ступенчатые башни, какими увенчаны как буддийские ступы, так и индуистские храмы. Напрашивается сравнение с уложенными друг на друга зонтиками или грибными шляпками убывающей величины. Этих "зонтичных башен", как мы их назвали, было почти столько же, сколько фаллоидных камней. В Древней Азии был распространен обычай класть миниатюрные башенки такого рода в погребения в качестве жертвоприношений. Однако здесь они лежали не в погребении; подобно фаллоидным изделиям, из разбили и выбросили как нежелательные предметы. Беспорядочное нагромождение этих обломков само по себе говорило о том, что они были свалены в кучу без разбору и засыпаны песком.
До конца рабочего дня археологи извлекли из шурфа пять фаллоидных образцов, два из них - полные, на коротком цилиндрическом основании, и мы не сомневались, что завтра нас ждут новые находки.
Покидая раскоп, мы уже знали от местных жителей, что бугор, в котором был найден золотой петух, назывался "Фуа Матхи", в переводе - "Холм Яичко".
Если мы все поначалу не колеблясь заключили, что фаллоидные изделия не что иное, как лингам, а "Яичко" представляет собой остатки какого-то храма плодородия, го теперь, под впечатлением от множества найденных там же маленьких "зонтичных башен", Шёльсволд призвал нас не торопиться с выводами. Ибо точно такие предметы находили археологи в Шри-Ланке, а там камни фаллоидного типа с "зонтичной башней" наверху изображали миниатюрные ступы.
Первоначально холм "Яичко" был сложен из красиво обтесанных блоков, но, когда первый султан в Мале стал насаждать ислам, языческие постройки подверглись уничтожению. Вот и здесь тесаный камень пошел на сооружение стоящей по соседству мечети, второй по возрасту на Мальдивах после той, которая по велению того же султана была построена в Мале.
Пока археологи каталогизировали сделанные в тот день находки, я решил вместе с Лутфи познакомиться с этой мечетью. Своими размерами и отделкой она производила весьма внушительное впечатление, несколько неожиданное, если учесть, что маленькая община насчитывала всего 760 душ. Стены внутри были декорированы затейливой резьбой по жесткому дереву, выполненной более 800 лет назад. Разумеется, в наши дни местные жители не стали бы воздвигать такое величественное сооружение. В кладке стен обращали на себя внимание участки, сложенные из тщательно обтесанных больших блоков. Кое-где они были уложены в том же порядке, в каком их клали строители разрушенного храма, и мне явился еще один пример великолепной "пальчиковой" кладки. Как и на Фуа - Мулаку, строители первой мечети на Ниланду упростили себе задачу и, вероятно, сберегли немало времени, использовав блоки из стен немусульманского храма.
Вытирая потные лбы, наши археологи с восхищением подводили итоги первого дня раскопок. В Норвегии подчас за целый сезон не набиралось такого количества находок. Здесь же, на маленьком островке в просторах Индийского океана, разведка сразу принесла целый набор фаллоидных камней или ступ и "зонтичных башен", которые теперь стояли в ряд вдоль шурфа.
Эйстейн Юхансен, лучше кого-либо из нас знающий, сколь редко фаллоидные камни встречаются в Европе, сиял. Лутфи был доволен и удивлен не меньше него. До этого дня на Мальдивах нашли всего лишь один такой лингам, да и тот был утерян. А тут целых пять пронумерованных образцов, которые непременно попадут в музей Мале.
Видя, что эти сотни лет лежавшие в земле странные предметы не вызывают отвращения, а только радуют нас, местные жители тоже возликовали. Такое событие надлежало отметить. И не одним лишь кокосовым напитком, а чем-нибудь отрадным для уха и глаз. Все юные черноволосые красавицы Ниланду, в белых школьных платьях с синими шейными платками, выстроились на главной улице селения. Перед ними сидели на корточках мужчина и девушка с барабанами из полых кокосовых чурбаков, обтянутых кожей ската. Едва мы ступили на улицу, девчушки дружно запели, танцуя под ритмичную дробь барабанов. От этой сцены веяло Полинезией, и сами островитяне не меньше нашего упивались атмосферой праздника. Достойное завершение успешного дня первого дня археологических раскопок на Мальдивах.
Перед тем как возвратиться на борт "Золотого луча", мы с Бьёрном решили искупаться в кристально чистой воде между пляжем и рифом. И как же я испугался, когда Бьёрн, войдя в воду, туг же с воплем выскочил на берег. Что-то ожгло его руку так сильно, что боль не проходила несколько дней, и на коже остался шрам. Бьёрн успел заметить виновницу и обнаружил затем на песке точно такую тварь, выброшенную волнами. Она напоминала опрокинутую хрустальную вазу с как бы намазанной краской острой зубчатой кромкой коричневого цвета
(Речь идет о кубомедузе (Cubomedusae] -обычном обитателе тропического мелководья. Вызывает тяжелые "ожоги", иногда со смертельным исходом.- Прим. ред).). Деревенский знахарь поспешил принести какое-то болеутоляющее растительное снадобье. "Татун фулхи", что Абдул перевел как "острая бутылка",-так местные жители называли это диковинное белесое кишечнополостное, дьявольского родича медуз, который жалил людей своей ядовитой кромкой.
На другой день мы высадились на берег с утра пораньше, чтобы огородить веревкой новый участок для раскопок. Один наш археолог продолжал работать в первом шурфе, добывая обломки фаллоидных камней и "зонтичные башни", а второй заложил шурф двухметровой ширины поперек сложенного белым песком низкого круглого бугра. На хавитту это не было похоже, да и островитяне, как уже говорилось, дали холмику другое наименование "Фуа Матхи".
Осторожно орудуя лопатой и скребками, Шёльсволд углублялся в песок, наконец на исходе второго часа работы крикнул, что вышел на тесаный камень с желобчатым узором на одной плоскости. Мало того, сбоку к этому камню примыкал другой, к нему третий и так далее.
Юхансен присоединился к Шёльсволду, и скребками и щетками они вскоре расчистили верхнюю часть прямой каменной стены. Затем стали углубляться в грунт и обнаружили второй ряд тесаных блоков, под вторым третий, за ним четвертый. Взяв компас, Эйстейн взволнованно объявил, что стена точно ориентирована в направлении восток запад.
Продолжая копать в обе стороны, мы вышли на углы, где стена поворачивала на юг. Предположив, что сооружение было квадратным, и поскольку длина расчищенной нами северной секции равнялась 10,5 метра, мы вырыли яму на таком же расстоянии от северо-западного угла - и угадали, выйдя на стык западной секции с южной. Из чего следовало, что нами обнаружено ориентированное по солнцу строение квадратной формы.
Однако внутри этих стен не было помещения, речь шла не о доме. Только наружная сторона блоков была красиво профилирована; внутренняя осталась грубой и неровной, она явно не предназначалась для обозрения. Свободная полость с самого начала была заполнена песком, как у месопотамских зиккуратов. Об этом говорило и то, что внутри строения шел только чистый песок, тогда как снаружи грунт был полон всевозможных образцов тесаного камня, которые скатились сверху, когда стены были выше.
Памятуя виденное на Гааф - Гане, я не сомневался, что нам и здесь встретилось ориентированное по солнцу подобие зиккурата, и даже обязался съесть свою шляпу, если мы не обнаружим следы пандуса по центру одной из стен. Продвигаясь от северо-западного угла вдоль западной стены, мы наткнулись на примыкающую к ней снаружи под прямым углом красивую кладку из больших квадратных блоков. Но она помещалась всего в четырех метрах от угла, а не в центре 10,5-метровой стены, как я предсказывал, и к тому же была слишком узкой для пандуса, зато это вполне могла быть стена какой-то пристройки.
Я очень гордился подаренной мне Бьёрном великолепной синей панамой из Непала и вовсе не хотел ее лишиться. Полагая, что нам встретилась подпорная стенка широкого ритуального пандуса, тоже заполненного внутри песком, я отмерил ровно четыре метра от юго-западного угла и воткнул в грунт колышек там, где твердо рассчитывал обнаружить вторую подпорную стенку. Двадцать минут спустя я возвестил друзьям, что шляпу есть не придется. Углубившись в грунт, мы раскопали кладку как раз под моим колышком.
Почти одновременно среди обломков в песке перед главной стеной Эйстейн Юхансен обнаружил поразивший его фрагмент известнякового блока.
Классическая архитектура!- воскликнул он.- Резьба на этом камне напоминает то, что у древних греков связывалось с понятиями о триглифах и метопах!
Как было не восхититься такой находкой, которую и впрямь отличал хорошо известный классический орнамент, заимствованный греками у древних народов Ближнего Востока. Ниже профилированной кромки чередовались прямоугольные выступы и выемки.
- Видимо, на вершине этого холма или пирамиды стоял храм,- продолжал Юхансен - Триглифы и метопы обычно составляли часть фриза постройки.
Сложные контуры раскопанных нами стен произвели сильное впечатление на Лутфи и нашего офицера связи Келу Манику; да и для местных жителей наше открытие явилось полной неожиданностью.
Кладка расчищенного фасада насчитывала девять ярусов тесаного камня с замысловатым чередованием ступеней и карнизов. Три нижних ступенчатых яруса выдавались вперед, служа основанием всей конструкции. Выше них поднималась вертикальная плоскость, однако камни четырех последних ярусов были причудливо скошены и закруглены, причем блоки четвертого яруса выступали над третьим наподобие корабельного носа. Верхняя плоскость камней этого яруса была гладко обтесана; видимо, она составляла пол первой террасы или платформы. Словом, конструкция была непростая и выглядела весьма внушительно.
Мы спросили Лутфи и местных жителей, как они представляют себе отсутствующую верхнюю часть этого сооружения. В ответ Лутфи начертил на песке контуры ступенчатой пирамиды, увенчанной маленьким куполообразным святилищем. Эта версия явно основывалась на том, что островитяне либо видели сами, либо слышали от других о развалинах ступенчатых сооружений в пределах архипелага.
Что до наших археологов, то наличный материал позволял им уверенно говорить лишь о том, что нами обнаружены ориентированные по солнцу остатки заполненного внутри песком квадратного ступенчатого сооружения с каменной облицовкой и с пандусом в середине западной грани. Гладко обтесанная плоскость верхнего яруса кладки обозначала конец первой террасы, на которой, судя по обилию съехавшего сверху песка и камней, стояла какая-то надстройка. Количество осыпавшегося песка позволяло предположить, что первоначально была по меньшей мере еще одна терраса, а триглифы и метопы как будто указывали на то, что все сооружение венчалось крытым святилищем вроде того, какое начертил Лутфи.
На четвертый день раскопок интерес Лутфи и Келы Манику к однообразной в общем-то работе археологов остыл, и почти все утро они провели в селении. Однако еще до полудня оба вдруг появились у раскопа. Внимательно осмотрев расчищенную кладку, подошли ко мне, и Лутфи, загадочно улыбаясь, объявил, что вчерашний день дал им богатую пищу для размышлений. Весь вечер они разговаривали с местными стариками, и те, ссылаясь на своих предков, которые в свою очередь получили сведения от своих предков, рассказали, будто на этом острове некогда насчитывалось семь языческих храмов. И были эти храмы обнесены семью стенами с семью воротами. Самый большой храм - очевидно, тот, на месте которого первый султан, Мухаммед ибн Абдулла, воздвиг первую мечеть. Теперь наши друзья предложили нам пойти с ними и получше присмотреться к старейшей мечети Ниланду.
Действительно, мы уже заметили, что первая мечеть была построена из заимствованных блоков. И вот теперь Лутфи и Кела Манику указали нам на то, что фундамент мечети выглядит точно так же, как основание раскопанного нами святилища.
Длина кладки, на которую опиралась мечеть, составляла 12 метров - на полтора метра больше длины основания "Фуа Матхи". Наши мальдивские друзья ликовали. Действительно, первый султан выбрал под основание для своей мечети фундамент самого большого из семи храмов; стало быть, где-то в лесу можно найти еще пять до-мусульманских храмов сверх двух, чье местоположение уже установлено.
Воздав должное наблюдательности Лутфи и Келы Манику, мы продолжали внимательно осматривать мечеть и даже нашли отчетливые следы бывшего пандуса. Он соединялся с фундаментом, но был разобран, когда языческое святилище преобразовали в мечеть с крыльцом на торце. Одна стена была целиком сложена из простого камня; видимо, первоначальная квадратная конструкция была велика для нужд султана.
Мы проверили компасом направление стен фундамента. Они были астрономически ориентированы по странам света, а не на Мекку. И в час, когда собрались молящиеся, мы взяли на себя смелость заглянуть внутрь мечети. Зрелище было забавное. Поскольку мечеть с самого начала не была сориентирована правильно, они, чтобы быть лицом к Мекке, как надлежит мусульманам, стояли на коленях по диагонали к задней стене.
Удивительный факт, и я спросил Лутфи, как обстоит дело с самой первой мальдивской мечетью, которую уже упомянутый султан воздвиг в Мале. Там правоверные мусульмане тоже стоят на коленях по диагонали к задней стене?
Лутфи на миг призадумался, потом громко рассмеялся. Да - да, в Мале все точно так же. На полу некоторых наиболее старых мальдивских мечетей даже проведены диагональные линии, чтобы молящиеся знали, в какую сторону следует кланяться по предписанию Корана.
На мой вопрос, почему до сих пор никто не задумывался над этим странным обстоятельством, Лутфи признал, что сам задавался таким вопросом, но ему сказали, что в древности люди плохо разбирались в географии и не знали точно, в какой стороне находится Мекка. Но ведь те же люди отлично знали, где восток и где запад. Видимо, тем, кто клал стены первого фундамента, солнце было важнее Мекки.
На восток от мечети через лес до самого берега лагуны была проложена широкая просека длиной около 300 метров. Ее посыпали белым пляжным песком и тщательно очищали от всякой растительности. Нам не смогли объяснить назначение этой аллеи; возможно, она служила для ритуальных процессий. Перед самой мечетью, у начала просеки, высилось нечто вроде павильона. Сперва нам показалось, что это сооружение загораживает дорогу, но затем мы обнаружили, что оно открыто с двух сторон. Фактически это был своего рода портал из гладких, как столешница, огромных плит. По бокам прохода помещались каменные скамьи; перекрытие опиралось на колонны из твердой, как кость, древесины - такой же, какая пошла на декор внутри мечети, но с черными метинами от огня.
Лутфи уже знал от местных стариков, что это единственные уцелевшие из семи ворот домусульманской поры. Согласно местным преданиям, остальные были сожжены, и от них не осталось даже следа.
Те же старики вызвались показать местоположение некоторых из семи оград, и Лутфи спросил, возьмутся ли археологи с помощью островитян заложить там разведочные шурфы. Раскапывая песок, мы в каждой из указанных нам точек вышли на остатки каменных стен, ориентированных в направлении восток-запад или север-юг. Некоторые стены сохранили следы красивого декора.
Мы нашли сотни одинаковых камней величиной поменьше кулака, с гладкими торцами. Лицевая сторона была оформлена крутой дугой над выступающим краем; задняя грань не обработана. Видимо, эти камни, чередуясь с пустотами, входили в состав украшавшего стены фриза. Правда, картина осложнялась тем, что в засыпанной песком кладке попадались фрагменты декорированных блоков из более древних, разрушенных храмов, в том числе триглифы и метопы вроде обнаруженных нами в развалинах святилища на "Фуа Матхи". Напрашивался вывод, что у строителей семи домусульманских стен были предшественники в лице других архитекторов, вероятно приверженцев другой религии. Мы вновь столкнулись со свидетельством того, что прошлое Мальдивов было достаточно сложным задолго до введения ислама. Можно предположить, что буддийские мастера воспользовались материалом из индуистских храмов.
Пространный храмовый комплекс, который местные жители называли "Фару Матхи" (Лутфи перевел: "Вершина Стены"), обрывался у самого селения четко выраженным откосом высотой около полуметра.
Среди тех, кто внимательно наблюдал за нашей работой, был Ахмед Мусса Доманику, высокий стройный островитянин с узким лицом и тонким крючковатым носом. Сын вождя, Доманику и сам в прошлом был вождем на Ниланду. Он хотел, чтобы мы произвели раскопки на широкой просеке, перед самой мечетью. Однажды его отец копал там канаву, чтобы отвести воду от мечети, и наткнулся на каменный ящик с крышкой. В ящике лежал порошок охры и какой-то блестящий белый металл. Еще там был кусок свинца с гравированными письменами. В те времена, продолжал Доманику, островитяне опасались черной магии, поэтому его отец закопал обратно ящик со всем содержимым. К сожалению, Доманику помнил место только приблизительно, и наши поиски ничего не дали.
Поскольку Лутфи считал его одним из самых сведущих жителей Ниланду, я спросил Доманику, слыхал ли он что-нибудь про людей, живших здесь в доисламские времена. Он ответил, что слышал про рединов и холинов. О рединах знал только, что они были великие строители и первыми обосновались на острове. Холины пришли позже, они и после того, как жители Ниланду приняли ислам, возвращались сюда на кораблях, пытаясь покорить мальдивцев и утвердить свою веру. Но холинам дали отпор, и пришлось им вернуться в свою страну.
На вопрос, где жили холины, Доманику ответил, что, судя по названию народа, в стране Холин. Сверх того он мог лишь сказать, что они поклонялись статуям и не были мусульманами. Доманику считал, что холины были буддистами, но здесь вмешался Лутфи и пояснил, что островитяне всех немусульман называли буддистами. О каннибалах Доманику ничего не слышал, хотя знал, что у мальдивцев были какие-то "дела" с жителями Азекары. Рассказывали даже о смешанных браках между обитателями Мальдивов и Азекары. Азекарцы привозили на Ниланду ткани, гончарные изделия, тарелки и "пищу", получая взамен раковины каури, сушеную рыбу и веревки из кокосового волокна.
Пока рабочие копали разведочные шурфы там, где мы искали остатки семи стен и клад отца Доманику, один островитянин притащил нам верхнюю половину необычной могильной плиты. Мусульмане ставят плоские плиты с округлым верхом на женских могилах и с острым выступом на мужских. Эту плиту венчали сразу три зубца. Она была очень старая и сильно повреждена эрозией. Наши друзья из Мале никогда не видели таких плит у мусульман. Да и местные жители считали, что это не мусульманская плита.
Принесший ее человек согласился показать, где она находилась. По широкой тропе он повел нас через красивый лес, где кокосовые и арековые пальмы чередовались с хлебными и другими деревьями. Наверно, мы пересекли весь остров, когда наш проводник нырнул в густые заросли кустарника ахи. Лутфи сообщил, что из плодов ахи получают красную краску.
В гуще зарослей скрывался участок, где кругом торчали из земли верхушки могильных плит. Некоторые были вытесаны по мусульманскому обычаю, но многие венчались тремя, а то и пятью выступами, напоминающими корону. Никто не знал, чем это объяснить. За неимением лучших идей, я предположил, что под зубчатыми плитами лежат люди, которые первоначально исповедовали другую религию, а потом были обращены в мусульманскую веру. Разумеется, это чистая догадка; несомненно лишь то, что кладбище было очень древним, возможно, оно появилось вскоре после введения ислама.
Мы возвратились к "Фуа Матхи", где из песка по-прежнему извлекались фаллоидные камни, в это время из селения явился посыльный с известием, что с острова Магуду прибыл на своей дхони вождь всего атолла. Вожди атоллов назначались правительством и считались на Мальдивах большими начальниками. Очевидно, вождь Ниланду известил по радио своего патрона о наших находках.
Следом за посыльным к нашему раскопу пришел добродушного вида коренастый мужчина в котелке, сопровождаемый местным вождем и другими жителями Ниланду. Глядя на поблескивающие глаза и большой красный нос этого господина, его можно было принять за поклонника Бахуса, если не знать, что как мусульманин он за всю свою жизнь даже пива стакан не пригубил. Вождь коснулся пальцем котелка, приветствуя нас.
Шёльсволд только что выкопал большой фаллоидный камень и теперь очищал его щеточкой, поставив на краю шурфа.
- Как вам нравится эта штука? - вежливо спросил он, обращаясь к гостю.
Вождь потер нос и ответил через переводчика:
Мне не очень. Но моя жена, наверно, была бы довольна.
Судя по спонтанной реакции его эскорта, островитяне отлично понимали, что изображает эта скульптура.
Мощная радиостанция позволяла вождю атолла поддерживать прямую связь с Мале, и вскоре после того, как он отбыл обратно на свой остров, нас известили, что из столицы на Ниланду пришло быстроходное правительственное судно с министром по делам атоллов на борту. Этот министр был братом президента и одним из пятнадцати членов Национального совета лингвистических и исторических исследований. Его превосходительство Абдулла Хамид прибыл, чтобы ознакомиться с нашими открытиями, и добытые нами из земли предметы поразили его. К этому времени мы откопали обломки 23 фаллоидных камней, а также множество "зонтичных башенок", каменных дисков с углублениями, профилированных камней и плит с разнообразным изящным декором.
Министр был явно доволен всем увиденным. Мы ничего не присвоили и не разрушили - напротив, к уже известным хавиттам, за сохранность которых власти опасались, добавилась по всем признакам новая.
Прежде чем вернуться на свое судно, министр сказал Лутфи, что предоставляет ему право давать добро на любые раскопки.
Неожиданные открытия в храмовом комплексе на Ниланду до того поглотили нас, что мы едва не забыли про цель нашего плавания - Экваториальный проход. Уже пять дней было потрачено на остров, где мы вообще не собирались копать, пять дней из тридцати, которыми располагали археологи и на которые нам был предоставлен "Золотой луч". Древнее святилище на Ниланду могло на пять лет обеспечить пять отрядов археологов работой и новыми открытиями. Масштабы этого храмового комплекса как-то не вязались с размерами острова, отнюдь не превосходившего площадью сотни других островов вытянутого в длину океанического архипелага.
Что же все-таки отличало Ниланду? Почему первый мусульманский правитель посчитал его таким важным? Ведь говорят же письменные источники, что султан прибыл из Мале сюда, чтобы построить большой молитвенный дом сразу после того, как воздвиг мечеть в столице.
И почему Ниланду был настолько важным для холинов, что после
того, как отбыл султан, они приплыли на остров и попытались вновь утвердить свою религию?
Изучая снова навигационную карту в рулевой рубке "Золотого луча", я как будто нашел ответ. Ниланду расположен точно посередине пространного архипелага, на таком же расстоянии от крайнего северного острова, как от атолла Адду на юге. С той поры как на Мальдивах возникло свое государство, он был логичным центром национальной администрации и культа. Когда солнце перестало быть божеством и в храмах появились изображения антропоморфных богов, именно Ниланду, а не острова у Экваториального прохода должен был стать естественным пунктом сосредоточения мальдивской иерархии.
С внедрением ислама на Мале, когда правитель принял титул султана, ему, чтобы внедрить новую веру на других островах, необходимо было разрушить домусульманские святилища на Ниланду и построить мечеть на месте главного домусульманского храма - отчасти чтобы развеять чары демонов, отчасти же чтобы избавить от соблазна тех, кто здесь привык поклоняться чужим богам.
В трюме "Золотого луча", обложенный ватой и упакованный в корзины и мешки, лежал увесистый груз- камни, которые были святыней для жителей Ниланду, пока туда не прибыл султан. Кто обрабатывал эти изделия, для нас по-прежнему оставалось загадкой, пусть даже островитяне приписывали их холинам. Одно не вызывало сомнения: все домусульманские изделия были разбиты и закопаны в землю набожными слугами султана Мухаммеда ибн Абдуллы в середине XII века н. э.
Добытых на этот раз для музея Мале трофеев было так много, что целая вереница островитян с тяжелой ношей шагала по грудь в воде к ожидающей на мелководье дхони.
Затем свои места заняли участники экспедиции. К этому времени все жители деревни, стар и млад, собрались на пляже. Озаренные заходящим солнцем смуглые лица и цветастые платья являли глазу экзотическое зрелище. С борта дхони мы махали руками, и нам махали в ответ, пока тропическое солнце не погрузилось в океан.
Уже смеркалось, и пришла пора зажигать лампы, когда мы со всеми нашими сокровищами поднялись на борт "Золотого луча". С чувством сожаления покидали мы Ниланду, хоть и предвкушали новые приключения на других островах. С восходом солнца в шесть утра нам предстояло сняться с якоря и следовать дальше.
Глава VII. По следам рединов
Редины с севера, буддисты с востока
- Манджаре, манджаре, манджаре! Фуд из реди!
Мимо круглого иллюминатора в переборке проплыла веселая физиономия юнги, за которым, как обычно, следовала вереница проголодавшихся членов экспедиции, хлопающих и приплясывающих в такт популярному извещению.
Отложив развернутую на коленях карту, я соскочил с койки, чтобы присоединиться за столом к моим товарищам. Теплый запах свежеиспеченных мальдивских лепешек щекотал мои ноздри с той самой минуты, когда я, как от звонка будильника, проснулся от внезапной перемены ритма в движении нашего судна, которое всю ночь плавно качалось, стоя на якоре у открытого ветрам берега, и увидел в иллюминатор красные краски восхода. Одного взгляда налево и направо было довольно, чтобы убедиться, что мы снова выходим на просторы Индийского океана, оставляя позади Ниланду и его соседей по атоллу Фааф.
Мы еще не управились с завтраком, когда "Золотой луч" вошел в следующую лагуну, отороченную красивыми зелеными островками и пенящимися рифами. Некоторые острова были обитаемы. Указав на один из них, Лутфи улыбнулся собственным светлым воспоминаниям и поведал нам, что провел здесь полтора счастливых года в качестве заключенного. На Мальдивах узников редко держат в столичной тюрьме. Обычно преступника на какой-то срок высылают с родного острова на какой-нибудь другой из островов архипелага. Лутфи пострадал за дружбу с одним из смещенных президентов республики. Наказание обернулось самым прекрасным отпуском в его жизни. Местные жители поспешили построить для ссыльного уютную хижину, и красивые женщины по очереди приносили ему утренний чай и ленч. Рыбаки снабжали его свежей рыбой. Иногда и сигарами, весело добавил Лутфи, покуривая сигару, которую ему дал Эйстейн Юхансен. Однако посетивший остров правительственный инспектор запретил этот сервис. После чего еду приносили в хижину тайком, когда Лутфи отправлялся в мечеть для утреннего омовения.
Мы миновали дивный остров, где низкие лучи утреннего солнца высветили между кокосовыми пальмами красное платье женщины, провожавшей глазами наше судно. Словно ожил один из шедевров Гогена... И Эйстейн заверил Лутфи, что, будь он мальдивцем, непременно постарался бы заработать ссылку на этот остров.
Справа по борту вдали различались верхушки пальм на другом островке. Будь у нас время, следовало бы зайти туда,- сказал Лутфи.- Это Маадели, его еще называют островом Салазара, или же Храмовым островом. Там видимо-невидимо руин.
Но времени у нас не было. Мы должны были следовать дальше на юг. К сожалению, поскольку тот же Лутфи сообщил, что это очередной остров рединов на нашем пути. Перед завтраком я как раз изучал его пометки на моей карте. После неожиданных открытий на первом острове рединов, куда мы зашли по чистой случайности, Лутфи зелеными чернилами написал названия всех островов, где, насколько известно из местных преданий, побывали редины. Больше того, он начертил зелеными стрелками предполагаемый маршрут их миграции; в преданиях утверждалось, что редины сперва обосновались на крайнем севере длинной цепочки мальдивских атоллов. Позднее мы услышали от старых островитян, что первым островом, на котором высадились редины, был Ихаванду - крохотный клочок суши на крайнем северо-западе Мальдивского архипелага. С севера стрелка Лутфи протянулась на юг прямо к атоллу Ари, где у острова Ариядду путь "Золотого луча" сомкнулся с путем рединов. Дальше мы по их следам прошли до Ниланду. И хотя Маадели остался в стороне, нам предстояло вновь выйти на маршрут рединов у острова Куда - Хуваду, расположенного у южного выхода из лагуны, в которую мы только что вошли с севера. Дальше редины продолжали движение с атолла на атолл вплоть до Экваториального прохода. Последнее их селение помещалось в атолле Адду, замыкающем архипелаг; и наконец они покинули Мальдивы. Мы собирались в пределах отведенного нам времени хотя бы бегло осмотреть все острова рединов на южном отрезке нашего маршрута.
Сложив на коленях карту, я дремал в шезлонге на залитой солнцем носовой палубе "Золотого луча". Внезапно из воды высунулся усеянный белыми пятнами огромный круглый плавник китовой акулы. Вслед за этим Бьёрн громким возгласом обратил мое внимание на странную рыбу (Это рыба полурыл из отряда сарганообразных).). Я такой никогда еще не видел, хотя потом мы убедились, что эта рыба часто встречается в мальдивских водах. Она стремительно плыла у самой поверхности тихой лагуны, будто набирающая скорость летучая рыба, однако не взлетела в воздух. Длинная и тонкая, словно змея, она приняла вертикальное положение, оставив в воде лишь кончик веерообразного хвостового плавника. При этом обращенная вперед заостренная голова придавала рыбе сходство с шеей и головой утки. Казалось, поверхность лагуны рассекает перископ быстроходной подводной лодки. Наконец диковинное создание погрузилось в воду и поплыло дальше, как подобает нормальным рыбам.
На песчаной отмели слева по борту дремали в солнечных лучах две большие черепахи.
Достигнув южной оконечности атолла Дхалл, мы на несколько часов бросили якорь у острова Куда - Хуваду. Мы не рассчитывали увидеть что-нибудь особенное, хоть и знали, что здесь побывали редины. Часть отряда во главе с Лутфи осталась в селении, а меня и археологов местный вождь и несколько стариков повели в лес, чтобы показать рукотворный холм, который не причислялся к разряду хавитт.
Мы увидели низкий круглый холм из принесенного с пляжа чистого белого песка, шириной около 22 метров. Островитяне называли его "Ус Ганду", в переводе попросту "холм". Меня насторожило полное отсутствие тесаного камня, и, услышав, что неподалеку расположена самая древняя мечеть на острове, я решил проверить родившееся подозрение. Увиденное там поразило нас. Задняя стена молитвенного дома являла собой великолепнейший образец "пальчиковой" кладки. Высшим достижением в искусстве каменной кладки принято считать знаменитую стену инков в перуанском городе Куско, где туристам как великую достопримечательность показывают камень с двенадцатью углами. И вот здесь, на крохотном мальдивском острове, в стене ничем не примечательной мечети перед нами - повторение рекорда. Один из блоков, площадью около квадратного метра, такой гладкий, словно его шлифовали машиной, насчитывал двенадцать граней и углов, причем был пригнан к окружающим камням так тщательно, что на фотографии не всякий различил бы швы. На скромном клочке суши такой шедевр каменотесного искусства! Невероятно. Люди наслышаны об инках и Куско в Перу, но кто-нибудь слышал когда-либо о рединах и Куда - Хуваду в Мальдивском архипелаге?
Рядом с удивительной стеной две надгробные плиты обозначали могилу мастера, которому приписывали сооружение мечети. Одна плита стояла в изголовье, другая - у ног покойного, как положено у мусульман, когда хоронят важное лицо. Вторую плиту украшал красивый рельефный декор: изящный сосуд в окружении резных завитушек. На первой - также замысловатый узор, обрамляющий искусно вытесанные рельефные надписи. Одна составлена из криволинейных арабских письмен, другая из необычных прямолинейных знаков, которых не только мы, но и наши мальдивские друзья не могли прочесть. Обе плиты венчались пятью зубцами, а не одним, как заведено у мусульман. Никто не мог объяснить мне, с чем это связано. Вождь неуверенно предположил, что обилие зубцов обозначает, что здесь похоронен искусный каменщик. Неубедительная гипотеза, если вспомнить кладбище на Ниланду. И поскольку нас заверили, что мы стоим у самой древней мечети Куда - Хуваду, воздвигший ее каменщик должен был вырасти в общине, которая исповедовала религию, предшествовавшую исламу. Поэтому я по-прежнему склонялся к мнению, что отличные от нормы плиты устанавливали на могилах людей, родившихся до введения мусульманства, а затем обращенных в новую веру.
Если похороненный здесь каменщик сам изготовил двенадцатиугольный блок, а не позаимствовал все камни этой стены в каком-то более древнем храме, нам, исследователям, надлежало держать в уме важное обстоятельство: в 1153 году н. э., когда на Мальдивах утвердился ислам, религия переменилась, однако народ и его технические приемы остались прежними. Это объясняет, в частности, тот факт, что вплоть до нашего столетия мальдивцы славились в арабском мире своим непревзойденным искусством в декорировании могильных плит.
Как и на Ниланду, здесь перед входом в маленькую мечеть высился обособленный портал. Каменные скамьи по бокам прохода были украшены сложным узором из выстроенных в ряд изящных ваз. На внешней стороне портала отчетливо различалась безупречно высеченная "звезда Давида". Я подумал, уж не побывали ли тут древние иудеи, но тут же вспомнил, что Давид считался общим предком иудеев и арабов. Заметив, как пристально я рассматриваю древний символ, вождь объяснил, что он воспроизводит "Сулейман моди" - печатку на перстне царя Соломона. Когда мальдивцы пишут магические формулы, добавил он, этот знак ставится в начале и в конце.
Подошедший тем временем Лутфи спросил вождя, не находили ли на этом острове будду.
Как же, находили. Совсем рядом со старой мечетью была раскопана мужская голова из камня, такая большая, что только-только обхватить двумя руками. Ее снова закопали в землю где-то поблизости.
Тотчас начались энергичные поиски, однако густые заросли свели на нет старания наших сопровождающих. Зато они вспомнили, что было также найдено маленькое изображение какого-то животного. С удивлением мы услышали, что его отправили в Мале.
- Когда? - спросил Лутфи.
По их подсчетам выходило, что это было в 1942 году. Очень жаль, заключил Лутфи: в то время музея еще не существовало, так что негде справиться о судьбе этой скульптуры.
Более подробно каменную голову описал нам вождь атолла, Мухаммед Калейфан, который нарочно приезжал на Куда - Хуваду, чтобы осмотреть эту находку, перед тем как ее снова закопали. По его словам, кроме головы, еще сохранилась часть торса. Лицо было человеческое, не такое, как у демона; губы сомкнуты, язык не высунут, клыки не торчат. Просматривались следы очень длинных ушей. Когда мы показали ему фотографий большой головы Будды и жутких демонов из музея Мале, он сразу показал на Будду. Дескать, найденная здесь голова была точно такая, только сильнее повреждена.
Я спросил Калейфана, что ему известно о внешности рединов. Он ответил, что, по словам жителей этого атолла и Ниланду, у рединов были рыжие волосы; о цвете кожи воспоминаний не сохранилось. Но судя по оставшимся после рединов скульптурам, кто-то из них выглядел как обыкновенные люди, а кто-то смахивал на пудинг.
- На пудинг?-переспросил я.
- Да,- сказал переводчик.- Он говорит "бадибаи". Так называется пудинг, который он видел в Мале.
Мы попросили вождя нарисовать на песке пудинг с соблюдением размеров, и он начертил куполообразную фигуру, в самом деле напоминающую пудинг, однако еще больше она походила на фаллоидные камни, раскопанные нами на Ниланду. Вождь атолла явно видел среди языческих руин такие изделия и заключил, что они, как и скульптуры, автопортреты, вырезанные в далеком прошлом загадочными рединами.
И больше мы ничего здесь не узнали, только лишний раз убедились, что мусульмане давным-давно уничтожили творения рук язычников, а обломки использовали в своих сооружениях.
Сразу после того, как Бенгт и Оке сняли на кинопленку двенадцатиугольный камень, мы поспешили обратно в селение и вернулись на корабль. Капитан Пакар волновался: до следующей защищенной якорной стоянки было еще далеко. Куда - Хуваду - последний остров в южной оконечности атолла; дальше короткий отрезок открытого моря отделял нас от атолла Кулумадулу, где нам предстояло, войдя в лагуну, маневрировать среди множества не обозначенных на карте рифов и отмелей, прежде чем мы сможем бросить якорь у острова Вилуфуши.
Во второй половине дня мы прошли мимо восхитительно красивых островов. Солнце, склоняясь к западу, озаряло их теплым боковым светом, и казалось, слева по борту плывут по воде корзины с цветами. В разгар дня, когда экваториальное солнце стоит в зените, вид с моря на остров не гак прекрасен, плотный полог пальмовых крон образует огромный зонт, накрывающий все своей тенью, и ослепительно белый пляж тем более мешает рассмотреть что-либо между стволами. А под вечер при боковом освещении были отчетливо видны и дома внутри острова, и живописно одетые люди в окружении пышной растительности, напоминающей парковый ландшафт. Прямо театральная декорация, а не реальный уголок нашей планеты в конце XX столетия. Завороженный лицезрением этого земного рая, я записал в своей маленькой книжечке, что Мальдивы красивее любого из атоллов Полинезии.
Незадолго до заката мы бросили якорь с подветренной стороны острова Вилуфуши. Несколько человек высадились на берег вместе с Лутфи, которому министерство поручило обсудить с местным вождем планы строительства новой школы. Нам сказали, что на Вилуфуши насчитывается 1315 жителей. Весь остров был одним сплошным селением. Никаких лесов и ничего интересного для археологов. Рядом с нами стояло на якоре прибывшее за рыбой тайваньское судно, однако с него никто не сошел на берег. Вождь рассказал, что со времени предыдущего посещения иностранцами прошло восемь лет, и это были тоже жители Азии. Поистине, оставив Мале с его туристскими островками, мы очутились совсем в особом мире.
Восход солнца застал нас уже в пути дальше на юг. Лутфи посоветовал следовать напрямик, не заходя пока на расположенный на юго-западной оконечности атолла остров Кимбиду, где также побывали редины. По его словам, на Кимбиду находилась большая, высотой около 10 метров, хавитта, но ее разграбили.
И вот вместе с другими островами атолла Кулумадулу исчез за горизонтом Кимбиду, а вскоре из моря прямо по курсу поднялись первые кроны кокосовых пальм атолла Хаддумати (второе название-Ламу). На северо-западной оконечности этого атолла помешался следующий остров рединов - Муна - Фуши, однако его за последние два десятка лет размыло прибоем. Вместе с островом ушли под воду запомнившиеся Лутфи обширные развалины красивых храмов. Мы увидели только торчащие над бурунами зазубренные коралловые глыбы. Около 10.30 утра наше судно изменило курс и пошло вдоль рифа на восток, чтобы обогнуть атолл с этой стороны.
Маршрут движения рединов, каким его изобразил Лутфи, не оставлял у нас сомнения, что они пришли с севера. Тем сильнее удивились мы, когда тот же Лутфи, указывая на остров, образующий восточную оконечность атолла, больше того, вообще крайний восточный остров всего Мальдивского архипелага, объявил:
- На этом острове находится самая большая изо всех известных ныне хавитт на Мальдивах. Называется он Исду, что означает "первый увиденный остров".
- Но как же он может называться "первым увиденным", если мальдивские предания утверждают, что первый остров, который увидели редины, находился в северной части архипелага? - спросил я.
Лутфи не мог этого объяснить. Он знал только, что высокую хавитту на Исду мореплавателям было видно издалека. И верно, в той стороне, куда он показал, из моря прямо по нашему курсу вырос большой темный бугор, высотой вровень с пальмами.
- Насчет названия ничего не скажу,- продолжал Лутфи.- Во всяком случае, Исду сыграл чрезвычайно важную роль в истории Мальдивов. Именно с этого острова вышла одна из королевских династий, которые утвердились в Мале. Здесь найдены скульптуры Будды.
Что ж, возможно, отсюда и название острова. Известно, что здесь побывали буддисты; если верить местным преданиям, им предшествовали редины. Поскольку буддисты, скорее всего, вышли из лежащей еще дальше на востоке Шри-Ланки, логично предположить, что первым они увидели крайний восточный остров с его высокой хавиттой. Шри-Ланка была в этом регионе важнейшим центром буддизма в XII веке, когда на Мальдивы пришли со своей верой арабы. Сомнительно, чтобы опередившие тех и других редины были выходцами из Шри-Ланки или какой-нибудь другой страны на востоке. Скорее они, подобно вытеснившим буддистов арабам, прибыли с севера. Известно ведь, что арабы были далеко не первыми мореплавателями, бороздившими Индийский океан к северу от Мальдивского архипелага. Судя по археологическим свидетельствам, полученным в долине Инда, в районе Персидского залива и на берегах Красного моря, именно в этой части океана впервые на планете начали плавать купцы и исследователи.
Сблизившись с Исду настолько, что можно было различить белую пену прибоя у подножия огромного сооружения, возвышавшегося среди пальм могучим черным куполом, мы дивились размерам хавитты и задавали себе еще один вопрос: как могло получиться, что ни один современный археолог не обратил внимания на эти стратегически расположенные острова, когда тут есть такие древние руины, как этот рукотворный холм, который видно с моря издалека? Ответ может быть только один. Наблюдая в наше время с борта проходящего судна высокий холм, люди, наверно, принимали его за какое-то недавнее сооружение или гору угля, им в голову не приходило, что это древний памятник.
Мы обогнули оконечность атолла Хаддумати там, где риф напоминает указывающий на восток длинный палец с островом Исду на месте ногтя. И так как большая хавитта высилась на восточном мысу, мы, продолжая идти вдоль рифа, получили возможность, не сходя на берег, обозреть древний памятник с трех сторон. Бросались в глаза его внушительные размеры и выбор для постройки места, которое буквально просилось под маяк. В остальном же на виду ничего примечательного как будто не осталось. Все камни облицовки были сняты, так что останавливаться здесь стоило только в том случае, если бы мы располагали временем для серьезных раскопок.
Вскоре показался следующий островок в том же атолле. Он назывался Дхамбиду; по словам Лутфи, через шестьдесят лет после обращения мальдивцев в ислам здесь была предпринята попытка возродить буддизм. Интересное сообщение. Тем более что я впервые услышал, как занимающий высокий пост мальдивец открыто говорит о предшествовавшем мусульманству буддийском периоде. Эти люди явно были хорошо осведомлены о прошлом Мальдивов, хоть и не любили вдаваться в подробности. После двух "буддийских" островов на восточной оконечности атолла в коралловом рифе открылся узкий просвет. Лутфи и Пакар решили войти через ярко-зеленую полосу мелководья внутрь кораллового кольца Ламу. Здесь нас встретил на большой дхони вождь атолла, и, следуя по лагуне к югу, мы вместе подошли к острову Ган, на котором, согласно данным Лутфи, как и на Исду в том же атолле, в древности побывали редины. Напомню, что во время предыдущего посещения Мальдивов мы с Бьёрном провели исследования на двух других "рединских" островах с таким названием. Ган в атолле Адду и Ган в атолле Гааф разделены Экваториальным проходом, а Ган в атолле Ламу отделен от атолла Гааф проливом Полуторного градуса. Иначе говоря, три одноименных острова рединов расположены по бокам единственных двух безопасных для мореплавания проходов в Мальдивском архипелаге.
Отныне нам предстояло увидеть такое множество древних холмов, что не мудрено и запутаться, не будь ежедневно заполняемых записных книжек. На Ламу - Гане нам показали хавитты из числа тех, над которыми Белл особенно тщательно потрудился киркой и лопатой, после чего пришел к выводу, что все хавитты, в каком бы состоянии он их ни застал, не что иное, как буддийские ступы. По данным Белла, самая большая хавитта на этом острове достигала в высоту 10 с лишним метров, и это при том, что уже в то время она была сильно разрушена и на ней выросли высокие деревья. Теперь деревьев не осталось, и эта хавитта более всего походила на гору угля с глубокой бороздой на склоне - след изысканий Белла. Поскольку все до одной облицовочные плиты давным-давно разобрали, трудно было представить себе на этом месте увенчанный семиярусной башней изящный храм, о котором поведали Беллу жители Ламу - Гана. Хотя Белл подчеркивает, что древнее сооружение было "безжалостно обобрано островитянами", увиденное позволило ему заключить, что кладка храма состояла из тесаных мадрепоровых плит, уложенных на ядро из коралловых обломков. Вся надстройка, пишет он, исчезла полностью, не осталось ничего и от кладки фундамента, "...лишь часть выпуклой облицовки купола шириной несколько метров на юго-западной стороне устояла против натиска человека и разрушительных сил природы"
(Bell (1940, p. 111).). Белл записал, что эта хавитта называлась "Хат-тели"; то же название сообщили и нам, с тем дополнением, что иногда ее именуют "Хаи-теле". Слово "тели", объяснили островитяне, означает "котел", "хате" - "семь", а "хай" - "королевский зонт". Возможно, оба варианта названия подразумевали венчавшую все сооружение башню, похожую на семь уложенных друг на друга открытых зонтов или опрокинутых котлов. Когда Белл с бригадой из сорока островитян углубился в груду обломков, в которую предки местных жителей превратили некогда гордый храм, он сделал, говоря его словами, "поразительное и ошеломляющее открытие". Под самой вершиной холма была обнаружена сильно поврежденная личина огромного Будды, высеченная из мадрепоры. Хотя остальные части изваяния не были найдены, Белл полагал, что оно достигало в высоту около пяти метров
(Bell (1940, p. 131).). Ниже личины этого великана лежала маленькая обезглавленная фигурка сидящего Будды. Дальнейшая судьба скульптур, казалось бы спасенных Беллом от забвения, окутана густым мраком неизвестности. В Мале нам ничего о них не говорили, и, сколько мы ни допытывались, никто не мог сказать, как и каким образом они могли исчезнуть. И никого из участников раскопок Белла тоже разыскать не удалось.
Не нужно особенно богатого воображения, чтобы представить себе, как прочно обосновались буддисты на этих океанических островах до прихода ислама. Думается, пятиметровый белый Будда, стоящий на вершине озаренного тропическим солнцем белоснежного рукотворного холма, облицованного гладкими коралловыми блоками, производил внушительное впечатление на приближающихся к острову мореплавателей.
Возможно, жители Гана и впрямь ничего не знали, а может быть, намеренно скрывали от нас правду, утверждая, что на острове никогда не находили каких-либо скульптур. Я вспоминал слова того же Белла о том, что островитяне явно избегают говорить что-либо о развалинах буддийских сооружений, опасаясь кары ревностных слуг его величества султана
(Bell (1940, p. 151).).
Огромный холм на острове Ган, как и тот, который мы с борта "Золотого луча" видели на Исду, высился так близко у воды, что волны приносили к самому его подножию диковинных крабов, резвившихся в бурунах на рифе. Прилегающие к руинам заросли только что расчистили, и сопровождающий нас вождь атолла сказал, что это было сделано по его приказу: радио Мале передало, что мы путешествуем по архипелагу, изучая древние памятники. На расчищенном участке бросалась в глаза маленькая хавитта чуть к юго-западу от большой. Лопаты Белла ее не коснулись, и на макушке все еще лежали красивые блоки с резным орнаментом. Совсем рядом выступали над землей квадратные блоки верхних рядов кладки круглого бассейна. Нам рассказали, что еще сорок лет назад в нем купались островитяне. Тогда из круглых отверстий в плитах на дне поступала прохладная чистая вода.
Прямо на запад через большой ритуальный портал, от которого остались одни развалины, от участка, где стояли хавитты, вела широкая дорога, обрамленная остатками каменных стен. В их кладке можно было различить тесаные камни с декором, скорее всего взятые из какого-то другого сооружения.
Порыскав в зарослях, Арне Шёльсволд сообщил, что насчитал шесть рукотворных холмов в этом районе. Осматривая эти руины, мы натолкнулись на двух островитян, которые разбивали кувалдами красиво орнаментированные облицовочные плиты. Обломки они сгребали в кучи, чтобы затем отвезти на большом плоту на соседний остров. Лутфи определил, что из добытого ими таким способом материала можно было построить четыре дома. Вождь атолла посадил злоумышленников под арест: но нашему предложению президент республики уже издал новый закон, запрещающий дальнейшее разорение любых древних памятников. Арестанты оправдывались тем, что как-то надо строить дома, а заготавливать пальмовые листья теперь не разрешают, они резервированы для строительства туристских приютов на островах в районе Мале. Долбить кораллы на рифе куда тяжелее, чем крушить старые языческие руины. К тому же не секрет, что разрушение барьерного рифа вредит прибрежной полосе, где нерестятся многие виды рыб.
Злоумышленники не обнаруживали никаких признаков раскаяния или страха, и Лутфи заметил, улыбаясь, что теперь пришла их очередь познать радости кратковременной ссылки на другой остров.
Район большой хавитты, где два заготовителя добывали строительный материал, местные жители называли "Иху Ма-Мискит"; Лутфи перевел это название как "Старая большая мечеть". Казалось бы, не очень подходящее имя для буддийского храмового комплекса. Обратясь, однако, вновь к запискам Белла, я понял, в чем дело. Ему показали развалины первой мечети на Ламу - Гане, называя ее "Иху Мискит"; в его переводе - "Прежняя мечеть". Она стояла на отлично сохранившемся фундаменте другого сооружения, которое Белл определил как буддийский монастырь. К тому времени, когда мы прибыли на Ган, эти руины то ли были совершенно разобраны охотниками за известняком, то ли затерялись в густых зарослях. И все же очевидно, как указывает Белл, что первая мечеть на Ламу - Гане, совсем как первая мечеть на Ниланду, была воздвигнута на фундаменте более древнего культового сооружения.
У нас были причины заподозрить, что и буддисты, прибыв на этот остров, поступили точно так же, использовав фундаменты еще более древних строителей. В самом деле, напрашивается параллель с большой хавиттой на Фуа - Мулаку, о которой в песне тамошних жителей говорилось, что она была создана рединами, а затем построена сингальскими буддистами. Хотя Белл установил, что ганская хавитта была увенчана буддийским куполом и на ней стояли изваяния Будды, он записал, что "...с этим холмом не связано никаких преданий, если не считать, что его сооружение приписывается так называемым рединам..." (Bell (1940, p. 105).).
Редины не были буддистами. Никто в Мальдивской Республике не смешивал рединов с сингалами. Сидя на вершине внушительного памятника, я попытался мысленно распутать противоречивые по видимости узлы древней истории Мальдивов. Редины с севера - или буддисты с востока? Возможно, и те и другие. Виденные нами в музее демонические скульптуры и изображающие Шиву бронзовые статуэтки свидетельствовали, что не только буддисты доходили до этого архипелага раньше мусульман.
С макушки бывшей ступы мне открывался широкий вид на океанские дали. Путь к архипелагу был открыт с любой стороны. Редины вполне могли прийти с севера и воздвигнуть облицованную плитами высокую хавитту. Затем пришедшие с востока буддисты могли захватить здешние острова и увенчать рединскую хавитту куполом ступы. Последними, плывя с севера тем же путем, что редины, прибыли арабы. Они разобрали ступу и на фундаменте буддийского монастыря построили свою мечеть, а от хавитты осталось лишь оголенное ядро - бесформенный рукотворный холм, на котором я теперь сидел.
Я спустился по крутой осыпи к моим товарищам, продолжавшим исследовать окрестности. Мы вернулись в селение Мукури - Магу, проплыли на нашем катере около мили на юг вдоль берега Гана, затем снова высадились и минут десять шли по тропе среди кокосовых пальм и высокого подлеска. Дойдя до местности, получившей наименование Курухинна, мы увидели небольшой холм, который наши проводники называли "Бомбаро". Это слово означает "круглый", и мы в самом деле рассмотрели часть круглого фундамента с поднимающимся выше нашего роста фрагментом кладки из красиво обтесанного камня.
Изначально все сооружение было сплошным, с заполнителем из битого коралла, в чем не трудно было убедиться, поскольку Белл в свое время прорыл шурф до самого центра древнего памятника. По противоположной шурфу северо-западной стороне довольно высоко поднимался хорошо сохранившийся пандус. Весьма своеобразное сооружение, притом наиболее сохранное изо всех, виденных нами до сих пор. В записках Белла оно называется "Мумбару Ступа".
Срубив кривые ветки и густой кустарник, мы смогли получше рассмотреть руины. Любуясь этим совершенным образцом архитектуры в мальдивских джунглях, я распознал резные орнаменты вроде тех, которые встретились нам в земле вокруг песчаного холма на Ниланду. Даже изящные триглифы и метопы были представлены здесь. Скудные познания о тонкостях буддийской архитектуры не позволяли нам уверенно судить о роде сооружений по одним только увиденным нами руинам. Иное дело Белл. Эксперт по буддийскому зодчеству, он прибыл из Шри-Ланки на Мальдивы, чтобы искать параллели. Большая хавитта на Ламу - Гане была настолько разрушена, что для идентификации остались только фрагменты бывшего купола. И Белл заключил, что перед ним остатки ступы, притом самого древнего вида, известного в Шри-Ланке. Предположительно он датировал ее концом V века н. э.
В записках Белла говорится, что меньшее по размерам сооружение, которым мы теперь восхищались, было увенчано остатками купола, тоже соответствующего шри-ланкийским канонам, однако хорошо сохранившаяся кладка внизу в эти каноны не вписывалась. Ее Белл называет совершенно необычной. Он никак не ожидал увидеть такой храм: "...маленькая компактная ступа в Курухинне по своей архитектуре в целом представляет тип, у которого, по-видимому, нет параллелей ни на Цейлоне, ни в Индии"
(Bell (1940, p. 112).).
Если буддисты не строили ничего подобного ни в Шри-Ланке, ни в Индии, кто же тогда был автором этого сооружения? А может быть, здешняя большая ступа покоилась на таком же необычном основании, прежде чем превратилась в бесформенный холм? Если нет, перед нами свидетельство того, что в домусульманские времена на Мальдивах появились два совершенно различных по архитектуре типа культовых сооружений.
Напрашивалось предположение: не был ли изящный маленький храм буддийским куполом, сооруженным поверх добуддийского строения?
Получив свежую пищу для размышлений, мы возвратились на катер и по пути к "Золотому лучу" разминулись с тремя мальчуганами, которые пересекали лагуну, отталкиваясь шестами, на добротном бревенчатом плоту. Бревна неравной длины (самые длинные - посередине) были слегка загнуты впереди, наподобие пальцев руки, обращенной ладонью кверху. Точно такой прием видим на старейшей зарисовке бальсового плота перуанского приморья. Мальдивский плот был сконструирован вполне профессионально, с поперечинами и замысловатыми найтовами; сразу видно, что не сами мальчишки придумали этот способ вязки. Они пристали к берегу рядом с плотом побольше, принадлежавшим одному рыбаку. Нам рассказали, что до недавних пор такие конструкции были широко распространены на Мальдивах. Островитяне по-прежнему предпочитали плоты более глубоко сидящим дхони, когда надо было плыть с тяжелым грузом над рифами и мелями. Строили их из очень легкого дерева; на местном языке они назывались кандо фати. "Кандо" означает "бревно", слово "фати" нам перевели как "лежащие рядом друг с другом".
На другое утро мы покинули Ламу - Ган и вплоть до Гааф - Гана, где собирались раскопать древний холм, уже не встречали столь хорошо сохранившиеся хавитты.
От группы бывших буддийских опорных пунктов в атолле Ламу, среди которых первым был крайний восточный остров Исду, мы продолжали идти на юг через ту же лагуну. На кольцевом рифе выстроились шеренгой другие островки. Мы задержались у Фунаду, где Лутфи надо было обсудить проект новой школы с местными жителями в количестве 800-900 человек. Услышав, что для нас на острове нет ничего интересного, мы заполнили ожидание прогулкой по чистым, тщательно подметенным улицам селения. На стене аккуратного дома резчика по дереву мы увидели объявление на языке дивехи. Абдул перевел:
"Плевать перед домом некрасиво, о чем вас извещает Абду Рахим Али Финихиаге".
Дальше на той же улице помещалась мечеть. Не такая уж древняя, поскольку ее построили около 1500 года, то есть во времена Колумба. Но, войдя внутрь, мы очутились в коридоре, который охватывал кольцом молитвенный дом поменьше и подревнее. Эта святыня в святыне была великолепна. Стены сложены из тщательно пригнанных гладких блоков, обтесанных так старательно, что их можно было принять за плиты белого мрамора. Мало того, что каменщик искусно соединил встык большие и малые угловые камни, посередине некоторых блоков он вырезал отверстие величиной с открытку лишь для того, чтобы заделать его точно пригнанным камнем таких же размеров.
Кто клал эти стены? Мусульманин, унаследовавший мастерство от местных предшественников? Или же это часть буддийского храма, а то и строения рединов, переделанного в первую на Фунаду мечеть? Нам оставалось только гадать. В садовых оградах мы увидели много профилированных камней из кладки домусульманских храмов. Зная, однако, что такие камни разбивают и перевозят с одного острова на другой, мы не могли быть уверены, что эти блоки взяты из местных сооружений.
У южной оконечности атолла Ламу, за которой открывался пролив Полуторного градуса, мы подошли к выходу из лагуны. С запада его окаймлял рединский остров Хитаду, с востока - Гааду. Первую остановку сделали у Гааду. Сопровождавший нас вождь атолла рассказал, что один из жителей этого острова, копая яму под фундамент для дома, нашел два бронзовых будду.
В доме местного вождя нас угостили чаем и омлетом из черепашьих яиц, после чего повели в лес и показали целых три хавитты разной величины. Лишенные облицовки, они пребывали в плачевном состоянии. Кругом валялись тесаные блоки. Один был красиво декорирован символом лотоса; кривые поверхности другого напомнили мне снеговые кирпичи для иглу. Видимо, он входил в кладку купола или куполовидной постройки.
Один мальчуган, выйдя на широкую чистую улицу из хижины, сплетенной из листьев кокосовой пальмы, показал нам корзину, полную белых раковин каури размером с птичье яйцо. Так мы в первый раз увидели в таком количестве то, что некогда составляло важнейший предмет мальдивской торговли. Погрузив руки в корзину, мальчик перебирал пальцами маленькие раковины, и они позвякивали, словно серебряные монеты. Так ведь они и впрямь с незапамятных времен играли роль денег на Мальдивах.
 Корзина с мальдивскими монетами. С древних времен и вплоть до нашего столетия этот вид раковин каури играл роль денег в Африке и Азии и был важнейшим экспортным товаром Мальдивов. Специально выращиваемые на архипелаге раковины расходились по торговым путям во все концы света
Корзина с мальдивскими монетами. С древних времен и вплоть до нашего столетия этот вид раковин каури играл роль денег в Африке и Азии и был важнейшим экспортным товаром Мальдивов. Специально выращиваемые на архипелаге раковины расходились по торговым путям во все концы света
Юный владелец боли явно дорожил своим сокровищем, однако ни он, ни его родные не подозревали, какую роль сыграет крохотный моллюск в наших попытках проследить, куда доплывали и чего достигли древние мальдивские мореплаватели.
Больше нам на Мальдивах каури не встречались, если не считать горсточку-другую, которые мальчуганы собирали для нас на берегу. Но во времена Белла они все еще были в обращении в пределах архипелага; так, у него можно прочесть, что на рубеже нашего столетия каждый житель Исду платил султану налог за себя и свою жену в размере 18000 раковин
(Bell (1940, p. 95).).
Не только Белл, но и Мэлони подчеркивают важнейшую роль, которую играли каури в экономике островитян. Благодаря этим раковинам архипелаг еще до начала письменной истории Мальдивов уже оставил свой след на карте внешнего мира. То обстоятельство, что Мальдивы были своего рода банком или монетным двором для окружающих континентальных государств, привлекло внимание знающих толк в торговле арабов задолго до того, как они утвердили ислам на архипелаге.
В 850-900 годах н. э., сразу после того, как арабы начали осваивать древние торговые пути у берегов Индии, Сулейман Торговец записал сведения, полученные от путешественников, которые побывали на Мальдивах и видели, сколь важна роль раковин каури. Отметив, что Индия с двух сторон омывается морями, а между ними находится множество островов, он продолжал: "Говорят, число их достигает 1900. Эти острова разделяют два моря. Управляет ими женщина... На этих островах, где правит женщина, выращивают кокосовые орехи. Острова отделены друг от друга расстоянием два, три или четыре парасанга. [Приблизительно от десяти до двадцати километров.] Все они населены, и на всех растут кокосовые пальмы. Богатство жителей составляют каури, и королева держит в королевских хранилищах множество этих раковин. Говорят, во всем мире нет более трудолюбивых людей, чем эти островитяне..."
(Maloney (1980, p. 417).). В первой половине X века о выращивании каури на Мальдивах писал аль-Масуди; эти сведения повторил около 1030 года аль-Бируни, добавив, что архипелаг известен под названием "острова Каури". В XII веке аль-Идриси сообщал, что Мальдивы вывозят раковины каури
(Bell (1940, p. 17, 76).). Около 1343 года великий арабский путешественник Ибн Баттута, который довольно долго гостил на Мальдивах, записал:
"Денежными знаками у островитян служат вада. Так называется моллюск, которого собирают в море и складывают в ямы на берегу. Его мясо сгнивает, и остается только белая раковина. Сто раковин называются сия, 700-фал; 12000 называются котта, 100 000 - босту. При совершаемых с помощью этих раковин сделках 4 босту приравниваются к одному золотому динару. Часто раковины бывают худшего качества, тогда один динар может быть приравнен к 12 босту. Островитяне продают их в обмен на рис жителям Бенгалии, где каури тоже играют роль денег. Их продают также жителям Йемена, которые используют каури на кораблях как балласт вместо песка. Каури применяют при обменных операциях с неграми на их родине. В Мали и Юю я видел, как каури продавали из расчета 1150 раковин за один динар" (Gray (1888, p. 444).).
Ма Хуан, китайский мусульманин, участник плавания Чжэн Хэ через Индийский океан в 1433 году, написал по возвращении в Китай книгу об этой экспедиции. Покрыв за десять дней расстояние от Суматры до Мальдивов, он затем проследовал в Могадишо. На его карте координаты Мале определены с точностью до восьми секунд, но нам особенно интересно его сообщение, что мальдивские каури продаются в большом количестве и в Бенгалию, и в Таиланд
(Maloney (1980, p. 420-421).).
На рубеже XV века, в эпоху открытия Америки, первые европейцы во главе с Ва-ско да Гамой вторглись в Индийский океан, где Мальдивы по-прежнему играли роль банка раковин каури. Португальцы замыслили присвоить себе торговую монополию в этой области, сотни лет принадлежавшую арабам. Один португальский солдат, Дуарте Барбоса, служивший на Востоке с 1501 по 1517 год, записал про Мальдивы: "С этих островов вывозят много сушеной рыбы, а также маленьких раковин, которые в большом количестве продают в Камбей и Бенгалию, где они используются в качестве мелкой монеты и ценятся выше, чем медь"
(Gray (1888, p. 478).). Вскоре после этого, в 1563 году, X. де Баррос, автор книги об истории Португальской Индии, тоже подчеркивает значение мальдивских каури в торговле стран Индийского океана:
"Многие суда с балластом в виде этих раковин отправляются в Бенгалию и Сиам, где раковины служат деньгами, как мы используем мелкие медные монеты при покупке недорогих предметов. Даже в наше королевство Португалию их везут как балласт, в некоторые годы до двух-трех тысяч кинталов [100-150 тонн], откуда раковины поставляют в Гвинею и королевства Бенин и Конго, где они играют роль денег; язычники в глубинных областях этих стран весьма дорожат ими. И вот как островитяне добывают эти раковины: они связывают пальмовые листья в большие прочные пучки и бросают в море. В поисках корма моллюски прикрепляются к этим листьям, и, когда пучки совершенно покроются моллюсками, их вытаскивают на берег и раковины собирают"
(Gray (1888, p. 484-485).). Даже в 1611 году Франсуа Пирар сообщает, что лично видел, как до 30-40 судов в год отправлялись с Мальдивов с грузом каури для Бенгалии
(Gray (1888, p. 236-237).). В то
время как одни европейцы учитывали экспорт раковин в Бенгалию на северо-востоке Индийского субконтинента, другие отмечали спрос на каури в такой же удаленной от Мальдивов области северо-западного побережья Индии. Так, в 1683 году один британский отряд сделал запись о закупке 60 тонн каури на Мальдивах. Лишь угрожая пушками, англичане получили "разрешение" погрузить раковины на свои корабли и доставить в Сурат в Камбейском заливе, где исстари существовал мальдивский рынок
(Bell (1925, p. 132-142).). С этой поры цена каури как меры стоимости в странах Индийского океана начала падать. Итак, мы видим, что маленькие светлые раковины, которые показал нам мальчуган на острове Фунаду, произвели достаточно сильное впечатление на древних путешественников. И не потому, что блистали красотой. В этом их намного превосходят более крупные каури, вроде леопардовых, да и множество других моллюсков Индийского океана. Видное место Мальдивов в записках древних географов обусловлено тем, что архипелагу принадлежала монополия на поставку денежных знаков.- Вот она - история Мальдивов, произнес Лутфи, присаживаясь на корточки возле юного островитянина и подбрасывая на ладони раковины.- Они составляли богатство страны со времен возникновения нашей цивилизации.
"Со времен возникновения цивилизации долины Инда",- можно было бы добавить, знай я то, что мне стало известно год спустя. Лишь тогда смог я вновь увидеть Камбейский залив, куда, согласно древним источникам, корабли привозили раковины с Мальдивов, и посетить древний Лотхал - порт хараппской цивилизации. Лотхал был самым оживленным портом в Камбейском заливе, а то и во всей Азии примерно с 2500 по 1500 год до н. э., когда пришел конец цивилизации долины Инда. С тех самых пор, погребенный песком и илом, он пребывал в забвении, пока уже в нашем столетии его не открыли и не раскопали современные археологи.
Придя вновь в оборудованный здесь маленький музей, я присмотрелся к одному экспонату, который в прошлый раз не привлек моего внимания. В стеклянной витрине среди драгоценных находок, сделанных при раскопках в лотхалском порту, лежала кучка белых раковин каури - Cypraea moneta,- тот самый вид, что нам показывал мальдивский мальчуган. Поскольку древний порт перестал функционировать около 1500 года до н. э., уже одна эта кучка свидетельствовала, что каури более 3000 лет были в цене в странах Индийского океана.
Может быть, первые обитатели Мальдивов привезли со своей бывшей родины особое расположение к раковинам каури?
Может быть, импорт раковин на берегах Камбейского залива продолжался все столетия после падения Индской цивилизации?
Легче задавать такие вопросы, чем ответить на них. Одно несомненно: мальдивские корабелы умели строить мореходные суда до того, как пришли на эти острова. И вряд ли суда, доставившие на Мальдивы искусных зодчих и строителей, уступали кораблям, на которых мальдивцы ходили в Камбейский залив в ту пору, когда здесь впервые появились арабы и потеснившие их португальцы. Прямо или косвенно найденные в Лотхале каури имели отношение к тайнам древней истории Мальдивов.
Я спросил мальчугана, что он собирается делать со своими раковинами. Оказалось, что его отец продаст их в Мале.
- Оттуда их отправят торговцам в Индию,- добавил Лутфи.
- Для чего?- поинтересовался я.
Но на этот вопрос никто не смог ответить.
Под вечер мы перешли к "рединскому" острову Хитаду по другую сторону узкого выхода из лагуны. С палубы на уходящем за горизонт рифовом кольце было видно больше десятка островов. А к югу от лагуны открывался пролив Полуторного градуса.
Жители Хитаду заверили нас, а Лутфи и вождь атолла подтвердили, что на острове нет ничего интересного для археологов, хотя и считалось, что на нем побывали редины. Поэтому мы решили ограничиться посещением селения, а Мартин и вовсе остался на судне. Однако, подремав часок, он захотел присоединиться к нам, и катер доставил его на берег. Здесь Мартин встретил пожилого, как и сам он, островитянина. Не видя нас и полагая, что мы осматриваем какие-нибудь руины, он пустил в ход единственное мальдивское слово, какое успел заучить: "Хавитта". Островитянин молча взял Мартина за руку и провел через селение в лес, где и показал ему хавитту. Вот только нас там не оказалось. Вернувшись в селение, Мартин вскоре наткнулся на нас и спросил, почему мы так быстро ушли от руин. Руины? Но ведь на острове нет никаких руин! Мартин торжествовал: он-то нашел руины. И мы последовали за ним.
Сперва мы увидели обнесенную высокой каменной стеной с развевающимися на ветру белыми флажками старую могилу. Здесь был погребен какой-то важный мусульманин. От беленой стены к лагуне вела расчищенная дорожка, и у входа в ограду лежали в два ряда камни с изумительной резьбой. Тут были пьедесталы больших круглых колонн с таким красивым орнаментом, что можно было посчитать их взятыми из развалин какого-нибудь древнего собора, не знай мы, что ничего подобного на Мальдивах никогда не существовало. Другие камни прежде явно входили в угловую кладку величественных порталов; словом, все говорило за то, что некогда здесь находилась постройка сложной конструкции, от которой не осталось даже фундамента.
Однако в густых зарослях метрах в ста от этого места над ровной поверхностью острова возвышался песчаный бугор - остатки разоренной хавитты. Яма на вершине свидетельствовала, что тут потрудились кладоискатели. Поскольку у бугра не было никакого названия, мы присвоили ему наименование "хавитта Мартина".
Вечером на борту "Золотого луча" был устроен пир в честь бесстрашного первооткрывателя. Наиболее восприимчивые к качке члены отряда легли спать пораньше. Нам предстояло в ночь выйти на просторы пролива Полуторного градуса, чтобы на другой день еще до заката добраться до островов и рифов у Экваториального прохода.
Глава VIII. Возвращение к Экваториальному проходу
Затерянные надписи
Синева вверху, синева внизу. Яркий свет. Тонкая линия раздела между синевой вверху и синевой внизу медленно поднималась выше палубы с одной стороны, так же медленно опускаясь и затем поднимаясь уже с другой. Сраженные плавной бортовой качкой побрели вниз, хватаясь по пути за все, что могло служить им опорой. Другие отдыхали в тени под тентом, наслаждаясь свежим морским бризом. Слушая колыбельную тропического моря, мы забывали о датах и часах. На легкой волне корабль, подобно колыбели или креслу-качалке, навевает покой.
Мы нуждались в такой передышке. Уйти подальше от коралловых берегов, от обилия диковинных камней. То, что нам показали и что мы сами нашли в эти несколько дней, посещая остров за островом, ошеломило нас. Требовалось время, чтобы осмыслить важнейшие ключи к загадке Мальдивов, которые обрабатывала вычислительная машина мозга. Время, чтобы вдохнуть полной грудью, прежде чем нахлынут новые открытия. А времени было немного. Впереди за горизонтом нас ждали другие острова.
Сейчас нас окружало подлинное царство бога Солнца. За пределами тента на палубе царила нестерпимая жара. Когда подойдем к следующему острову, мощь солнца достигнет своей вершины. Совсем немного оставалось плыть до большого атолла Сувадива, известного также под именами Хуваду и Гааф. А еще его можно назвать цитаделью Солнца: именно здесь оно заманило древних солнцепоклонников в Экваториальный проход. Именно здесь безвестные зодчие прошлого заготавливали известняковые глыбы для большого солнечного храма на острове Гааф - Ган.
Мы по-прежнему шли по пятам рединов. По пути к Гану на юге атолла нам еще предстояло зайти на два других "рединских" острова - один на севере, другой на востоке обширного кольцевого рифа. Атолл Гааф занимает все пространство между проливом Полуторного градуса и Экваториальным проходом. Гааф - Ган необитаем; на двух остальных "рединских" островах живут люди. По словам Лутфи, на первом из них не сохранилось никаких следов прежних обитателей, зато на втором мы еще могли что-то увидеть.
И вот перед нами первый - Вирингили, он же Вилигили. Войдя с севера в лагуну Гаафа, мы бросили якорь как раз в ту минуту, когда наш "Манджаре" принялся убирать со стола после завтрака. На бывшем острове рединов теперь помещалась администрация всего атолла, и его население составляло около 1200 человек. Лутфи сообщил, что некогда на Вилигили была большая хавитта. По сей день одна из улиц селения называлась Хавитта магу - "улица хавитты". Она кончалась у самого моря, которое и поглотило древнее сооружение.
Приняв на веру слова Лутфи, что на этом острове нет ничего интересного для нас, мы остались на борту, пока он и Вахид в сопровождении трех членов команды отправились на берег за дождевой водой, свежими фруктами и вяленой рыбой.
Обилие рифов вынудило нас покинуть лагуну Гаафа, но под вечер мы вновь вошли в нее через пролив около следующего "рединского" острова - Кондаи. Бросив якорь, мы насчитали вдоль горизонта целых двадцать два одетых пальмами коралловых острова. И уж на сей раз ничто не могло удержать нас на борту, когда местный вождь подошел на дхони к нашему судну и рассказал, что недавно в лесу найдена диковинная птица.
- Птица?
- Птица.
- С перьями?
- С перьями. Но вся из камня.
Сгорая от любопытства, мы поспешно заняли места в дхони и вместе с вождем высадились на берег Кондаи.
Из двухсот пятидесяти жителей здешнего селения многие видели каменную птицу, но никто не знал, где она теперь. Пропала... Человек, нашедший это изделие в лесу, успел потерять его в селении. Каменная птица как сквозь землю провалилась.
Ну, а редины? Кто-нибудь может что-то рассказать нам про рединов?
Редины? Жители Кондаи первый раз слышали это слово. До сооружения мечети на острове не было никаких построек.
- Терпение,- негромко произнес Лутфи.
И предложил нам, пока еще светло, пройтись по лесу. Потом вернемся в селение и поищем птицу.
Солнце опустилось уже довольно низко, когда мы, следуя за Лутфи, вышли из селения, пересекли банановую плантацию и взяли курс на густые заросли. Нам предстояло минут двадцать идти лесом до тех объектов, которые собирался показать Лутфи. Нас сопровождали два молчаливых островитянина с длинными секачами, руководимые скорее любопытством, чем желанием расчищать нам путь. Над головой простирались обросшие мхом толстые сучья с грузом паразитических папоротников и орхидей, и Лутфи не устоял против соблазна взять несколько образцов для своего сада в Мале. Тропа несколько раз разветвлялась, наконец и вовсе пропала. Все же мы ухитрились выйти к оплывшему холму высотой в рост человека, шириной около десяти метров. Яма на макушке холма свидетельствовала, что здесь кто-то копался. Сопровождавшие нас островитяне продолжали помалкивать и держались так, словно никогда не бывали здесь. Однако на вопрос, как называется это место, один из них пробормотал:
- Хавитта.
Метрах в ста от этого холма находился другой, несколько больше первого и тоже покрытый кустарником. Среди коралловых обломков мы увидели тесаные камни, некоторые даже с лепниной. Они почернели от времени и рассыпались в руках.
- А это место как называется? Тот же короткий ответ:
- Хавитта.
Мы успели еще приметить третью хавитту, когда настала пора кратчайшим путем выбираться из зарослей. Смеркалось, и тут очень кстати пришлись секачи.
Лутфи объяснил, что у местных жителей нет особых причин ходить в эту чащу. Поэтому мало кто из них знал про холмы, на которые он случайно набрел двенадцать лет назад. Селение помещалось на другом конце острова с тех самых пор, как его жители приняли мусульманство. Лет двадцать назад все они (нам не объяснили, по какой причине) покинули остров и только в 1975 году вернулись и вновь заняли покинутые дома.
Солнце закатилось, и мы уже в полной темноте проложили себе дорогу к лагуне, после чего по песчаному бережку направились в селение.
Дойдя до неосвещенных улочек, где было видно лишь звездное небо да очертания крыш над темными оградами, мы остановились. Лутфи попросил нас подождать, пока он все же попробует отыскать каменную птицу. Постепенно нас окружила безмолвная толпа местных жителей, которые с любопытством рассматривали гостей при скудном свете созвездий. Похоже было, что эти люди ночью видят не хуже сов и летучих мышей ; да это и не так уж удивительно, ведь их глаза привычны к тусклому свету плошек и зрение не испорчено яркими лампами. Вот и Лутфи явно ориентировался без труда, покинув нас и скрывшись в ночи.
Кто-то вынес маленькую коптилку, и при свете колеблемого ветром язычка пламени я увидел торжествующее лицо Лутфи, когда он, возвратясь, взял меня за руку и сообщил шепотом, что птица найдена. Правда, похоже, что это вовсе и не птица. Скорее, голова слона. Он предложил мне следовать за ним, и мы потихоньку выбрались из толпы.
Как и думал Лутфи, скульптура нашлась в доме муэдзина; туда мы с ним и направились. Муэдзин объяснил, что спрятал каменную фигурку, чтобы спасти ее от уничтожения местными жителями, которые стояли на страже заветов пророка, порицавшего всякие языческие изображения.
И вот в моих руках потемневшая от времени известняковая скульптура величиной с петуха. На меня глядел хитрый миндалевидный глаз. Голова-то голова, но вовсе не птичья. В тусклом свете можно было рассмотреть нечто, напоминающее скорее свернутый хобот, чем кривой клюв пернатого хищника. Да и лукавые глаза несомненно принадлежали слону, хотя голову украшали перья. Под свернутым хоботом торчали большие коренные зубы. Каменная голова явно была обломком скульптуры, изображающей некое демоническое чудовище.
И ведь я уже видел нечто в этом роде... Вроде бы в каком-то музее. Лутфи ничего похожего на Мальдивах не встречал. Муэдзин тоже не располагал никакими сведениями, и он был только рад избавиться от языческого изделия.
Зато Бьёрн Бюэ, осветив спичками нашу добычу, воскликнул:
- Я видел много таких голов! В Непале!
Непал - королевство в Гималаях. Предельно высоко над морем и далеко от океанических атоллов. И это единственная в мире страна, где государственной религией является чистейший индуизм.
- Индуисты! - заключил Шёльсволд.- Это голова индуистского Макары.
Воссоединившись с остальными членами нашего отряда, мы общими усилиями разобрались, что за скульптуру я получил от муэдзина. Это была голова бога вод Макары, чье изображение украшает врата индуистских храмов и входит в ансамбль священных фонтанов. Находясь в последние дни под впечатлением буддийских параллелей Белла и комплекса ступ на атолле Ламу, мы как-то запамятовали, что в древней истории Мальдивов было место и для других верований. Если учесть, что ислам вытеснил буддизм свыше восьмисот лет назад, возраст этой индуистской скульптуры вполне мог превышать тысячу лет. Я держал ее бережно, словно младенца, и не выпускал из рук, пока мы не вернулись на борт "Золотого луча", где археологи укутали замечательный камень ватой и уложили в ящик в трюме для транспортировки в музей Мале.
Мальдивская команда судна кивками подтвердила нашу догадку, что речь идет о Макаре.
- Да-да,- сказали они,- макара.
Правда, мы тут же выяснили, что ни один из них раньше не видел ничего похожего. Просто на мальдивском языке "макара" означает "плохой", "скверный". После того как Мухаммед запретил изображать живых существ, для них любая голова, хоть Будды, хоть ангела,- "макара".
Островитянин, который первоначально принес каменную голову в селение, охотно проводил нас к тому месту, где нашел ее. Вооружившись электрическими и керосиновыми фонарями, мы протиснулись сквозь строй оплетенных лианами стволов и недалеко от плантаций вышли на недавно расчищенный от подлеска участок. Толстый слой черной земли был основательно изрыт. Я подобрал красивую маленькую каменную миску, по-видимому служившую для курения ладана или жертвоприношений. Кругом были разбросаны обломки тесаного известняка и твердой штукатурки с параллельными отпечатками тростниковых стен или крыш. Все крупные блоки кто-то выкопал и унес, вероятно для строительства домов.
Если и был здесь рукотворный холм, то от него ничего не осталось. Приходилось только гадать, что тут натворили грабители. Наш проводник клялся, что ничего не ведает о недавно принятом законе, охраняющем домусульманские руины. Можно было сообщить властям, которые покарали бы его ссылкой на другой остров. Мы предпочли как следует пожурить его и вознаградили за то, что сберег голову Макары.
Восход солнца застал нас в пути. Мы шли на юг, курсом на Ган, не выходя из лагуны и старательно огибая коралловые рифы и песчаные отмели. Вскоре прямо на носу возникли два низких островка, расположенных в южном секторе атолла, один покороче, другой подлиннее: Гаду и Ган. Гаду - весь заставленный домами. Ганн - покрытый тропическим лесом и плантациями.
В бинокли было видно, что весть о нашем приближении явно опередила нас. Множество людей выстроилось на берегу Гана там, где мы намеревались высадиться. Они перебрались через узкий пролив, отделяющий Ган от Гаду, и, когда мы подошли достаточно близко, стали жестами направлять нас к наиболее удобной якорной стоянке. Как раз перед песчаным мысом, где они сгрудились, было защищенное от ветра место с подходящей глубиной. Одетые барашками океанские валы Экваториального прохода рассыпались каскадами, переваливая в лагуну через коралловый риф, протянувшийся под водой между островами.
Как только мы соскочили на берег с нашего плоскодонного катера, от толпы встречающих отделился высокий мужчина и поздоровался с нами за руку. Это был наш старый приятель - "хозяин" острова Ган. Тезка нашего ученого друга в Мале, Хасан Манику. Мы вернулись в хорошо знакомые места.
Действительно, радио Мале сообщило о намеченном нами повторном посещении Гааф - Гана. Узнав об этом, "хозяин" принялся за дело. Три дня подряд он привозил с Гаду два десятка человек, которые расчищали тропы и весь участок вокруг большой хавитты.
Изрядно обеспокоенные такой предприимчивостью, мы двинулись в путь, спеша убедиться, что объект наших исследований не пострадал. Узкая тропа была заметно расширена, но в остальном все оставалось настолько знакомым, что мы с Бьёрном готовы были крикнуть "привет!" большим летучим лисицам, потревоженным нашим появлением.
Бригада "хозяина" была вооружена секачами, топорами и лопатами, а один из рабочих нес на плече тяжелый железный лом. Мои археологи насупились. Археология - дело тонкое, в поле работают маленькими лопаточками и щетками, а не железными ломами. Я стал было объяснять нашим мальдивским друзьям, что такие мощные орудия не годятся для раскопок, и услышал в ответ, что лом предназначен вовсе не для работы на хавитте, его взяли, чтобы копать персональные уборные для членов бригады.
Вот и поляна с каменным колодцем и с видом на Экваториальный проход. Дальше тропа вновь уходила в глубь острова, и мы почуяли запах горящего дерева. Приближаясь к месту, где в чаще скрывался солнечный храм, услышали потрескивание пламени и увидели струи дыма над лесным пологом. Между деревьями открылся просвет. Несколько рабочих, уйдя вперед, развели костер, чтобы прогнать комаров. Сразу за ними возвышался крутой холм. Пока я обводил его взглядом, убеждаясь, что вроде бы ничего не повреждено, за спиной у меня раздался восхищенный возглас Юхансена:
- Ух ты!
Оба оператора тотчас взялись за дело. Бенгт совал в нос археологам микрофон, записывая их первые впечатления; Оке переводил объектив кинокамеры с взволнованных лиц на макушку рукотворного холма.
На несколько секунд мы с Бьёрном утратили дар речи. Мало того, что наши друзья, сколько мы им ни рассказывали про этот холм, не ожидали увидеть такую громадину, - теперь все и для нас было внове. Прилегающий к восточной стороне холма участок был тщательно расчищен, включая широкую полосу, продолжающуюся вверх по крутому склону до самой макушки. Могучее сооружение!
Видя его размеры, Шёльсволд и Юхансен начали постигать масштабы ожидающей их задачи. Перед ними высилась рукотворная громада, сравнимая с самыми большими королевскими курганами викингов. На профессиональные раскопки здесь требовались годы, а не дни, которыми мы располагали.
- Сейчас нам не нужно углубляться в толщу холма,- пояснил я Арне, прочитав его мысли.- Потом еще вернемся сюда.
- Согласен, но у нас есть время, чтобы уточнить форму фундамента,- с облегчением отозвался наш главный археолог.- Может быть, заодно найдем какую-нибудь органику для датировки по радиокарбону.
- Точно,- бодро подхватил Юхансен.- Что бы мы ни нашли, это будут первые археологические данные по Мальдивам.
Быстро обойдя вокруг холма, мы удостоверились, что бригада "хозяина" ничего не повредила. Они лишь срубили деревья и убрали прочую растительность. В прошлый раз мы могли только видеть укрытые завесой зелени грани почерневших коралловых блоков. Теперь же склон, по которому мы тогда карабкались, весь открылся нашему взгляду, вплоть до огромного дерева канду, по-прежнему венчавшего вершину древнего сооружения. Тут и там на откосах, в том числе на расчищенной полосе, остались стоять и деревья поменьше, которые было бы трудновато свалить самодельными топорами. Конечно, толстые корни канду вредили рукотворному холму, и мы захватили с собой двуручную пилу, однако великан на вершине был очень уж хорош, и мы сказали, чтобы его не трогали. Все равно больше он уже не вырастет, и пронизавшие гору битого коралла корни уже сделали свое дело. А вообще-то с таким гигантом наверху и сам холм что-то терял в своем величии.
По мере того как рабочие продолжали расчищать прилегающий участок, все отчетливее проступали очертания холма. Даже сами островитяне смотрели на него с явным почтением. Их собственная мечеть на Гаду показалась бы карликом рядом с этим колоссом. Они и не пытались приписать честь его сооружения своим предкам. Тут потрудились редины, древний народ, наделенный в их представлении сверхчеловеческими способностями. Обыкновенным людям, говорили они, вроде тех, что теперь населяют здешние атоллы, хватает забот с добычей пропитания - кокосовых орехов и рыбы. Где уж тут найти время для участия в таком предприятии.
Мы согласились. И первый вывод, сделанный археологами еще до того, как заработали лопаты, гласил, что строители этой хавитты располагали чем-то, чего недоставало нынешнему населению. Они были тесно связаны с внешним миром и опирались на поддержку извне. Откуда бы ни пришли редины, в их экономике были избыточные ресурсы, допускавшие такие излишества, как строительство огромных культовых сооружений. Лишенный облицовки с изящным декором, без храма или шпиля на вершине, все равно рукотворный холм не уступал высотой курганам на могилах самых великих древних королей Европы и габаритами был равен средней по величине майяской пирамиде или зиккурату Месопотамии. А ведь покоился он на крохотном клочке суши, едва выступающем над уровнем моря. Песок и кораллы, никаких ископаемых богатств. Ни металлов, ни драгоценных камней. Не было тут и плодородных нив. А только раковины каури - и всемогущее солнце. Полуденное солнце в зените озаряло остров своими лучами, и природный путь, соединяющий Восток с Западом, струился вдоль его берегов.
Даже после того, как весь холм был расчищен, мы не увидели никаких признаков, говорящих о том, что он служил буддистам или индуистам, хотя, надо думать, и те, и другие побывали на Гане, как и на многих островах поблизости. Мусульмане так же точно не обошли хавитту своим вниманием, унося все лежавшие на виду красивые облицовочные блоки. Все же, тщательно обследуя крутую осыпь, сложенную битым кораллом, мы то и дело находили прямоугольные блоки с рельефным солнечным орнаментом. На одних камнях солнце было изображено с крыльями, на других - без оных. Было очевидно, что солнце играло центральную роль в понятиях строителей этого храма. Обследуя хавитту на Ниланду, мы не обнаружили солнечных символов, не было их и на обломках буддийских ступ, осмотренных нами по пути к Экваториальному проходу. Мы встретили их только здесь, у экватора. В тех самых местах, куда приезжали в первый раз, чтобы искать следы солнцепоклонников.
Продолжая расчищать участок вокруг холма, мы обратили внимание на то, что блоки с солнечными символами встречаются нам на всех склонах, кроме северного. По мнению Юхансена, это объяснялось тем, что люди, прибывшие с севера, связывали солнце только с тремя странами света - востоком, югом и западом. Тогда как четвертая для них исключалась, хотя здесь, на экваторе, временами солнце светило и с севера.
Интересное наблюдение. Следуя рассуждению Юхансена, надлежало исключить возможность прибытия этих солнцепоклонников из какой-либо части Южной Азии, вообще всего тропического пояса, простирающегося до 23°28' с. ш. А вот долина Инда и Месопотамия находятся за пределами тропиков, так что солнцепоклонники в этих культурных регионах не могли видеть солнце на севере.
Мы знали, что под обломками у подножия холма сохранилась кладка прямых стен. А потому археологи начали с того, что осторожно подняли все съехавшие сверху блоки и тщательно осмотрели их в поисках резьбы, прежде чем отнести подальше от холма. В прошлый раз мы уже видели часть уцелевшей кладки; теперь нашим глазам предстали новые участки. Как мы и предполагали, облицовка осыпалась и холм принял округлую форму потому, что мусульмане разобрали подпорные стенки. Но когда они прибыли на остров, нижняя часть храма уже была скрыта растущим слоем лесной почвы и нанесенного ветром песка.
Убрав обломки, мы приступили к раскопкам по периметру и убедились, что подпорные стены в общем целы. Однако они озадачили нас неожиданными изгибами. От первого расчищенного угла кладка сворачивала влево, и мы ждали того же у следующего угла, но она вдруг повернула вправо, вместо того чтобы замкнуть прямоугольник. Может быть, основание было неправильной или звездообразной формы? Однако к концу первого дня стало ясно, что сооружение в своей главной части было квадратным и ориентированным по солнцу. Кажущиеся отклонения были образованы подпорными стенками пандусов, поднимавшихся вверх по центру каждой из четырех сторон. Точно такие пандусы можно увидеть, в частности, на мексиканских пирамидах.
На второй день работ окончательно выявились очертания пирамидального сооружения с четырьмя ритуальными пандусами. Во время расчистки накануне мы уже собрали в груде упавших сверху обломков целую коллекцию тесаных и орнаментированных блоков с преобладанием рельефных солнечных символов в декоре. Теперь нам сверх того встретились камни с изображениями меньших размеров, так что рядом помещались два символа, а на одном угловом блоке было высечено четыре солнца, с каждой стороны по два друг над другом. Особенно искусно были оформлены камни с декором из парных солнц, чередующихся с тройными жезлами.
Один небольшой фрагмент углового блока был сплошь покрыт сложным узором из крохотных солнц, зарубок и миниатюрных колонн; лишь очень искусный художник мог придумать такую композицию, и только опытный мастер мог перенести ее на камень. Глубоко врезанные мельчайшие детали позволяли предположить, что этот камень составлял часть изящнейшего фриза или же был отбит от кладки маленького жертвенника. Мы нашли также части карнизов с различными узорами; некоторые из них украшал уже знакомый нам ряд лепестков лотоса. Декор других камней напоминал классические греческие триглифы и метопы.
Но больше всего нас поразили блоки с диковинным узором, изрядное количество которых встретилось нам у юго-восточного угла пирамиды. Глубокие впадины на первом из них были так плотно забиты землей и белой штукатуркой, что он выглядел рядовым тесаным камнем, пока его не почистили лопаточкой и щеткой. Зато после этого нашему взору неожиданно предстало стилизованное изображение черепа, взирающего на нас пустыми глазницами. Впечатление пристального взгляда создавали окаймляющие глазницы выпуклые полоски. Напрашивалось сравнение с элегантными очками в полукруглой оправе, и выглядело это довольно жутко. Череп был приплюснут сверху, на месте носа вырезана ямка, нижняя челюсть отсутствовала, однако, если эти угловые блоки клали друг на друга, венчающий черепа частый ряд квадратных выпуклостей мог изображать зубы вышележащей личины.
От каждой глазницы вниз спускалась короткая полоска, как бы представляющая поток слез,- очень похоже на классический символ дождя на ликах солнечного бога в древнем искусстве Мексики и Перу. И я сам наблюдал среди майяских руин Чичен-Ицы в ориентированных по солнцу храмовых платформах блоки, оформленные в виде стилизованных черепов. Пирамиды, пандусы, каменные черепа с плачущим глазом в ориентированных по солнцу храмовых стенах... Не слишком ли я даю волю своей фантазии? Может быть, это вовсе и не черепа? Если держать блоки так, как держали мы, сомнения быть не могло. Наши помощники, никогда прежде не видевшие таких узоров, показывали пальцем на свои лица и, закрыв глаза, проводили ребром ладони по горлу, как бы отсекая голову. Между тем, когда я впоследствии показал снимок такого камня одному специалисту по археологии Востока, он повернул его на сто восемьдесят градусов и объявил, что углубления с каймой представляют совсем не глазницы, а пещеры с дугообразным сводом и плоским полом. Дескать, подобные мотивы известны в древнем культовом искусстве Южной Азии, где местные исследователи толкуют их как символическое изображение пещер, в которых укрывались монахи.
Но если это пещеры, то почему блоки непременно оформлялись попарно? И как быть со "слезами"? Или эти гголоски изображают колонну над пещерой, если блок повернуть на сто восемьдесят градусов? Ни я, ни мой оппонент не могли ответить на эти вопросы.
Как бы то ни было, когда реконструируешь забытое прошлое, всегда есть опасность, что твой энтузиазм и предвзятые идеи направят тебя по ложному пути. Одно несомненно: эти и многие другие резные блоки, извлеченные нами из груды обломков, отличались великолепным декором, и в далеком проиглом, когда известняковая облицовка могучего сооружения отливала белизной в солнечных лучах, это было изумительное зрелище. Теперь же высившаяся перед нами гора обломков смотрелась как памятник человеческому эгоцентризму. Из века в век приверженцы тех или иных религий воюют с иноверцами. Нас не покидает убеждение, что именно мы правы, наша вера единственно правильная. Другие обязаны верить в то же, во что верим мы. Иначе наши боги ждут от нас, чтобы мы мстили за них.
Приверженцы Аллаха разрушили то, что с таким ггрилежанием воздвигли солнцепоклонники. Но в промежутке здесь явно побывали приверженцы Шивы или Будды. И мы тщательно изучали каждый камень, пытаясь доискаться истины. Наши мальдивские друзья смотрели на блоки с декором и расчищенные участки кладки с таким же восхищением, как мы. Всякий раз, как нам встречался новый орнамент, раздавались ликующие возгласы и рабочие трудились еще энергичнее под звуки задорной песни. Когда же из черной почвы появился маленький кристаллический шар, восторгам не было конца. Островитяне столпились в углу между пандусом и главной стеной, где была сделана находка, кто-то из нас поднял в руке это подобие стеклянного яйца, и вся бригада принялась петь и хлопать в ладоши, покачиваясь из стороны в сторону в ритме, который задавал беззубый морщинистый весельчак в огромной шляпе, лихо отплясывавший на склоне холма. Работать с этими людьми было одно удовольствие. Умные, приветливые, старательные... Они сразу смекнули, что, поскольку на коралловых атоллах Мальдивов нет кристаллических пород, этот шарик свидетельство контактов с внешним миром.
- Это же фаллос!- воскликнул Юхансен, обводя пальцем реалистичные контуры изделия, в плоском основании которого было глубокое отверстие для какой-то подставки.
Шёльсволд согласился, однако затем напомнил, что в древней Шри-Ланке и на материке примерно так выглядели миниатюрные ступы, приносимые в дар божеству по обету. Мы сошлись в мнении, что у самой ступы тоже фаллоидная форма. Монументальные ступы символизировали повторное рождение, так почему не допустить, что они изображали фаллос, а не чрево беременной женщины, как это принято считать.
Когда мы углубились в грунт до того уровня, на котором покоилось основание хавитты, Шёльсволд забрался на ее вершину, чтобы определить высоту. Стоя наверху, он засек в нивелир сидевшего рядом на дереве Юхансена, и тот опустил до земли мерную ленту. В нынешнем виде хавитта все еще возвышалась на 8,5 метра. Размеры полностью расчищенной кладки составляли 23 х 23 метра, так что площадь пирамиды в основании равнялась 529 квадратным метрам. Если добавить пандусы, наибольшая длина каждой стороны достигала 36 метров.
По ходу работы мы сделали еще одно интересное открытие. В прошлом стены храма были покрыты белой штукатуркой. Надежно защищенные части конструкции до сих пор сохранили толстый слой затвердевшего известкового раствора. На секциях, соприкасавшихся с влажной почвой, этот слой размяк и отстал. Полностью сохранилась штукатурка в углу, где южная стена примыкала к восточной грани пандуса. Здесь она покрывала камни таким толстым и плотным слоем, что совершенно маскировала контуры кладки. Стало понятно, почему ямки на "черепных" блоках были заполнены крошевом белой штукатурки. Вот и на некоторых солярных камнях лишь самый край солнечного диска выглядывал из-под известковой лепешки. И, расчищая от белой корки многие блоки, казавшиеся нам рядовым строительным материалом, мы обнаруживали скрытый декор.
С какой стати древние резчики, приложившие столько труда, чтобы украсить камни изысканными узорами, потом замазали их, скрыв от обозрения?
Напрашивался ответ, что не они покрыли штукатуркой орнаментированные стены, что это сделали пришедшие потом приверженцы другой религии, приспособляя пирамиду для своих нужд. Так культовая архитектура поведала нам о двух различных периодах, предшествовавших появлению мусульман, которые положили конец пользованию храмом. Построенная изначально для солярного культа пирамида перешла во владение людей иной или видоизмененной веры. Людей, не поклонявшихся солнцу, а потому замазавших все религиозные символы, так что получилось сооружение с гладкой белой поверхностью. Подобное большим ступам буддистов Шри-Ланки, целиком покрытым ровным слоем белой штукатурки.
Сама расчистка ганской хавитты уже дала нам важную информацию. Но, глядя на древние стены, Лутфи и местные рабочие ожидали, что теперь, получив разрешение центральных властей, мы примемся раскапывать холм. Они не сомневались, что нас привело на Ган стремление добраться до скрытых в хавитте кладов. Однако археология не только расчистка погребенных стен и поиск сокровищ. К великому удивлению рабочих, их попросили обтесать несколько колышков, которые Шёльсволд и Юхансен вбили в землю рядом с хавиттой. Затем колышки соединили между собой шнуром так, что получились квадраты с длиной стороны один метр. После чего археологи объяснили озадаченным островитянам, что раскопки начнутся внутри этих квадратов. Нашим помощникам явно было невдомек, что за разница, с какой стороны шнура копать. И уж совсем непонятно, почему бы не взяться за саму хавитту?
Еще один сюрприз ожидал рабочих, когда они подошли к квадратам с кирками и лопатами. Им предложили отложить свой испытанный инструмент и вручили взамен маленькие лопаточки, чуть побольше суповой ложки. Предупредив, чтобы ни в коем случае не копали острым концом, а соскребали тонкие слои земли краем лопаточки под неусыпным наблюдением археологов. Нетрудно представить себе, какой нелепостью все это казалось островитянам.
Они уже знали Шёльсволда как добродушного очкарика с приветливой улыбкой на бородатой физиономии, а более молодого Юхансена - как неунывающего шутника. Однако теперь, стоило кому-то ковырнуть землю, вместо того чтобы легонечко скрести ее лопаточкой, или выйти за пределы шнура, как Шёльсволд сердито повышал голос, а Юхансен издавал скорбный вопль. И если кто-то ступал ногой рядом со шнуром, так что край раскопа осыпался внутрь, эти чокнутые иностранцы возмущались так, словно песок угодил им в суп. Не жди ни улыбки, ни похвалы, если стенки раскопа не будут совершенно прямыми и гладкими.
Когда мерная рейка показала, что пройдено 10 сантиметров, археологи объявили перерыв. Пауза была заполнена оживленными пересудами; наконец последовало разрешение продолжать работу. Но только этапами по 10 сантиметров. Ни больше, ни меньше вплоть до коренной породы острова.
И уж совсем рабочие опешили, когда Шёльсволд наклонился у них перед носом, чтобы поднять маленький кусочек древесного угля, который он положил в полиэтиленовый мешочек с ярлыком. Затем Юхансен подобрал старые рыбьи кости и крохотный осколок разбитого горшка и тоже сунул в мешочек. Первой реакцией рабочих был громкий смех, но они примолкли, явно усомнившись в наших умственных способностях, когда увидели, как мы, боясь упустить малейшие крупинки мусора, просеиваем вырытую ими землю через мелкое сито.
Опасаясь, как бы островитяне не утратили всякое уважение к нам, заключив, что мы помешались, я подозвал нашего переводчика Абдуллу, чтобы растолковать, что происходит. Рабочие слушали с большим интересом, и мое объяснение явно запало им в душу.
Я рассказал, что дома, в нашей стране, есть аппараты, помогающие узнать возраст сжигаемого в них кусочка кости, раковины или древесного угля. Эти аппараты измеряют невидимые лучи, испускаемые любыми остатками жившего в прошлом растительного или животного организма. Такой способ, который мы называем радиокар - бонной датировкой, или просто С14, обычно позволяет определить возраст предмета с точностью плюс-минус пятьдесят лет. Так что самый маленький кусочек древесного угля или куриной косточки может сказать нам примерно, когда горел костер или была сьедена курица.
С этой минуты наши мальдивские помощники превратились в настоящих профессионалов, от их внимания не ускользал ни один фрагмент органического материала величиной с рисовое зернышко.
Ну, а что с черепками от старых горшков?
Черепки датируются не аппаратами, а специалистами по керамике. В разных концах света она отличается как по материалу, так и по форме и цвету изделий. Даже в одном и том же регионе тип керамики нередко изменялся в ходе столетий. Кости людей и животных, остатки растений могут со временем сгнить и исчезнуть, но черепки не разлагаются, их можно только разбить на более мелкие куски. Часто маленький осколок может поведать нам, где и когда был вылеплен горшок. Я мог бы сказать, что для археолога керамика то же, что для филателиста почтовые марки, по которым определяют год и место их выпуска, но мои слушатели никогда не видели почтовых марок. Зато все они пользовались привозной керамикой из Индии. И достаточно хорошо знали, что такое черепки, чтобы не пропустить даже самого маленького осколка.
Члены бригады попытались убедить нас, что черепки и кости можно найти гораздо быстрее, если копать большими лопатами. Теми, которыми они работают на своих плантациях таро. Зачем скрести какими-то ложками, углубляясь за один раз не больше чем на 10 сантиметров?
Я объяснил: не только потому, что хрупкие предметы можно нечаянно разбить лопатой или киркой, но и потому, что нам необходимо отмечать, на какой глубине лежал каждый образчик. Предмет, найденный на глубине 20 сантиметров, будет старше найденного на глубине всего 5 сантиметров, и самым старым окажется тот, который лежит на скальном основании. Чем глубже, тем дальше назад во времени. Всякому ясно, что наиболее свежий гумус и последний мусор, выброшенный человеком, окажутся наверху.
Боковые стенки раскопа должны быть прямыми и гладкими, чтобы на профиле четко различались пласты. Это позволит определить, нарушалась ли их последовательность. Скажем, вырытая кем-то яма будет заполнена землей или песком, отличными по цвету от окружающего грунта. Разные типы почвы, золы или песка располагаются слоями друг над другом, образуя подобие стенной росписи. По ним можно читать повесть о климатических изменениях, лесных пожарах, песчаных бурях, наводнениях, различных видах человеческой деятельности. Если же стенки будут неровными и шероховатыми, мы не сможем прочесть строки истории, написанные самой природой.
После моего объяснения наши мальдивские помощники разделились на звенья по четыре человека: двое скребли, двое просеивали. И ни один археолог не мог пожелать себе более старательных, бдительных и дотошных полевых работников.
Считанные дни, отведенные на Гааф-Ган, только разожгли аппетит археологов. Но надо было двигаться дальше. И конечно же, мы намеревались вернуться, как только позволит время.
 У разрушенной пирамиды на Гааф-Гане мы находили часть облицовки и на земле кругом, и под землей. Солярные мотивы встретились нам только здесь у Экваториального прохода. Два варианта изображались индивидуально (фото 1 и 3), были и декоративные сочетания (фото 2). Остатки толстого слоя штукатурки (фото 3), которой были замазаны все религиозные символы, свидетельствуют, что две различные религии успели сменить друг друга, прежде чем мусульмане восемьсот лет назад сокрушили всю облицовку. Одна скульптура напоминала наутилус или улитку (фото 4)
У разрушенной пирамиды на Гааф-Гане мы находили часть облицовки и на земле кругом, и под землей. Солярные мотивы встретились нам только здесь у Экваториального прохода. Два варианта изображались индивидуально (фото 1 и 3), были и декоративные сочетания (фото 2). Остатки толстого слоя штукатурки (фото 3), которой были замазаны все религиозные символы, свидетельствуют, что две различные религии успели сменить друг друга, прежде чем мусульмане восемьсот лет назад сокрушили всю облицовку. Одна скульптура напоминала наутилус или улитку (фото 4)
Лазая вверх и вниз по холму, мы не подозревали, что под ногами у нас в груде камней похоронены скульптурные изображения льва и быка. Однако нам было ясно, что мы вышли на памятник, хранящий ключи к важнейшей загадке Мальдивов. Маленький остров не располагал экономическими предпосылками, которые позволили бы пришлым мореплавателям воздвигнуть столь внушительный во всех отношениях храм. Какие политические и религиозные связи древних мальдивцев дали жизнь такому роскошному образцу материальной культуры?
Сидя вместе со мной на макушке холма, откуда открывался вид на джунгли и кроны отдаленных кокосовых пальм, Шёльсволд и Юхансен высказали ту же мысль, какую я давно вынашивал. Само географическое положение Мальдивских островов, да еще, пожалуй, раковины каури сделали их важным портом захода или транзита для высокоразвитых цивилизаций, чьи мореходы плавали в Индийском океане в домусуль-манские времена.
К западу от Гааф-Гана на том же кольцевом рифе помещался остров Ваду. Подобно Гаду и Гану, его с внешней
стороны омывали воды Экваториального прохода. От Лутфи мы знали, что Ваду обитаем. Это был последний в атолле "рединский" остров, притом тот самый, на котором нашли плиту с загадочными письменами. Естественно, мы должны были посетить Ваду, прежде чем выходить на просторы Экваториального прохода.
Снявшись с якоря на заре и осторожно следуя по дуге через лагуну, мы спустя неполных два часа подошли к Ваду. На передней палубе "Золотого луча" скопилось столько тяжелых камней, что все это время ушло на перемещение груза, чтобы обеспечить равновесие судна. Мы уповали на то, что в музее Мале декорированным блокам будет гарантирована сохранность. Ведь рискованно оставлять их на Гане после того, как о них узнали потенциальные застройщики на Гаду.
Не успели мы бросить якорь на новой стоянке, как от берега отчалила дхони с местным вождем. Плечистый и темнокожий, он больше кого-либо из виденных нами островитян напоминал африканца; позднее мы узнали, что он - дальний родственник Лутфи. Тем не менее Лутфи поздоровался с ним довольно сухо и впервые даже не стал представлять нас, хотя мы вместе высадились на берег. Вождь угрюмо повел нас в селение, и Лутфи поспешил довести до нашего сведения, что недолюбливает этого человека. Это ему было велено прислать в Мале плиту с письменами. Она была совершенно целая, когда Лутфи осматривал ее там, где плиту откопали, а в Мале прибыла уже разбитая, и некоторых кусков недоставало. По чести, следовало составить рапорт и наказать нерадивого вождя, да только он не заслуживает ссылки на другой остров, заключил Лутфи с лукавинкой в глазах.
 Для сообщения между островами по-прежнему строят лодки типа дхони. В древности применялся только квадратный парус, который можно увидеть и теперь
Для сообщения между островами по-прежнему строят лодки типа дхони. В древности применялся только квадратный парус, который можно увидеть и теперь
Шагая бок о бок, Лутфи и темнокожий молчун провели нас по главной улице селения- самой чистой и аккуратной изо всех улиц, какие мы видели до сих пор, а это немало значит на Мальдивах. Перед рядами живописных домиков, где сложенных из белого известняка, где сплетенных из побуревших от солнца пальмовых листьев, на низких скамеечках сидели занятые рукоделием миловидные женщины. Мартин Мерен припомнил, что после отплытия из Мале мы не встретили на островах ни одного иностранца.
Никакой из пляжей Ривьеры не сравнился бы чистотой с белым песком между длинными шеренгами строений, чьи обитательницы продолжали заниматься своим делом, словно не замечая нас. Никто не здоровался с нами. Здесь, как и в Мале, в речи островитян отсутствуют слова, выражающие приветствие. Не будучи специалистом, я мог только отметить, что рукодельницы то ли плели, то ли вязали, то ли скручивали вместе разноцветные нити с грузиками на концах, свисающие с лежащего на коленях большого клубка, обтянутого сатином. Готовое изделие представляло собой широкую кривую ленту, способную поспорить многоцветьем с радугой. Этой лентой женщины украшали, словно пелеринкой, свои длинные, до пят, платья. Лутфи объяснил, что таково традиционное одеяние мальдивских женщин и раньше все островитянки его носили. А мне тотчас вспомнились моды Древнего Египта, как они представлены на изображениях Нефертити. Так ведь и на Мальдивах нам порой встречались женщины, гордой осанкой и тонкими чертами лица не уступающие этой венценосной красавице.
Там, где оканчивалась деревенская улица, вправо между низкими стенами мусульманского кладбища уходила другая, такая же широкая и тщательно подметенная. На шестах развевались белые флажки. Сквозь бурьян проглядывали старинные мусульманские могильные плиты с искусными резными узорами. Многие плиты были совсем заброшены и разбиты. Лутфи сказал, что надписи выполнены знаками второго из трех известных видов мальдивской письменности, называемого дхивес акуру. Как и в употребляемой теперь письменности тана акуру, знаки располагались справа налево. В наиболее древней системе, эвелла акуру, знаки писали слева направо.
Короткая кладбищенская улочка упиралась в мечеть и украшенную белыми флажками большую гробницу важного мусульманского святого. В сложенном из беленых плит остроконечном склепе покоились останки Ваду Дханна Калейфану, известного также под мусульманским именем Мухаммед Джамалу Дин. Видимо, он первым на острове был обращен в мусульманскую веру. Мы вспомнили рассказ старика на Гаду о том, что именно сюда бежали с Гааф-Гана люди племени каши, но сингальские "кошачьи люди" последовали за ними и всех перебили. Если и впрямь речь шла о сингалах, то ведь они должны были быть буддистами. И если предание основано на фактах, то покоившийся в склепе святой мог быть буддистом, который принял веру одержавших конечную победу мусульман.
Мечеть была небольшая, но добротной постройки, с красивой деревянной резьбой, не уступающей могильным плитам обилием арабесок. Высокие открытые окна смотрели на низкую каменную ограду, за которой виднелась большая приземистая груда песка и битого камня. Лутфи перелез через ограду, и мы последовали за ним. Стоя на обломках, он объяснил, что именно здесь была найдена плита с письменами. И здесь он видел ее в полной сохранности.
Шагая взад-вперед по битому известняку, наши археологи уныло скребли в затылке. С огорчением они заявили, что им тут делать нечего. Поздно. Кто-то все уже перерыл не так давно. Раскопки с соблюдением стратиграфии исключены. Нет никакого смысла углубляться в грунт по 10 сантиметров за раз там, где старое основательно перемешано с новым.
Лутфи тоже огорчался. Местные жители выкапывали здесь тесаный камень для своих построек. Тогда и была обнаружена плита с письменами. Этот тип (Лутфи указал на угрюмого вождя, который с виноватым видом сидел на ограде) обещал отправить ее в Мале. А теперь даже не может вспомнить, куда подевались недостающие фрагменты. Его люди всюду искали, но ничего не нашли.
- Может быть, стоит порыться в этой куче,- предложил я,- вдруг еще что-нибудь найдем.
Конечно, раскопками это не назовешь,- отозвался Шёльсволд.- Но может, и впрямь нападем на что-нибудь стоящее.
Вождь велел своим людям принести лопаты, после чего они принялись без особого рвения расчищать край участка от камней и песка, наперед зная, что не будет ничего интересного. Они ведь еще до нас перевернули каждый камень. Тем не менее работа продолжалась, и мы тщательно осматривали каждый обломок, прежде чем отбросить его в сторону. Вождь все так же угрюмо восседал на ограде.
Вдруг я услышал громкий возглас Юхансена. Из песка показался цоколь круглой колонны с пазами. Его расчистили, и Лутфи, исходя из прежнего опыта, предположил, что опирающаяся на цоколь колонна состояла из соединенных при помощи шипа секций. Дальше нам встретились еще четыре секции. Затем мы извлекли из песка кусок красивой плиты с декором в виде выстроенных в ряд символов лотоса, но тут рабочие побросали свои лопаты, да и археологи вдруг утратили интерес к раскопкам. По другую сторону ограды появилась длинная вереница женщин в ярких платьях зеленого, красного и других цветов. Некоторые из них были удивительно хороши собой, и у многих платье на груди и на запястьях украшала радужная отделка в древнеегипетском стиле. Женщины принесли стаканы и кувшины с подслащенной розовой водой, чтобы мы и наши помощники могли утолить жажду. Хотя вождь продолжал сидеть с угрюмым видом и от воды отказался, лицо его просветлело, когда он увидел, как мы охотно оторвались от дела, радуясь бодрящему визиту. Это он организовал такое мероприятие, чтобы как-то загладить свой проступок.
Островитянки держались приветливо, без развязности, но и без лишней робости, и вышло нечто вроде веселого безалкогольного пикника на мусорной куче. Бросалось в глаза различие между здешними женщинами и их замкнутыми, чурающимися посторонних мусульманскими сестрами во многих других странах. На Ваду, как и всюду на островах Мальдивского архипелага, явно сохранились обычаи доарабского общества, в котором женщины обладали теми же привилегиями, что мужчины; больше того, в дошедших до нас записках заморских гостей говорится, что "островами каури" обычно правила женщина. Вот ведь и на Гааф-Гане некогда королевой была представительница легендарного рода Ханзи.
После столь приятной интермедии мы возобновили работу с удвоенным энтузиазмом. Однако ресурсы мучимого раскаянием вождя не были исчерпаны. Экваториальное солнце нещадно припекало, и, как только розовая вода улетучилась через нашу кожу, явилась новая процессия островитянок с освежающим напитком.
Несмотря на перерывы, а может быть, благодаря им, работа шла полным ходом, с песнями и шутками. Из песка извлекались камни, почему-то не привлекшие внимание тех, кто копался здесь раньше нас. Добычу складывали в тени под ближайшими деревьями, где мы очищали ее щетками и спокойно изучали, не опасаясь комариных полчищ, которые так докучали нам в джунглях Гааф - Гана.
Шёльсволд расчистил осколок тесаного камня с вырезанным на нем странным символом, похожим на грушевидный молоток с рукояткой. Тем временем я изучал камень с изображением ступни, словно кто-то наступил сандалией на раскаленную лаву. Следом раздался торжествующий возглас Бьёрна Бюэ. Ему встретилась длинная плита, покрытая штукатуркой, вроде виденных нами на Гааф - Гане, и, очищая ее, он обнаружил то, на что я втайне надеялся: солнечные символы. Здесь на Ваду мы, как и на Гааф - Гане, находились на берегу Экваториального прохода. И вот вновь солярные знаки, которые не встречались нам на других островах, исключая тот же Гааф - Ган.
Осторожно освободив камень от толстой известковой корки, мы убедились, что вся его поверхность покрыта живописным рельефным узором из разделенных вертикальными рамками либо трех маленьких, либо двух больших солнечных символов разного вида, расположенных друг над другом.
Отобрав изрядное количество прекрасных солярных камней, замазанных штукатуркой, мы с опозданием рассмотрели на некоторых из них отчетливые следы красной краски. Очевидно, украшенные символами строительные блоки из белого известняка первоначально были покрашены в красный цвет.
Тонкий вкус и высочайшее мастерство резчиков получили новое подтверждение, когда мы обнаружили фрагменты, на которых концентрические круги солнечного диска были искусно окаймлены красными цветочными лепестками, словно венчиком из солнечных лучей. Каждый такой рельефный символ был величиной с цветок календулы. Только религиозные фанатики были способны покрыть эти шедевры обыкновенной штукатуркой. Но и тех, кто старательно замазал солярные знаки, вытеснили другие, так же нетерпимо относившиеся к их вкусам и их вере. Мусульмане разбили оштукатуренные блоки и осколки выбросили на свалку.
Жители Ваду отлично знали, как поступили их предки, приняв ислам. Муэдзин уверенно заявил нам, что песок и камни, которые мы раскапывали, не что иное, как остатки языческого святилища, находившегося там, где теперь внутри ограды стояла мечеть.
Посещение мечети убедило нас, что народная память не ошибается. Фундаментом служили великолепно обработанные камни, лежавшие в основании прежнего храма. Правда, фундамент, как и найденные нами солярные камни, был покрыт штукатуркой, но там, где она осыпалась, просматривались те же классические линии, какие мы впервые увидели, когда раскапывали храм на Ниланду. Нам рассказали, что и по другую сторону мечети сохранились остатки невысокого холма. Один островитянин нашел там орнаментированные плиты, когда вскапывал участок под кукурузу. Но куда они подевались, никто не знал.
 Идет погрузка археологических образцов, собранных нами на Ниланду. Они будут доставлены в Национальный музей в столице Мале
Идет погрузка археологических образцов, собранных нами на Ниланду. Они будут доставлены в Национальный музей в столице Мале
Я порыскал в кустарнике вокруг мечети, однако руин больше не нашел, зато, когда вернулся, застал Шёльсволда и Юхансена в восторженном настроении. Они обнаружили кусок плиты с загадочными символами и толстый блок с фрагментом солнечного колеса и знаком, похожим на символ, обозначающий у буддистов младенца Будду. Не успел я налюбоваться этими находками, как Юхансен притащил тяжеленный блок, на котором большой солнечный цветок с восемью лучами-лепестками выступал над более широким орнаментированным диском, в свою очередь выступавшим над кубическим основанием. Судя по тому, что декор нарушали пять просверленных отверстий - одно посередине и четыре по бокам,- словно бы предназначенных для штифтов, этот замечательный солярный рельеф мог венчать прямоугольный столб или украшать облицовку храма.
 На Мальдивах в прошлом жили великие мастера каменотесного дела. По преданию первыми соорудили хавитты и облицевали шлифованным камнем бассейны представители таинственного народа рединов. До наших времен хорошо сохранилось только то, что было засыпано землей
На Мальдивах в прошлом жили великие мастера каменотесного дела. По преданию первыми соорудили хавитты и облицевали шлифованным камнем бассейны представители таинственного народа рединов. До наших времен хорошо сохранилось только то, что было засыпано землей
В ту самую минуту, когда муэдзин стал призывать правоверных в мечеть на молитву и рабочие отложили свой инструмент, Вахид вдруг нагнулся и поднял с земли бусину. Агатовую бусину красноватого цвета, просверленную насквозь, как если бы она составляла часть ожерелья. На коралловых островах нет природного агата; стало быть, эта бусина совершила далекое морское путешествие.
Видя, в какой восторг привела нас эта находка, один из рабочих сказал, что собрал около двух сотен таких бусин, когда раньше рылся здесь среди обломков. Бусины были доставлены в администрацию атолла. После чего исчезли. Две штуки сумел сохранить муэдзин, и после богослужения он охотно вручил их нам. Одна была также из агата, но посветлее и побольше. Другая сделана из просверленной вдоль раковины, однако не круглая, а тонкая и продолговатая, с утолщением посередине. Вслед за тем один из наших помощников извлек точно такую бусину из песка под нашими ногами. Я был уверен, что видел в Индии ожерелья из бусин таких же двух типов, какие встретились нам тут. Они были найдены при раскопках Лотхала, древнего порта исчезнувшей цивилизации долины Инда. Мне явно следовало еще раз побывать там и провести сравнение.
Несколько комьев и больших осколков твердейшего серого вещества, похожего на бетон, сильно нас озадачили. В островных селениях мы ни разу не видели бетона - откуда же на свалке старого мусора эти образчики современного строительного материала? Лутфи рассмеялся. Это вовсе не знакомый нам бетон. Цемент появился на Мальдивах только после первой мировой войны. А это материал, который мальдивцы умели изготовлять с древнейших времен. И Лутфи обратил наше внимание на множество черных крупинок древесного угля в "бетоне". С давних пор мальдивцы смешивали с известняком золу и размельченный древесный уголь и добавляли к этой смеси сок кокосовой пальмы. Этот сок добывали из самой макушки пальм и варили, получая вещество, известное в Индии под названием джаггери. Итогом всех операций был материал, не уступающий по твердости кремню.
Хаотическое нагромождение обломков не позволяло определить эпоху, когда было сделано или заимствовано это хитроумное изобретение. Мы попросили рабочих углубиться на полметра ниже поверхности, на которой, насколько можно было судить, покоилась груда камня и песка. На свет явилось множество замазанных известкой солнечных цветков и осколки разных плит, но ни один из них не подходил к отправленным в Мале фрагментам с письменами.
Разрыв вдоль почти всю груду мусора, мы готовы были оставить надежду найти искомое. Для нас оставалось загадкой, как могли бесследно исчезнуть такие большие обломки. Оставалось утешаться тем, что мы обнаружили новые свидетельства, подтверждающие открытия на Гааф - Гане. Когда здесь утвердился ислам, фанатичные мусульмане снесли каменный храм, покрытый белой штукатуркой. Возможно, конструкция храма сочетала внутренний заполнитель в виде песка с известняковой облицовкой, подобно святилищу, раскопанному нами на Ниланду. Во всяком случае, он опирался на точно такую же профилированную кладку.
Разрушая храм, мусульмане, очевидно, раскололи плиты с пиктограммами, кроме той, что оставалась целой еще несколько месяцев назад, пока и ее не разбили по недосмотру вождя, который сейчас созерцал гору битого камня, сидя на ограде. Под толстым слоем известки красивые солнечне диски и цветки были надежно скрыты от глаз мусульман, и они, похоже, только теперь увидели эти орнаменты.
Несколько человек во главе с Шёльсволдом побывали в восточной части острова и осмотрели там большую хавитту. Холм из битого коралла был для нас уже привычным зрелищем, и, поскольку на земле вокруг хавитты не лежало никаких облицовочных блоков, Шёльсволд вернулся, чтобы приступить к каталогизации найденного рядом с мечетью.
В это время из самой мечети медленно вышел улыбающийся Лутфи.
- Нашел,- возвестил он.
- Что нашел?
- Недостающие куски!- Он торжествующе рассмеялся.
Мы живо перебрались через ограду и проследовали за ним к колодцу перед мечетью. Перед тем мы видели, как голые по пояс островитяне производили здесь омовение. Зачерпнув из колодца воду жестянкой на длинной палке, они обливались с головы до ног, тщательно моя руки и ступни, как заведено у мусульман. При этом они стояли на гладких плитах, которыми была вымощена площадка вокруг колодца, чтобы люди не ступали в грязь.
Довольно посмеиваясь, Лутфи показал пальцем на эти плиты. Они еще не успели просохнуть и были совершенно чистые, но без декора. Все мы несколько раз проходили мимо них. Что тут мог усмотреть Лутфи?
- Глядите, что я открыл!- Он наклонился и перевернул три плиты.
Вот они, недостающие письмена! Пропавшие фрагменты. Кто-то положил их здесь лицом вниз для удобства совершающих омовение. Ну и ну! Мы смотрели на строку пиктографических символов между свастикой, большим солнечным колесом и другими диковинными знаками. Всё как на кусках плиты, которые мы обнаружили за дверью чулана в музее. Впрочем, один из трех фрагментов явно был от другой плиты. Новое открытие.
- Да здравствует Лутфи!
Мы поочередно пожали ему руку. У него были все основания смеяться. Целый день мы трудились как проклятые на жаре в нескольких метрах от колодца. Теперь нам оставалось только радоваться вместе с Лутфи. Даже плечистый вождь слез с ограды, обнажив крупные белые зубы в неуверенной улыбке. Зато совсем не весел был муэдзин, когда, выйдя из мечети, увидел грязь вокруг колодца и нас, удаляющихся с трофеями.
Пока мы находились на экваторе, археологам следовало посетить еще один остров. Нельзя было покидать эту астрономически важную широту, не показав им Фуа - Мулаку, одинокий клочок суши в самом центре Экваториального прохода.
На второй день пребывания на Ваду мы около полудня снялись с якоря и пошли южным курсом через пролив. Сидя на корме и провожая взглядом удаляющийся остров, мы уже знали, на чем сосредоточить свое внимание. И не ошиблись: большая хавитта на Ваду заметно возвышалась над лесом. В далеком прошлом нетронутое белое сооружение на низком островке, наверно, служило превосходным ориентиром для мореплавателей. Парусные суда, приближавшиеся в зоне экватора к полузатопленному Мальдивскому архипелагу, издали могли видеть либо хавитты Ваду и Гааф - Гана у северных рубежей пролива, либо холм на Фуа - Мулаку в его центре, или же исчезнувшую в наши дни "башню" на Адду.
Четыре часа спустя после выхода из лагуны Гаафа мы подошли к Фуа - Мулаку. Был конец февраля, и со времени нашего ноябрьского визита муссон успел сменить направление на северо-восточное. А потому мы пришвартовались к толстому канату с другой стороны острова в том месте, где в прошлый раз волны утащили за риф трех кинооператоров.
Оседлав прибой, мы живо добрались до крутого каменистого берега, где островитяне - юные и взрослые - подхватили наш плоскодонный катер. Над группой малорослых встречающих великаном возвышался Ибрахим Диди, у которого мы жили в ноябре. Его дом сразу за широкой песчаной дюной ждал нас. Поскольку "Золотой луч" стоял в море за рокочущей полосой прибоя, надо было устраивать базу на берегу. Снаряжение и провиант мы привезли с собой и, занеся вещи в дом, направились в деревню, чтобы раздобыть велосипеды.
Под высоким навесом из пальмовых листьев на другом конце острова мы увидели пузатый корпус строящегося корабля. Высокий и широкий, как испанский галеон, он напрашивался на сравнение с Ноевым ковчегом, каким его представляют себе дети. Идеально обструганные и пригнанные доски из распиленных вручную стволов кокосовой пальмы соединялись деревянными гвоздями. Этот тип судна сильно отличался от длинных и стройных открытых дхони с их элегантными египетско-финикийскими обводами и загнутым кверху носом. Лутфи не разделял нашего восхищения. Он рассказал, что несколько десятилетий назад его родичи в атолле Адду строили трехмачтовые корабли такого же типа, но куда больших размеров. Назывались они веди. Возможно, в названии - ключ к происхождению этой конструкции, ведь в языках Северной Индии "веди" означает "корабль" (Maloney (1980, p. 155). ). Несомненно, корабелы такого высокого класса могли поддерживать сообщение с народами любых прибрежных стран Индийского океана.
Причем здешние мореплаватели были не только искусными плотниками. Их канаты не уступали лучшим в мире. В прошлом доски не сколачивали деревянными гвоздями, а сшивали не боящимися воды веревками из волокна оболочек кокосовых орехов. Что до 150-метрового каната толщиной десять сантиметров, к которому сейчас был пришвартован "Золотой луч", то жители Фуа-Мулаку сплели его из коры гибискуса.
Первым делом мы направились к мечети Кедере, где намечали расчистить наполовину засыпанную песком чашу бассейна, искусно сложенного из каменных блоков. С пятью местными помощниками я занялся этой работой, а остальные члены нашей группы покатили на велосипедах дальше, к большой хавитте. Шёльсволд хотел поискать там следы первоначальной кладки.
Углубиться в грунт между великолепными стенами ритуального бассейна мне понадобилось для того, чтобы проверить, не тянутся ли вдоль них скамьи, как в кирпичном бассейне в Мохенджо - Даро и в облицованном плитами на Бахрейне. Пока что было видно только, что вертикальные стены и широкая лестница уходят в сухой песок вперемешку с битым кораллом. Однако в колодце посередине бассейна поблескивала вода. Местные жители рассказали нам, что этот колодец был одет камнем не так давно, когда бассейн засыпали по велению властей в Мале.
Разгребая руками и лопатами песок и гравий, рабочие выбрасывали наверх крупные обломки мусульманских могильных плит и украшенных символом лотоса блоков из домусульманских храмов. Кто-то основательно потрудился, маскируя священную купальню.
В защищенной от морского ветра чаше бассейна нещадно пекло висящее над головой экваториальное солнце. Но я был вполне вознагражден за все неудобства, когда нашему взгляду предстали хорошо сохранившиеся широкие каменные скамьи. Мы тщательно расчистили их руками. Нельзя сказать, чтобы это открытие было полной неожиданностью, и все же я был счастлив, что мои надежды оправдались. Точная копия знаменитых бассейнов Мохенджо-Даро и острова Бахрейн-Дильмуна шумеров...
Зарывшись в песок еще на десяток сантиметров, были вознаграждены и мои прилежные помощники - их босые ступни омыла вода. Пресная вода, такая же прохладная, как в колодце. Когда она поднялась выше щиколоток, они отложили лопаты, от которых больше не было проку, и принялись разгребать песок руками, зарываясь все глубже и быстрее по мере того, как прибывала освежающая влага. Они сидели уже по шею в воде, продолжая выбрасывать наверх гальку, когда к бассейну, опираясь на клюку, приковылял какой-то древний старец. Вид сидящих в купальне соплеменников потряс его до глубины души. У него подкосились ноги, и, наверно, он упал бы без сознания, если бы я не выскочил из бассейна и не оттащил его в тень у мечети. Он пришел в себя лишь после того, как один из рабочих сорвал кокосовый орех и влил ему в глотку свежего сока.
Подъехавший на велосипеде Лутфи объяснил мне, что бородатый старец с чалмой на голове - муэдзин маленькой мечети. Звали его Хуссаину; согласно записям в местных книгах, ему было 104 года. Мы спросили старца, что ему известно о бассейне, и он охотно ответил. До того как чашу засыпали песком и гравием с пляжа, в ней была только чистая вода, он видел это сам. Многие мужчины и женщины вместе купались в бассейне. Плоские каменные плиты на дне были такие же гладкие и чистые, как стенные блоки. Сейчас вода мутная только потому, что мы копались в песке. Прежде на дне были отверстия с затычками. Из них поступала пресная вода, такая, как теперь в колодце, и в них же она уходила. Хотя вода была пресная, она то прибывала, то убывала в одно время с морским приливом и отливом у берегов острова. В разгар прилива вода поднималась ему по грудь, в отлив опускалась до пупа.
Мы замерили уровень воды в чаше. Как и в круглом бассейне, раскопанном нами на Ниланду, он колебался в пределах двадцати сантиметров вместе с морским приливом и отливом, не поднимаясь выше скамей, так что люди могли сидеть на сухих камнях. В лестнице насчитывалось семь ступеней. Лежа на скамье и погрузив руку в воду по самое плечо, я убедился, что гладкие стенные блоки и дальше вниз пригнаны друг к другу так же тщательно, как в надводных секциях. Однако без насоса расчистить чашу до самого дна было трудновато. И поскольку нам сказали, что закон требует, чтобы до нашего отъезда чаша снова была засыпана песком и гравием, мы остановились на той глубине, которая позволяла человеку сидеть по шею в воде. Допусти правительство исключение из этого правила, и наполненное кристально чистой водой, ориентированное по солнцу великолепное древнее сооружение стало бы уникальным памятником национальной культуры. И ценным для науки образцом строительного искусства, некогда игравшим важную роль на Мальдивском архипелаге.
Пока мы еще очищали бассейн от посторонних обломков, приехал на велосипеде и Мартин Мерен; его интересовало, удалось ли мне обнаружить скамьи. Стоя на груде камня у края чаши, он был ужален какой-то мелкой тварью, которая к тому же сразу скрылась, так что Мартин не успел ее рассмотреть. Укус не причинил ему боли, и он укатил восвояси, не сказав нам ничего о пустячном, как ему казалось, эпизоде. Между тем этот пустячок едва не стоил ему жизни.
Завершив исследование бассейна, я предоставил моим помощникам плескаться в воде в свое удовольствие, а сам сел на велосипед, чтобы посмотреть, что делается у хавитты. К этому времени крутой холм совершенно расчистили от густых зарослей пандануса и разных деревьев. Как и у бассейна, здесь собралось изрядное количество зрителей. Моя записная книжка сообщает:
"Островитяне работают споро и эффективно. Они живо все схватывают, обнаруживая острый ум. Мужчинам и женщинам присуще развитое чувство юмора. Никакой дискриминации женщин не заметно. В их поведении совсем нет робости, и они держатся уверенно. Вахид утверждает, что на этом острове слово женщины весит больше слова мужчины. Местные юноши и девушки отличаются живым умом и приятной внешностью. Некоторые из девушек Фуа - Мулаку выделяются редкостной красотой, превосходя в этом отношении полинезиек, хотя в чем-то на них похожи".
Расчистив с помощью большого отряда островитян обоего пола обращенную к морю сторону холма от земли и дерна, археологи обнажили хорошо сохранившиеся секции кладки из массивных блоков. Здесь, несомненно, стояла круглая буддийская дагаба, и кладка не была орнаментирована, только покрыта белой известкой, следы которой сохранились. Вверх по склону по кривой поднималась лестница, сложенная из принесенных с пляжа необработанных камней. Похоже было, что ее сложили позже самой дагабы, ибо стенные блоки были старательно обтесаны, хотя гладкостью и чистотой отделки уступали облицовочным плитам, виденным нами и на этом, и на других островах.
Шёльсволд усмотрел в кладке следы четырех террас, а один из местных стариков заявил, что видел шесть таких уступов, когда хавитта была еще не так разрушена.
Поверхностный осмотр этой буддийской дагабы не позволял заключить, опирается ли ее кладка на какое-нибудь более древнее сооружение. Когда сюда прибыли мусульмане, они, очевидно, застали покрытую белой известкой, коническую ступенчатую пирамиду, которая заметно возвышалась над островом и омывающими его волнами.
Лутфи не приходил к хавитте. Уже несколько дней он хромал после того, как чем-то оцарапал ногу, и ранка воспалилась. Теперь я с тревогой услышал, что он почувствовал себя плохо и отправился к "доктору". К этому времени у всех членов экспедиции ноги были обмотаны бинтами, порезы и царапины никого не миновали. Исключение составлял я, зато у меня была забинтована голова: напоролся в лесу на сломанный сук. Правда, здешние микробы, судя по всему, предпочитали держаться ближе к земле и выше колен не поднимались.
В роли "доктора" подвизался единственный на Фуа - Мулаку представитель медицины, симпатичный юноша 19 лет, окончивший двухнедельные курсы при больнице в Мале. Мы застали его вместе с пациентами на веранде у входа в местную управу. Лутфи лежал, дрожа от лихорадки, на топчане, укрытый толстыми одеялами. А на раскладушке рядом с ним я с удивлением увидел знакомого пожилого господина. Мартин Мерен! Одна нога его распухла так, что смахивала на дыню с двумя крохотными метками от укусов, которые юный медик усердно тер клочком серой ваты. Мартин заметно приуныл. Он уже принял противоядие от змеиных укусов, после чего его вырвало; теперь жаловался на сильную боль в ноге и животе. Глядя на ногу Мартина, я невольно вспомнил рабочих, которых мы нанимали на Гааф - Гане: у шести человек из шестидесяти ноги (у кого одна, у кого обе) были поражены слоновостью (
В тропических странах слоновость (филяриатоз) обусловлена филяриями - круглыми червями, паразитирующими в лимфатических сосудах и узлах. Их личинки (микрофилярии) циркулируют в крови или концентрируются в коже зараженного. Передача филяриатоза осуществляется различными кровососущими насекомыми.- Прим. ред.). Эту болезнь вызывают микроскопические личинки, распространяемые некоторыми видами тропических комаров. Но ведь она развивается очень медленно... Метки на ноге Мартина вполне можно было принять за след змеиного укуса, если бы нас не заверили, что на Мальдивах не водятся змеи. Может быть, Мартина ужалила крупная многоножка из тех, что попадались мне на глаза среди камней? Их острые ногочелюсти не уступают ядовитостью жалу небольшого скорпиона, а если добавить микробов на грязной вате, то осложнения неминуемы.
Мартину становилось все хуже. К тому времени у местного фельдшера и у Бьёрна, нашего собственного бесподобного лекаря, кончились все бинты и лекарства, и Вахид договорился с четырьмя островитянами, чтобы они отвезли его на "Золотой луч" за аптечкой.
Когда лодка отчалила, было уже темно, и вернулись они около полуночи насквозь мокрые, с кровоточащими ссадинами. Но Вахид гордо вручил мне аптечку, из которой хлынула вода, как только я ее открыл. Он объяснил, что на обратном пути прибой опрокинул маленькую дхони, и все пятеро очутились в бурлящей воде. К счастью, до берега было недалеко, и они чудом выбрались на пляж, волоча за собой опрокинутую лодку.
- Я все время крепко держал ящик,- с достоинством сообщил Вахид. И извинился, что не смог уберечь содержимое аптечки от воды.
Заодно мы впервые услышали, что в прошлом месяце с острова Адду - Ган на Фуа - Мулаку пришла на дхони бригада японских киношников. Они узнали из газет о наших прошлогодних исследованиях и задумали снять хавитту и сцены местной жизни. Проведя один день на Фуа - Мулаку, двинулись обратно на Адду - Ган, и надо же было случиться так, что их дхони опрокинулась в том самом месте, где теперь не повезло Ва-хиду. Никто не погиб, но, по словам островитян, безутешные японцы потеряли при этом две кинокамеры и все взятые с собой 160 катушек пленки, включая отснятую. Добавлю, что это была не единственная попытка японцев пройти с кинокамерой по нашим следам.
Наутро пришло время нам возвращаться тем же путем на "Золотой луч". Болезнь Мартина приняла серьезный оборот, необходимо было доставить его в аэропорт на Адду - Гане, прежде чем начинать далекий переход на север.
Больше всех волновался Оке. Он всю ночь не спал, думая о том, что грозит его драгоценным камерам. Едва небо окрасила румяная заря, как мы уже были на берегу. Пристально следя за бушующими волнами, мы ловили момент, чтобы вскочить на борт дхони. Один за другим четыре могучих вала разбились о риф, затем пошли волны посмирнее. Пора не мешкая выходить за риф в открытое море! Вся надежда была на четверку местных опытных гребцов. По сигналу рулевого, первым занявшего свое место, они оттолкнулись от берега. Наученный горьким опытом грузный Лутфи предпочел, чтобы его отнесли в лодку на руках. Мартин сам гордо протопал до нее вброд. Ему помогли забраться на борт, и дхони запрыгала с гребня на гребень. Оставив позади зону прибоя, она благополучно вышла на морской простор. Я с облегчением смотрел, как первая группа со всем нашим снаряжением поднимается по трапу "Золотого луча". Еще два рейса, и мы в полном составе собрались на борту славного госпитального суденышка, которое взяло курс на юг, к атоллу Адду.
Мартин еще держался на ногах, когда мы простились на Адду - Гане с ним и Вахидом. На другое утро должен был вылететь самолет в Мале; нам предстояло покрыть то же расстояние по морю. Позднее мы узнали, что наш друг прибыл в Мале в тяжелом состоянии. Его выручила прилетевшая из Индии женщина-врач, которая отвоевала для Мартина место на переполненном самолете, направлявшемся в ФРГ. Там его немедленно отвезли во Франкфурт, в больницу с отделением тропических заболеваний, а оттуда переправили в Осло, где Мартина поместили в карантин. Точный диагноз так и не был поставлен, и, хотя Мартин, в общем, поправился, иногда нога все же дает о себе знать. Думал ли старый полярник, что смертельная опасность будет подстерегать его на широких ступенях плавательного бассейна...
Наше плавание на север прошло гладко, за исключением одного непредвиденного случая. В первый день мы пересекли Экваториальный проход и большую часть лагуны Гаафа. Проведя ночь на якоре у острова Кондаи, утром подошли к острову Вилигили в том же атолле. Здесь снова стали на якорь, поскольку капитан опасался, что темнота застанет нас у рифов по ту сторону пролива Полуторного градуса.
Неподалеку от "Золотого луча" покачивалось на воде какое-то странное суденышко, оккупированное играющими ребятишками. Что-то вроде огромного плота с надстройкой. Лутфи заявил, что на Мальдивах таких плотов не строят. Окликнув двух островитян на проходившей мимо дхони, он узнал, что загадочный плот был обнаружен накануне на рифе у восточного берега Вилигили. Первыми увидели его местные рыбаки. Не найдя никого на борту, они возможно, из суеверия - подожгли плот, потом все же отвели его на буксире в лагуну. Охотников пользоваться им не нашлось, и теперь все ждали, когда ребятишки разберут плот на части, которые затем будут проданы на аукционе в местном селении.
Спустив на воду катер, мы поспешили к диковинному судну, пока его совсем не доломали. Мальчуганы усердно обдирали надстройку, но, завидев нас, попрыгали в воду и поплыли к берегу.
В самом деле плот. Мощный плот, связанный из бамбука толщиной с телеграфный столб. Я еще никогда не видел таких огромных стволов. Они были уложены в три слоя под восемью деревянными поперечинами, на которых достаточно высоко над водой покоился палубный настил из того же бамбука.
Мы перебрались на борт мощной, остойчивой конструкции.
- Это не мальдивский плот,- повторил Лутфи.- У нас не растет бамбук.
- В Шри-Ланке тоже нет такого толстого бамбука,- добавил Бьёрн. Его заготовили где-то в джунглях на материке.
Может быть, в Бангладеш или Бирме,-предположил Бенгт, который видел подобные плоты в дельте Ганга.
Бамбуковое судно длиной двенадцать и шириной три метра, с высотой надводного борта 40 сантиметров своей конструкцией напомнило мне бальсовый плот "Кон-Тики", на котором я с пятью товарищами пересек Тихий океан. Надстройка была повреждена огнем и частично разломана мальчуганами. Но и того, что уцелело, было достаточно, чтобы я вспомнил просторную и уютную бамбуковую каюту на "Кон-Тики". Пол возвышался на 20 сантиметров над палубой, и в одном углу мы увидели полный золы очаг из обожженной глины. Над очагом помешалась решетка из бамбуковых реек для копчения рыбы. Остроконечную крышу, надежно проконопаченную кокосовым волокном от дождя, сверху прикрывала плоская платформа вроде той, какую мы сделали на камышовом "Тигрисе". Под самой крышей был отсек для вещей, как у нас на "Кон-Тики".
Тщательно обследовав плот, мы обнаружили несколько сухих рыбок, которые, скорее всего, сами заскочили на борт. На антресоли лежали два клочка бумаги с вязью экзотических письмен-наклейки от какой-то банки.
- Это не наши письмена,- сказал Лутфи.
- И не сингальские,- добавил Бьёрн.- На Шри-Ланке я таких не видел.
- Похожи на бирманские,- убежденно произнес Бенгт.
Он недавно побывал вместе с Оке в Бирме, где они снимали сказочный комплекс из 8 тысяч буддийских храмов эпохи Пагана.
- Минутку,- продолжал Бенгт, доставая из кармана бумажник, в котором хранились визитные карточки, оставшиеся на память об этом путешествии.- Вот, глядите!
Мы увидели на карточках шеренги таких же завитушек, какие были изображены на старых наклейках.
Но лишь после того, как мы вернулись на материк, нам помогли прочесть написанное. Первая строчка гласила:
"Буддхам Дхаммам Сангхам".
Что в переводе означает: "Будде, Учению, Монахам". Вторая строка извещала: "Вкусно и богато приятными ароматами". Еще ниже следовало фирменное название бирманских конфет с кокосовым орехом!
Выйдя из далекой Бирмы, этот плот на своем трехтысячекилометровом пути до Вилигили на Мальдивах прошел мимо Бангладеш, Индии и Шри-Ланки. Он весь оброс усоногими рачками, и мой опыт четырех долгих плаваний на плотах позволял по их величине определить, что эта конструкция пробыла в море около двух месяцев.
Сам Будда, застань мы его в каюте, не смог бы рассказать нам больше о маршруте, чем поведали наклейки с изречениями в его честь. От своих истоков в Непале его учение было быстро распространено монахами вниз по течению Ганга до Бенгальского залива и Бирмы. Нигде в мире Будде не посвящено столько золотых изваяний, роскошных пагод и ступ, сколько в Бирме, где буддизм остается национальной религией и при прокоммунистическом режиме. Подгоняемый северо-восточным муссоном, бамбуковый плот повторил самый простой и логичный путь дальнейшего шествия буддизма через Бенгальский залив до Шри-Ланки и Мальдивского архипелага. Отчалил ли он от бирманских берегов с людьми или без них, его путешествие свидетельствовало, что мореплаватели-буддисты вполне могли, минуя Шри-Ланку, прямо от материка дойти до далеких атоллов на просторах Индийского океана.
Покидая Мальдивы после второго посещения, мы отлично понимали, что загадка, которую надеялись отгадать, лишь усложнялась с каждым нашим новым открытием. Было совершенно очевидно, что до прибытия мусульман этот океанический архипелаг находился под властью буддистов, вышедших либо из Шри-Ланки, либо с лежащего за ней материка. Но и у них тоже были предшественники. Постепенно в полный рост вставал новый вопрос, на который не просто было ответить.
Коль скоро буддисты так прочно обосновались на архипелаге, ближайшим соседом которого было сильное буддийское государство Шри-Ланка с его могущественными правителями и многочисленным войском, как могло случиться, что горстка мусульман, приплыв из далекой Аравии на Мальдивы, смогла разрушить их великолепные храмы и обратить все население в свою веру?
Глава IX. Мальдивы, древний перекресток
Доевропейская эпоха свободной торговли
Мальдивскую историю можно назвать уроком религии. Вряд ли какое-нибудь другое государство со столь ограниченной территорией и так надежно защищенное от внешнего влияния, может явить нам следы такого числа разных верований. Главные религии мира, от солнечного культа древних цивилизаций до наиболее молодой -мусульманства, сменяли друг друга на этих далеких океанических островах. Несмотря на такую переменчивость в прошлом, сегодня Мальдивская Республика-одно из немногих государств, где все граждане исповедуют единую веру. Желающий поселиться на Мальдивах обязан принять ислам. Такой порядок действует здесь больше восьмисот лет.
Известная нам глава мальдивской истории начинается с героя, принесшего на острова мусульманскую веру. Более ранние источники систематически уничтожались. Именно эти, утраченные главы представляют не только локальный интерес. С ними погибли недостающие страницы мировой истории.
Как же мало все мы знаем о прошлом человечества, не отраженном в письменных источниках. Совершенно забыты простые люди, которые участвовали в создании и распространении цивилизации, но память о которых не увековечена монументами, потому что не были они ни королями, ни великими полководцами. Когда египетская царица Хатшепсут снарядила экспедицию через Красное море в Пунт, когда Александр Великий дошел до долины Инда и отправил свое войско обратно морским путем в Месопотамию, эти события были запечатлены для потомков. Но нам ничего не известно о множестве землепроходцев и купцов, проделавших до них такие путешествия. Мы ничего не знаем о том, что происходило в Индийском океане в древности, задолго до прихода туда арабов и португальцев. Когда по берегам Азии складывались первые морские державы. Когда торговые суда, связавшие Восток и Запад, положили начало мировой торговле.
Обычно история той или иной страны начинается с могущественного основателя королевской династии. Мальдивы в этом смысле явное исключение. Задолго до того, как начала писаться история этой страны, здесь правили сменявшие друг друга короли. С началом письменной истории Мальдивов кончилось правление королей. Последний король был переименован в султана пришедшим из-за моря набожным иноземцем, который и положил начало мальдивской истории. Он позаботился о том, чтобы были преданы забвению все короли - кроме одного, обращенного им в мусульманскую веру. Без оружия и без единой капли мальдивской крови
в своих жилах он сумел насадить новую веру и новые законы и заложил основы нынешнего исламского мальдивского государства.
В большой мечети Пятницы в Мале висит доска, украшенная великолепной рельефной вязью арабских письмен. Резьба была исполнена в последовавшем за введением мусульманства столетии, в память о прибытии отважного арабского мореплавателя Абу аль-Бараката, который принес на Мальдивы новое вероучение и воздвиг вышеназванную, самую древнюю в стране мечеть, где правоверные мусульмане отбивают поклоны, глядя на угол зала, потому что исконный фундамент был ориентирован по солнцу, а не на Мекку.
Похоже, доска с арабскими письменами не привлекала особого внимания иноземных гостей, пока на ней не остановил свой взгляд знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута, прибывший на Мальдивы в 1343 году. К тому времени местное население уже два столетия исповедовало ислам. Ибн Баттута -один из великих арабских путешественников той поры; тем не менее маршруты его странствий известны нам только из собственных записок Ибн Баттуты. На Мальдивы он прибыл из своего родного города Танжера, расположенного на атлантическом побережье Африки, у входа в Гибралтарский пролив. Задолго до Васко да Гамы он совершил длительные плавания в Индийском океане, побывал и в Камбейском заливе на северо-западе Индии. Примечательно, что именно из этого центра мореходства древней Индской цивилизации Ибн Баттута, огибая южную оконечность Индии, пришел на Мальдивы. Прежде чем следовать дальше, в Китай, он надолго задержался на этом архипелаге, о котором знал уже до отплытия из Индии:
"Я решил плыть в Дхибат Алмахал [арабское название Мальдивских островов], о которых много слышал... Эти острова - одно из чудес света"
(Gray (1888, p. 434-436).).
В мечети Пятницы в Мале он скопировал вырезанные на доске арабские письмена, истолковав по-своему имя исторического деятеля, принесшего на острова ислам: Абу алъ-Баракат Юсуф, с географической приставкой аль-Барбари, означающей "из страны Бербер".
Тем самым мавританский гость, мусульманин из Танжера, опознал в мальдивском культурном герое своего соотечественника; несомненно, это прибавило ему популярности и престижа среди островитян. Современные историки последовательно цитируют толкование Ибн Баттуты, из коего следует, что учение ислама было принесено на Мальдивы уроженцем атлантических или средиземноморских берегов Северной Африки, который через Египет и Красное море дошел до Индийского океана. К моему удивлению, Лутфи заявил, что Ибн Баттута ошибся. У достославного мореплавателя, утвердившего на Мальдивах ислам, был куда более точный адрес, чем "страна Бербер": это определение подходило ко всей Северной Африке. И плыл он не через Красное море, а через Персидский залив с другой стороны Аравийского полуострова, где в 1977 году плыли и мы на камышовом "Тигрисе".
Лутфи изучал в Египте арабский язык. Чтобы лучше разобрать старинные письмена, он снимал со стены доску и даже сравнил текст на ней с посвященным тому же событию другим древним текстом, запечатленным прямо на стене мечети. Там имя культурного героя отчетливо читалось как Абу аль-Рикаб Юсуф, с приставкой аль-Табри-зи, означающей "из Тебриза". Тебриз, напомнил мне Лутфи, был важным арабским торговым центром в Персии, на главном караванном пути из стран Восточной Азии к Багдаду и к портам на реке Тигр.
Когда мы с островов у Экваториального прохода вернулись в Мале, Лутфи показал нам в музее древнюю доску, перенесенную туда из мечети.
- Вот, смотрите,- сказал Лутфи, обращая наше внимание на следы рельефных кружочков, которые то ли сами отпали, то ли были удалены.- Недостающие знаки все меняют!
Начертив на листке бумаги два почти одинаковых сочетания арабских письмен, одно- с полным набором точек, другое без нескольких знаков, он передал листок стояшему рядом мальдивцу, знающему арабский язык, и тот прочитал вслух первый вариант: "Из Тебриза",-затем второй: "Из страны Бербер". В самом деле, отсутствие точек совершенно меняло толкование. Я сохранил запись Лутфи:
 1. Табризи. 2. Барбари
1. Табризи. 2. Барбари
Всякому историку мусульманства известно, что Тебриз играл важную роль в распространении ислама внутрь Азиатского материка и по водным путям Месопотамии до Бахрейна в Персидском заливе и дальше. И хотя путешественник Ибн Баттута был родом из Танжера, лежащего на дальней окраине "страны Бербер", он тоже пересек реку Тигр, чтобы посетить Тебриз, который произвел на него сильное впечатление. Он восхищался "огромным базаром, именуемым Казанским, это один из самых замечательных базаров, какие мне доводилось видеть в мире". Переводчик его записок объясняет в примечании:
"Это было время высшего процветания Тебриза как транзитного центра между Европой и Монгольской империей"
(Battuta (1354, vol. II, p. 344).).
Лутфи не был одинок в пересмотре толкования Ибн Баттуты. Вскоре после того, как он посвятил нас в тайну отсутствующих знаков, сообщение о мальдивских мечетях опубликовал специалист по истории ислама А. Д. У. Форбс. В своем толковании надписей на стенах мечети Пятницы в Мале он указывал:
"В строках 2-3 читаем: "Абу'ль Баракат Юсуф аль-Табризи прибыл в эту страну, и его попечением султан стал мусульманином в месяце Рабиль-Акхир 548 [т. е. 1153 г. н.э.]"". Форбс добавляет: "Главная разница между надписью и сокращенной версией, приведенной Ибн Баттутой, заключается в использовании нисбы "Табризи" вместо "Барбари""
(Forbes (1983, p. 71 footnote).).
Однако первая страница мальдивской истории была не только вырезана на доске и написана арабскими буквами на стене в мечети. У мальдивцев были свои собственные летописные книги из связанных вместе тонких листов меди. Эти хроники, написанные буквами языка дивехи, назывались тарах; из них и появившихся позже бумажных документов жители архипелага знают имена всех своих султанов. Список начинается правителем, который родился в 1141 году и был обращен в мусульманскую веру в 1153 году. А завершается он султаном, правившим до 1968 года, когда Мальдивы стали республикой. Изучив старые источники, Белл записал:
"Вот как, согласно тарих, происходило обращение мальдивцев. Всемогущий бог, желая вызволить островитян из тьмы отчаяния и невежества, идолопоклонства и неверия и наставить их на правильный путь, вдохновил Шейха Юсуфа Шамс-уд-дина из Тебриза, благочестивейшего мужа того времени, "чья мудрость глубиной не уступала океану", посетить Мальдивы. Там Шейх Юсуф призвал островитян стать мусульманами, однако преуспел лишь после того, как поразил их способностью творить чудеса. Так, он вызвал огромного джинна, "голова которого вознеслась в поднебесье". Тогда король и все жители стали мусульманами... Затем по всем атоллам были разосланы эмиссары, и они обратили всех островитян, хотели они того или нет, в мусульманскую веру".
По мнению Лутфи, Юсуфа неверно называть Шамс-уд-дином, поскольку Шамс-уд-дин был знаменитейшим арабским ученым из Тебриза, который совершил много путешествий, однако вернулся в родной город и был похоронен там. Действительно, дальше в древнем тарих человека, принесшего на острова ислам, называют просто "Табризигефацу" - "муж из Табриза",- или еще проще: "Табриз".
"Королю, прежде носившему титул "Сири Баранадитта", Табриз присвоил звание "Султан Мухаммад".
И еще: "По советам Табриза были установлены основы управления островами, введены религиозные законы, свободно распространялось знание новой веры. Все следы идолопоклонства были уничтожены, повсеместно воздвигались мечети"
(Bell (1940, p. 18-19).).
Следующий отрывок из тарих, переведенный Беллом, ясно говорит, откуда вышел культурный герой:
"Когда Бог пожелал извлечь народ Мальдивов из пучины невежества, спасти их... от идолопоклонства и указать им верный путь и свет ислама, Бог пробудил в наиболее богобоязненном, первейшем святом того времени... Маулане Шейхе Юсуфе Шамс-уддине из Табриза желание посетить Мальдивы. После чего тот покинул свой родной город, называемый Табриз (в Персии), и появился на Мальдивах"
(Bell (1940, p. 203) и Хасан Манику в неопубликованной рукописи "Islam in Maldives" (Male, Dec. 1982, ref. no. MOE/82/CISSEA/12, p. 3) цитируют древнего мальдивского летописца Хасана Тхажуддина (ум. 1727), который тоже приводит неверное имя, Шамсуддин аль-Табризи, однако сообщает интересную дополнительную информацию о том, что он выехал из Тебриза в 11 году правления Мустафы Ли-Амриллы, то есть в 1147 году. Если это верно, то путник из Тебриза посетил еще какие-то места, раз он прибыл на Мальдивы в 1153 году.).
Из чего следует, что благочестивейший Шейх Юсуф из Тебриза попал в Мале не случайно, но с твердым намерением обратить в мусульманскую веру языческий народ, хорошо известный всюду, куда приходили арабы. Отплывая из Месопотамии, тебриз-ский Шейх был осведомлен нисколько не хуже, чем впоследствии его арабский соотечественник Ибн Баттута, когда тот покидал порт Камбей на северо-западе Индии. В самом деле, для древних парусных судов наиболее легкий путь в этих водах совпадал с первым этапом плавания камышовой ладьи "Тигрис", когда мы прошли от бывшей Месопотамии до долины Инда. Дальше оставалось просто идти на юг до экватора, затем повернуть на восток, и тут на горизонте возникали Мальдивские хавитты.
Зная, что набожный Шейх из Тебриза прибыл на Мальдивы с намерением обратить островитян в свою веру, остается выяснить, как это ему удалось? Почему король и все его подданные так охотно приняли новое вероучение и разрушили великолепные хавитты своих предков?
Древние летописи тарих на языке дивехи и более позднее сообщение Ибн Баттуты на арабском языке говорят о двух разных причинах, причем обе версии объясняют успех чужеземца его чудотворными способностями. Согласно тарих, он вызвал джинна, "голова которого вознеслась в поднебесье". В те времена так высоко мог вознестись только бумажный или матерчатый змей, и древние жители Азии были мастера делать таких змеев с головами демонов и длинными развевающимися хвостами. Да только вряд ли запуска чужеземным гостем змея или какого-либо подобного трюка было достаточно, чтобы обратить в новую веру все население Мальдивов.
Что до Ибн Баттуты, то он, основываясь на личных наблюдениях, верил в предание о девственницах и демоне с моря - версия, дошедшая до наших дней в мальдивских легендах. Поскольку вариант, записанный шесть с половиной веков назад, содержит больше деталей, чем рассказ, услышанный нами, стоит привести его целиком:
"Из-за этого демона многие острова Мальдивов обезлюдели до обращения жителей в ислам. Прибыв в страну, я об этом не знал. Однажды вечером, когда я был занят своими делами, я вдруг услышал, как люди громко возглашали символы веры: "Нет бога, кроме Аллаха" и "Аллах велик". Я увидел детей, несших на голове Коран, и женщин, стучавших по внутренней стороне медных котлов и тазов. Удивленный их поведением, я спросил: "Что случилось?" На что они ответили: "Разве ты не видишь море?" Тогда я посмотрел на море и увидел нечто вроде большого корабля, как будто наполненного фонарями и жаровнями. "Это демон,- объяснили мне,- обычно он появляется раз в месяц, но когда мы делаем то, что ты сейчас видел, он поворачивается и уходит, не причинив нам зла".
Предания о том, как впервые обратили в бегство демона с моря, все еще были живы в Мале, когда их записывал Ибн Баттута:
".История и мотивы обращения жителей этих островов в ислам. ...Заслуживающие доверия мужи среди местного населения, такие, как законовед Иса аль-Яманщ законовед и школьный наставник Али, Кази Абд Аллах и другие, поведали мне, что жители этих островов прежде были идолопоклонниками и каждый месяц с моря являлся злой дух, один из джиннов. И выглядел он как корабль, полный фонарей. У островитян было принято, как только они замечали его, нарядить юную девственницу и отвести ее в будкхану, то есть в построенную на берегу кумирню с окном, через которое ее было видно. Они оставляли девственницу на ночь и, возвратившись утром, обычно находили ее обесчещенной и мертвой. Каждый месяц бросали жребий, и тог, на кого он выпадал, отдавал свою дочь. Наконец из Магриба к ним прибыл бербер по имени Абу'лъ Баракат, который знал наизусть достославный Коран. Он поселился в доме старой женщины на острове Махал [Мале]. Однажды, войдя в хозяйке, он увидел, что она собрала у себя своих родственников и женщины плачут, как на похоронах. Он спросил о причине их скорби, но они не смогли ничего объяснить, пока случайно вошедший переводчик не рассказал ему, что жребий пал на старую хозяйку дома, а у той одна-единственная дочь, которую теперь убьет злой джинн. Абу'ль - Баракат сказал хозяйке: "Сегодня ночью я пойду туда вместо твоей дочери". Он тогда был совсем безбородый. На другой день его после омовения вечером проводили в кумирню. Прибыв туда, он принялся декламировать Коран. Вскоре он увидел в окно приближающегося демона и продолжал декламацию. Как только джинн услышал слова из Корана, он бросился в море и исчез, и, когда настало утро, сей муж из Магриба все еще продолжал свою декламацию. Когда старая женщина, ее родственники и другие жители острова пришли, как было заведено, чтобы унести дочь и сжечь ее останки, они застали чужеземца за чтением Корана. Они отвели его к своему королю, которого звали Шанурдза, и рассказали об этом событии. Король был удивлен, а сей муж из Магриба предложил ему перейти в истинную веру и внушил ему такое желание. Тогда Шанурдза сказал: "Оставайся с нами еще на месяц, и, если ты тогда повторишь то, что сделал теперь, и не станешь жертвой злого джинна, я приму новую веру". И чужеземец остался гостить у идолопоклонников, и бог расположил сердце короля к принятию истинной веры. Еще до исхода месяца он стал мусульманином, как и его жены, дети и придворные. В начале следующего месяца магрибца снова проводили в кумирню, но джинн не явился, и бербер декламировал Коран до самого утра, когда султан и его подданные пришли и застали его за этим занятием. Тогда они разбили идолов и сровняли с землей кумирню. Жители острова приняли ислам и разослали вестников по другим островам, жители которых тоже были обращены в новую веру"
(Gray (1888, р. 446-448).).
Когда местные предания об этом событии, все еще живые в памяти островитян во время посещения Ибн Баттуты, сопоставляешь с нашими наблюдениями, джинн с моря приобретает человеческие черты. Его требование, чтобы в кумирню приводили девственниц, говорит о том, что зловещий гость был скорее исполнителем религиозного ритуала, чем сексуальным маньяком. В буддизме нет таких религиозных традиций, но они присущи некоторым формам раннего индуизма. И недавно раскопанные на месте бывшей кумирни демонические скульптуры, которые нам показали, были как раз индуистского типа. Найденный на макушке одного из этих идолов череп юной женщины как будто подтверждает бытующее на Мале предание. Вероятно то, что представлялось островитянам освещенным кораблем, и в самом деле было кораблем со множеством фонарей. Вряд ли демон с моря и пораженные ужасом люди на острове были единоверцами. Из чего можно заключить, что ко времени появления из арабского мира ислама островитяне были уже не индуистами, а буддистами.
Современные мальдивцы не были настроены признавать свидетельства буддийского субстрата, столь тщательно уничтожавшиеся в долгие века правления султанов. Когда Белл смело представил в султанате свои доказательства былого буддийского влияния, его утверждения были подобны семенам, павшим на камень. Однако нынешний президент Гайюм, а также Манику, Лутфи и многие другие наши мальдивские друзья не боялись по-новому взглянуть на историю своей страны, которая как будто началась с нуля, когда воцарился первый султан. Стоило нам привезти в Мале орнаментированные камни из развалин солнечного храма на Гааф-Гане, как президент Гайюм тут же упомянул о наших находках в предисловии к примечательному историческому документу - брошюре, где впервые опубликован вместе с английским переводом текст написанной восемьсот лет назад на языке дивехи мальдивской медной книги, называемой "лоамаафаану". Хотя о существовании этой книги знали давно, пишет президент, лишь теперь благодаря кропотливому труду мальдивских исследователей под руководством Хасана Манику и помогавших им шри-ланкийских специалистов появилась возможность вникнуть в ее содержание. Написанная древнейшими мальдивскими письменами "эвелла акуру" ("старое письмо"), эта книга уникальна в том смысле, что включает генеалогию ряда мальдивских правителей домусульманского периода. Начиная с 505 года после смерти Пророка (1105 год н. э.), когда "великий король Шри Маанаабарана из династии Тхиимуге, глава Лунной династии, стал королем этой страны", она указывает имена и время правления четырех последующих королей вплоть до того, который правил с 1179 года н. э., в первые десятилетия мусульманства:
"...великий король Шримат Гаданадитья, гордость Лунной династии, блистающий, как золото, твердый, как асала ["каменная"] колонна, защитник всех ста тысяч островов, лучезарный, как солнце, луна и звезды, достойный во всех отношениях, господин любви, клад самоцветов, увенчанный короной с драгоценными-камнями,- на четвертый год после того, как он стал самодержцем, уничтожив храм, ранее воздвигнутый неверными королями Дабудува, низверг статуи Будды и понудил неверных королей читать Шадат [мусульманский символ веры]..."
(Лоамаафаану, рукопись, англ, перевод Национального совета лингвистических и исторических исследований, с предисловием Е. В. президента Мальдивской Республики, Маумуна Абдула Гайюма. Мале, 1982.).
Перед нами ясное указание, что в XII веке на Дабудуве существовали храм и статуи Будды. Согласно Лутфи, Дабудув - остров Дабиду, сосед Исду, "первого увиденного острова", на котором мы, проплывая мимо, видели с моря огромную хавитту. Дабиду один из цепочки островов в восточном секторе атолла Ламу, где мы, идя по следам Белла, осмотрели руины буддийских ступ, опиравшихся на фундаменты, каких Белл, по его словам, никогда не видел в буддийском мире. Теперь из недавно прочтенного текста медной книги ломаафаану мы узнаём, что именно здесь то ли сохранялся, то ли повторно утверждался буддизм.
Нет ничего удивительного в том, что атолл Ламу с островами Исду, Дабиду и Ламу - Ган, указующими, словно пальцы, на восток-туда, где помещалась цитадель буддистов,-был наиболее подвержен буддийскому влиянию. Хотя Мальдивы, несомненно, были политически независимым государством со своими суверенными королями, какие-то религиозные связи между буддийскими священниками на здешних островах и высшим духовенством в той стране, откуда пришло это вероучение, должны были сохраняться. Независимо от первоначального вида хавитт атолла Ламу они были перестроены буддистами по образцу огромных ступ Шри-Ланки, сооруженных могущественными сингальскими королями, правителями "львиного народа". В достаточно подробных буддийских летописях Шри-Ланки нет указаний на господство над Мальдивским архипелагом. Было бы, однако, удивительно, если бы сильные монархи большого буддийского государства не попытались вновь утвердить свою религию после того, как некий чужеземец, прибыв на Мальдивы, призвал островитян разбить буддийские статуи и разрушить ступы.
Нам не пришлось высадиться на Дабиду, но Манику рассказал, что в центре острова есть широкий низкий холм, называемый Б оду Будху Коалу - "Большой храм статуй", а восточнее него можно видеть холм поменьше, Куда Будху Коалу-"Малый храм статуй".
Хотя в древних мальдивских текстах не ставилась цель описывать доисламский период, все же в них проникли кое-какие сведения. Прежде всего очевидно, что и до султанов Мальдивы представляли собой единое государство, управляемое из Мале. Когда последний буддийский король был обращен в новую веру, он просто разослал своих эмиссаров на другие атоллы, и вассальные правители, нравилось им это или нет, тоже приняли мусульманство.
Не менее важен еще один вывод. Мальдивы не были захвачены арабами силой. Из разных источников явствует, что некий набожный арабский путешественник, покинув свой дом в Тебризе, поселился в Мале в доме старой женщины, у которой была единственная дочь. Лишь после того, как Коран помог ему изгнать джинна с моря, он был представлен королю. Отсюда следует, что население Мальдивов после утверждения новой веры оставалось таким же, каким было раньше. Изменилась вера, но не народ. Другими стали только законы, обычаи, ритуалы, предписанные новой религией.
- Как по-вашему, почему наши предки тогда так охотно перешли в мусульманство?- спросил Хасан Манику, вперив в меня свои проницательные карие глаза, когда мы однажды сидели и беседовали в его кабинете.
- Наверно, невидимый творец казался им более убедительным, чем статуи из известняка, -предположил я за неимением лучшей версии.
- Нет,- возразил Манику.- Все дело в политике. Чистая политика и больше ничего.
- Это как же?- удивился я.
В XX веке для многих политика заняла место религии, но ведь речь шла о событиях, происходивших более шестисот лет назад.
Вам известно, что эти острова были легко доступны для мореплавателей той поры,- сказал Манику. - У Шри-Ланки и большинства других ближайших к нам государств был сильный военный флот. Шри-Ланка обладала огромным могуществом и находилась слишком близко, чтобы мальдивские короли могли чувствовать себя спокойно. Принятие Мальдивами ислама сулило арабскую поддержку на случай, если буддисты Шри-Ланки захотели бы нас покорить. Наши предки исходили из того, что арабы жили слишком далеко, чтобы вмешиваться в наши внутренние дела. Однако они защитили бы нас, попытайся Шри-Ланка навязать свое религиозное главенство.
Манику был таким же реалистом, как его древние предки. Никаких чудес, никакой магии. Элементарная политическая целесообразность. Поведение человека мало изменилось в последние тысячелетия. Легче понять людей прошлого, если подходить к ним с той меркой, какую применяем к себе. У меня не было никаких причин сомневаться в суждении Манику о том, как началась нынешняя глава истории Мальдивов.
Обращенные в мусульманство короли унаследовали от своих предшественников хорошо организованное общество. Медную книгу лоамаафаану с перечислением последних королей Лунной династии и изложением новых законов и предписаний составлял ученый писец Падиата, который заключил ее такими словами: "Так говорил великий король Гаданадитья... и так писал Падиата". Двенадцать министров короля, включая главного казначея и командующего войском, оставили свои подписи на двух последних страницах книги.
Хотя с появлением Корана распространилось знание арабского письма, мальдивцы продолжали пользоваться своей собственной письменностью дивехи. Стало быть, народ и до прихода арабов был грамотным. Древнейшие местные письмена в медных книгах напоминают наиболее древнее известное нам письмо Шри-Ланки. Однако еще больше похожи они на знаки, выгравированные на демонических скульптурах индуистского типа, раскопанных на месте языческого храма в Мале. Так что ими явно пользовались на Мальдивах еще до утверждения буддийского духовенства.
Коль скоро мы установили, что до мусульманского периода на Мальдивах существовало организованное государство со своей письменностью, развитым искусством и архитектурой, нами сделан еще один шаг в познании забытых страниц здешней истории. Дополнительную информацию можно почерпнуть у Ибн Баттуты, если согласиться с тем, что он мог застать многие старые обычаи домусульманских времен. Ему, арабу, естественно было обратить внимание прежде всего на то, что могло удивить мусульманина своей чужеродностью. Например, в исламском обществе верховодил мужчина, тогда как на Мальдивах Ибн Баттута увидел другую картину:
"В ряду того, что поразило меня на Мальдивах,-место правителя занимает женщина..."
И это был не единичный случай, ибо другой арабский мореплаватель, Абу'ль Хасан Али, еще около 916 года н. э. сообщал о Мальдивах:
"Все они густо населены и подчиняются королеве, ибо с древнейших времен здесь действует закон, не допускающий, чтобы островитянами правил мужчина".
Если верить легендам, которые мы сами слышали на Гаду, островом Гааф - Ган тоже первоначально правила королева, притом это было так давно, что ее изгнали прибывшие "кошачьи люди", то есть сингалы.
Ибн Баттута рассказывает, что королева, тогда носившая титул султана, была замужем за своим верховным судьей. Ежедневно ему и другим министрам надлежало являться к ней на аудиенцию. Они приветствовали королеву, после них ей свидетельствовали свое почтение евнухи, затем все удалялись. "Войско этой королевы насчитывает около тысячи человек иноземного происхождения, лишь немногие из них местные жители. Каждый день они приходят в зал аудиенций, чтобы приветствовать королеву, потом уходят домой. Жалованье им платят рисом..."
Такое число иноземцев, оплачиваемых рисом, который, по словам Ибн Баттуты, ввозился из Бенгалии, рисует нам страну, которая поддерживала широкие связи с внешним миром. Напомню, что в числе предков Лутфи были привезенные из Йемена высокорослые чернокожие телохранители короля, из чего следует, что использование иноземцев в охране не было единичным явлением. Причина этого ясна. Вот как Ибн Баттута описывает местных жителей:
"Обитатели Мальдивских островов - люди честные и набожные, искренне верующие и собранные: они едят лишь то, что дозволено законом, и читают все положенные молитвы... Телом они слабы, к войнам и битвам не склонны, их оружие-молитва. Находясь в той стране, однажды я повелел огрубить вору правую руку; многие бывшие при этом туземцы лишились сознания. Индийские пираты не нападают на них и не тревожат, ибо обнаружили, что всякого, кто что-нибудь у них присвоит, поражает внезапное несчастье. Когда к их берегам подходит вражеский флот, разбойники хватают всех попадающихся им чужестранцев, местных же жителей не трогают. И если кто-нибудь из неверных присвоит что-то, пусть это будет всего лишь один лимон, атаман наказывает его и нещадно избивает, так сильно опасается он последствий такой кражи. Будь все иначе, эти люди, несомненно, были бы весьма презренным противником в глазах врагов по причине своей телесной слабости... Островитяне - добрые люди, они воздерживаются от недостойных поступков, большинство два раза в день совершает омовение, притом весьма основательно, поскольку климат здесь очень жаркий и выделяется обильный пот. Они в большом количестве употребляют благоухающие масла, например сандаловое, и смазывают кожу мускусом из Макдашау. После утренней молитвы у них заведено, чтобы женщины встречали мужа или сына с коллириум [глазная мазь], розовой водой и мускусным маслом. Он смазывает коллириум свои веки, втирает в кожу розовую воду и мускусное масло, делая ее гладкой и стирая с лица все следы усталости. Одежда этих людей состоит из кусков ткани, которыми они обертывают бедра вместо шаровар, а на плечи накидывают одеяние, называемое вилъян [мальдивский плащ] и напоминающее наш ихрам [одежда арабского паломника]...
Когда островитянин женится и приходит в дом жены, она расстилает.хлопчатобумажную ткань от дверей до брачных покоев, и на эту ткань кладет горсти раковин каури слева и справа от дорожки, по которой ему идти, сама же ждет его у входа... Дома у них деревянные, и полы они кладут на некоторой высоте над землей для зашиты от сырости в почве. Вот как это делается: они обтесывают камни длиной от двух до трех кубитов и кладут их штабелями, поперек камней укладывают балки из кокосовой древесины, затем выстраивают дощатые стены. В этой работе они обнаруживают замечательное искусство. В передней части дома находится помещение, которое они называют малам, здесь сидит хозяин дома со своими друзьями.
Все обитатели Мальдивов, будь то знатные или простые люди, ходят босиком. Улицы подметают и содержат в чистоте, их окаймляют деревья, в тени которых прохожий идет, как через сад. Тем не менее все, входящие в дом, должны обмыть ноги водой из стоящего у махам сосуда и вытереть их лежащим здесь же куском грубой материи из лиф [изготовляется из волокна пальмовых крон]... Всякий приезжий вправе взять себе жену, буде пожелает. Уезжая, он оставляет ее, потому что уроженцы Мальдивов не покидают свою страну...
Женщины на этих островах не покрывают голову, даже правительница не делает этого. Они расчесывают волосы и собирают их в узел сбоку. Большинство носит только кусок материи, закрывающий их от пупка до земли, остальные части тела открыты. В таком одеянии они ходят на базар и повсюду. Когда я занимал должность кат [верховного судьи] на островах, то пытался положить конец этому обычаю и заставить жен-шин одеваться, однако не преуспел... Украшения мальдивских женщин составляют браслеты; каждая носит некоторое количество на обеих руках, так что они закрывают руку от запястья до локтя. Браслеты сделаны из серебра, только жены султана и его ближайшие родственницы носят золотые украшения. Есть у мальдивских женщин также ножные браслеты, которые они называют баил, и золотые ожерелья, называемые бас-дарад"
(Gray (1888, р. 439-450).).
Приведенное описание указывает на широкие связи с заморскими странами. Из кораллового известняка не извлечешь ни золота, ни серебра, не было на островах и глины, чтобы изготовить стоящие у входа в дом сосуды; на атоллах не выращивали рис, и вряд ли было достаточно хлопчатника, чтобы его хватило на расстилаемые по полу ткани. Недаром Ибн Баттута указывает, что островитяне выменивали на кур привозимую на судах глиняную посуду, и добавляет: "Корабли вывозят с островов упомянутую мной рыбу [копченую], кокосовые орехи, ткани, вильян и хлопчатобумажные чалмы. Вывозят также медные сосуды, которые здесь очень распространены, каури (вада) и койр (канбар) - так называется волокно, которым одеты кокосовые орехи... Из этого волокна делают веревки, коими сшивают доски кораблей; их также вывозят в Китай, Индию и Йемен".
Разумеется, экспорт хлопчатобумажных чалм и медных котлов основывался на местном производстве и привозном сырье. Или же здесь просто перегружали товар, поступавший с одного конца Индийского океана и предназначенный для продажи в странах на другом его конце. В самом деле, корабли, ходившие с грузом между портовыми городами Китая, Индии и Йемена, могли на Мальдивах выгружать и погружать едва ли не любые товары на свете. Неудивительно, что Ибн Баттута мог на Мальдивских островах есть масло, что великий визирь предоставлял ему выбор между паланкином или верховой лошадью для передвижения по Мале, меж тем как сам этот сановник, предшествуемый трубачами, прогуливался, защищенный от солнца четырьмя зонтами и облаченный "в просторное одеяние из козьей шерсти египетского производства", ступая на бросаемые перед ним на землю шелковые отрезы...
Ибн Баттута даже сам включился в процветающую торговлю раковинами каури. С двумя мальдивцами он отправил груз каури для продажи в Бенгалии, однако судно из-за шторма лишилось руля, мачт и груза, и после долгих мытарств команда через шестнадцать дней добралась до Шри-Ланки. Позже Ибн Баттута сам посетил Бенгалию, но перед тем он совершил круговое плавание в Шри-Ланку и к западному побережью Индии. Мы узнаём, что от Мальдивов до Шри-Ланки он шел под парусами девять дней; на плавание^от Каликута на юго-западе Индии обратно на Мальдивы ушло десять дней. От Мальдивов до Бенгалии он плыл сорок три дня.
То, что увидел Ибн Баттута, прибыв на Мальдивы в 1343 г., говорит о давних традициях торговли и мореплавания афро-азиатских государств в Индийском океане в ту пору, когда в представлении средневековой Европы за краем света находилась бездна. Когда ацтеки и инки все еще были хозяевами своих стран в Америке.
В 1498 году, когда Васко да Гама проник в Индийский океан, а Христофор Колумб в третий раз пересек Атлантику, для Европы начиналась новая эра. И кончилась старая эра для Азии и Америки. Это отразилось и на Мальдивах. Торговля, свободно процветавшая в регионе Индийского океана со времен Индской цивилизации, была задушена европейской монополией. В целом это не ново, но, если посмотреть поближе, какие перемены внесли европейцы, мы лучше представим себе прежнюю обстановку в этом регионе.
В своем обзоре древних сообщений о заходах на Мальдивы историк А. Грей отмечает, что все морские торговые пути из Китая, Индонезии и Дальней Индии сходились вместе, чтобы после южной оконечности Индии и Мальдивского архипелага вновь разойтись курсом на разные пункты назначения. Правда, миновав Мальдивы, большинство кораблей, плывших с востока, прежде всего заходили в важный 1юрт Ка-ликут на юго-западе Индии. Оттуда они либо шли прямо на запад, курсом на Йемен и Красное море, либо направлялись на север в другие процветающие порты Камбейского залива и долины Инда, чтобы дальше следовать к Ормузскому проливу. Товары, выгруженные в Адене, переправлялись затем по Красному морю купцам Джидды или Каира. Грузы, доставленные в знаменитый тогда торговый центр Ормуз, перевозились на других судах через Персидский залив и по рекам Месопотамии в Багдад, где начинались караванные пути в Европу.
Естественно, миролюбивые мальдивцы на удачно расположенных островах, игравших роль промежуточной станции, где можно было запастись пресной водой и свежим провиантом, немало выигрывали от международной торговли. Мы уже видели, что они и сами участвовали в ней, доставляя свои каури и копченую рыбу в такие удаленные друг от друга страны, как Бенгалия и Йемен. Грей показывает, что один из важнейших маршрутов мальдивских торговых судов пролегал через Каликут в район долины Инда и Ормуз. Другими словами, невооруженные мальдивцы заходили в порты самых различных стран с разными политическими системами и религиозными воззрениями. Как это было возможно?
Грей отвечает:
"Начнем с того, что преобладала свободная торговля; во-вторых, похоже, что в ней участвовали наравне все народы, а не какой-то один, на долю которого впоследствии пришлась несоразмерно большая часть торговых перевозок".
Он цитирует арабского путешественника Абд-эр-Раззака, который, посетив в 1442 году важный портовый город Каликут и крупный торговый центр Ормуз, встретил там мальдивских купцов:
"Каликут - вполне надежная гавань; сюда, как и в Ормуз, прибывают купцы из всех городов и всех стран... Безопасность и законность так прочно утвердились в этом городе, что самые богатые купцы из морских держав привозят сюда большие партии товара, выгружают и спокойно отправляют на рынки и базары, не заботясь о том, чтобы проверять счета или охранять товары... В Каликуте любое судно, откуда бы оно ни пришло и куда бы ни направлялось, может рассчитывать на равное с другими судами обращение, не опасаясь каких-либо осложнений".
Об Ормузе тот же араб писал, что на всей земле нет города, равного ему. В этот порт приходят купцы со всех концов света, говорит он и называет Египет, Сирию, Туркестан, Китай, Яву, Пегу (Бирма), Бенгалию, Мальдивы, Малабарский берег, Камбей и Занзибар. "Люди всех религиозных убеждений, даже неверные, в большом количестве находятся в этом городе, и несправедливости по отношению к кому-либо исключены" (
Gray (1888, р. 468-471). 41..Gray (1888, р. 472-473). 42.'Bell (1940, р. 26-27).).
Пятьдесят шесть лет спустя, в 1498 году, прибыл Васко да Гама и тоже сошел на берег в Каликуте. Тотчас древние азиатские торговые пути были перекрыты португальской блокадой всех портов на западном побережье Индии. Та же судьба постигла захваченный вскоре Ормуз. Грей пишет по этому поводу:
"Мальдивцы впервые на практике узнали о новых порядках, когда в 1503 году четыре их корабля, к несчастью, были замечены старшим капитаном Висенте Содре [командующий флотом Васко да Гамы], который в это время крейсировал в водах у Каликута. "Находясь вблизи Каликута,- сообщает Корреа,-он (Содре), обнаружил четыре парусника, настиг их и захватил. Это были гуньра- барки с Мальдивских островов... Гундра строят из пальмовых досок, соединяемых вместе деревянными гвоздями, без болтов. Паруса изготовляют из циновок, сплетенных из сухих листьев тех же пальм. Названные суда несли большой груз койры и каури... Было на них также много шелка, как цветного, так и белого, разной выработки и качества, и много блестящей золототканой материи, производимой самими островитянами, которые получают шелковую, золотую и хлопчатобумажную нить с многочисленных кораблей, проходящих через архипелаг по пути из Бенгалии в Меккский пролив. Эти корабли покупают у островитян готовый продукт, снабжая их в обмен сырьем. Таким образом, эти острова являются важным торговым центром для всех сторон, и мавры из Индии часто приходят туда, выменивая товар за соль и глиняную посуду, которая не производится на островах, а также за рис и серебро"
(Gray (1888, P. 472-473).).
На упомянутых выше четырех мальдивских судах было около ста арабских пассажиров, которые возвращались в Каликут с купленным ими товаром. Португальцы сняли груз с одного из захваченных судов, собрали на нем всех арабов, накрыли их сухими пальмовыми листьями, служившими тарой, и сожгли живьем.
Пока португальцы продолжали блокировать Каликут, корабли из Бенгалии и более далеких стран обходили Индию и после Мальдивов следовали прямо до Красного моря. Узнав об этом, португальский вице-король повелел своему сыну "пройти со всей армадой дальше и посмотреть, что происходит на этих островах, нельзя ли захватить какие-нибудь корабли". Армада взяла курс на Мальдивы, однако течение отнесло ее к Шри-Ланке, где португальцы и учредили свою колонию. Мальдивцев еще несколько лет никто не тревожил. Однако вскоре португальские пираты из Индии и Шри-Ланки стали совершать набеги на архипелаг; один письменный источник сообщает, что они захватили там два судна с богатым грузом из Камбея. В 1519 году португальцы снарядили армаду для завоевания Мальдивских островов. Их корабли пришли в Мале, португальцы построили там крепость, и ее комендант принуждал островитян поставлять ему свои продукты, "за которые платил по своему усмотрению".
Несколько мальдивцев тайком отправились через море к Малабарскому берегу за одним знаменитым индийским корсаром. Вернувшись в сопровождении двенадцати малабарских кораблей, они захватили в порту Мале португальские суда, команды которых в это время находились на берегу, и вместе с другими островитянами ворвались в форт со стороны моря, где он оказался без прикрытия. Благодаря боевому опыту корсаров всех португальцев порубили, после чего индийцы и мальдивцы поделили богатую добычу.
Португальцы и впредь совершали набеги на Мальдивы, но действительно серьезные неприятности для островитян возникли в 1550 году, когда султан Хасан IX, оставив архипелаг, отправился к португальцам в Индию, где был обращен в христианскую веру. Это побудило португальцев предпринять новую попытку покорить Мальдивы. После двух неудачных атак они в 1558 году сумели захватить Мале, и пятнадцать лет мальдивцы находились под чужеземным гнетом - единственный мрачный период в их истории. В эти годы у власти стоял ненавистный предатель, сын португальского христианина и мальдивской матери, Андреас Андре (местное имя - Адири Адири). Тарих сообщает:
"Мальдивцы покорились капитану Адири Адири, который провозгласил себя султаном. Он разослал во все концы Мальдивов христиан, и они заставили островитян подчиниться новой власти. Португальцы правили с великой жестокостью много лет, творя чудовищные злодеяния. Море окрасилось в красный цвет от мусульманской крови, народ был охвачен отчаянием. В это время всемогущий бог подвигнул сердце Хати-ба Мухаммада, сына Хатиба Хусаина с Утиму [крайняя северная группа островов]... на борьбу против неверных, чтобы положить конец вопиющим преступлениям. Обратившись к богу с молитвой, чтобы тот даровал ему мудрости для победы, он призвал на совет своих младших братьев..." Перечислив множество имен участников восстания, тарих повествует о том, как кучка связанных клятвой борцов за свободу вела ночами партизанскую войну на островах, пока все чужеземцы не отступили в Мале. Вновь обратившись за помощью к добровольцам с Малабарского берега, партизаны под покровом ночи проникли в гавань Мале. На следующий день португальцами была назначена казнь всех островитян, отказавшихся принять христианство. Но еще до восхода солнца Адири Адири был убит, и вместе с ним пал весь португальский гарнизон
(Bell (1940, p. 26-27).).
Современный мальдивский историк, наш друг Хасан Манику, так пишет об этом:
"Все до одного португальские поселенцы покинули наши берега через ворота смерти и никогда больше не нарушали покой нашей независимости"
(Maniku (1977, р. 3).).
- С тех пор никто не вмешивался в наши внутренние дела, хотя с 1887 по 1965 год мы именовались британским протекторатом,-сказал мне Манику, показывая составленный им внушительный перечень около ста мусульманских правителей и правительниц, сменявших друг друга на протяжении шести династий в мальдивской истории.
И вот теперь мы затеяли раскопки, чтобы выяснить, что происходило раньше. Современный президент попросил нас отыскать что-нибудь из того, что все эти султаны искореняли из памяти своих подданных.
ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 Третье путешествие
Третье путешествие
Глава X. Забытая глава всемирной истории
Львы и бык в солнечном храме
- Климат меняется.
Последние несколько лет, где бы я ни путешествовал, всюду слышал эти слова. Муссон дул не в ту сторону. В сухой сезон шли дожди. И вот теперь, когда я в третий раз прибыл на Мальдивы, в сезон дождей с ясного неба светило яркое солнце. Ноябрь месяц. Мы уехали с архипелага в марте после первых пробных раскопок. Теперь я прилетел один, чтобы выяснить возможность продолжения археологических исследований.
Я чувствовал, что вернулся к друзьям. Манику все еще не служил, но президент назначил нашего товарища по прошлой поездке Лутфи исполняющим обязанности директора Национального совета лингвистических и исторических исследований. Председателем совета был важный пожилой верховный судья, который встретил меня у входа в кабинет Лутфи и приветливо пожал руку.
В кабинете для меня поставили отдельный стол с креслом; на столе лежала стопка брошюр, различные документы и неопубликованные рукописи. В соседнем зале помещалась Национальная библиотека, и, поскольку меня признал бывший Мусульманский комитет, я получил неограниченный доступ ко всем источникам, касающимся
прошлого страны. Было приятной неожиданностью узнать, что в мое распоряжение предоставлена живая, миловидная островитянка, которой поручили переводить для меня тексты с арабского языка и дивехи. Еще больше удивился я, когда узнал, что ее мать - один из членов Национального совета лингвистических и исторических исследований. Традиционное мальдивское уважение к женщинам явно сохраняло силу. Я услышал также, что моя молодая помощница замужем за немцем, принявшим мусульманскую веру, и что ее супруг только что закончил строительство судна мальдивского типа, названного в честь жены "Шадас". Крепкое судно с малой осадкой не боялось рифов и было готово доставить нас в любой конец архипелага, если мы возобновим раскопки.
Дальше меня ожидали не только приятные новости. Обрадованный всеми принятыми мерами, я отправился в Национальный музей, чтобы осмотреть камни с резьбой, доставленные в Мале на "Золотом луче". За отсутствием места мы временно разложили их на полу, оставив узкий проход. Камни и теперь лежали в том же помещении, но были беспорядочно навалены друг на друга вдоль стен до подоконников и под лестницей. Некоторые были разбиты, многие покрылись свежими царапинами, пол был усыпан каменной крошкой.
Я даже не пытался скрыть свое расстройство. Резьба, выполненная не менее тысячи лет назад и пережившая восемь столетий преднамеренного уничтожения, была повреждена в музейном помещении. Видя мое огорчение, приветливый старый хранитель объяснил, что все "старые камни" пришлось убрать с дороги, когда ожидалось посещение премьер-министра Малайзии.
Вместе с нашими камнями лежали большие плиты превосходного белого мрамора. С изумительной рельефной резьбой. Стиль, мотивы и материал разительно отличались от всего найденного нами. Мрамор! На Мальдивах нет месторождений мрамора. Главным мотивом на самой большой плите было "древо жизни", хорошо известное по древнейшему месопотамскому религиозному искусству. Однако здесь по его бокам были вырезаны величественные храмы с высокими окнами и крышами, напоминающими ступы. Отнюдь не мусульманские мотивы.
Только что раскопаны, - с явным презрением в голосе сообщил старый хранитель.- Здесь, в Мале.
Оказалось, плиты были найдены, когда рабочие копали яму для нового фундамента под старой мечетью Ма-а. Они дали знать о своей находке Лутфи.
- Мы больше не уничтожаем древние вещи,- важно произнес хранитель и открыл дверь чулана, где мы впервые увидели большие известняковые головы.
Теперь поверх одной из них лежал маленький каменный лев, с кулак величиной. У него была козлиная бородка, как у египетского сфинкса, на спине - круглая ямка, возможно, для какого-нибудь ритуального притирания или порошка.
 Полуфигура льва: голова и вытянутые лапы. В насыпи пирамидального храма на Гааф-Гане было найдено три таких скульптуры; задняя часть обтесана так, что ее можно было вставлять в облицовку храма
Полуфигура льва: голова и вытянутые лапы. В насыпи пирамидального храма на Гааф-Гане было найдено три таких скульптуры; задняя часть обтесана так, что ее можно было вставлять в облицовку храма
Лев! На Мальдивах!
Поразительно!
Его доставил один человек с острова Дхигу Ра в атолле Ари. Нашел на прошлой неделе, когда копал колодец.
Попросив старика хорошенько беречь маленькую скульптуру, которую любой мог запросто унести в кармане, я поспешил обратно в контору Лутфи. Одолжив пишущую машинку, отстучал на ней памятную записку и вручил ему. В записке перечислялись условия, на которых я был готов просить Ослоский университет и Музей Кон-Тики продолжить раскопки на Мальдивах. Главным условием было строительство в Мале нового музея для наличных и будущих археологических находок домусульманского периода. Иначе нет никакого смысла выкапывать из земли древние предметы.
На другое утро Лутфи вернул мою записку. Все, о чем я просил, было подчеркнуто зелеными чернилами. Лутфи рассказал, что немедленно отправил в президентский дворец посыльного с моей запиской. Решать должен был президент, и он согласился на все, что собственноручно подчеркнул. Другими словами, он был со всем согласен. У него был только один вопрос. Министр канцелярии президента, Аббас Ибрахим, позвонил Лутфи и сказал, что президент просил выяснить, какое содействие Музей Кон-Тики может оказать строительству нового музея в Мале.
 Полуфигура быка украшала строительный блок древнейшего периода, найденный нами в насыпи перестроенной хавитты на Гааф-Гане
Полуфигура быка украшала строительный блок древнейшего периода, найденный нами в насыпи перестроенной хавитты на Гааф-Гане
Я пообещал доложить об этом правлению Музея Кон-Тики, которое, во всяком случае, может помочь в разработке плана здания и обеспечить техническую консультацию. Этого оказалось достаточно. Итак, мы получили разрешение вернуться и возобновить раскопки, когда кончится сезон дождей. Предположительно в январе. Приезжайте в конце февраля,- предложил Лутфи.- Сезоны явно сдвинулись.
Случилось так, что как раз в это время президент Маумун Абдул Гайюм был избран на второй срок. И, находясь в Мале, я был приглашен на церемонию торжественного введения президента в должность. В жизни не видел такого представительного собрания дипломатов со всех концов света. Разве что в стенах ООН. Президент и члены правительства вместе с гостями сидели на краю стадиона под огромным шатром, наблюдая парад мальдивской гвардии. От США, кроме посла, присутствовал личный посланник американского президента. Были здесь также советский, китайский, кубинский послы. И представители всех крупных и большинства малых стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, не говоря уже о братских странах арабского мира. Молодая республика мало что может предложить, кроме рыбы и солнечного света, но, как и прежде, готова пожинать плоды самых добрых отношений с внешним миром. На протяжении всей своей истории мальдивская культура выживала благодаря деловым связям с другими странами. И для внешнего мира родина 160 тысяч мальдивцев по-прежнему сохраняет стратегическое положение; это своего рода Гибралтар между Востоком и Западом.
Наряду с представителями множества иностранных государств были приглашены вожди всех атоллов архипелага. И я получил уникальную возможность одного за другим встретить в конторе Лутфи всех тех, кто, по его мнению, мог что-то поведать о рединах и рассказать об иных, никем еще не опубликованных преданиях. Для некоторых из этих вождей редины были такой же реальностью, как скрытые в их джунглях развалины бывших хавитт.
Версия Лутфи была подтверждена. Первым островом, куда приплыли редины, был Ихаванду на крайнем севере Мальдивов. Вождь атолла Ра, Ахмед Саиб, сообщил, что у жителей его округа по сей день можно услышать множество рассказов о рединах. После Ихаванду редины заняли Лумбо-Канду в том же атолле; оттуда расселились по другим северным островам - Наланду, Миланду и Ланду.
Редины появились на архипелаге задолго до других его обитателей. После них, но перед тем, как образовалось нынешнее население, сюда приходили и другие племена, но ни одно из них не могло сравниться могуществом с рединами. Их было много. Они пользовались не только парусами, но и веслами, а потому очень быстро передвигались по морю. Благодаря такой скорости они могли, переночевав на одном острове, собрать плоды на другом и приготовить себе пищу на третьем.
На некоторых островах сохранились предания о том, как редины ушли при появлении первых мальдивских семей, потому что не желали общаться с простыми людьми. Но по ночам они возвращались, чтобы собрать лимоны (лумбо), явно игравшие важную роль в их питании. Истории о лимонах сосредоточены вокруг бывших поселений рединов на Лумбо-Канду и на Расгетиму, что находится на крайней северной оконечности атолла Ра. Одна легенда рассказывает про мальдивца с Расгетиму, спрятавшегося под палубой судна рединов, которые отправились на Лумбо - Канду за лимонами. Когда они вернулись на Расгетиму, он выбрался из укрытия, и редины не наказали его, а даже поделились собранными плодами. С той поры у моряков с острова Расгетиму заведено оставлять два лимона на задней палубе своих дхони. Возможно, здесь следует искать объяснение, почему Расгетиму считался "островом, приносящим удачу". Маавади Тутту Бе, старый корабел из того же района, построивший 150 дхони, говорил, что каждое новое судно должно прежде всего пристать к берегу Расгетиму в память о рединах
("Расгетиму" означает "остров Королей". О мальдивской легенде, называющей этот остров первой резиденцией мальдивских правителей, см. гл. XI.).
Есть сведения о рединских могильных плитах в толще коренных пород острова Алифуши, а также о других каменных плитах с резьбой неизвестного происхождения на острове Баара, где по сей день можно видеть людей с голубыми глазами, рыжими волосами и тонкой спинкой носа. Но изо всей северной группы островов самые наглядные следы пребывания рединов, по словам вождя атолла Ра, сохранились на Наланду, Миланду и Ланду. Наланду-даже не один, а несколько необитаемых островков в мелкой лагуне, изобилующих кучами крупных раковин, словно от устриц. Это остатки трапез, которые редины готовили на кострах. На Миланду после рединов. осталась также большая груда развалин. Мне вспомнилось, что Белл упоминал об этом холме, который его информатор называл Рединге Фут, то есть "Холм рединов"; островитяне боялись раскапывать его из суеверия. Но самый большой холм рединов, услышал я теперь, находился на острове Ланду. Он назывался Маабадхиге - "Большой Очаг", жители соседних островов называли его Большой Хачча, или Хаикка.
Мальдивцы лишь недавно обосновались на Ланду, до той поры там после рединов никто не жил. Да и теперь туда мало кто приезжает, поскольку нет хорошей якорной стоянки и на берег не просто высадиться. Тем не менее пять лет назад два молодых американца посетили Ланду и смогли убедиться, что тени рединов до сих пор не оставляют в покое островитян. Сперва американцы побывали на другом острове в том же атолле и услышали рассказы про Ланду, где есть огромный холм и где каждый день местные жители готовят трапезу для джиннов. Один мальдивец отвез их на своей дхони на Ланду. Оба американца отличались высоким ростом; один немного недобрал до двух метров, второй - Дейв Допплер, который пришел в контору Лутфи, чтобы поведать мне эту историю,-тоже смотрелся великаном рядом с низкорослыми мальдивцами.
Когда два светлокожих чужеземца и их смуглый мальдивский спутник сошли на берег бывшего рединского острова, все жители разбежались кто куда. Рост и цвет волос и кожи нежданных гостей явно вписывались в представление островитян о легендарных рединах. Шагая по пустынной деревенской улице, американцы видели, как жители робко выглядывают из-за дверей. Они зашли в незапертое административное здание и переночевали там. Когда местный вождь наконец отважился выйти на улицу, другие островитяне последовали его примеру, и старики показывали пальцами на высоких блондинов. Американцев привели к дому, где жители Ланду каждый вечер оставляли пищу для джиннов, а утром оказывалось, что она исчезла.
 Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
На другой день гости отправились осматривать большой рединский холм; его высоту Дейв определил в пятнадцать метров с лишним. Холм находился посреди заболоченной местности, к нему не вели никакие тропы, и никто из местных жителей не решился их сопровождать. На вершине холма рос громадный баньян, склоны были покрыты другими деревьями и кустарником. Дейву говорили, будто внутри холма есть храм, но он видел только разбросанные кругом большие необработанные камни.
Из тех, кого мне довелось встретить на Мальдивах, никто, кроме Дейва, не видел "Большой Очаг", где, согласно местному преданию, редины готовили себе пищу.
От этих северных атоллов редины расселились вдоль всей вереницы Мальдивских островов вплоть до Адду к югу от Экваториального прохода. Одним из последних бастионов был Адду - Ган, где уже в наше время строители аэродрома разрушили большую хавитту. Когда и сюда пришли новые обитатели Мальдивов, редины на какое-то время отступили на Хитаду, у самого пролива. Потревоженные и здесь новыми пришельцами, они в конце концов перебрались на соседний островок Кабо - Хура. Здесь редины совершали свои ритуалы с танцами. Мальдивцы на Хитаду слышали звуки их труб думари. Обычно редины отличались миролюбием, но не во время своих плясок. Заслышав звуки труб, некоторые жители Хитаду, покорясь их зову, плыли к Кабо - Хура. А увидев ритуал, уже не могли вернуться домой и, околдованные, умирали на острове рединов. Их останки были найдены там, когда редины удалились. Ибо не все редины окончили свое существование на Мальдивах, некоторые ушли дальше, никто не знает куда.
Танец, исполнявшийся рединами, назывался део, что на языке мальдивцев означает "демон" (а у индусов - "бог"), и старики на Адду говорили, что многие их предки погибли из-за этого танца. Не только жители Хитаду, но и на других мальдивских островах люди умирали от део. Мужчины и женщины танцевали нагишом. Ритуал был сексуальным и "сопровождался соответствующими действиями". Теперь део запрещен. Около двадцати лет назад из Мале был разослан циркуляр, запрещающий этот танец наряду с потреблением спиртного и прелюбодеянием.
Лутфи родился на Хитаду. Он вспомнил, что на Кабо - Хура после рединов оставался небольшой каменный дом со сводчатой крышей. Островок был так красив и с него открывался такой прекрасный вид, что во время второй мировой войны британский командир разрушил дом рединов и построил на его месте свой бунгало.
Никто не знал, почему люди умирали во время рединского танца. Однако Мэлони в своей книге описывает мальдивский народный танец тара, как ему представляется, персидского или западноазиатского происхождения. Сперва произносится молитва и возжигаются курения, затем начинает звучать барабан. По мере того как темп музыки возрастает и страсти разгораются, танцовщик снова и снова колет себе голову до крови железным шипом. Не исключено, что тара-какой-то пережиток део легендарных рединов.
Кровавые жертвоприношения, правда не людей, некогда были распространены на Мальдивах; понятно, этот обычай не буддийского и не мусульманского происхождения. Многие надежные информаторы утверждали, что такие жертвоприношения богу моря Раннамаари и теперь изредка совершаются во всех концах архипелага. На северных атоллах исполняют причудливые танцы в масках, во время которых к сверхъестественным существам обращаются на некоем забытом языке
(Maloney (1980, р. 165 166).).
Неоднородность древней культуры мальдивцев стала для меня еще более очевидной, когда я услышал от вождей, что островитяне пользуются тремя разными календарями. По современному счету год делится на январь, февраль и так далее. Применяется также исламский лунный календарь. Что до древнего солнечного календаря самих мальдивцев, то в нем 27 месяцев, плюс еще один месяц в каждом одиннадцатом году. Этим календарем пользуются для сельскохозяйственных работ и рыбной ловли. На нем основывали свои советы правителям древние звездочеты, и многие месяцы назывались по звездам, стоявшим в зените в эту пору.
Мэлони слышал даже о пяти мальдивских календарях, три из которых были солнечными. Он тоже пришел к выводу, что важнее всего 27-месячный цикл. Мэлони связывает его происхождение с санскритоязычными областями на северо-западе Индии, где им пользовались звездочеты. Небо было поделено на 27 секторов, называемых по определенной звезде. По его мнению, мальдивские наименования 27 месяцев явно происходят от санскритских
(Maloney (1980, р. 146-147).).
- А что вы можете рассказать про дхони? - спрашивал я вождей.
Меня - и не только меня - интриговала стандартная форма мальдивских дхони. У них были ярко выраженные "египетские" обводы; высокий, загнутый внутрь нос венчался подобием веерообразного цветка папируса. Именно так выглядели изящные бунтовые ладьи трех древнейших известных нам цивилизаций: Египта, Месопотамии и долины Инда. Но еще больше мальдивская дхони походила на папирусные суда финикийцев, построенные из досок и сохраняющие унаследованную от более древних культур форму папирусных ладей. До недавнего времени все мальдивские суда несли квадратные паруса, как на судах названных выше цивилизаций. Мы видели такие паруса на некоторых дхони южных атоллов. Когда на заре они выходили из лагуны, с величаво изогнутыми на фоне утреннего неба папириформными носами, казалось, что навстречу океанским валам движется финикийская флотилия.
- Почему на всех ваших дхони такой странный нос? - допытывался я у вождей и старого корабела.
- Это просто для красоты.
- Это старая традиция.
- Никакой практической роли он не играет. Мы называем его моггаду или мулахгаду. Он приставной, так что его можно снять, если мешает в работе. Он не скреплен с килем.
Так они отвечали мне.
Суда - единственное транспортное средство, которое могло доставить людей на эти острова, и мне с самого начала было ясно, что стандартный тип дхони - еще одна часть загадочной мальдивской мозаики.
Сидя вновь в самолете и глядя, как Мальдивы уходят назад, подобно россыпи листьев на пруду, я вспоминал данные разных источников, сообщавших, что в прошлом местные суда за неделю покрывали путь до Индии. Неплохо для того времени. Теперь до Индии было чуть больше часа.
Последовали дни, наполненные лихорадочной деятельностью. Вернувшись в Осло, я срочно занялся организацией новой экспедиции, которая должна была отправиться на Мальдивы через два месяца. Предстояло мое четвертое посещение архипелага за четырнадцать месяцев.
Музей Кон-Тики и Ослоский университет оказали мне полное содействие. Правление музея разрешило директору Кнюту Хаугланду, моему товарищу по экспедиции "Кон-Тики", оплатить все авиабилеты до Мале и обратно. Расходы на транспорт и рабочую силу в пределах архипелага обязалось покрыть мальдивское правительство. Университет предоставил археологам отпуск с сохранением жалованья, и глава университетского Музея древностей, профессор Арне Шёльсволд, согласился вновь отправиться на Мальдивы. К нему присоединились уже знакомый нам Эйстейн Юхансен и, кроме того, третий археолог, старший хранитель Музея древностей, Эгиль Миккельсен.
Памятуя сказанное нам о сроках засушливого сезона, в середине февраля мы снова приземлились в Мале. Шел проливной дождь. В разгар сухого сезона. Песчаные улицы Мале не могли впитать всей падавшей с неба воды. С каждым новым посещением я отмечал возрастающее число автомашин; сейчас они медленно маневрировали, стараясь обогнуть самые глубокие лужи, а мы, пешеходы, прижимались к стенам домов, где земля была посуше. Дождевые тучи сбрасывали свой груз не там, где положено. Тысячелетиями они плыли в небесах к засушливым областям Африки, теперь же ориентировка разладилась, и тучи грозили утопить островитян, оставляя африканцев сухими.
- Завтра будет солнце,- сказал, широко улыбаясь, встречавший нас Лутфи; министр снова поручил ему сопровождать нас.- Можно выходить из Мале, как только вы одобрите экспедиционное судно, предложенное правительством.
В оживленной гавани он показал нам стоящий в окружении дхони и других судов мальдивской постройки симпатичный парусно-моторный кораблик. Тоже построенный из местного материала с соблюдением традиционных форм, но отличающийся особым изяществом и чистотой. На корме название: "Шадас".
- Хозяин судна-молодой немец,-объяснил Лутфи.-Он мусульманин, построил его с помощью мальдивского корабела, сам возглавляет команду, в которую, кроме него, входят моторист и кок.
Читатель уже слышал об этом судне. Теперь я воочию убедился, что оно отлично подходит для экспедиционной работы в мальдивских водах.
В конторе Лутфи я познакомился с голубоглазым владельцем "Шадас". Это был невысокий крепыш с открытым приветливым лицом и мусульманского типа усами такого же цвета, как его желтая шевелюра. Сказав что-то Лутфи на дивехи, он повернулся ко мне и заговорил на хорошем английском языке:
- Меня зовут Мухамед Азим Симон. Но мне будет приятно, если вы станете звать меня просто Азимом.
Мы перешли на "ты" и тут же договорились обо всем. Экспедиция платит аренду за каждый день, когда судно будет стоять на якоре, служа нам базой; правительство платит условленную цену за каждый день пути. Азим и его веселый мальдивский кок Заккариа помогли нам в рекордный срок закупить необходимый провиант и снаряжение; моторист Хасан оставался на "Шадас", охраняя доставляемое на борт драгоценное имущество.
Поздно вечером, окруженные чуть ли не всем населением Мале, мы стояли на пристани, наблюдая, как аэропорт впервые принимает летящий с Востока в Европу реактивный гигант компании "Сингапур эйрлайнз". Самолет благополучно приземлился, расстояние между Востоком и Западом еще больше сократилось, и Мальдивы были еще плотнее зажаты между ними. Затем мы упаковали личное имущество и присоединились к капитану Азиму и его команде на борту "Шадас".
Сквозь облака проглядывали звезды. Невероятно! Лутфи напомнил нам свой прогноз.
Кроме уже упомянутой нашей четверки из Норвегии, Лутфи и команды судна, в состав экспедиции вошел официальный представитель мальдивских властей, еще один Манику - Ибрахим Манику Дон Манику.
Как только из-за горизонта выглянул краешек солнца, мы на хорошей скорости покинули лагуну Мале и взяли курс на Ниланду.
Пройдя под вечер через пролив у Арияду, мы продолжали следовать вдоль рифов на юг; за это время Хасан уже поймал три пеламиды и корифену. Мы обогнули Ниланду с юга и, промеряя глубину обыкновенным свинцовым лотом, сумели войти в лагуну. Азим и Хасан шли впереди на резиновой лодке, а Заккариа, стоя на руле, следил за их сигналами. Осадка "Шадас" составляла всего один метр; Азим отыскал в рифе проход с глубинами до трех метров, и мы благополучно пересекли четырехсотметровый барьер. Солнце еще не зашло, когда мы, возвратясь вдоль внутренней стороны рифа к Ниланду, бросили якорь в нескольких саженях от пристани. Напомню, что в прошлый раз нам удалось пройти сюда только на плоскодонном катере.
Итак, снова Ниланду.
С приходом темноты мы немало удивились, заметив ритмично вспыхивающий огонек на рифе. Две ярких вспышки, долгая пауза, опять две вспышки. Светящий буй! Еще один признак стремительного броска Мальдивов в технологический век. В прошлом году такие буи мы видели только в Мале. И ведь Ниланду лежит далеко от морских путей, из чего следовало, что риф обозначен исключительно для местных рыбаков. Еще больше мы удивились, когда, сойдя на берег, услышали, что фонарь буя питается от солнечных батарей. Заодно мы узнали, что после нашего предыдущего визита на остров приходили из Мале японские гости. Может быть, этим объяснялось появление замечательного буя.
Обнаружили мы и другие перемены. Из нескольких домиков, резко диссонируя с шелестом пальм и всей атмосферой островного селения, звездного неба, тихой лагуны, вырывались исторгаемые японскими транзисторами оглушительные звуки визгливой музыки. О вкусах, как говорится, не спорят, но уж больно скверно все это сочеталось. Все равно что запивать молоком икру минтая или играть Бетховена на стадионе во время футбольного матча.
Возможно, приемники были включены на полную мощность, чтобы сделать нам приятное или произвести на нас впечатление. Музыка стихла вдали, когда мы подошли к знакомому песчаному холмику под пальмами. Но и тут нас подстерегал сюрприз. Сам холмик оставался нетронутым, но песок вокруг шурфа, в котором мы откапывали фаллоидные камни, был основательно изрыт.
- Они унесли с собой только один камень.-сообщил вождь, видя наши встревоженные лица.
- Кто? Кто - они?
- Японцы. Они приехали снимать то, что вы нашли. И тоже производили раскопки.
Это были археологи? Ученые?
Нас не поняли, и пришлось вмешаться Лутфи. Он выяснил, что приезжали киношники. Прослышав о наших исследованиях, они арендовали судно в Мале, чтобы снять обнаруженное нами.
Не стану утверждать, что мы были счастливы, когда увидели, что наш раскоп уподобился картофельному полю. Чтобы как-то утешить нас, островитяне показали место, где предыдущие гости закопали свои находки. Плохое утешение для археологов; слишком уж это было похоже на свалку, в которой мы рылись на Ваду. Рядом с нашим шурфом японцы наткнулись на обложенную камнем глубокую квадратную яму. Видимо, здесь, под стенами бывшего храма плодородия, помешалась камера для реликвий. В яме были свалены находки японцев: несколько фаллоидных камней и "зонтичных башенок", похожих на наши.
- Копать здесь - только зря время тратить,-заключил Шёльсволд и повернулся лицом к нетронутым участкам.- Материал для радиокарбонной датировки, вот что нужно нам теперь.
Тут же на холмике мы устроили небольшое совещание. Все согласились, что фаллоидных камней и "зонтичных башенок" у нас хватает, теперь нужны такие предметы, которые помогли бы определить возраст уже найденных.
Шёльсволд огородил на холмике веревкой участок для шурфа. Другой прямоугольник разметили Миккельсен и Юхансен метрах в двухстах к северу от холмика, где, по преданию, располагалась ограда вокруг семи древних храмов. Пока рабочие занимали свои места, Лутфи предложил мне осмотреть участок перед расположенной поблизости мечетью: один старик сказал ему, что там некогда находился большой бассейн, есть смысл копать.
Последовав за Лутфи, я не увидел никаких признаков бассейна, только широкую песчаную дорогу, которая вела в селение. Между тем меня ожидало новое потрясение. Мы остановились перед большой старой мечетью, где Лутфи и Вахид в прошлый раз сделали свое великое открытие, когда обратили наше внимание на то, что кладка фундамента под мечетью в точности походила на основание раскопанной нами древней храмовой стены. Но где же она?
Исчезла. Великолепная кладка была закрыта слоем современного цемента.
Я остолбенел. Лутфи был вне себя от ярости.
- Это сделали фанатики!- воскликнул он. - Замазали, когда узнали, что речь идет о языческом сооружении.
Старая домусульманская кладка исчезла навсегда. На земле рядом с мечетью лежала груда мелких обломков известняка - все, что осталось от части древней стены. По другую сторону мечети зияла глубокая яма, где современные каменщики брали песок для цемента. На дне ямы просматривалась верхняя грань еще какого-то сооружения.
Старики поведали нам, что сюда таскали песок с пляжа, когда понадобилось засыпать языческий бассейн перед мечетью. Заложив на этом месте шурф, мы вышли на верхние ступени каменной лестницы. Позвали еще рабочих с лопатами. Лестница начиналась плитой серповидной формы, к которой примыкали тщательно пригнанные друг к другу тесаные камни, составляющие верхний край большой круглой конструкции. Продолжая углубляться в заполняющий чашу рыхлый песок, мы обнаружили сваленные туда же куски известняка, часть мусульманской могильной плиты и фаллоидный камень. От поверхности семь широких ступеней спускались между вертикальными ступенями к расходившейся по широкой дуге в обе стороны скамье шириной 50 сантиметров.
Чуть пониже скамьи нам встретилась вода. Пресная вода. Ее уровень опускался вместе с отливом, пока мы расчищали кладку чаши, включая половину верхнего края. Внутренний диаметр правильной окружности равнялся 7,20 метра. На стыке круглых стен чаши и прямой кладки по сторонам лестницы плиты были стесаны так, чтобы противостоять давлению воды.
Этот ритуальный бассейн был построен с таким же техническим и эстетическим совершенством, как прямоугольный бассейн на Фуа-Мулаку, однако здесь все стены и ступени были покрыты слоем известки. И сделали это явно на какой-то поздней стадии, ибо камни были гладко обтесаны и отшлифованы. Компас показал, что лестница выложена в южной части чаши и берет начало у засыпанной впоследствии дорожки, которая спускалась на восток к лагуне от разрушенного храма, его фундамент был использован строителями мечети.
Тем временем шурф, заложенный Миккельсеном и Юхансеном, вывел их на упоминаемую в преданиях ограду храмового комплекса, о чем они дали мне знать радостными возгласами. В самом деле, древняя стена, строго ориентированная по странам света.
Мы от души посмеялись, когда один из рабочих крикнул, что подцепил лопатой "современного краба". Это был пальмовый вор, личинка которого, подобно раку - отшельнику, прячет свое мягкое брюшко в пустую раковину. Да только данный экземпляр вместо раковины использовал крышку от пластмассовой фляги!
Затем появились кусочки древесного угля. И черепки толстенной керамики. Рабочие называли ее " - румба моши"; в сосудах такого типа они держали дома пресную воду. Но еще глубже Миккельсену попался зеленоватый черепок другого вида. "Таши моши",- сказали рабочие. "Китайская керамика",- перевел Лутфи, подтвердив нашу догадку.
- Барабаро,- заключил Юхансен и сунул этот черепок в полиэтиленовый мешочек.
"Барабаро" на языке дивехи означает "хорошо, прекрасно". Это было первое выученное нами мальдивское слово, притом весьма полезное и как еще один фрагмент занимавшей наши умы мозаики. Ибо мы с удивлением выяснили, что то же слово, с тем же значением присутствует в древнем индоарийском языке урду в области долины Инда.
Продолжая копать шурф, археологи нашли еще черепки китайского типа. Покрытые особой, трещиноватой зеленой глазурью, они действительно напоминали древнюю восточную керамику. Вплоть до самого основания стены встречались эти и другие черепки, осколки раковин и древесный уголь.
На глубине 90 сантиметров Миккельсен извлек из грунта необычную, просверленную вдоль, продолговатую красно-черную мозаичную бусину. Совершенно уникальное, изящное изделие. Наши мальдивские друзья никогда не видели ничего подобного. Зато видели мы. В каком-то музее. В каком именно?..
Погребенная в грунте стена помещалась именно там, где говорили старики, огораживая, как показали шурфы, своим квадратом всю территорию легендарного храмового комплекса, площадь которой равнялась примерно одному гектару.
Всем своим видом эта стена безмолвно повествовала об эпохе, чуждой мусульманским традициям. При общей толщине около двух метров, она была сложена из прямоугольных плит, между которыми внутри был насыпан коралловый песок. В этом песке довольно глубоко нам попался крупный обломок декоративного известнякового карниза бывшего храма. Резной узор, сочетающий выступы и впадины, напоминал классический греческий орнамент. Выходило, что на этом острове стоял искусно оформленный храм, который либо забросили, либо разрушили еще до того, как была сложена раскопанная нами домусульманская стена. Подтверждалось го, что мы обнаружили на Гане и Гаду.
Похоже, здесь поочередно возводили храмы представители двух разных народов,- заметил Юхансен. - И тот, и другой до того, как была построена мечеть. К такому выводу склонялся и Шёльсволд, раскапывая холм. Его бригада прошла шурфом песчаный заполнитель былой конструкции до самого основания. Коралловый песок с примесью земли и отдельных кусков известняка составлял компактную сердцевину разрушенной пирамиды. Ни древесного угля, ни камеры для реликвий, никаких следов захоронения. Но на дне шурфа, в самом центре квадратного фундамента, покоилась большая витая раковина. Совершенно целая, она, возможно, выполняла некую магико-религиозную функцию. Рядом с ракониной вперемешку с коралловыми блоками лежали необычные красноватые камни, размерами и формой напоминающие современные кирпичи. Один из них даже не был разбит. До сих пор нам ни разу не попадались на островах образцы такого песчаника кирпичного цвета.
- Вообще - то он встречается в небольшом количестве, сказал Лутфи. - Мы называем его ратга, "красный камень".
На Мальдивах есть три вида годного для строительства природного камня. Самый употребительный - вели-га, "песчаный камень", составляющий коренную породу здешних островов, беловатый крупнозернистый известняк, который был использован в раскопанных нами храме и стенах. Дальше следует хири-га, "белый камень", добываемый на внешних рифах или на дне лагун. Ярко-белый мелкозернистый известняк, он применялся древними строителями для облицовки храмов, впоследствии разобранной мусульманами и использованной ими для своих мечетей.
Так что красный камень, хоть раньше нам не встречался, не был полной неожиданностью. Однако найденные теперь образцы, как и два белых камня с классическим орнаментом, предназначались для декоративной облицовки, а не для внутреннего заполнения пирамиды.
- Два различных периода,- заключил Шёльсволд.- Больше ничего нельзя сказать, пока мы не датировали раковину по радиокарбону.
На очереди был Гааф - Ган. В третий раз. Нам не терпелось узнать, не уничтожен ли солнечный храм японцами, которые прошли по нашему маршруту.
Азим твердо уповал на Аллаха и не чурался разумного риска. Тщательно разведав вместе с Хасаном на резиновой лодке и вплавь пролив между Гааф-Ганом и Гаду, он вернулся на "Шадас" и повел судно прямо на барьерный риф.
- Сейчас прилив,- объяснил он. Но все равно, наружная грань рифа поднимается так близко к поверхности, что прибой до нас не дойдет.
После чего Азим и Хасан снова прыгнули в воду и, не скупясь на канаты, зачалили наш кораблик к коралловым глыбам на дне. В итоге, когда наступил отлив, "Шадас" очутился как бы в защищенном со всех сторон торчащими кораллами плавательном бассейне с кристально чистой водой. Под килем осталось так мало воды, что наиболее крупные из ярко расцвеченных рыб, подойдя к судну, предпочитали огибать его. Дельфины и вовсе не умещались в нашей ванне, для них был открыт пролив по соседству.
Подошла лодка с "хозяином" Гана. Не дожидаясь наших вопросов, он сообщил, что японцы побывали здесь. Они пожелали ознакомиться с нашими находками, тогда их провели к большой хавитте. Вот только копать им не пришлось, продолжал, широко улыбаясь, наш высокорослый друг, потому что жители Гаду отказались одолжить им кирки и лопаты.
 Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
Мы застали солнечный храм в том же виде, каким его оставили. Огромный холм с деревом кандху наподобие могучего шпиля был не тронут. Да мы и сами не собирались всерьез копать хавитту в поисках спрятанных сокровищ. Для этого требовалась мощная экспедиция, в частности пришлось бы сооружать подпорные стенки, с тем чтобы битый камень не обрушился в глубокий раскоп. Мы ограничились тем, что расчистили фундамент основных стен и четырех пандусов, чтобы получить более полное представление о всей конструкции, и заложили кругом шурфы, надеясь вскрыть культурные слои с датируемым материалом. То и дело работа прерывалась из-за тропических ливней. Мы натянули между деревьями большой брезент, и шесть десятков людей часами отсиживались в тесноте под этим навесом, утоляя жажду водой, стекавшей с брезента. Жизнерадостные рабочие не давали нам унывать. Глядишь, вновь припекает солнце, можно возобновлять работу.
Древесный уголь, кусочки кости и черепки, за которыми охотились археологи, не занимали Лутфи. Его волновала более крупная дичь, и всю свободную рабочую силу он направлял на прокладку троп и расчистку зарослей в поисках новых хавитт. Лутфи старался не зря. На прилегающем к большой хавитте участке в лесу оказалось еще шесть холмов. Они были невысокие, зато некоторые отличались внушительной шириной. На вершине одного из них лежали длинные блоки, на которых под слоем зеленого мха скрывался красивый рельефный орнамент-жезлы и концентрические круги. По соседству валялись тесаные камни и квадратные блоки с ямкой посередине, возможно служившие цоколями для колонн. В семидесяти метрах на восток от большой хавитты я едва не провалился в замаскированную растительностью яму и, раздвинув папоротник и ветки, увидел сложенный из толстых тесаных блоков, наполовину засыпанный землей круглый ритуальный бассейн.
Недалеко от южной оконечности острова, в получасе ходьбы от малой хавитты, которую мы осмотрели в прошлый раз, наши рабочие проложили дорожку к еще одному холму. На вопрос, почему бывшие обитатели острова не довольствовались большой ха-витгой, наши друзья, как и прежде, ответили, что на острове жили разные племена, прежде чем последнее из них было изгнано "большими кошками".
Изучая лица и телосложение наших помощников с Гаду, мы понимали, что так оно и было. Люди, сидевшие рядом с нами под брезентовым навесом, являли собой живое смешение разных этнических групп. Чисто семитские черты чередовались с малайскими, европеоидные с негроидными.
Выйдя после очередной грозы из-под навеса, я заметил отливающее металлом пятно на одном из только что раскопанных нами солярных символов. Дождь смыл с камня всю землю, и в самой середине солнечного диска обнажился позеленевший от окиси кусок меди. Тщательный осмотр других камней из того же шурфа позволил обнаружить остатки тонкого медного штыря, словно бы призванного обозначить центр. Но чаще всего металл совсем исчез, оставив пустую ямку. Случайно нам встретился кусок камня с половиной солярного символа, и на вертикальном изломе, как на разрезе, удалось рассмотреть, что в камень был вбит острый штырь длиной 8 сантиметров, толщиной 6 миллиметров. Не требовалось большой фантазии, чтобы представить себе, что этими штырями к камню прочно крепилось нечто ценное, по всей вероятности - круглая пластинка блестящего металла, быть может золота, покрывающая всю поверхность солнечного диска внутри концентрических кругов.
 Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
Кокосовые орехи и дары моря важнейшие продукты питания на Мальдивах. Государство на 1200 островах по-прежнему сохраняет свою независимость. Только 202 острова населены, и лишь те, что расположены вблизи Мале, открыты для туристов
Зоркий рабочий, помогавший просеивать землю из раскопа, обнаружил красновато-коричневый шарик такой крохотный, что он вполне мог бы незамеченным проскочить в ячею. Похоже было, что это агат. Возможно, шарик сточила эрозия; так или иначе, он был так мал, что просверленная в нем дырочка могла пропустить нитку чуть толще волоса. Миниатюрные размеры и сам материал напомнили мне знаменитый бисер из Лотхала. В этом древнем порту в долине Инда археологи раскопали то, что осталось от мастерской, где как раз изготавливали такие крохотные бусинки и тысячи готовых изделий ждали заморских покупателей.
- Мусульманские девушки не носят бус,- заметил Лутфи.
А я подумал, что любые девушки вряд ли теряют свои бусы возле храмовых стен. Вероятно, эта малютка, как и более искусно сделанная крупная мозаичная бусина на Ниланду, украшала изображение божества. Разбитого вдребезги мусульманами или же их предшественниками, которые замазали известкой декор древней облицовки.
В земле у подножия храма лежали упавшие сверху тесаные камни самой различной формы. Почти все разбиты, и недостающие куски разбросаны кругом так, что большинства не найти. Но как же великолепно должен был смотреться храм, когда все части конструкции были на своих местах... Мы находили цилиндрические камни, которые складывались в колонны. Тут были камни плоские и полукруглые, были прямоугольные с классическими контурами, возможно служившие цоколями. Нам даже попался каменный шар с выступами на полюсах. Одни плиты украшала изящная решётка, у других были квадратные и круглые отверстия; на некоторых вырезаны рельефные, а то и трехмерные ступени и ступенчатые пирамиды. И снова и снова встречались нам образцы, знакомые по прежним посещениям Гана.
 Скромная мечеть, крытая пальмовыми листьями, стоит сегодня на месте ослепительно белого известнякового храма, снесенного островитянами, когда в XII веке они сменили веру предков на ислам. Обломки храма были использованы мусульманами для могильных плит, но по соседству мы раскопали нетронутый священный бассейн. Между гладко отшлифованных, безупречно пригнанных плит в чашу бассейна спускалась мегалитическая лестница. Когда рабочие углубились до окаймляющих стены каменных скамей, показалась пресная вода
Скромная мечеть, крытая пальмовыми листьями, стоит сегодня на месте ослепительно белого известнякового храма, снесенного островитянами, когда в XII веке они сменили веру предков на ислам. Обломки храма были использованы мусульманами для могильных плит, но по соседству мы раскопали нетронутый священный бассейн. Между гладко отшлифованных, безупречно пригнанных плит в чашу бассейна спускалась мегалитическая лестница. Когда рабочие углубились до окаймляющих стены каменных скамей, показалась пресная вода
А еще нас ожидал великий сюрприз: Миккельсен с торжествующим видом предъявил нам полуфигуру каменного льва, которую откопал в углу между восточной стеной и ее пандусом. Маленькая скульптура явно вставлялась в стену как украшение. Очистив голову льва от земли, Миккельсен обратил наше внимание на круглое углубление на макушке; точно такие ямки мне доводилось видеть у некоторых каменных львов, стоящих попарно у ног хеттского бога Солнца. Назначение ямок неизвестно. Перед нами одна из многих загадочных параллелей; сходные ямки вырезаны на голове каменных пум, изваянных ольмекскими основателями Мексиканской цивилизации.
Тут и Юхансен извлек из своего шурфа обломок маленькой статуэтки. Отчетливо различались пять пальцев ноги на ступне, обращенной подошвой вверх и прилегающей к согнутому колену. Мы долго вертели обломок в руках, наконец меня осенило:
- Это часть сидящего Будды. Он сидит скрестив ноги. Индуистских богов нередко изображают сидящими так, что одна нога, как здесь правая, подогнута, а другая свисает вниз.
Послышались вдруг возбужденные возгласы, их сменила ликующая песня. Это пустились в пляс рабочие, которые выкорчевали оставшийся на одном из пандусов здоровенный пень. В глубокой яме под пнем лежал каменный бык. Скульптор вырезал голову с рогами, шею, передние ноги и половину корпуса так, что бык словно выходил из толщи известнякового блока. В стиле этого изделия угадывалось что-то месопотамское. Если же говорить о мотиве, то бык и лев - два главных божества и в Древней Месопотамии, и у ее могущественных соседей-в Индии.
На другой день работы продолжались. Всю ночь бушевала гроза. В небе висели низкие тучи. Вот вам и "засушливый сезон"! Сырая, ревматическая погода... Часть наших помощников не вышли на работу, хотя сам по себе дождь их ничуть не пугал. Около полудня лопаточка Юхансена наткнулась на подобие фаллоидного камня, однако
после очистки скульптура оказалась похожей скорее на бутон лотоса. А секундой позже он радостно заулюлюкал, и его рабочие затеяли веселый перепляс. Еще один лев! На этот раз вполне сохранный, передние лапы подогнуты, голова поднята вверх. Общая длина фигурки - около 40 сантиметров, высота 21 сантиметр, задняя часть туловища оформлена прямоугольником, чтобы входила в кладку наряду с быком и солярными камнями. И опять мы увидели на макушке львиной головы загадочную ямку.
Немного погодя на том же участке Миккельсену попался третий лев. Правда, от фигурки уцелела только морда с ноздрями и правый бок. Тот, кто разбивал этот чудесный образчик искусства, основательно потрудился. Но он не был мусульманином. Ведь быка-то мы нашли в насыпи пандуса. Мусульмане довершили разгром храма, но пандус клали не они.
Как-то вечером, пока Заккариа готовил обед, Хасан отправился на необитаемый Ган один порыбачить в лагуне. Он уверял, что не боится ни джиннов, ни ферета. Тем не менее вскоре мы услышали, как Хасан кричит, чтобы Заккариа поскорее пришел за ним на надувной лодке. Заккариа не сразу оторвался от своих кастрюль и сковородок, и, когда он наконец подогнал лодку к острову, Хасан был вне себя от ярости и страха. Какой-то джинн подкрался сзади и обсыпал ему голову песком. Хасан еще долго вытряхивал песок из волос. Мы предположили, что над ним пролетела цапля. Или большая летучая мышь. Но Хасан с презрением отверг наши догадки. Цапли и мыши не бросаются песком, так ведут себя только джинны. На другой день он попросил Закка-рию отправиться вместе с ним на то место, чтобы поискать следы на берегу. Они увидели одни лишь отпечатки босых ног самого Хасана. Это окончательно убедило его. Только джинны могут ходить по песчаному берегу, не оставляя следов.
Важные дела вынуждали Шёльсволда и Лутфи уехать раньше остальных членов экспедиции, и мы пошли через Экваториальный проход на юг, чтобы забросить их в аэропорт.
По пути к Адду - Гану решили заглянуть на Фуа - Мулаку. После того, что мы видели на этом острове посреди Экваториального прохода, Ниланду и Гааф - Ган представили нам довольно однообразный набор черепков. Плодородие Фуа-Мулаку и неограниченные запасы пресной воды, конечно же, привлекали все чужеземные суда, следовавшие через пролив.
На этот раз нам помогли перенести гребную лодку внутрь острова, к большему из двух озер, отличающих Фуа - Мулаку от всех известных мне коралловых островов. На таких островах озера обычно не образуются, но ведь Фуа - Мулаку некогда был атоллом с лагуной, которая сообщалась через пролив с окружающим морем. Я уже упоминал местные предания о временах, когда плоты и корабли могли заходить на стоянку туда, где теперь расположены озера и влажные плантации таро.
Оба озера постепенно зарастают, уступая место трясине и плантациям. Во время первого посещения я вместе с Бьёрном Бюэ пытался плавать в большем озере, но мы только набрали полные трусы коричневого ила. Теперь мы с Юхансеном и двумя островитянами плыли на лодке, распугивая длинноногих журавлей и белых водоплавающих птиц. Озеро длиной всего 350 метров было удивительно красиво; зеркально гладкая поверхность отражала все оттенки зелени кокосовых пальм, бананов и прочей растительности, обступившей воду плотным кольцом. Малейшее движение весел поднимало рыхлую ржаво-красную муть. Когда наши местные спутники прыгнули за борт, они словно погрузились в шоколадный мусс. Ныряя сквозь дурно пахнущий жидкий ил, они доставали дно бывшей лагуны и возвращались, сжимая в шоколадной пятерне неожиданно белую известковую кашицу.
Это озеро, Бодху-Кулхи, расположенное совсем вблизи морского берега, наверно, было раем для древних мореплавателей. Сперва в роли открытой гавани, потом, когда природа перекрыла вход, а тропические ливни вымыли всю соль, как поставщик столь необходимой пресной воды. Много веков, пока вода оставалась прозрачной и можно было любоваться безжизненными кораллами, озеро являло собой несравненную достопримечательность для любого морехода, совершающего долгое плавание из одного конца Индийского океана в другой.
Неудивительно, что мы с Бьёрном при первом посещении Фуа - Мулаку собрали на редкость разнообразную коллекцию черепков. Стоило ребятишкам заметить, что я нагибаюсь за черепком, как они тотчас находили кругом другие. У нас были конфеты для обмена, но когда набрался полный мешок подъемного материала, пришлось закрыть свою лавочку. Этот мешок мы передали нашему другу Роланду Сильве, возглавляющему археологические исследования в Шри-Ланке. Вот что он писал мне тогда:
"Интересно отметить, что возраст образцов отражает миграции человека на рубеже нашего летосчисления. Не сомневаюсь, что это послужит серьезным подтверждением ваших гипотез о весьма давнем заселении этих прекрасных островов у экватора".
В материале, собранном нами на Фуа - Мулаку, особое внимание шри-ланкийских специалистов привлек осколок кувшинного горлышка: "Эта керамика украшена так называемым ямочным орнаментом и предположительно может быть отнесена к эллинистическим изделиям 200 г. до н. э. 200 г. н. э.; данный черепок важен". Некоторые черепки были определены как родственные шри-ланкийской керамике III века н. э., другие как будто указывали на связь с кушанской красной полированной керамикой Индии VI века. Часть образцов охарактеризована такими словами: "Различная глазурованная керамика, вероятнее всего, привозные мусульманские и китайские изделия"
(Письмо из министерства культуры Шри-Ланки от 29 августа 1983 г., подписано Роландом Сильвой и С. У. Дераньягалом.).
Восток и Запад встречались на Фуа-Мулаку. Мы были уверены, что разведочные шурфы у большой хавитты принесут множество новых находок. Не тут-то было. Может быть, у древнейшей мечети? На полях у селения? На краю плантаций таро? Нет, нет и нет. Хотя мы прошли весь верхний слой черного гумуса и подстилающий его стерильный гравий до коренной породы вели-га. Кое-где вообще не было черепков, и мы поняли, что копаем на месте бывшей лагуны. В других шурфах попадался, как правило, один основной тип керамики кирпичного цвета с небольшими вариациями в изгибе верхнего края и размерах всего сосуда. Некоторые образцы этого типа были украшены бороздами. Очень редко встречалась желтая керамика без декора или покрытые трещиноватой зеленой глазурью черепки китайского типа. Большим разнообразием отличались только образцы, обнаруженные в коралловом песке возле причалов и на поверхности участков с тонким слоем неплодородной земли рядом с селением.
Напрашивался вывод, что местные жители не пользовались богатым набором чужеземной керамики, ее черепки были оставлены мореплавателями, которые из века в век курсировали в этих водах, ненадолго высаживаясь на берег для отдыха или меновой торговли. Сами фуамулакцы тогда, как и теперь, обходились большими кувшинами, обычно стоящими у дверей, и более мелкой посудой того же типа на кухне. Согласно записям древних арабов, подтверждаемым местными преданиями, эти стандартные изделия ввозились из Юго-Западной Индии в обмен на раковины каури.
И на Фуа - Мулаку, и в атолле Адду погода тоже была не в ладах с сезоном: шел проливной дождь, гремели грозы. Наше плавание на "Шадас" от Экваториального прохода обратно, на север, разительно отличалось от прогулки на веслах по обрамленному пальмами озеру на Фуа - Мулаку. Едва Адду скрылся за горизонтом, как разразился шторм, а океанские волны нигде так не склонны затевать бурную пляску, как в проливах, где мощное течение либо протискивается им навстречу, либо мчится во весь опор вместе с ними.
Мы возвращались на Гааф - Ган и Гаду, чтобы продолжить раскопки, и, поскольку
Лутфи покинул нас, взяли на борт опытного моряка, который попросил отвезти его домой на Гаду и за это вызвался быть лоцманом. Наш новый друг (его звали Фаузи) подтвердил то, в чем мы уже убедились: течения у островов Мальдивского архипелага настолько сильны и переменчивы, что на компас лучше не полагаться, главное - твердые ориентиры.
Манику Дон Манику, молчаливый сопровождающий, приставленный к нам властями, стал заметно разговорчивее, сменив Лутфи в роли нашего главного помощника. Встревоженный сильной качкой, он попытался установить радиосвязь с внешним миром. Наш маленький передатчик немногим превосходил дальность слышимости обыкновенного человеческого голоса, поэтому Манику был очень горд, когда связался с только что скрывшимся за кормой Адду - Ганом. Он радостно доложил, что там идет дождь (у нас в этот момент дождя не было), однако тут же в его голосе зазвучали совсем другие ноты. Из Мале передали на Адду предупреждение о жестоком шторме и сообщили, что к северу от архипелага бушует ураган - большая редкость для этого района.
Ветер от вест-зюйд-веста крепчал. Азим предупредил нас, что в такую погоду ни одна дхони не выйдет из лагун. Над нами проплывали черные штормовые тучи. При попутном ветре "Шадас" буквально летела по волнам. В 8.45 утра воспаленными от соленой воды глазами мы сквозь каскады брызг рассмотрели впереди Фуа - Мулаку. В такую погоду от его берегов следовало держаться подальше, однако мы должны были сблизиться с ним, чтобы взять правильный курс на Гааф - Ган.
Море кругом буквально кипело, когда мы пересекали линию экватора, где скорость течения особенно велика. Мы давно убрали с палубы все лишние предметы, и резиновая лодка была прочно привязана на крыше рубки. Тучи брызг пролетали над судном от носа до самой кормы, окатывая нас с ног до головы. Юхансен - закаленный моряк, однако со вчерашнего дня у него побаливал живот, и он предупредил, чтобы его искали на койке, если не услышим, как работает помпа в гальюне. Миккельсен вышел, улыбаясь через силу, на палубу, принес жертву Нептуну и тут же снова спустился вниз. Кок Заккариа чувствовал себя отвратительно и после каждой взятой им пробы своей стряпни подбегал к фальшборту.
Мимо меня проследовал с носа человек, лицо которого было скрыто полиэтиленовым мешком, пробурчал: "Хасану не нравится это",- и, натянув мешок до самых колен, для верности забрался под лежащую вверх дном лодчонку.
С трудом удерживая равновесие, Манику Дон Манику не выпускал из рук портативную рацию. Он утратил всякую связь с внешним миром и был явно недоволен нашим ближайшим окружением. Простым глазом было видно, что он не больно-то доверяет капитанским способностям Азима. По его мнению, только Фаузи, настоящий мальдивец, выросший на берегах этого пролива, мог благополучно привести нас в гавань.
- Теперь это под силу одному лишь Аллаху,- спокойно возразил Азим, сжимая руками штурвал и отдавая команды Фаузи, который помогал ему сражаться с натиском волн.
- Шпангоуты - самое слабое место моего судна! - добавил Азим, обращаясь ко мне, пассивному зрителю внушительного спектакля.
С чувством тревоги и восхищения смотрел я, как построенное Азимом суденышко с грацией танцовщицы вписывается в движения беснующихся волн. Попытайся оно воспротивиться им было бы раздавлено, как яичная скорлупа под натиском тысяч китовых брюх. Время от времени, когда какая-нибудь волна сбивалась с ритма бешеной пляски, дерево издавало громкий треск, и мы с Азимом обменивались слабыми улыбками. Обоим было не по себе. Сейчас бы сюда камышовую ладью... Не выдержат шпангоуты или обшивка "Шадас", и быть нам на дне. На папирусных ладьях мне доводилось одолевать куда более высокие волны, чувствуя себя в полной безопасности, потому что бунты из стеблей не боятся ныряющих гребней, свободно пропуская воду через днище. Мысленно я ругал древних шумеров и финикийцев за то, что они отказались от надежных бунтовых конструкций и научили нас строить потопляемые суда.
Съезжая в глубокие ложбины между волнами, мы видели бутылочную зелень склонов с шипящими гребнями наверху, которые грозили обрушиться на нас. Но судно успевало взмыть по крутому склону, и гребни лишь поглаживали его борта. Забавно было наблюдать летучих рыбок. Им уже не удавалось подолгу парить над морем. Только взлетят над волной, как их встречает следующая, так и прыгали они с гребня на гребень, словно лягушки.
Но "Шадас" держалась молодцом. Четырнадцатиметровая длина и плавные обводы позволяли ей благополучно переваливать через могучие валы. Благодаря малым размерам она свободно скользила между волнами и пропускала под килем тысячетонные горы воды. Будь "Шадас" немного длиннее, она сломала бы себе хребет на высоких гребнях или между ними.
На быстрине волнение приняло беспорядочный характер, и волны дыбились перед нами, словно дикие жеребцы. Да и ветер как-то особенно яростно свистел в снастях. Однако чем сильнее бушевали стихии, тем очевиднее становилось, что судно Азима выдюжит. Недаром мое детское представление об океане как о злой силе давно уступило прямо обратному восприятию. "Дружелюбный океан",- говорил я себе, глядя на грозное и прекрасное проявление могущества нашей матери-природы, милостивой к тем, кто приноравливается к ее ритмам, вместо того чтобы противоборствовать им.
Азим и Фаузи мастерски управляли судном. Временами сила ветра возрастала до такой степени, что приходилось изменять курс и ложиться в дрейф, тем не менее пополудни мы уже различали вдали пальмовые кроны, когда "Шадас" взмывала на гребень. При тихой погоде пальмы было видно с моря на расстоянии 10 миль, песчаные пляжи - за 3-4 мили. Забравшись на мачту, Фаузи объявил, что впереди Гааф - Ган, и мы внесли поправку в курс. Вскоре выяснилось, однако, что это был не Ган, а Ваду.
Море несколько присмирело; и ветер перестал завывать в снастях. Видимо, мы вышли из быстрины и очутились под прикрытием каких-то рифов. Распознав хавитту на Ваду, мы еще раз изменили курс и пошли при переменном ветре вдоль тянувшихся слева по борту берегов и рифов атолла Гааф.
Аллах был милостив к правоверному Азиму, и наш капитан, промокший насквозь от соленых брызг, с благодарной и гордой улыбкой провел "Шадас" в лагуну Гаафа и бросил якорь у подветренной стороны Гана.
"Волнующие тайны, которыми богаты многочисленные острова и рифы Мальдивов... радость и удовлетворение от их исследования не поддаются описанию. Мало просто испытать эти чувства - их следует смаковать. Ибо речь идет о радости от встречи с тем, что до сих пор было сокрыто для большинства людей" [48].
И вот снова Мале. Приблизились ли мы к ответу на загадку?
Когда мы, погрузив в числе прочего трех каменных львов и быка, простились с Гааф - Ганом и взяли курс на север, в небе снова царствовало мальдивское солнце. Бог морей примирился с ветром, хоть тот и продолжал дуть не в ту сторону.
В положенное время Азим сверился с часами, передал штурвал Хасану и - единственный из четырех мусульман на борту - опустился на колени, чтобы отбить поклоны в сторону Мекки. Заккариа был занят чисткой рыбы, а Манику Дон Манику возился со своим передатчиком. Юхансен и Миккельсен разбирали на палубе черепки, подставив спину жгучему солнцу. Что до меня, то я сидел на рубке, поглядывая на скользящие мимо островки и рифы, и сверял их названия с длинным перечнем в брошюре Хасана Манику. Заключительные слова его введения как нельзя лучше подходили к моему настроению в эти минуты:
"Волнующие тайны, которыми богаты многочисленные острова и рифы Мальдивов... радость и удовольствие от их исследования не поддаются описанию. Мало просто испытывать эти чувства - их слудует смаковать. Ибо речь идет о радости от встречи с тем, что до сих пор было сокрыто для большинства людей"
(Maniku (1983, р. 3).).
И вот снова Мале. Приблизились ли мы к ответу на загадку?
ЧЕТВЕРТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 Четвертое путешествие
Четвертое путешествие
Глава XI. Откуда пришли буддисты?
В логово льва
Собираясь охотиться на львов, вы не поедете ни в Шри-Ланку, ни в Норвегию. В фауне этих стран львов нет и никогда не было. Тем не менее в Шри-Ланке можно увидеть изваянные в древности львиные лапы, намного превосходящие величиной лапы египетского сфинкса, а норвежский герб с давних времен украшает изображение льва, который, стоя на задних лапах, передними держит секиру. Почему же шриланкийцы не выбрали для изображения слона, а норвежцы - медведя?
Дело в том, что древний человек странствовал. Он не был заточен в четырех стенах. Корни сложившейся в той или иной стране национальной культуры уходили в другие регионы. Что-то было принесено с собой из прежних мест обитания, что-то заимствовано у других народов. Как созидатель древний человек ничуть не уступал современному, но он был также способен учиться и воспринимать влияния извне. Лев Старого Света и его эквивалент в Новом Свете - пума - были древнейшими символами богоданной королевской власти всюду, где в последние три тысячелетия до новой эры процветала доевропейская цивилизация. Неудивительно потому, что изображение льва сопутствовало мореплавателям, основавшим свое королевство в Шри-Ланке за несколько столетий до нашего летосчисления. И что викинги заимствовали символ, столь широко распространенный в их охотничьих угодьях по берегам Средиземного моря.
На Гааф-Гане мы смогли установить, что представление о льве опередило на мальдивских атоллах понятие об арабской лошади. В самом деле, лев, бык и солнце украсили большую хавитту задолго до того, как ее лишили этих символов и замазали белой известкой другие богомольцы, которые пользовались сооружением рединов до прихода мусульман. Легенды о свирепых "кошачьих людях" могли быть местного происхождения, но раскопанные нами фигурки львов говорили о связях с внешним миром. Лев, бык, цветок лотоса, длинноухие изваяния, бусы из самоцветов, медные гвозди, "пальчиковая" кладка и классические контуры блоков в основании хавитт говорили о связях мальдивских художников и зодчих домусульманского периода с основателями континентальных культур. Один за другим или все вместе эти элементы были принесены на Мальдивы мореплавателями из других стран.
Но каких именно? Надо было искать концы за пределами архипелага. И сразу же после первого знакомства с археологией Мальдивов мы начали поиск кусочков мозаики, которые могли стыковаться с тем, что сами доставили в столичный музей. Увлеченные мальдивской загадкой, все мы между очередными посещениями архипелага путешествовали по разным странам Азии и знакомились с музейными коллекциями, библиотеками и археологическими раскопками, стараясь общими усилиями заполнить пробелы.
Первое подозрение пало на ближайшего соседа - Шри-Ланку. Именно с этого материкового острова приезжал на Мальдивы Белл, усмотревший наличие сингальского периода в истории Мальдивов. Государство Шри-Ланка было одним из важнейших центров буддизма. Не говоря уже о том, что оно же было родиной древнего "львиного народа".
Не каждый из нас решился бы вместе с древним человеком выйти на его судах в открытое море, проникнуть в девственные джунгли, опуститься в его пещеры, подниматься на отвесные скалы. Если говорить о высоте, то она явно не пугала людей "львиного народа". Во всяком случае, их короля Кассапа, правителя Шри-Ланки в V веке, который поместил свой дворец на вершине скалы Сигирия. Когда я после плоских как блин Мальдивских островов очутился у подножия его каменной твердыни, у меня было такое чувство, словно мир вздыбился. Путь наверх пролегал по отвесу скалы, которая вздымалась почти на двести метров над джунглями наподобие огромной цилиндрической шляпы. Во многих местах даже горный козел не смог бы пройти по нависающим уступам. Тем не менее королевские строители, пользуясь тогдашними техническими средствами, сумели прорубить дорогу. И всякий, кто не страдает одышкой и головокружением, может получить немалое удовольствие, поднявшись по лестницам короля Кассапы.
Ныне Сигирия-выжны и туристический объект в "культурном треугольнике" Шри-Ланки. Я и пришел туда как турист, но с одним преимуществом: моим гидом был руководитель раскопок, ученый Сенаке Бандаванаяк, потомок "львиного народа". То, что он мне рассказывал, было историей его собственных предков. С удивлением я узнал, что и этот памятник тоже был заброшен и почти забыт, пока уже знакомый нам отважный исследователь Г. С. 11. Белл в 1894 году не приступил к расчистке леса и первым раскопкам.
Через остатки заложенного в V веке увеселительного сада с мраморными фонтанами и прудами, куда вода поступала по подземным водоводам, мы вышли к подножию Львиной скалы и начали подниматься по широкой лестнице между громадных живописных глыб. "Это уже не львиное логово, а орлиное гнездо", сказал я себе, когда просторная лестница сменилась диагональю крутых узких ступенек, прилепившихся в отвесной стене.
Высоко на склоне, где отвес над нашей головой сменился навесом, каменщики короля выложили удобную галерею. Узкий покатый пол был огражден с внешней стороны кирпичной стенкой, покрытой отполированной штукатуркой, которая за полторы тысячи лет не утратила прочности и зеркального блеска.
Вот где начиналось самое волнующее для человека, пересекшего три океана в погоне за длинноухими мореплавателями! Ибо здесь они явились его взору. В виде живописных изображений прекрасных женщин в половину натуральной величины. Благодаря тому, что навес и ограждение защищали фрески сверху и спереди, линии и краски остались такими чистыми, словно здесь потрудился наш современник. Что до изящества композиции и подбора красок, то современный художник мог бы многому поучиться у своего древнего коллеги. На оштукатуренной скальной стене естественного небоскреба короля Кассапы сохранился подлинный шедевр декоративного и портретного искусства.
Мужских портретов тут не было, только женские. Причем модели явно были выбраны за их редкостную красоту. Лишь цветные набедренные повязки покрывали полуобнаженные тела прелестниц, чьи пышные бюсты и узкие талии обеспечили бы им первое место на любом конкурсе секс-бомб. Неудивительно, что ограждающая стенка напротив фресок изобиловала позднейшими надписями, восхваляющими красоту молодых женщин. Сенаке перевел мне несколько сингальских надписей, большинство которых оставлено посетителями в период с VII по XI век. Один мужчина удивлялся, как это король Кассапа решился выставить напоказ своих дражайших подруг. И только одна зрительница той далекой поры написала критический отзыв: "Изображение юной женщины с глазами лани на горном склоне вызывает во мне возмущение. Она держит в руке ожерелье и всем своим видом бросает нам вызов".
Две юные красавицы держат в руке цветок лотоса, заставляя вспомнить египетские параллели, а второй рукой то ли расправляют, то ли обрывают лепестки. Другие несут большие букеты ярких цветов на подносах. Кожа у всех светлая, профили почти греческие, хотя разрез глаз скорее восточный. Судя по стройной осанке, грациозным изгибам тонких рук, длинным пальцам с узкими ногтями, драгоценным украшениям и пышным высоким прическам, перед нами представительницы знати. Об этом говорит и общая для всех них черта, пусть не очень привлекательная, зато такая, которая может служить элементом нашей мозаики. Все красавицы - длинноухие. Продырявленные мочки ушей сильно растянуты, и в отверстия вставлены большие диски, так что уши свисают почти до плеч.
Помимо изысканных ожерелий и браслетов, у каждой красавицы роскошный, весь в драгоценных камнях головной убор, напоминающий рафинированные моды майяской знати. Яркие самоцветы, такие, как красный агат и зеленый нефрит, в мастерски выполненной золотой оправе символизируют солнце и цветки лотоса.
Здесь, как и на Мальдивах, солярные знаки и лотос были излюбленными символами людей, удлинявших свои ушные мочки. А выше на скальной стене помешался лев - символ, настолько важный для короля, что по нему назвали не только всю его сказочную резиденцию, но и сам народ. И это на острове, где никогда не водились львы.
За галереей с прекрасными девами часть лестницы осыпалась, но по узкому современному железному мостику можно было пройти дальше к уцелевшим ступенькам, которые поднимались к широкой террасе.
Ступив на террасу, я замер. Ух ты! Куда ни повернись - потрясающие картины. Если стать спиной к скале, перед тобой открывается панорама редкостной красоты - на десятки километров простерлось зеленое море джунглей, омывая дикие горы, вздымающиеся островами над горизонтом. Повернись спиной к панораме-оказывается, ты стоишь между лапами такого огромного льва, что его голова и грудь, пока их не разрушила эрозия, наверно, были видны врагам и друзьям за много километров. Одни только пальцы лап этого исполина вдвое больше настоящего льва. Материалом для скульптур послужил кирпич, покрытый слоем известки, и детали выполнены так тщательно, что на лапах вплоть до огромных острых когтей воспроизведены шерстинки. Между лапами брала начало широкая лестница, продолжавшаяся внутри груди и головы скульптуры. После того как она рассыпалась, на оголившейся скале укрепили железные лесенки с перилами, чтобы наиболее отважные посетители могли подняться на вершину и обозреть развалины дворца и большой пруд.
Перед львиными лапами стояла обтянутая проволочной сеткой клетка, способная вместить несколько живых львов, хотя лапа их рукотворного собрата туда не влезла бы.
- Это еще зачем?- удивился я.
Сенаке указал пальцем наверх.
На скале над нами прилепились огромные гнезда горных ос.
- Иногда они нападают на экскурсантов, - объяснил Сенаке.- Клетка предназначена для людей, а не для ос. В ней можно живо укрыться, по лестнице так скоро не спустишься.
Я поблагодарил его за предупреждение, а он меня за то, что я не настаиваю на продолжении подъема до самой вершины. И заверил, что потеря невелика: единственное, что мы сможем там увидеть,-огромные известняковые блоки, поднятые наверх подданными короля Кассапы.
Перед тем как спускаться, я еще раз внимательно осмотрел передние лапы льва. Почему не допустить, что творцов этого исполина вдохновило лицезрение сфинкса в Египте? Известно ведь из римских источников II века, что египетские папирусные ладьи доходили до этого острова задолго до того, как Кассапа построил свою крепость. Однако я знал также, что Кассапа не нуждался в импульсах извне: он считал самого себя потомком льва.
Историю о происхождении короля Кассапы мне поведали вечером того же дня у подножия его скалы. Прежде чем я лег спать в своем номере в комфортабельном отеле "Сигирия вилледж", группа приветливых шри-ланкийских исследователей поделилась со мной тем, что они знали о "львином народе". На Шри-Ланке хранится множество письменных памятников, содержащих предания и исторические факты, записанные буддийскими монахами больше тысячи лет назад. Как и на Мальдивах, тексты собраны в книгах - когда из листовой меди, когда из пальмовых листьев в деревянных переплетах. Недавние раскопки позволили обнаружить ценнейшие книги из тонкого листового золота. Во всей Азии ни одна другая страна, кроме Китая, не располагает такими детальными летописями, охватывающими больше двух тысяч лет.
Согласно этим древним летописям, на Шри-Ланку в конце VI века н.э. вторглись арии из Камбейского залива, на северо-западе Индии. Эти мореплаватели называли себя сингалами, то есть "львиными людьми", потому что их предводитель, король Виджая, утверждал, что в его жилах течет львиная кровь. По преданию его венценосная бабка была замужем за священным львом. Не поладив с отцом, сыном льва, принц Виджая собрал 700 своих сторонников, и на двух кораблях они вышли в море. На борту находились целые семьи-мужчины, женщины и дети. Посетив сперва несколько других островов, они наконец достигли Шри-Ланки и основали свое первое поселение вблизи Путталама на западном побережье. Шри-ланкийский календарь ведет отсчет от года этой высадки. Наш 1982 год соответствовал их 2525 году (после прибытия Вид-жаи). Стало быть, "львиный народ" пришел на Шри-Ланку около 543 года до н. э., и лингвистические данные указывают, что он принадлежал к группе народов, которых принято называть ариями.
Но следует ли считать "львиных людей" первыми облтателями Шри-Ланки? Или еще до них кто-то сумел перебраться с континента на этот большой остров?
Мои сингальские собеседники говорили о растущем числе свидетельств того, что ко времени прибытия на Шри-Ланку "львиных людей" там уже существовала по меньшей мере одна цивилизация. До сих пор мало сделано для выяснения, что это был за народ. В буддийском периоде монахи, составлявшие шри-ланкийские летописи, изрядно потрудились, чтобы стереть память о древнейших жителях острова. О них писали как о трех классах "демонов" - якха, нага иракхаса,- поклонявшихся воде, огню и богу плодородия.
Идя в свой номер после беседы с сингалами, я говорил себе, что эти люди, как и мальдивцы, одержимые религиозной гордыней, желают предать забвению свою древнейшую историю. Однако в наши дни, когда современная наука распознает людей под личиной так называемых демонов, необходимо принимать в расчет этих последних, когда изучаешь происхождение мальдивцев. Кем бы ни были предки "демонов", рассуждал я, в роду их были корабелы, ведь, сколько существует человек, остров Шри-Ланка никогда не соединялся с континентом. Так что если доискиваться, кто из обитателей этого огромного острова доходил до Мальдивов раньше мусульман, нельзя ограничиваться одним лишь буддийским периодом. Те же "львиные люди" плавали по морям до того, как стали буддистами; эту веру они приняли уже в III веке до н. э., через три столетия после прибытия на Шри-Ланку. До той поры они, надо полагать, исповедовали веру предков, создателей цивилизации долины Инда, возможно несколько видоизмененную из-за контактов и породнения с уже жившими на острове якхами и их современниками.
Ну, а якхи - кто они?
"Якхи подлинные творцы гидротехнической цивилизации Шри-Ланки", ответил я сам себе, повторяя определение, которое внушал мне один местный исследователь. Придя несколько дней назад в гостиницу в Коломбо, он настойчиво уговаривал меня прочесть его труд.
"Какой-то чокнутый",- подумал я, увидя заголовок: "Древняя гидротехническая цивилизация Шри-Ланки". Никогда не слышал про гидротехнические цивилизации. Неолитические знаю. Даже мегалитические. Только не гидротехнические. Однако ученые, которые показывали мне внушительные плотины и другие сооружения "львиных людей", тоже называли их цивилизацию гидротехнической. Судя по всему, здесь этот термин был узаконен.
Лежа в постели, я видел в окно могучий черный цилиндр скалы Сигирия на фоне звезд над джунглями. Завороженный необычной атмосферой, я не мог уснуть и размышлял о том, как связать воедино нити древней истории Мальдивов и Шри-Ланки. Если якхи, как и "львиные люди", действительно существовали, их постигла та же судьба, что мальдивских рединов. Их образ постепенно тускнел в памяти последующих переселенцев, и в конце концов они оказались мифическими персонажами легенд. Если верно, что якхи оставили осязаемые археологические следы, то "демоны" буддийских летописей явно разделили участь "открытых" христианами американских индейцев: не все были истреблены завоевателями, но контакты и смешанные браки лишили их своего лица, их потомки и культура были ассимилированы и продолжали существовать как интегрированные части сложившегося затем сингальского общества. Общества, характерного для народа Шри-Ланки, и только для него. Буддисты повели себя на Шри-Ланке так же, как мусульмане на Мальдивах. Они совершенно недооценили значение прошлого собственной нации. Превознося основателей своих религий, те и другие пренебрегали культурными достижениями далеких предков и внушительной давностью своих исторических корней.
Я вытащил из чемодана публикацию, которую вручил мне исследователь в Коломбо, чтобы посмотреть, что у него говорится про якхов. На первой странице свежего оттиска было написано: "Посвящаю этот труд якхам, коим мы обязаны куда большим, чем полагали до сих пор". Автора звали А. Д. Н. Фернандо, он был членом редколлегии "Журнала Шри-Ланкийского отделения Королевского азиатского общества"
(Fernando (1982).). Может быть, он не такой уж чокнутый?.. Углубившись в чтение, я почувствовал, что статью писал серьезный ученый. Мой взгляд задержался на следующих строках:
"Согласно историческим документам, когда в VI веке до н. э. на Шри-Ланку прибыл основатель сингальской нации принц Виджая, здесь обитали три племени, называемые ракхаса, якха и нага. Сойдя на берег с палубы своего корабля, он увидел принцессу якхов, Кувени, которая сидела с прялкой у бассейна".
Автор цитирует великую летопись "Махавамса", важнейшую древнюю буддийскую книгу Шри-Ланки: "Махавамса" сообщает, что король Пандукабхая [правитель "львиных людей"] предоставил якхам видное место в обществе, и они вместе сидели на трибуне, наблюдая ежегодные народные праздники. Именно король Пандукабхая, поладив с якхами, сплотил страну в единое целое. Согласно "Махавамсе", притязания вождей якхов на земли их предков были удовлетворены. Якхи, несомненно, были заодно с 11андукабхаей; в свою очередь Пандукабхая был обязан якхам за то, что с юных лет пользовался их помощью, и за то, что они всецело поддержали его усилия по единению Шри-Ланки. Пользуясь технологией якхов, он разработал планы и осуществил строительство Анурадхапуры".
Таким образом, город - крепость Анурадхапура был построен совместно "львиным народом" и якхами в IV веке до н. э. До принятия "львиными людьми" буддизма оставалось еще целое столетие. Анурадхапура с ее величественными зданиями и гидротехническими сооружениями пребывала столицей и культурным центром Шри-Ланки от дней основания и на все время правления 113 сингальских королей, то есть вплоть до XIII века н. э. Однако старший партнер в строительстве города - якхи постепенно были забыты и, когда сингалы приняли буддизм, превратились в народной памяти в "демонов".
Я читал статью Фернандо с растущим почтением к автору. Передо мной был храбрый шри-ланкийский исследователь, не побоявшийся приподнять религиозные покровы, которые со времен средневековья окутывали великое прошлое страны. Фернандо смело писал: "Не следует забывать, что великая летопись "Махавамса" в своей основе буддийская и для буддистов то же, что Библия для христиан. Местами текст призван создать впечатление, что все началось с буддийской эры, точно так же как христиане склонны считать, будто все началось с явлением богоизбранного народа".
Далее Фернандо выявляет в "Махавамсе" свидетельства высокого уровня культуры якхов. Говоря об их искусстве в обработке металлов, он упоминает храм с "золотыми изображениями четырех великих королей, 32 дев, 28 вождей якхов, богов - дева, пляшущих богинь с музыкальными инструментами, богов с зеркалами и множества других богов с цветами, лотосом, мечами и кувшинами...".
Якхи занимались градостроительством и до того, как помогли "львиным людям" построить их общую столицу Анурадхапуру. Согласно летописи, до прибытия "львиных людей" древней столицей Шри-Ланки была Ланкапура. "Пура" означает "город", "ланка" на санскрите и пали, древних языках индийского субконтинента, "блистательный". Летопись сообщает также, что жители Ланки предавались увеселениям и празднествам по случаю свадьбы принцессы якхов в королевском дворце, когда на город напал Виджая со своими воинами. Завоевав столицу, Виджая основал пять поселений. Скорее всего, некоторые из них уже существовали, ибо вряд ли для размещения его семисот воинов требовалось столько поселений. Исследования Фернандо показывают, что якхи жили отнюдь не в пещерах и шалашах:
"Посетив древнюю крепость якхов Ариттха (ныне Ритигала), мы увидим большие, тщательно обтесанные прямоугольные монолиты величиной примерно 5,5 х 1,8 х х 0,45 м, оформленные в виде столешниц и размещенные как бы в зале собраний, без каких-либо остатков буддийских ритуалов. Наличие многочисленных "асанагхар" с огромными монолитами, преобладание технологии якхов в гидротехнических сооружениях IV века до н. э. - все это говорит о высоком уровне мегалитической культуры якхов в добуддийском периоде".
В ходе воздушной рекогносцировки в 1979 году Фернандо открыл датируемый VI веком до н. э. шри-ланкийский город Виджитхапура площадью 100 гектаров. Но самое важное открытие якхских памятников он сделал спустя два года. В это время шри-ланкийские инженеры осуществляли обширный гидротехнический проект, предполагавший перекрытие одной долины плотиной и создание водохранилища многокилометровой длины. Когда бульдозеры принялись расчищать участок под основание дамбы, их отвалы наткнулись на засыпанные землей кирпичи, и, к всеобщему удивлению, выяснилось, что некогда древние строители на том же месте соорудили свою плотину.
Обнаружив мощную кирпичную кладку, Фернандо известил власти, и были организованы раскопки под наблюдением Археологической службы Шри-Ланки. Прочитав его публикацию, я отправился в Мадуру-Оя, чтобы лично осмотреть этот памятник. Он произвел на меня сильнейшее впечатление. Мало того что я и впрямь увидел образец строительных работ, которые производились задолго до того, как составляли свои летописи буддийские монахи, масштабы сооружения поразили бы любого из египетских фараонов. Такой размах вполне оправдывал употребление термина "гидротехническая культура". Впрочем, учитывая огромные размеры камней, с таким же основанием можно называть эту культуру мегалитической. Упирать ли на гидротехническую сторону или на мастерскую работу с камнем - в обоих случаях не достигается полное представление о технологических достижениях этих людей. За неимением подходящей научной дефиниции, я посчитал бы подходящим слово "мегакультура". Причем это определение годится для многих из тех колоссов древней цивилизации, чьи следы остались на реках и в приморьях Северной Африки, Западной и Восточной Азии.
Прежде всего мое внимание привлекли блоки в стенах двойного водоспуска, который пронизывал кирпичную кладку некогда перегородившей долину гигантской дамбы. Выходные отверстия параллельных тоннелей были обложены тремя поставленными на попа огромными камнями, накрытыми сверху тесаным гранитным монолитом весом больше 15 тонн. Размеры выложенных мегалитическими блоками, квадратных тоннелей позволяли ходить по ним, пригнувшись. Чтобы умерить давление сверху, массивной кладке над каждым тоннелем придали форму арки - древний прием, который, как подчеркивает Фернандо, был известен строителям от стран Ближнего Востока до доколумбовой Америки. Как и для многих других древних плотин "львиных людей" или их предшественников в Шри-Ланке, труднее всего было решить проблему спуска воды из искусственных озер, достигавших в длину 10 и больше километров. Требовалось в периоды разлива и засухи управлять миллионами тонн воды, чтобы через многокилометровые каналы орошать засушливые земли. Чудовищный напор регулировался устройством, которое Фернандо называет ключом успеха якхов:
"Таким ключом был шлюз с затвором - замечательное изобретение, сделавшее возможным развитие гидротехнической цивилизации в нашей стране. В Шри-Ланке это новшество, всецело местного происхождения, называется бисокотува".
Бисокотува - вертикальная шахта квадратного сечения в теле плотины, с поднимающимся и опускающимся деревянным затвором, разделяющим тоннель на две части. Шахта открытой Фернандо плотины была выложена из соединенного смолой широкого плоского кирпича и облицована внутри гладкими гранитными плитами. Снаружи кирпичная кладка были обмазана водонепроницаемой смесью глины с песком. Описывая сложную систему двойного водоспуска, Фернандо замечает:
"Площадь сечения тоннеля на входе меньше сечения на выходе, как того требует хорошо известный гидротехнический принцип при конструировании шлюзов. Другими словами, древние инженеры отлично знали научные и технологические принципы такого строительства".
Во время раскопок часть шахты обрушилась, и обнажился прекрасно исполненный терракотовый рельеф длиной примерно полтора и шириной один метр. Судя по его расположению внутри шлюза, он не предназначался для обозрения. Мотив рельефа - пять пляшущих богинь-дева - отображал какой-то якхский культ. "Казалось, пляшущие богини приветствуют поток, устремлявшийся мимо них на волю, чтобы оросить рисовые поля внизу". По бокам танцующих богинь были вырезаны цилиндрические колонны классической формы на квадратных цоколях. Фернандо усматривал сходство с анималистическими рельефами на вавилонских стенах VII века до н. э., однако шри-ланкийские рельефы "выполнены на плотно уложенных кирпичах, соединенных смолой. Человеческие фигурки превосходны. Они не покрыты ни известкой, ни глазурью; похоже, что искусный мастер вырубил и отделал их прямо на кладке".
Фернандо предполагает, что рельеф послужил для какого-то ритуала до того, как его замуровали в шлюзе, ибо фигуры слегка повреждены каким-то тупым инструментом, однако без намерения совсем их.уничтожить. По обе стороны шахты были найдены еще две плитки с терракотовыми скульптурами, поменьше размером, но также оформленные с большим искусством. Эти рельефы изображают головы божеств якхского культа. Круглое лицо и демонические черты напоминают добуддийских демонов на Мальдивах, и сходство усиливается тем, что у якхских демонов удлиненные мочки ушей с большими затычками.
Тот факт, что письменные источники ничего не говорят об этом сооружении, плюс полное отсутствие в раскопе каких-либо буддийских предметов, сам характер дамбы и конкретные свидетельства ритуалов в шлюзе и вне его позволяют датировать плотину добуддийским периодом. Остается заключить, что якхи обладали высокой цивилизацией и развитой технологией.
Читатель помнит, что древнейшие известные примеры удлинения мочек прослеживаются у мореплавателей из Лотхала, главного порта Мохенджо-Даро в Камбейском заливе, на северо-западе Индии. И выходит, что якхи, подобно сменившим их "львиным людям", входили в великую семью культур, которые в том или ином виде испытали плодотворное влияние цивилизации долины Инда.
Возникает естественный вопрос: сколь велико было этническое и культурное различие между "львиными людьми" и якхами, которые предшествовали им и так легко были ими ассимилированы? Может быть, те и другие принадлежали, по сути, к одной индоарийской группе народов, поочередно мигрировавших на юг вдоль западного побережья Индии?
Почему-то мне стало казаться, что ответ на этот вопрос важен и для решения мальдивской загадки.
Присоединясь к потоку туристов, я вступил на территорию внушительного храмового комплекса, где якхи и "львиные люди" построили свою первую общую столицу - Анурадхапуру. Над лесом возвышались огромные купола, одни - сверкающие на солнце белой штукатуркой, другие - обросшие зеленью, напоминая травянистые холмы. Этот сказочный мир не зря привлекал туристов со всего мира. Правда, сейчас подавляющее большинство составляли шриланкийцы, и мне объяснили, что приток иностранных гостей временно сократился из-за столкновений между сингалами и тамилами. Население Шри-Ланки на 74 процента состоит из сингалов, в основном буддистов, и на 18 процентов - из тамилов, преимущественно индуистов. Остальные 8 процентов - мусульмане и христиане, однако на моих глазах представители разных этнических групп мирно шествовали по каменным лестницам древних буддийских святынь. Все одинаково восхищались невообразимыми масштабами сооружений, воздвигнутых человеком в далеком прошлом, когда зодчие и строители располагали только мускульной силой слонов и людей. Перед нами возвышались хорошо сохранившиеся ступы, они же дагабы; воздвигнутые в первых веках новой эры, они превосходили высотой любые современные им сооружения Римской империи. Каждая ступа представляла собой компактную кирпичную конструкцию с математически точно выдержанной куполовидной формой, внутри помещались всего лишь несколько буддийских реликвий.
Самая большая ступа, Джетаванадагаба, была построена в III веке. Ее высота достигала почти 120 метров; тогда во всем мире только две величайшие египетские пирамиды были еще выше.
Мне повезло: в Анурадхапуру меня привел сам Роланд Сильва, архитектор и археолог, на которого возложена главная ответственность за раскопки и реконструкцию во всем "культурном треугольнике" Шри-Ланки. Мы подружились уже в первый день нашего знакомства в доме Бьёрна, когда обсуждали планы моей поездки на Мальдивы. С таким гидом древняя столица словно оживала перед моим взором: стены поднимались из руин и обретали крышу, живописные толпы заполняли улицы и лестницы святынь. Сильва обратил мое внимание на группу девушек в цветастых платьях; примерно так же одевались их сестры в древности. Женщины носили сари, мужчины - набедренные повязки дхоти... Пятнадцать веков назад эта столица была в мире не из последних. "Махавамса" сообщает, что Анурадхапура, помимо своих огромных святынь, включала четыре предместья, большие монастыри, бани, общественное кладбище. На службе короля было пятьсот метельщиков улиц и двести чистильщиков канализации. Я вынужден был согласиться с моим ученым гидом, когда он как высшее проявление эстетического чувства той поры показал мне уборную, где мраморный пол представлял собой образец рельефной скульптуры, окружающей две аккуратные ступеньки над сточной трубой.
Водоснабжение города было обеспечено его якхскими и сингальскими основателями, которые осушили заболоченный район и при помощи плотины создали искусственное озеро, откуда вода по глиняным трубам и открытым каналам поступала в городские водоводы и на окружающие поля. Для своих ритуалов и для удовольствия монахи даже построили плавательный бассейн, превосходящий размерами наши олимпийские.
Как и во многих других древнейших городах, современный посетитель невольно ощущает единство человечества во времени и в пространстве. Что ни говори, в том, что составляет основы нашей жизни, последнее тысячелетие технического прогресса сильно изменило материальный мир, но куда меньше повлияло на чувства, которые будит в нашей душе повседневное окружение. Длинноухие "львиные люди" Шри-Ланки, знать и священнослужители, ученые и писцы, зодчие и врачи, крестьяне, горняки и моряки, горшечники, ткачи и живописцы, плотники, кузнецы и ювелиры - все они были здесь, в городе, и за его стенами со своим трудом, своими потребностями и страстями, мечтами о здоровье, богатстве и безопасности, чего тогда, как и теперь, многим недоставало.
- И в наше время не смогли достичь такого уровня строительного искусства,-заметил Роланд Сильва, когда мы поднимались по ступеням на платформу, служащую опорой громадной ступы.- Это сооружение высотой около 120 метров построено 2200 лет назад. Мы же со всей нашей современной техникой с трудом переваливаем за 60 метров. Самый высокий дом в Коломбо сейчас - семидесятиметровое здание банка.
Обходя по кругу белую полусферу, все смотрели вверх, на гигантский яйцевидный купол с шпилем на макушке. Один я вместо этого опустил глаза вниз, всматриваясь в большие плиты, которыми была вымощена платформа. Они казались мне неоднородными по материалу, да и по форме не очень-то подходили друг к другу. Внезапно я увидел плиту, чей облик заставил меня остановиться и подозвать Сильву. Под ногами у нас был древний камень с обрамляющими диск, отчетливо видимыми концентрическими кольцами - рельефным солярным символом. Сильва не мог объяснить мне, почему на этом камне есть декор, а на соседних нет.
Рыская по платформе, я вскоре обнаружил еще плиты с таким же мотивом. В одном месте сразу несколько экземпляров лежали среди камней, которые явно не сочетались с ними.
- Эти плиты взяты откуда-то,- сказал я.
Сильва согласился. Было очевидно, что они предназначались не для мощения. И я узнал мотив. Казалось, плиты были заимствованы из кладки большой хавитты на Гааф - Гане. Нигде в стенах этой ступы и прочих осмотренных нами на Шри-Ланке древних руин не было таких "солярных камней". В своих экскурсиях я непрестанно высматривал параллели виденному на Мальдивах. И вот наконец увидел.
- Эти плиты взяты откуда-то, повторил я озадаченному Сильве.- Взяты из более древнего храма теми, кто строил буддийскую ступу.
Сильва подозвал одного из своих коллег. Как и он, тот прежде не присматривался к этим плитам. Вне всякого сомнения, они были заимствованы из какого-то другого сооружения. До сих пор никто не искал в этом районе добуддийских памятников, хотя они должны были существовать, ведь Анурадхапуру основали до распространения буддизма на Шри-Ланке. Никто не знал, где стояли храмы основавших столицу якхов и "львиных людей". В путеводителе значилось только, что на месте, где воздвигли первую ступу, раньше находилось добуддийское святилище, именовавшееся "Дом больших жертвоприношений".
Камни в кладке самой ступы были скрыты от обозрения толстым слоем ослепительно белой известки. ЮНЕСКО выделила 100 миллионов рупий на укрепление и ремонт этого колоссального сооружения. Быть может, впоследствии найдутся средства и на поиски остатков более древнего, добуддийского храма. Возможно, их обнаружат где-то рядом. А может быть, все они использованы как внутренний заполнитель компактной конструкции ступ; эта мысль пришла мне в голову уже после того, как мы обнаружили, что преобразованную хавитту на Гааф - Гане тоже кто-то покрыл белой известкой, под которой скрывались древние солярные камни. А фигурки львов и вовсе были брошены в насыпь под облицовкой.
Но во время этого посещения Шри-Ланки ни мы, ни кто-либо иной не подозревали, что внутри мальдивской хавитты лежат три маленьких льва. А потому я не усмотрел связи с Мальдивами, когда на платформе большой ступы в Анурадхапуре увидел целую стаю каменных львов. Они лежали под открытым небом вместе с другими скульптурами и строительными блоками, и я назвал бы это скорее складом, чем экспозицией. Рядом с гладкой ступой фигурные камни смотрелись как нечто чужеродное. Тут были и целые скульптуры, и отдельные головы, и рельефы. На груди одного льва был высечен солярный символ в виде концентрических кругов, у других такой же знак украшал локтевой сустав или поднятую лапу. На одном рельефе солярный знак поместился внутри завитка, образованного львиным хвостом. И все эти изделия совершенно не вписывались в контекст осматриваемого нами памятника. Кто их создал: буддисты или "львиные люди" добуддийской эпохи?
- Не забывайте, что Будду звали Шакьямуни,- заметил Сильва,- а это родовое имя в преданиях связано с образами льва и солнца, гак что солярные символы могли быть буддийскими.
Я помнил об этом. Сильва показывал мне огромную скульптуру спящего Будды в Полоннаруве, не так уж далеко от Анурадхапуры. Голова длинноухого каменного исполина покоится на подушке, декорированной изображениями львов, а подошвы его ног украшены концентрическими кольцами солярных знаков. Поскольку льва и солнце почитали основателями династии индуистских правителей, к которой принадлежал Будда, они значились и его легендарными предками.
Все это осложнило в дальнейшем наши поиски ответа на мальдивскую загадку. Кто из выполнявших миссионерские функции потомков льва и солнца был буддистом, а кто индуистом? Где кончается одна нить и начинается другая? Куда бы я ни повернулся в поисках выхода из таинственного лабиринта, всюду мне встречались в тесном единении лев и солнце, лотос и длинноухие. Их следы словно образовали замкнутый круг - или этакий гордиев узел, где никак не нащупать нить, к которой можно было бы привязать домусульманскую эпоху Мальдивов.
Глава XII. В поисках следов
Путь Буддьг от индусской колыбели
В промежутках между напряженными полевыми исследованиями на Мальдивах наш маленький отряд странствующих детективов рассредоточивался, знакомясь с памятниками буддистов, индуистов и древних солнцепоклонников в Индии, Пакистане, Тибете, Таиланде, Бирме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Итак становилось очевидным, что в заманчивой гипотезе, приписывающей всякую домусульманскую деятельность на Мальдивах буддистам с Шри-Ланки, много прорех. Сами мальдивцы никогда не причисляли соседей с этого большого острова к своим дальним предкам. Но еще сильнее убеждало то, что в подробных шри-ланкийских летописях совершенно не упоминаются Мальдивы. А ведь в них говорится о всех сколько-нибудь важных для страны событиях с той норы, как буддийские монахи принесли на Шри-Ланку свое вероучение. Если бы шриланкийцы знали о мальдивских хавиттах или были как-то связаны с тамошними правителями и священнослужителями, уж наверно, это должно было отразиться в богатой сингальской литературе.
Несмотря на то что буддийские летописцы умалчивают о Мальдивах, тамошние хавитты под конец были превращены в оштукатуренные ступы. И на Мальдивах найдены каменные и бронзовые скульптуры Будды.
Не нащупав подходящей нити, я ухватился за приметный узелок в ряду потомков льва. Этим узелком был сам Будда. Хотя известные версии о происхождении Будды носят мифический и символический характер, он, подобно основателям христианства и ислама, отнюдь не сказочный персонаж. История Будды так или иначе соотносится с мальдивской загадкой.
Будда родился в Непале или Северной Индии около 563 года до н. э.; его отцом был индусский король из рода Шакьямуни. В детстве Будда носил имя Сиддхартха. Рос он в роскоши и неге; как индусский принц, подвергся в соответствии с давней традицией ритуалу продырявливания и удлинения ушных мочек. Будда был женат и сам уже стал отцом, когда, проникшись состраданием к мытарствам людей, покинул двор и повел образ жизни, характеризуемый самоотречением и медитацией. Но затем одно событие вновь изменило его бытие. Однажды, когда он, как простой странник, сидел под большим деревом бодхи, на него снизошло "просветление" и он постиг дхарму - "конечную истину". Стремясь делиться этой истиной с людьми, он до конца жизни странствовал по свету со своими последователями. Кормясь подаяниями, они проповедовали учение о реинкарнации и о восьмиступенчатом пути к "высшему просветлению". Мораль секты на первое место ставила честность, скромность, правильный образ жизни и медитацию. Скончался Будда в 483 году до н. э. В представлении последователей, назвавших его "Священным Буддой", он удалился в Нирвану; они же продолжали странствовать по суше и морю, распространяя новое учение бывшего индусского принца.
В IV веке шри-ланкийские монахи записали, будто сам Будда или кто-то из его последователей трижды посещал Шри-Ланку, когда он еще был жив, то есть за сотни лет до того, как сингалы были обращены в буддийскую веру.
Но как учение Будды достигло Мальдивов? Ответ на этот вопрос следует искать в связи с древними международными коммуникациями на Индийском субконтиненте и вокруг него. Обзор важнейших культурных течений на материке являет нам различные возможности.
Жители долины Инда около 3000 года до н. э. были свидетелями становления великой местной цивилизации. Примерно в то же время, с разницей плюс-минус 100 лет, сложились в поречьях и две другие древние цивилизации, Месопотамская и Египетская. Все три могли тогда общаться друг с другом при помощи ладей, связанных из рогоза или папируса. И все они вышли на историческую сцену стремительно, притом сразу в развитой форме. Если верить древнейшим индусским источникам, в других местах на нашей планете существовали еще более древние цивилизации. Но пока мы не располагаем иными археологическими данными, будем исходить из того, что человек приобщился к цивилизации внезапно 5000 лет назад, когда начал строить такие города, как Амри, Кот - Диджи, Мохенджо - Даро и Хараппа в долине Инда. Тогда же он стал мореплавателем, строил порты по берегам рек и Индийского океана. Больше 1000 лет цивилизация долины Инда расширяла свою сферу и под конец занимала огромную территорию; при этом ее торговые пути простирались по морю как на юг, так и на запад, в страны на берегах Персидского залива. Затем эта великая цивилизация рухнула так же неожиданно, как и возникла. Примерно с 1500 года до н. э. древнейшие города и порты в долине Инда были заброшены.
Долго, слишком долго нам говорили, что цивилизация долины Инда исчезла бесследно. Это неверно. Цивилизация, которая больше тысячи лет господствует в обширных областях континента, не может исчезнуть, не оказав влияния на сопредельные страны. Сегодня это подтверждено. Все яснее становится, что, когда в середине II тысячелетия до н. э. пришел конец Индской цивилизации, ее сменили другие местные культуры, получившие свое, самобытное развитие. В этот новый период складывается традиционное индуистское общество. Там, где сближаются верховья Инда и Ганга, в плодородных долинах между двумя священными реками, возникает, переняв часть культурного наследия, новая городская цивилизация. Именно с ней связан королевский род Шакьямуни. Ссылаясь на предания предков, его представители утверждали, что происходят от льва и солнца. В VI веке до н. э. род Шакьямуни пополнился принцем Сиддхартхой, ставшим впоследствии Буддой. Соблазнительно воспользоваться буддийской терминологией и назвать окружавшую его культурную среду "реинкарнацией" пропавшей Индской цивилизации. Во всяком случае, налицо отчетливая географическая и хронологическая связь, которой не следует пренебрегать.
Остается большой разрыв между культурной средой Будды у подножия Гималаев и загадочным присутствием буддийских статуй на Мальдивах. Но древний человек путешествовал. В VI веке до н. э. Александр Великий прошел от Греции до Инда, откуда послал свое войско по морю назад в Месопотамию, не оставив прочных следов в индийской культуре. Вскоре после этого один индийский полководец, король Чандра - гупта (родился приблизительно в 320, умер в 296 году до н. э.), основал империю Маурьев, захватив большую часть Индийского субконтинента. Обратясь к эпохе его внука, Ашоки, мы вновь подходим к истории Будды, узловому пункту нашей загадки.
Царь Ашока занял трон в 270 году до н.э.; его империя простирались от Афганистана до Бангладеш, от Майсура на юге Индии до Гималаев. Во время своего правления он завоевал Калингу на восточном побережье Индии; эта страна была важным торговым партнером добуддийской Шри-Ланки. Согласно шри-ланкийским летописям, в кровавой битве было убито 100 тысяч человек и еще больше погибло от ран. Потрясенный ужасами, в которых он был повинен, победивший венценосец принял буддизм. С той поры жизнь царя Ашоки была посвящена распространению учения Будды. Его сын Махинда, став монахом, обращал в буддийскую веру жителей Юго-Восточной Индии. Около 250 года до н. э. странствия Махинды привели его на Шри-Ланку. Он высадился в Михинтале, в 15 километрах к востоку от Анура-дхапуры, где в это время правил король Тисса из племени "львиных людей". Страшась могущественного правителя на континенте, король Тисса пожелал принять буддийскую веру. Однако летопись сообщает, что посетивший его монах не собирался обращать в свою веру кого попало, а потому подверг Тиссу испытанию.
- Как называется это дерево, король?
- Это дерево манго.
т Кроме него, есть другие деревья манго?
- Да, есть еще много деревьев манго.
- Есть ли другие деревья, кроме этого и других деревьев манго?
- Другие деревья есть, но это уже не манго.
- Кроме других деревьев манго и совсем других деревьев есть еще какие-нибудь деревья?
Король ответил правильно на последний вопрос, и монах обратил его в буддийскую веру. Ответ короля гласил:
- Да, есть - это дерево манго.
Неизвестно, побывал ли сам Будда на Шри-Ланке, но островитяне верят, что он оставил там свои следы. И не только он, но и Адам, и индуистский бог Шива. Индуисты, затем буддисты, после них мусульмане (которые, как и иудеи и христиане, считают Адама своим прародителем) привязывали эти следы к своим вероучениям. Молва о них достигла даже Мальдивов. Ибн Баттута, между 1343 и 1346 годами дважды побывавший в Мальдивском султанате, рассказывает о двух мусульманских факирах, которые возвратились на архипелаг, "посетив Стопу Адама на острове Серендиб" (Шри-Аанка). Позднее Ибн Баттута сам отправился на Шри-Ланку, чтобы увидеть эту "стопу"
(Gray (1888, p. 454-457).).
Но древним богомольцам явно было мало естественных углублений в камне, напоминающих большие и маленькие следы, и они стали сами воспроизводить священные отпечатки ног, чтобы их можно было поместить в храме. Идя по таким следам, я обнаружил, что еще древнее и более широко распространены они у индуистов Южной Индии. Можно было подумать, что нога ступила на крохотный скалистый островок Шри-Пада у южной оконечности Индии, готовясь совершить прыжок на Шри-Ланку. На Шри-Паде индуисты построили храм около коричневатого, почти овального углубления в скале. По индуистским преданиям, след оставила богиня Парвати, которая здесь пыталась завоевать сердце бога Шивы. С разных концов Индии на этот клочок суши приезжали богомольцы, чтобы почтительно созерцать отпечаток ее ноги.
На битком набитом катере я прибыл с материка на Шри-Паду. На каменистом берегу обсыхали рыбацкие плоты с изогнутым кверху носом-совсем как в мальдивских лагунах. Я недоумевал, почему богиня, домогаясь любви Шивы, должна была с материка шагать на скалистый остров у его южной оконечности? Может быть, верховный бог индуистской мифологии пришел с моря?
Но изо всех этих индуистских и буддийских следов наиболее отчетливо указывали на Мальдивы два больших красивых отпечатка на каменной плите, обнаруженной в Шри-Ланке. Плита висела в вестибюле Национального музея Шри-Ланки, одного из старейших и самых больших музеев Азии. Ее нашли у Кантарадаи, неподалеку от Джафны, в северной оконечности грушевидного острова. Другими словами, предельно далеко от Мальдивов и предельно близко к материку. Тем не менее связь с Мальдивами явственно просматривалась. Ибо на этой плите изображены почти все те причудливые знаки, которые мы приняли за иероглифы, когда увидели их на обломках известняка в музее на Мале. Здесь, в шри-ланкийском музее, плита была целая и занимала почетное место в экспозиции. На Мальдивах разрозненные фрагменты лежали в чулане за дверью вместе с индуистскими и буддийскими скульптурами.
Символы были те же: рыболовный крючок, раковина, рыба, кувшин, даже солнечное колесо и кант с мотивами лотоса и свастиками. Правда, здесь рисунки были беспорядочно разбросаны по плите, тогда как на мальдивских фрагментах они стояли в ряд, словно знаки письменности. Но и в том и в другом случае было очевидно, что перед нами символы, а не просто декор.
На шри-ланкийском образце они словно бы призваны увеличить магическую силу изящно вырезанных отпечатков двух больших ступней.
- Двойная падука,- объяснила директриса музея.- Отпечатки стоп Будды.
На мальдивских образцах было трудно обнаружить какие-либо отпечатки ног, пока Лутфи не помог нам найти на Ваду недостающие фрагменты. Когда же все обломки сложили вместе, выявились контуры двух больших отпечатков. В куче мусора на том же острове мы откопали обломок известняка с вырезанным следом без какого-либо декора и без символов.
Все ли эти отпечатки были призваны изображать следы Будды? Очень может быть. Но не обязательно. На Мальдивах обнаружены также индуистские скульптуры. Да и шри-ланкийская плита найдена в северной оконечности острова, где преобладает тамильское население. Тамилы по сей день остаются индуистами. И в истории Шри-Ланки был период тамильского правления. После того как король Тисса около 250 года до н. э. принял буддийскую веру, его потомки лишились власти. Официальный путеводитель по бывшей столице Анурадхапуре лишь вскользь упоминает это неохотно признаваемое буддистами междуцарствие:
"После короля Тиссы переходим сразу к правлению Элары. Подобно тому как четырьмя веками раньше на Шри-Ланку прибыли сингалы, теперь произошло новое вторжение из Индии, приведшее на трон тамильских королей".
Так вот, тамильские короли правили Шри-Ланкой до 161 года до н. э., когда к власти снова пришли сингалы. Надо думать, тамилы были индуистами, судя по тому, что их потомки исповедуют эту веру. Плита в Национальном музее не поддается точной датировке. Ясно лишь, что ее украсили резьбой до того, как в Шри-Ланке появились буддийские статуи: стало быть, она относится к весьма древнему периоду.
К тому же есть письменные источники, из коих следует, что древние сингалы уже застали на Шри-Ланке священные отпечатки ног. Когда король Гаджабаху, правивший с 114 по 136 год н. э., повелел строить 115-метровую ступу Абхаягири, ее воздвигли поверх отпечатка стопы, приписывавшегося Будде. И Фа Хьен, посетивший шри-ланкийскую столицу в V веке, предположил: "Будда прибыл в эту страну и, обладая сверхъестественными силами, ступил одной ногой на землю в северной части королевской столицы, другой - на вершину горы..." След на вершине горы тот самый, который мусульманин Ибн Баттута впоследствии приписал Адаму, тогда как индуисты утверждали, что отпечаток оставлен Шивой.
Так кто же резчик найденных теперь плит с диковинными знаками на отпечатках ног? Или - если их не изготовили на месте находки - кто доставил их в такие удаленные друг от друга районы, как северная оконечность Шри-Ланки и берега Экваториального прохода в Мальдивском архипелаге? Реакция на наши находки неизвестных ранее ритуальных отпечатков на Мальдивах говорит за то, чтобы право ответить на эти вопросы предоставить другим, ибо здесь затронуты мусульманские, сингальские и тамильские интересы, не говоря уже о тех христианских ученых, кои болезненно воспринимают любые толки о доколумбовых океанских плаваниях. Ограничимся пока указанием, что на этот раз доевропейские, больше того, доисламские мореплаватели в буквальном смысле слова оставили свои следы на камне. Следы, расписанные знаками и символами, тождество которых никто не отважится объяснить случайным совпадением, сходством климатических условий или идентичной психологией людей.
Если взять каждый символ отдельно, то они могли быть придуманы независимо друг от друга: солнечное колесо, свастика, мотив лотоса, рыба, рыболовный крючок, раковина, кувшин и т. д. Когда же они вырезаны вместе поверх изображения стопы, о совпадении говорить не приходится. На мальдивской плите знаки аккуратно выстроены в ряд, как при письме; только солнечное колесо, лепестки лотоса и свастики играют роль символического декора. На шри-ланкийском образце знаки размешены беспорядочно, без какого-либо намека на письменность, и символы носят лишь магико - религиозный характер. В ту пору, когда изготовлялись эти плиты, на Шри-Ланке и на Мальдивах уже существовала развитая форма фонетического письма. Почему же резчики не использовали его буквы, чтобы запечатлеть послание или священную формулу?
Символы на плитках, несомненно, были пережитком некой протописьменности или пиктограмм, понятных для посвященного. Пытаясь все же выяснить, кто их вырезал - буддисты или индуисты,- я обращался к представителям обеих религий. Те и другие связывали символы со своими вероучениями. Но тогда буддисты должны были унаследовать их от индуистов. Ибо Будда был индуистским реформатором, сохранившим многие из традиций, на которых он был воспитан. Точно так же, как христиане и за ними мусульмане не отвергли всецело иудейский Ветхий завет.
Тот факт, что буддисты многое восприняли от индуистов, открылся мне, когда я решил выяснить, в чем различие отпечатков ног на двух плитах.
Шри-ланкийским буддистам солнечное колесо представлялось знаком Будды, символизирующим его мифическое происхождение от солнца. Однако в музее города Тривандрам на юге Индии мне показали бронзовую статую индуистского бога Вишну. Длинноухий, как и Будда, с выгравированным на спине солнечным диском, он держал в одной руке солнечное колесо со спицами - точно такое же, как на шри-ланкийской и мальдивской плитах.
- Солнечное колесо мы называем чакра,- объяснил хранитель музея.- Это широко распространенный символ в нашей индуистской религии.
Рядом с бронзовой скульптурой стояла такой же величины деревянная, тоже изображающая Вишну, украшенная солнечными символами и с большим солнцем над головой. В левой руке бог держал раковину.
- Раковина - символ Вишну,- сказал хранитель.- Мы называем ее шапка. Все боги происходят от солнца, но шанка - личный символ бога Вишну.
К нам подошли другие посетители, желая узнать, почему меня так интересуют индуистские символы. Я достал фотографию куска мальдивской плиты и показал им изображения солнечного колеса и раковины. Один из них обратил внимание на сосуд с тремя стрелами.
- Это пурна гхата, что означает "полный сосуд",- сообщил он.
- Сосуд изобилия,- пояснил другой.
Эти люди не были учеными. Но то, о чем шла речь, для них не было наукой, они говорили о своей религии.
- А два рыболовных крючка?- спросил я.
Тут только один рыболовный крючок. А второй предмет-шест с шипом, которым боги улавливают человеческие души.
- А рыба?
- Это символ шиваистских богинь.
Один за другим получили свое истолкование все знаки. Все, кроме одного. Они заколебались, когда дошла очередь до знака, похожего на песочные часы или сужающийся к середине кубок. Однако тут хранитель музея привлек наше внимание к бронзовому танцовщику в огненном кольце. В одной руке танцовщик держал как раз такой предмет. Фигура была индуистская, но смысл символа присутствующим был не ясен.
- А свастики вокруг знаков?
- Индуистские. Здесь, на юге, их редко увидишь, зато в Северной Индии они широко распространены.
Но уж это, наверно, буддийские знаки? - указал я на вереницу лепестков лотоса, проверяя их.
- А переняли они эти знаки у нас,- рассмеялись окружающие и обратили мое внимание на то, что я и сам уже приметил: в музее были выставлены фигуры богов, восседающих на тронах с декором в виде лепестков лотоса, хватало и плит с тем же мотивом.
Некоторые боги при реинкарнации родились из цветка лотоса.
О чем еще спросить? Образец отпечатков ног я уже видел в одном индуистском храме. Среди пруда, на мифическом змеином плоту, лежала большая скульптура бога Вишну, в руке он держал солнечное колесо чакра. А на пьедестале возле пруда помешалась плита с отпечатками его стоп, и богомольные посетители благоговейно созерцали ее.
С ногами все вроде бы было ясно, и я достал фотографии многоголовых каменных демонов, раскопанных на месте жертвоприношения девственниц в Мале. Мои добровольные консультанты не могли сказать ничего определенного, хотя все они были уверены, что уже видели нечто подобное. Действительно, нечто подобное экспонировалось в том самом музее, где мы сейчас находились. Многие деревянные скульптуры, вырезанные мастерами древнего государства Чала в этой части Юго-Западной Индии, изображали демонических богов с высунутым языком, длинными кошачьими клыками, выпученными глазами и круглыми дисками в отверстиях удлиненных мочек ушей. Сходство явное, но это еще не тождество. То же можно сказать об индонезийских деревянных масках и традиционных добуддийских плясовых масках, которые до сих пор тиражируют для продажи туристам на юге Шри-Ланки.
Тем временем один из посетителей указал пальцем на знак, вырезанный на мальдивской каменной скульптуре. Речь шла о весьма древнем, хорошо известном символе-двойном трезубце, изображающем молнию.
- Это вагра,- сказал он, и хранитель музея подвел нас к статуе индуистского бога Индры, который держал в руке такой предмет.
Индра - царь богов ведической религии, бог-воитель у ариев; он победил солнце, причем его оружием как раз была молния. Но Индра вошел также и в буддийскую мифологию. В Полоннаруве в Шри-Ланке я сам видел большую статую Будды, восседающего на постаменте, украшенном декором из чередующихся львов и молний. Так что не будь - мальдивская вагра вырезана на небуддийской многоголовой скульптуре, ее бы можно было приписать любой из двух родственных религий.
В этом же музее на полке стояли две бронзовые фигурки, которые заставили меня вспомнить мальдивские образцы. На Мальдивах одна из них, несомненно, представляла Будду, чего нельзя было сказать о второй. Здешние явно были родственны именно ей. Они сидели на подушках, поджав одну ногу и свесив другую, головы украшены высоким ритуальными убором, руки - браслетами, на шее ожерелье, вокруг талии - нарядный пояс. Словом, все как у мальдивской фигурки.
И я предъявил в заключение мои фотографии двух мальдивских образцов. Единодушный вердикт не заставил себя ждать:
Одна фигурка Будда, сидящий с поджатыми ногами в позе падмасана. Вторая, с высоким головным убором, одна нога поджата, другая свешена вниз,- индуистское божество в позе сукхансана.
Это совпадало и с нашим выводом.
Пока что не было похоже, чтобы мы заметно приблизились к решению загадки. Скорее проблема только осложнилась из-за тесного переплетения двух религий и присущих им символов. Здесь, на Малабарском берегу в Юго-Западной Индии, обнаружились параллели, отсутствующие в Шри-Ланке, однако далеко не все искомые нами. Так что и ближайшее к Мальдивам континентальное приморье, похоже, не годилось на роль недостающего звена, соединявшего архипелаг с внешним миром.
Я рассчитывал обнаружить более четкие свидетельства связей между Южной Индией и Мальдивами отчасти потому, что мы знали о торговых отношениях между ними в последние столетия, отчасти же потому, что в истории государства Чола есть упоминание о Мальдивских островах. Король Раджараджа (985-1014 гг. н. э.) завоевал все приморье Юго-Западной Индии. Он также "покорил многочисленные древние острова в количестве 12 тысяч". Кроме того, его "могущественное войско пересекло на кораблях океан и сожгло короля Ланки". "Многочисленные острова" явно Лаккадивы и Мальдивы, ибо Ланка Шри-Ланка, где Раджараджа захватил Анурадхапуру, построил новую столицу Полоннаруву и воздвиг там индуистские храмы
(Sastri (1955, p. 183).). Правда, судя по всему, успешный набег на Мальдивский архипелаг не оставил прочных следов.
Я посетил все древние храмы и археологические объекты вплоть до самой южной оконечности субконтинента. Всюду было что посмотреть и чем пополнить свои знания, я любовался прекрасными ландшафтами и общался с приветливыми людьми, но признаков родства с Мальдивами было маловато.
Моими единственными помощниками в поездке по югу Индии были дорожная карта и таксист, готовый ждать меня где угодно и сколько угодно. Объясняться мы с ним не могли, только обменивались одобрительными или неодобрительными жестами по поводу местной кухни, когда садились за стол. Один раз я попросил его остановиться, услышав доносившиеся с горы низкие звуки, извлекаемые из витой морской раковины. Соблазн был слишком велик, и по длинным лестницам, которым, казалось, не будет конца, мимо двух каменных лингамов я поднялся в вознесенную надо всем миром пещеру. Здесь меня встретили два монаха, поклоняющиеся богу обезьян Ханеману, который возродился в облике огромной обезьяны, выходившей на их зов из-за скал наверху. По бокам входа в пещеру стояли два каменных стража с длинными разрезанными мочками ушей. На монументальной каменной перемычке между ними красной краской были нарисованы концентрические круги; объясняя их значение, монахи указали пальцем на солнце.
Одно было очевидно. Как в Шри-Ланке, так и на Малабарском берегу мне встретились священные скульптуры фаллоидной формы, подобные раскопанным нами на Мальдивах. У здешних индуистов они по-прежнему занимали видное место в ритуалах как лингамы Шивы (Шивалингам). Я видел их, большие и маленькие, в индуистских храмах, где элегантные дамы и юные девушки, ничуть не смущаясь, трогали их, мазали красной краской или украшали цветами. Местные ученые убеждали меня, что неверно связывать лингам с сексом. Это всего лишь символы бога Шивы. В одном дворце мне показали древнюю фреску, изображающую Шиву, который возлежал на своем морском плоту из змей, касаясь правой рукой нарисованного рядом лингама в виде опирающегося на ступенчатую квадратную платформу купола - нечто вроде миниатюрной ступы. Перед нами еще один пример параллелей: миниатюрными ступами считались такие же скульптуры, раскопанные нами на Шри-Ланке. Изображение идентичное, но его толкование различается.
Так кто же доставил этот тип скульптур на Мальдивы? Я вернулся в Шри-Ланку, а оттуда - снова на Мальдивы, сознавая, что вопрос по-прежнему остается без ответа.
Спросите мальдивца, откуда, по его мнению, происходит его народ. Скорее всего, он воздержится от определенного ответа. Отпрыск народа мореплавателей, мальдивец знает, что тысяча километров больше, тысяча километров меньше - не играет решающей роли для судна, вышедшего в океан. Главное - плавучесть конструкции и погода. Для опытного мореплавателя даже запасы провианта и воды не так важны. Итак: Шри-Ланка? Возможно. Или же арабский мир, откуда пришел ислам? Танжер - в Северной Африке, или Тебриз - в Иране? Все может быть.
Единственные два источника, из которых мы могли почерпнуть надежную информацию о прежних взглядах на происхождение мальдивцев, - труды Белла и Мэлони. Первый - бывший британский комиссар на Цейлоне, опытный археолог, старой школы, второй - современный профессиональный антрополог, изучавший не руины, а живых людей.
Соблазнительно предположить, что из этой двойки у Белла было больше предпосылок для реконструкции прошлого Мальдивов. Он впрямую занялся развалинами сооружений, оставленных древним населением, тогда - как Мэлони делал косвенные выводы, изучая современных островитян. Как мы видели, несмотря на факты, собранные Беллом, Мэлони разделял общепринятое мнение, что на Мальдивах для археологии нет перспектив из-за стерильного песка и низкого уровня грунтовых вод. Но хотя в этом он ошибался, чем больше мы узнавали из наших собственных исследований, тем сильнее я склонялся к тому, что Мэлони был на верном пути.
Работая в трудное время, связанный по рукам монополией мусульман на все, что касалось истории Мальдивов, Белл попытался определить исконную мальдивскую культуру как детище цивилизации Шри-Ланки. Мэлони не разделял точку зрения Белла и показал, что тот сам же первым отметил полное отсутствие упоминаний о Мальдивах в исторических источниках Шри-Ланки. И ведь кто, как не Белл, писал: "В качестве альтернативы, пусть менее вероятной, будет, пожалуй, не слишком опрометчиво отнести древнейшую колонизацию архипелага ариями к дате, совпадающей с временем колонизации самого Цейлона (т. е. к IV или V веку до н. э.), предположив, что она была осуществлена отдельной, но родственной группой тех же искателей приключений, вместо того чтобы предполагать более позднюю прямую иммиграцию с упомянутого острова"
(Bell (1940, p. 16).).
Хотя предметом исследования Мэлони был "Народ Мальдивских островов", он подчеркивает, что половину усилий посвятил проблемам истории местной культуры. Ибо, как говорит Мэлони, "она не изучалась, и от взгляда прежних наблюдателей ускользнуло великое многообразие исторических течений, воплотившихся в культуре Мальдивов. Это оказалось также необходимым, чтобы поправить Белла, который потрудился весьма основательно, однако пытался все связать с сингальскими корнями"
(Maloney (1980, p. ix, 48).).
Мэлони воздает должное Беллу за то, что тот собрал древние мальдивские тексты и показал, что большинство слов дивехи в современном мальдивском языке этимологически родственны древнесингальским. Но поскольку слова эти были явно индоарийского происхождения, они могли прийти на Мальдивы прямо из Северо-Западной Индии, а не через Шри-Ланку. В отличие от Белла Мэлони считал это подходящей рабочей гипотезой. По его мнению, существенное влияние со стороны Шри-Ланки могло исходить во времена нагов и якхов, до колонизации Шри-Ланки сингалами.
Эти предположения основывались исключительно на исторических, лингвистических и культурных данных, без учета археологии. Если шри-ланкийские источники ничего не говорят о буддийском периоде Мальдивов, то в кратких текстах, касающихся якхов и нагов, все же упоминаются океанические острова:
"Согласно шри-ланкийским летописям, в добуддийское время в приморье около Коломбо правили короли нагов, причем одно их королевство простиралось "в море на полтысячи юджана". Известно также предание, повествующее о том, что якхи и другие "нелюди" по милости раннего Будды были вытеснены из Шри-Ланки на другой остров, чтобы сингалы могли занять страну"
(Maloney (1980, p. 57).).
Из летописей древних буддийских монахов не видно, кем был этот "ранний Будда". Он облегчил завоевание Шри-Ланки "львиными людьми", освободив остров от большей части прежних обитателей, но это произошло задолго до того, как с обращением в новую веру короля Тиссы и его "львиных людей" буддизм окончательно утвердился на Шри-Ланке. Просвещенные монахи, достаточно тонко мыслившие, чтобы подвергнуть короля Тиссу испытаниям вроде вопросов о дереве манго, не стали бы записывать историю о судьбе нагов и якхов, не будь в ней аллегорического указания на реальное событие. Рассказ о нем вошел в обе древнейшие сингальские летописи - "Махавамсу" и "Дипавамсу".
В "Махавамсе" говорится, что король нагов по имени Маниакхика правил в Калья-ни на западном побережье Шри-Ланки, к северу от нынешней столицы, Коломбо. У него была большая свита. Сын его сестры, король Маходара, правил "королевством нагов в океане, простиравшемся на полтысячи юджана". Король Маходара спорил из-за престола со своим племянником Кулодарой в то время, когда вмешался "Просветленный". Обратившись в "правую веру", эти короли уступили престол "раннему Будде", который затем очертил восемьдесят территорий нагов "в океане и на материке".
В летописи IV века "Дипавамса" тоже говорится о "Просветленном", проложившем путь для "львиных людей".
"...Учитель, свободный от страстей, узрел великолепнейший остров Цейлон. В те времена равнины Ланки покрывали обширные леса со всякими страшилищами: разного родаякхами... ракхасами... писаками... Соединенное войско якхов увидело Возвышенного Будду; в их глазах он был не Будда, а такой же якх. Будда сказал им: "Все вы просите у меня огня, я быстро сотворю быстрый жар, о котором вы просите, большой огонь и сильный жар".
Судя по этим словам, якхи сингальской летописи могли быть огнепоклонниками, которых "Просветленный" решил покарать за их язычество. Ибо "Будда" дал якхам просимый огонь, но в большом избытке. Жара стала "невыносимой на островах. Якхи искали пристанища на востоке, западе, юге, севере, вверху, внизу, в десяти направлениях..."
Устрашив якхов и видя их горе, милостивый и сердобольный "Просветленный" позаботился о благе этих недостойных созданий и даровал им (или перенес их в) страну Гири-дипа, остров Гири. То была "...низменная страна... подобно равнинам Шри-Ланки... среди моря... Красивая, приятная, зеленая и прохладная, с чудесными и превосходными рощами и лесами, деревья увешаны цветами и плодами, страна безлюдная и уединенная, над ней нет господина. На просторах великого и голубого океана, среди морских вод непрестанно разбиваются волны, окруженные неприступными горными цепями, и проникнуть внутрь нежеланному гостю трудно".
Слова о горных цепях и дальнейшее упоминание острова "Гири с реками, горами и озерами", несомненно, уведут мысль торопливого читателя далеко от Мальдивских атоллов. Однако Мэлони не был торопливым читателем. Он отметил, что на Мальдивах слово гири означает "риф", подразумевая подводную гору. Он даже насчитал тридцать шесть мальдивских рифов, которые либо попросту называются "Гири", либо это слово присутствует в их названии как приставка - гири. Но тогда все становится на свои места! Тихие лагуны - это озера; реки стремительные течения в проливах, соединяющих лагуны с морем; и в окружении кристально чистых вод острова действительно смотрятся как вздымающиеся со дна моря величественные кратеровидные горы. Хотя вершины этих подводных гор - плоские, как равнины Ланки, и лишь немного выступают над поверхностью моря, узкие проходы и непрестанно разбивающиеся волны затрудняют доступ внутрь "гири".
Согласно древним текстам, сингалы, прибыв в Шри-Ланку, уже не покидали эту страну. Но не им были дарованы другие острова. "Просветленный" позаботился о як-хах и прочих язычниках той поры.
"Он поселил всех ракхасов... в Гиридипа... чтобы не возвращались", и "вполне довольные якхи, вполне удовлетворенные ракхасы получили, как и хотели, превосходный остров и все были чрезвычайно рады..." (Maloney (1980, p. 41-49). ).
Летописи не проводят четкой грани между нагами, якхами и ракхасами; для летописцев все они так или иначе были демонами. Правда, демонами с вполне человеческими чертами, если вспомнить, что первый сингальский король, прибыв на Шри-Ланку, женился на принцессе якхов Кувени.
На сингальском языке слово "нага" буквально означает "змея". Мэлони показывает, что есть серьезные основания отождествлять нагов сингальских летописей с древними тамилами. Главной обителью тамилов всегда был
полуостров Джафна в северной оконечности Шри-Ланки; на языках пали, тамильском и даже в древнегреческой литературе этот полуостров называется Нага-дипа, или "остров Нагов". С самого начала поселения сингалов на Шри-Ланке там присутствовали тамилы; они смешивались с сингалами и не раз правили страной. Мэлони обнаружил то, что он называет внушительным тамильским компонентом в сингальском языке, и, несмотря на индоарийское происхождение, сингалы в своем общественном укладе восприняли многие тамильские черты. Полагая, что легендарные наги были тамилами, Мэлони пишет:
"Легенды о нагах можно проследить вплоть до мифического города Патала в устье Инда, вероятно того самого, что был известен грекам во времена Александра. Возможно, своим появлением они обязаны протоисторическим дравидоязычным мореплавателям, чьи торговые интересы развивались со времен Индской культуры"
(Maloney (1980, p. 57).).
Кем бы ни были наги, якхи и ракхасы, отдельными племенами общего происхождения или совсем различными народами, буддийские письменные источники позволяют сделать вывод, что они участвовали в организованном заселении Мальдивов.
Казалось бы, мы теперь вправе связать мальдивский клубок одним концом с древней Шри-Ланкой, откуда сингальские летописи протягивают через море подходящую нить. Как будто либо провидение, либо "Просветленный", некий "ранний Будда", резервировали эти прекрасные атоллы для трудолюбивых представителей гидротехнической культуры, вышедших в море от ближайших к Мальдивам берегов. Так что заманчиво посчитать мальдивскую загадку решенной.
Увы, это не совсем так. В мальдивском клубке хватает свободных нитей, которые не привязываются к Шри-Ланке.
Глава XIII. Откуда пришли индуисты?
В гавани длинноухих
Язык важное подспорье при поисках древних контактов. Язык дивехи, на котором с небольшими диалектными отклонениями сегодня говорят жители Мальдивского архипелага, отличается от всех известных языков. Тем не менее, как показал Белл, родственные корни отчетливо указывают на связь Мальдивов с Шри-Ланкой. Дивехи в своей основе - индоарийский язык; индоарийским является и сингальский язык на Шри-Ланке.
Как мы видели, сингалы говорили на индоарийском языке потому, что приплыли прямо из северо-западного приморья Индии. И поскольку установлено, что мальдивцы не происходят от сингалов, некоторые их предки очевидно пришли из того же приморья. Стало быть, мальдивцы - двоюродные братья сингалов и потомки жителей Северо-Западной Индии. Однако смешанные с досингальскими выходцами с Шри-Ланки, вероятно говорившими на тамильском языке. Недаром Мэлони обнаружил в мальдивском дивехи много тамильских слов. Он показывает, что большинство терминов, обозначающих родство, тамильского происхождения; это же можно сказать о большинстве мальдивских слов, относящихся к морю, судам и навигации. В частности, "дхони" тамильское слово.
И что важнее всего: сами мальдивцы в своих древнейших официальных источниках признают, что у них были тамильские предтечи. Первый упоминаемый в источниках король Коимала, приведший их предков на Мальдивы в домусульманские времена, должен был испросить разрешение обосноваться на Мале у обитателей острова Гиравару в том же атолле. Эти предшественники дивехиязычного населения дожили до наших дней и считают себя потомками тамилов, которых они так и называют - тамила
(Maloney (1980, p. 54-67).). "В высшей степени примечательно, что, по мнению жителей Гиравару, их тамильские предки были буддистами".
С одной стороны - тамилоязычный субстрат, подтверждающий древнюю несингальскую иммиграцию с Шри-Ланки, с другой - индоарийский компонент, указывающий на материк, Северо-Западную Индию. Получается еще один "незакрепленный конец", но и новый след, заслуживающий внимания. И ведет он прямо в Камбейский залив, исконную родину "львиных людей".
Пока что археологи, историки и лингвисты, пытающиеся собрать воедино все нити, которые тянутся с разных концов Индийского субконтинента и Шри-Ланки, приходят к выводу, что они встречаются в этом древнем центре. Другими словами, в области, сперва освоенной, затем оставленной древней Индской цивилизацией. Мы уже видели, что от носителей этой культуры предки индусских королей и потомок королевского рода Будда унаследовали обычай удлинять мочки ушей и веру в божественное происхождение от льва и солнца.
Мало кто знал, что на Мальдивах в прошлом было заведено растягивать мочки ушей, пока нам случайно не показали буддийские и индуистские скульптуры. Первые солнечные символы были обнаружены, когда мы натолкнулись на облицовочные плиты, упавшие с гаафганской хавитты. И никто не ведал, что на этих островах существовало конкретное понятие о льве, пока мы не нашли полуфигуры льва в заполнявшей ту же хавитту начинке из битого камня, а один островитянин обнаружил маленькую скульптуру, копая колодец на острове Дхигу - Ра.
Легенды о больших кошках с человеческими чертами, нападавших на острова с моря, навели нас на мысль о "львином народе". А Мэлони услышал на атолле Адду у Экваториального прохода легенду о человеке-звере, которая побудила его сравнить свои записи с древними поверьями, бытовавшими на Шри-Ланке и в северо-западном приморье Индии. Мальдивская версия гласила:
"Один из королей Индии увлекался охотой. Однажды, выйдя на охоту с сетью, он увидел существо, которое было похоже на человека, но ходило на четвереньках и вызывало страх у людей. Это же существо уносило охотничьи сети и крало добычу, так что король ничего не мог поймать... Однажды король с помощью многих своих людей набросил сеть на это существо, и оно не могло освободиться из-за тяжести камней, привязанных по краям. Король доставил это существо во дворец и хорошо заботился о нем. А так как оно не знало никакого языка, король научил его говорить, на что ушло много времени. Существо стало помогать королю, показывая скрытые в лесу сокровища, и король проникся к нему уважением. У короля была дочь, которая полюбила это существо (по другой версии, король принудил дочь выйти замуж за него). Король разгневался, посадил обоих на корабль и отправил в изгнание. Корабль пристал к атоллу Лаам (Хаддумати), где изгнанная пара увидела каркающую ворону. Они посчитали это дурной приметой и не стали высаживаться здесь, а продолжали плыть до Мале. Они поселились там, где теперь находится Султанский парк, и основали свое королевство".
На атолле Ноону, в северной части архипелага, Мэлони также услышал легенду о правителе одной страны, который научил человека-зверя говорить; подразумевалось, что страна эта Шри-Ланка. Человек-зверь женился на дочери короля и стал причиной политических неурядиц, так что был вынужден покинуть страну. "Он и его принцесса прибыли на Расгетиму и некоторое время жили там. Потом местные жители попросили их править островом"
(Maloney (1980, p. 31 32).). Расгетиму - один из островов атолла Ра, соседствующего с атоллом Ноону, где была записана легенда. Расположение острова таково, что прибытие из Шри-Ланки выглядит маловероятным, так как мореплавателям пришлось бы пересечь рифы Ноону или же найти лоцмана, который провел бы их через островной лабиринт на противоположную сторону Мальдивов. Зато местоположение Расгетиму как нельзя лучше подходит для высадки путешественников из Северо-Западной Индии.
Мэлони показывает, что султанам в Мале была противна версия о происхождении от человека-зверя и они умышленно утаивали ее в отличие от буддистов Шри-Ланки, гордившихся своим тотемическим символом - львом. Единственная версия о корнях династии, которую мусульманские султаны дозволили запечатлеть в официальных медных книгах,- так называемая "Повесть о Коимале", упоминаемая Беллом. Согласно этой официальной генеалогии, до введения ислама на Мальдивах правил только один король:
"Давным-давно, когда Мальдивы были еще мало населены, один принц из королевского рода по имени Коимала Кало, женатый на дочери цейлонского короля, отправился с ней в морское путешествие на двух кораблях с острова Серендиб. Дойдя до Мальдивов, они попали в штиль и некоторое время стояли у острова Расгетиму, в атолле Северный Малосмадулу. Узнав, что два самых знатных гостя принадлежат к цейлонскому королевскому роду, мальдивцы предложили им остаться и в конце концов провозгласили Коималу королем Расгетиму, собственно "Королевского острова" (рас-ге "король", вишу - "остров"). Позднее Коимала и его супруга переселились на Мале... и обосновались там с согласия аборигенов острова Гиравару которые тогда составляли главную общину атолла Мале".
Мусульманские источники утверждают, что этот первый король послал свои корабли обратно в Шри-Ланку, чтобы привезти оттуда других людей "львиного племени", после чего его сын "правил, оставаясь буддистом, 12 лет, затем был обращен в мусульманскую веру и правил еще 13 лет, прежде чем убыть в Мекку". Его дочь сменила отца на престоле и правила, пока ее сын "не женился на местной женщине. От них происходят последующие правители Мальдивов"
(Bell (1940, p. 16).).
Сам Белл заключил, что эта версия представляет собой выжимки многовековой домусульманской истории Мальдивов. Совсем исключить возможность того, что в XII веке некий шри-ланкийский принц занял мальдивский трон, нельзя, но если такое и было, то шри-ланкийские летописи прошли мимо столь важного события. К тому же никакой принц из Шри-Ланки не мог бы сперва высадиться на Расгетиму в северозападной части архипелага-в том самом месте, где местные предания повествуют о появлении человека-зверя и принцессы. Интересно в султанской версии то, что она признает наличие аборигенного населения на атоллах Ноону и Мале. А также что, настаивая на своем происхождении не от человека-зверя, а от принца "львиного народа", султаны все равно признают своим царственным предком представителя кошачьих.
Неудивительно, что Мэлони позднее записал на Мале устную версию, по которой Коимала был сыном принца, изгнанного из Индии одним из тамошних королей:
"Индийский король прогневался на своего сына и выслал его вместе с его женой на двух кораблях; с ними было 700 воинов. Они пришли к Расгетиму на атолле Раа, и, когда он стал там королем, люди назвали этот остров Расгетиму ("Королевский остров"). Затем король и королева переселились на Мале, и там у этих индийских супругов родился Коимала"
(Maloney (1980. p. 30).).
К тому времени, когда я сам начал изучать архивы мусульманского Национального совета, впервые была переведена и опубликована еще одна медная книга XII века, уже цитированная выше рукопись "Лоамаафаану", в которой вообще не упоминается никакой король Коимала. Зато в этом древнем тексте приведены имена пяти последних правителей Лунной династии, сменявших друг друга на троне в Мале с 1105 года вплоть до введения ислама и строительства первой мечети. Ни одного из них не звали Коимала.
Это как будто подтверждает догадку Мэлони, что Кои-мала - составной термин, подразумевающий несколько лиц, а не какого-то одного монарха. Он указал, что кои на языке дивехи означает "принц", а мала вполне могло быть производным от Маладив - "островов Мале". Тогда Кои-мала следует переводить как "принцы Мале", имея в виду сразу всех домусульманских правителей до того дня, когда на Мальдивах внедрился ислам. Мэлони пишет также, что в Южной Индии слово коя означает "принц", от дравидийского корня ко - "король".
Но если повесть о прибытии Коималы на Расгетиму всего лишь аллегорическое сказание о начале династии иноземцев, получившей признание аборигенов, то Мэлони был вправе посчитать исконной версией миф о человеке-звере как об основателе этой династии: "Поскольку на Мальдивах из-за их изоляции было утрачено всякое представление о льве как таковом, его в мифе заменил человек-зверь, тогда как в Шри-Ланке образ льва не был забыт благодаря контактам с Северо-Западной Индией".
Могли миф о льве прийти на Мальдивы с Шри-Ланки? Если говорить о прямом заимствовании, то вероятнее противоположное движение. Согласно мальдивской версии, человек-зверь, ставший королем мальдивцев, приплыл прямо из Индии. По шри-ланкийской версии, на Мальдивы, открыв по пути некоторые другие острова, прибыл внук льва. Названия двух из этих островов приводятся древними монахами и могут нам что-то сказать. Мигранты - мужчины, женщины и дети вышли в море на двух кораблях. Летопись "Дипавамса" сообщает:
"Корабль, на который сели мужчины, пристал к никому не подвластному острову, который назвали Наггадипа. Корабль, на который сели женщины, пришел к никому не подвластному острову, который назвали королевство Махила (Махилараттхам)".
В летописи "Махавамса" говорится, что мужчины высадились на острове Наггадипа, а женщины на острове Махиладипака. Обе хроники согласно утверждают, что мужчины сперва совершили набег на свое родное приморье и ограбили при этом Суп-параку (или Суппару) и Бхарукаччу (Бхаруч) два порта в Камбейском заливе на северо-западе Индии. Именно из Бхаруча Виджая и его люди отплыли в Шри-Ланку.
Естественно предположить, что Наггадипа-то же, что Нагадипа, остров Нага, составляющий северную оконечность Шри-Ланки. Тогда королевство Махила, или Махиладипака, где высадились женщины, скорее всего, Мала-дипа, то есть Мальдивы.
Может быть, принцесса-мореплавательница так и осталась в островном королевстве Махила, где. если верить источникам, она высадилась, и не отсюда ли пошел древний мальдивский обычай сажать на престол королев? И не этим ли объясняется, почему принц, высадившийся в сопровождении одних мужчин на Нагадипе, подыскал себе новую жену? Согласно летописи "Махавамса", он, поселившись в Шри-Ланке, "женился на якхини, королеве этого острова, а позднее взял в жены принцессу королевства Пандиян в Южной Индии и стал праотцем сингалов"
(Maloney (1980, p. 33-36).).
Вот так, помаленьку письменные источники и устные предания об этих основателях наций кое-что рассказывают нам о том, что происходило на самом деле. Мэлони, прослеживая свою лингвистическую путеводную нить до Бхаруча и других портов Северо-Западной Индии, обнаружил в древних индийских текстах "Джагака" упоминания о плаваниях той поры. Речь идет о событиях, связанных, как полагают, с прежними жизнями Будды и, стало быть, относящихся к добуддийским временам:
"Джатака" № 213-"Бхару Джатака" - привязывается к Гуджарату, ибо король Бхару, очевидно, правил в области, примыкающей к часто упоминаемому в древних текстах порту Бхарукачча (современный Бхаруч). В этой "Джатаке" говорится, что король Бхару посеял смуту среди аскетов, из-за чего обитающие в его владениях духи разгневались. Они вызвали такое наводнение, что многие жители королевства погибли. В комментарии к этому абзацу содержится важное замечание: "И те, кто в то время говорили правду, порицая короля Бхару за лихоимство, с трудом разместились на тысяче островов, которые и теперь видно за островом Наликера".
"Наликера" означает "кокосовый орех"; Шри-Ланка была известна своими обширными рощами кокосовой пальмы, привезенной на остров из Малайзии и Тихоокеанского региона. Тысяча островов, чьи малые размеры позволили лишь с трудом разместиться тем, кто вынужден был покинуть владения короля Бхару,-несомненно, Мальдивы, лежащие в море за "Кокосовым островом". Таким образом, мы располагаем письменными сведениями, что один король в области Бхаруч сослал изрядное количество своих подданных на острова в океане.
Другая "Джатака" (№ 360), упоминая тот же порт, говорит о некой королеве Сус-сонди, увезенной на принадлежащий племени нагов остров Серума. Король отправил на корабле своего посланца по имени Сагга, чтобы тот "обследовал все земли и моря" и отыскал королеву. Сагга вышел в плавание вместе с купцами из Бхаруча, направлявшимися в Золотую Страну (Юго-Восточная Азия). Однако судно потерпело крушение, столкнувшись с морским чудовищем, при этом королевский посланец спасся, держась за доску, и его прибило к острову, где жил похитивший королеву правитель нагов. "Королева увидела Carry на берегу, сказала ему: "Не бойся!" - обняла его, отнесла в свою обитель, положила на ложе, накормила его, одела и под влиянием своей страсти получила с ним удовольствие. Через полтора месяца к острову пристали купцы из Банараса, чтобы запастись водой и продовольствием, и Сагга уплыл вместе с ними".
Вполне возможно, что эта королева из Бхаруча, обрадованная встречей на уединенном острове с мужчиной из своего племени, хотя и не пожелавшая возвращаться домой, - та же принцесса, которая, согласно королевским летописям Шри-Ланки, покинула Бхаруч с другими женщинами на корабле, отбившемся от корабля мужчин, так что те одни пристали к острову, где основали Львиную династию.
Мэлони комментирует:
"Мотив соблазнения Сагги королевой вполне согласуется с матрилинеарными традициями на Мальдивах, давно слывших терпимостью в сексуальных делах. Позднее еще одно судно пристало к берегу, чтобы запастись топливом и водой, и снова речь явно идет о Мальдивах; в древние времена корабли неохотно подходили за припасами к материковым берегам, где заправляли местные короли или пираты, зато охотно пополняли свои запасы на каком-нибудь из необитаемых Мальдивских островов" [62].
И наконец, еще одна "Джатака" (№ 463) повествует о слепом моряке, родившемся в семье капитана торгового судна, опять-таки в Бхаруче. Местные купцы охотно брали его на свои корабли, веря, что он приносит счастье. Однажды, руководимый неким "Верховным Существом", он благополучно провел корабль с 700 пассажирами. Вернувшись после четырех месяцев плавания в штормовом океане, он рассказал, что посетил мифические моря Кхурамала, Аггимала, Дадхимала, Даламала и Нилаваншкуса, а также море Валабхамукху, где "вода отступает". Сюжет с "Верховным Существом" и 700 пассажирами напоминает рассказ шри-ланкийской летописи о покинувшем Бхаруч принце - изгнаннике с его 700 сторонниками событие, которое может объяснить, почему в индийскую религиозную "Джатаку" сочли необходимым включить фрагмент истории о слепом лоцмане. Намек другого рода видим в названиях морей. У четырех из них есть приставка мала. Где еще в открытом океане по выходе из Бхаруча можно найти такое множество морей, как не в Мала-дипе, Мальдивском архипелаге? А описание последнего из перечисленных морей вполне подходит к мелководному заливу Маннар, куда 700 странников должны были войти через пролив Палк. если они, как утверждают шри-ланкийские источники, высадились на острове Нагадипа, в крайней северной точке Шри-Ланки. Известно, что здесь во время отлива обнажаются рифы и отмели.
Бхаруч играл важнейшую роль в этих древних источниках, как в летописях Шри-Ланки, так и в индийских "Джатаках". Я должен был посетить Бхаруч.
С большими надеждами направился я в бюро путешествий в Нью-Дели, чтобы узнать, как добраться в Бхаруч. Оказалось, что это не так-то просто. Бюро не располагало никакой информацией на этот счет. И вообще, почему именно Бхаруч? Но если мне во что бы то ни стало нужно гуда попасть, лучше всего лететь самолетом в Ахмадабад и справиться там.
Так я и поступил. В Ахмадабаде владелец первоклассного отеля одолжил мне свою машину вместе с весьма общительным шофером, и по хорошей дороге мы за день пересекли большую часть штата Гуджарат. На равнине по обе стороны шоссе осталось немного следов былого величия одной из древнейших цивилизаций мира, но живописные деревни с индийцами всех физических типов и каст, воловьими упряжками и слонами скрасили мне путешествие.
Первый этап был мне знаком. Я уже дважды посещал Гуджарат, стараясь побольше узнать о достижениях цивилизации долины Инда в области мореплавания. На третьем часу езды мы миновали сказочный дворец махараджи Барода. Я проводил взглядом знакомые шпили за тропическими деревьями парка. Посещая древний порт Лотхал, я гостил здесь у моего друга Фатесингхрао Гаеквада. Длинный судоходный Камбейский залив врезается, подобно фьорду, в северо-западный угол Индии, деля Гуджарат на две части, и Лотхал расположен к западу, а Бхаруч - к востоку от залива. Ландшафт здесь плоский, однако шоссе нигде не приближается к берегу. Водитель рассказал про сильнейшие приливо-отливные течения; разница уровня воды настолько велика, что рыбаки, подойдя к берегу во время прилива, могут оставить свои суда на обсохшей прибрежной отмели, когда вода отступает. Требовалось немалое искусство, чтобы умело использовать прихоти течений, но жители этого приморья чувствовали себя на море так же уверенно, как на суше.
Все это я уже знал. Ведь здесь мореходство тысячи лет назад достигло высокого уровня, здесь находились порты длинноухих.
 Украшающие изображения божеств ушные затычки - того же типа, какие раскопаны в древнем портовом городе Индской цивилизации, Лотхале
Украшающие изображения божеств ушные затычки - того же типа, какие раскопаны в древнем портовом городе Индской цивилизации, Лотхале
В поисках ключей к морской загадке я внимательно слушал все рассказы и всматривался в лица местных жителей, каменные блоки на обочинах, растительность, храмовые скульптуры. Но мы живем в другую эпоху. Фасады храмов кое-где украшал лик бога Макары с изогнутым хоботом, однако эти скульптуры были изваяны относительно недавно и уступали найденной нами на мальдивском острове Кондаи, которая походила на характерные, более древние непальские образцы. Среди местных жителей многих можно было принять за мальдивцев. Но ведь население Мальдивов являет собой такую смесь физических типов, что иного и нельзя было ожидать. Иногда мой взгляд останавливался на мужчинах с золотыми затычками в мочках ушей, а у одного зияли большие пустые отверстия. И все же их нельзя было назвать длинноухими, хотя предки их, возможно, были таковыми, ибо следом за дворцом Барода мы увидели университет, где профессор Р. Н. Мехта показывал мне полный ящик ушных затычек, найденных в Лотхале по ту сторону залива. Проезжая мимо университета, я сказал себе, что хотя бы этот кусочек мозаики ляжет на место.
 Лутфи держит голову Макары-древнего индуистского бога вод, - найденную среди остатков разрушенного храма в джунглях. Этот древнейший способ изображения Макары-с хоботом, перьями на голове, мощными зубами и хитроватым взглядом в наши дни лучше всего сохранился в Непале, в Гималаях
Лутфи держит голову Макары-древнего индуистского бога вод, - найденную среди остатков разрушенного храма в джунглях. Этот древнейший способ изображения Макары-с хоботом, перьями на голове, мощными зубами и хитроватым взглядом в наши дни лучше всего сохранился в Непале, в Гималаях
Сейчас целью моего путешествия было заброшенное городище неподалеку от Бхаруча, известное под названием Бхагатрав. В хараппском периоде Бхагатрав был одним из портов Индской цивилизации. Его отыскал и раскопал Ш. Р. Рао, индийский археолог, копавший Лотхал.
Я присматривался к каждому пруду, каждой канаве по бокам шоссе. Всюду зеленели высокие стебли рогоза. Большие участки заболоченной земли были сплошь покрыты этим растением. В одном месте я попросил водителя остановиться и срезал один стебель. Это был тог самый вид, Typha angustata, который мы использовали при строительстве ладьи "Тигрис". Материал, которым пользовались древние корабелы и в Месопотамии, и в области Индской цивилизации. Здесь он рос в изобилии.
Мы плыли на "Тигрисе" пять месяцев, и бунты из рогоза далеко не утратили свою плавучесть. Затем мне довелось сотрудничать с учеными Бомбейского университета. Они обмазывали бунты водонепроницаемыми смесями, исстари применяемыми на западном побережье Индии. Смешивали смолу разных деревьев с акульим жиром и асфальтом. Лучший результат был получен при испытании рецепта, приведенного на древних вавилонских плитках, повествующих о потопе: две части смолы на одну часть жира и одну часть асфальта. В индийском труде по ботанике, изданном в прошлом веке, ученые прочли, что здешние рыбаки использовали для своих лодок особенно крупный местный вид рогоза Typha elefantina. Естественно, в Камбейском заливе, как и на Бахрейне, плоскодонные бунтовые ладьи были идеальными для надежной швартовки на прибрежных отмелях. Неудивительно, что в этой области судостроение и мореплавание смогло начаться задолго до того, как корабелы научились вытесывать доски для шпангоутов и обшивки.
В самом Бхаруче не было ничего заслуживающего внимания. Оживленный торговый город, подобный всем другим индийским портам. В стороне от Камбейского залива, но на берегу широкого эстуария судоходной реки Нармада. По длинному мосту на окраине города мы пересекли эту священную реку. Дальше началось самое интересное. Оставив шоссе, мы распутывали вязь грязных проселков между маленькими деревушками и илистыми полями. На фасадах некоторых деревенских лавочек я увидел символ крылатого солнца, однако водителю не терпелось поскорее выбраться из здешних лабиринтов. Мои попытки объяснить ему, что это как раз то, за чем я охочусь, не увенчались успехом.
Речь явно шла о пережиточной форме мотива, древние варианты которого встречались мне только на Мальдивах, и вскоре я увидел еще один образец. Мы остановились на площади перед храмом в поселке Обха, чтобы спросить, как проехать к городищу Бхагатрав. Никто из прохожих не слышал о таком месте, тогда мы решили справиться у директора школы. И на школьных воротах узрели знакомые концентрические кольца с тремя горизонтальными полосами по бокам. До сих пор за пределами Мальдивов мне лишь однажды попался этот символ, да и то в современном исполнении-по обе стороны дверей деревенского дома неподалеку от развалин Анурадхапуры на Шри-Ланке. Тогда на наш вопрос, откуда скопирован этот мотив, хозяин дома ответил уклончиво - дескать, "так задумал маляр". Теперь с таким же вопросом я обратился к гуджаратскому учителю. Он не смог ответить. Никто в поселке не знал, что означает этот символ и почему его тут изобразили. Ниже крылатого солнца на местном языке было написано "Добро пожаловать". Так или иначе знакомый мне по Мальдивам символ солнца сохранился в современном виде на двух древних родинах "львиных людей", и вряд ли это следует считать чистым совпадением.
Над входом в храм, стоящий напротив школы, бросалось в глаза большое рельефное изображение лотоса, выше него было вырезано восходящее солнце с крыльями, а рядом с солнцем - свастика, еще один знак, смысла которого никто здесь не мог объяснить. Один старик предположил, что это-символ индуистского бога Кханиша, но, когда я позже обратился к ученым в Бхаруче, мне сказали, что здешние жители давно успели забыть, что в этих местах свастика когда-то являлась символом солнца.
Меня поразили размеры местного колодца. Достаточно широкий, чтобы в него мог провалиться слон, он был искусно обложен каменными блоками и окружен древними скульптурами. Чрезмерно большой и роскошный колодец для такой маленькой деревушки...
Учитель взялся показать, где археологи раскопали древнее хараппское поселение. До городища было всего две минуты хода по высушенной солнцем твердой илистой равнине. Выяснилось, что в Бхагатраве нечего смотреть. Ветровая эрозия засыпала раскопы, и я увидел только разбросанные кругом старые, сильно побитые черепки. Слишком невзрачные, чтобы дать повод для каких-либо выводов, хотя по материалу - красная и серая глина и по форме венчика они напоминали черепки, которые мы собирали на поверхности грунта на Мальдивах.
Возвращаясь через мост в Бхаруч, я не мог похвастаться богатой добычей. Только убедился, что в селении рядом с городищем Бхагатрава по-прежнему существовали изображения крылатого солнца, лотоса и свастики.
Мы провели ночь в придорожной гостинице, и утром меня разбудило карканье по меньшей мере сотни ворон. В жизни не видел столько ворон, сколько в деревнях и городах Гуджарата. Похоже, они находятся здесь под охраной, исстари осуществляя санитарные функции в населенных пунктах. Мальчишкой я держал дома ручную ворону и с тех пор люблю этих птиц. Но теперь я смотрел на них новыми глазами после того, как прочитал труд о древних плаваниях в индийских водах, написанный в I веке греческим географом. Автор "Перипла Эритрейского моря" утверждает, что вороны помогали ориентироваться бхаручским мореплавателям. Моряки брали птиц с собой и во время плавания выпускали, чтобы проследить за их полетом. Если ворона не возвращалась на судно, мореплаватели заключали, что поблизости есть земля, и шли в ту сторону. Это сообщение побудило меня задуматься над странным фактом: на Мальдивах множество ворон, тогда как других птиц там очень мало. Когда мы на Гааф-Га-не садились перекусить около хавитты, со всех сторон слетались вороны, чтобы подобрать объедки. Эти птицы не способны на далекие перелеты через океан, тем не менее ворона упоминается в одном из мифов об открытии Мальдивов. Выше говорилось, что человек-зверь и принцесса, подойдя к первому острову, увидели ворону. Посчитав это дурной приметой, они поплыли дальше. Возможно, при виде этой птицы они решили, что на этом острове кто-то уже обосновался.
Для меня в то утро вороны оказались доброй приметой. Благодаря содействию Ин-диры Ганди у меня было рекомендательное письмо к Шри Б. М. Панде, главному археологу Археологической службы Индии, чье управление помещается в Бароде. Следуя за сторожем через внутренний дворик к конторе Панде, я обратил внимание на маленькую группу очень древних, судя по эродированной поверхности, скульптур, и буквально опешил, когда мои глаза остановились на каменной голове высотой около 60 сантиметров, с лицами на каждой из четырех граней, как у важнейших добуддийских изваяний, раскопанных на Мале. Поздоровавшись с Шри Панде, я тотчас попросил его следовать за мной и подвел к поразившей меня скульптуре.
- Это Шива,- объяснил он. - Только что доставлен с городища, которое мы раскапываем вблизи Гораджа на реке Део. На территории древнего королевства Бхаруч.
Лики изваяния были настолько повреждены эрозией, что вытесанные в грубом песчанике клыки и язык с трудом различались, но на одной грани был отчетливо виден вставленный в мочку широкий диск. Размеры и все детали скульптуры делали ее удивительно похожей на мальдивский образец, так что близкое родство не вызывало сомнения.
- Старое название городища - Маха-Део-Пура, Город Шивы, - сказал Шри Панде, и через несколько часов мы уже были там.
Раскопками руководил помощник Панде, Нараян Вияс. На древних развалинах высился "современный" храм, построенный около двухсот лет назад одним из предков моего друга Фатесингхрао Гаеквада. Мне сразу бросились в глаза две львиные головы над входом с лотосом между ними. Я знал, что нахожусь в "львиной" стране. Отдельно стояли три скульптуры горбатых быков, раскопанных на городище; их покрасили в белый цвет и поставили перед оградой. Не берусь сказать, кого они олицетворяли в представлении древних ваятелей, но для посетителей этого индуистского храма они, несомненно, воплощали быка Найди бога Шивы. В самом храме я увидел только установленный в центре зала большой фаллоидный камень - Шивалингам - и в маленькой нише статуэтку четырехрукого шиваистского божества, держащего за хвосты двух рыб.
На дне глубокой траншеи рабочие расчищали остатки стен, которые были погребены под многометровым слоем земли и мусора. Ниже всего располагалась кладка из профилированного кирпича, датируемая дочалукьинским периодом, то есть II-III веками н. э. Желобчатая профилировка напоминала мальдивские образцы. Вообще на территории городища и километра на полтора вокруг него в кладке деревенских домов и просто на земле можно было видеть великолепно обтесанные и шлифованные строительные блоки из твердого камня. Я сразу обратил внимание на то, что покрытый белой известкой храм Шивы опирался на фундамент из повторно использованных блоков, как и мечети на Мальдивах, где мусульмане воспользовались облицовочными блоками древних хавитт. Искусно обработанные камни с пазами напомнили мне "пальчиковую" кладку; более того, некогда они прочно соединялись фигурными скобами, как и блоки в стене, раскопанной нами на первом нашем рединском острове. Правда, поскольку здесь кладка была вторичной, пазы редко совпадали. Но главное-вот они, глубоко врезанные в торцы блоков, в виде усеченных треугольников. На всем огромном расстоянии, отделяющем финикийский порт Библ от Мальдивов, я наконец-то в районе Бхаруча впервые увидел следы применения металлических скоб в каменной кладке. Пути распространения этой техники могли быть разными и не обязательно прямыми, но сама по себе связь не вызывала сомнения.
Большие каменные скульптуры, украшавшие древнее святилище, разошлись в разные стороны. Одни валялись в поле, другие были установлены в близлежащем селении, некоторые торчали из земли на осыпающихся берегах священной реки Део. Каменного слона, как и трех быков, местные жители сочли достойным внимания. Его притащили в селение, покрасили в белый цвет и поставили рядом с главным храмом. Я с интересом отметил, что посередине спины слона вытесано чашевидное углубление, куда свободно входил мой кулак. Своеобразная деталь, общая также для львиных скульптур хеттов и Мальдивов. Декоративная или функциональная? Ни жители селения, ни ученые не знали ответа, хотя здесь явно крылась некая общая магико-религиозная традиция.
На обширной территории городища возвышалось с полдюжины рукотворных храмов. У подножия одного из них Вияс обратил мое внимание на то. что вспаханная почва полна древних черепков. На склонах этого холма просматривались остатки кирпичных террасных стен, по которым можно было заключить, что здесь некогда стоял храм площадью 20 х 20 метров, а то и больше, если учесть, что часть сооружения скрыта под землей. На вершине лежали в яме опрокинутый каменный фаллос и камень с квадратной выемкой, вроде тех, которые часто встречались нам на разрушенных мальдивских хавиттах. И ведь если бы этот холм перенести на Мальдивы, все посчитали бы его хавиттой. В глубине того же штата Гуджарат, в лесистой области, населенной враждующими племенами, Вияс видел несколько таких, однако лучше сохранившихся террасированных сооружений величиной с холмы здешнего городища. Они походили на ступенчатые пирамиды, или зиккураты, но были покрыты толстым слоем твердой белой известки.
Я представил себе, какие картины открывались глазу в этой части Гуджарата, когда здесь правили короли Бхаруча, чьи подданные, дети "львиного народа", выходили в море и заселяли острова. В наши дни тут, как и на Мальдивах, повсеместно видны следы разрушений, учиненных победителями, которые надругались над религиозными символами своих предшествеников и разорили их храмы. Но если на Мальдивах с приходом ислама утвердилась совершенно новая вера, то здесь, вокруг портов Индской цивилизации, каждое новое вероучение основывалось на предыдущем. А потому в этой области, хотя кругом возвышались разрушенные "хавитты" и валялись заброшенные изваяния, некоторые символы, такие, как лев, бык, лотос, солнце, свастика, все же вошли в ритуалы победителей, тогда как на Мальдивах их начисто отвергли и погребли в земле. Думаю, Шива с четырьмя ликами, найденный на здешнем городище, вполне мог бы занять место в сооруженном на развалинах новом храме Шивы, не посчитай его современные индийские ученые ценным музейным экспонатом.
Не зная языка, я не мог объясниться с рабочими на дне траншеи, но хотелось напоследок как-то выразить свое восхищение их трудом. Инстинктивно я прибег к тому самому слову, каким недавно поощрял наших рабочих на Мальдивах,- одному из тех немногих мальдивских слов, которые успел запомнить.
- Барабаро,- произнес я с улыбкой, показывая на расчищаемые ими профилированные камни.
- Барабаро! - весело отозвались они.
Не берусь сказать, кто из нас был больше удивлен, что нашлось слово, понятное обеим сторонам. Я как-то забыл, что в этой части Индии, в языках урду и гуджаратском. как и на Мальдивских островах, "барабаро" означает "хорошо", "замечательно". И это лишь одно из целого ряда слов, побудивших языковедов искать на севере Индии корни языка дивехи.
Возвращаясь из Маха-Део-Пуры - Города Шивы,- я говорил себе, что язык и мифы сослужили добрую службу археологам, указав на эту область как на общую прародину королевских династий Шри-Ланки и Мальдивов.
Ложась в тот вечер спать, я продолжал размышлять о хавиттах, ступах и зиккурагах. Несомненно, месопотамский зиккурат старейшая известная форма этих компактных культовых сооружений. В наиболее древнем, шумерском, периоде зиккурат представлял собой массивную ступенчатую усеченную пирамиду с храмом на вершине, как в Древней Мексике. Прежде никому не приходило в голову, что жители этих стран уже в ту пору передвигались за пределами своих национальных границ, но теперь нам известно, что далекие расстояния не были препятствием для контактов и торговли. На острове Бахрейн открыт мини-зиккурат, еще один - у древних медных рудников в Омане. Есть серьезные основания считать, что холм в центре Мохенджо - Даро тоже был террасированным храмом, пока буддисты не перестроили на свой лад его вершину. И такими же компактными террасированными святилищами были изначально древние холмы, которые я увидел и о которых услышал в тот день в Гуджарате.
В Тривандраме известный историк архитектуры Д. А. Наир привел мне слова, приписываемые самому Будде. Когда перед смертью учителя ученики спросили его, как он хочет быть похоронен, он будто бы ответил: "В ступе, потому что я индуистский принц".
Вот и Британская энциклопедия говорит о ступе: "Похоже, что полусферическая форма ступы заимствована у добуддийских погребальных курганов в Индии".
В Непале мне довелось осмотреть всякие разновидности индуистских святилищ. Самые древние я назвал бы зиккуратами - это ориентированные по солнцу, террасированные усеченные пирамиды с длинной ритуальной лестницей, ведущей к маленькому храму на вершине. Тело сооружения компактное. У более поздних конструкций возрастает величина и значение храма, а компактное основание сводится к двум-трем террасам.
Старики на Гааф - Гане рассказывали, что тамошняя хавитта венчалась маленьким каменным помещением. Из чего следует, что она была построена по типу зиккурата или индуистского храма. О хавитте на Ламу - Гане, которую Белл до нас видел в лучшей сохранности, ему сказали, что некогда ее венчал шпиль, похожий на семь уложенных друг на друга котлов: характерная черта буддийской дагабы или ступы. Не исключено, однако, как мы убедились, что буддисты перестроили верхнюю часть первоначального сооружения, как это было с другой хавиттой на том же острове. Сам Белл подчеркивает, что ее хорошо сохранившаяся нижняя секция никак не вписывается в конструкцию дагабы или ступы.
Мальдивский сюжет приберег для нас много неожиданностей...
Направляясь на другой день в Модхеру, чтобы осмотреть знаменитый храм Солнца, одну из главных туристских достопримечательностей в этой части Индии, я проезжал мимо бесконечных хлопковых полей. Водитель гордо довел до моего сведения, что хлопок - один из наиболее важных экспортных товаров Гуджарата, вывозится и по суше, и по морю. Парные упряжки волов терпеливо тащили объемистый груз к Бхаручу и другим портам на побережье. Деревянные повозки с большими колесами и дышлом были словно сделаны по образцу маленьких глиняных моделей, вылепленных художниками Мохенджо - Даро 4000-5000 лет назад. Да и груз был тот же, что и тогда: на этих самых полях впервые началось возделывание хлопчатника.
Я прилетел в Индию прямо с Мальдивов, и при мне были записи, включающие слова Лутфи о том, что в древности хлопчатник был одним из важнейших растений на архипелаге. Из древних источников видно, что там возделывали и пряли кафу (хлопок) и изготовляли тончайшие ткани на горизонтальных ткацких станках. Португальцы писали, что нигде в мире нет лучших хлопчатобумажных тканей. Высококачественные мальдивские изделия экспортировались в Индию. На некоторых островах все население было занято ткачеством. Покойников хоронили в саванах из хлопка, выращенного около их дома; и в каждом саду росло по два-три хлопчатовых дерева.
Я прибил в Гуджарат, отлично зная, что хлопчатник давно служит важным "пальцевым отпечатком" для изучающих миграции древних культур. Ни одно другое растение не давало повод для таких фронтальных столкновений ботанических свидетельств с антропологическими догмами. Вернувшись в 1947 году домой после плавания на бальсовом плоту "Кон-Тики" из Перу в Полинезию, я и сам сразу соприкоснулся с этой проблемой. Меня связали с ведущими мировыми специалистами по генетике хлопчатника Хатчинсоном, Силоу и Стефенсом. Как раз в том году они завершили первый хромосомный анализ диких и культурных видов хлопчатника и сделали революционное открытие. У всех видов хлопчатника Старого Света было 16 больших хромосом, тогда как виды хлопчатника Нового Света делились на две группы: у дикого, непрядильного американского хлопчатника - 13 малых хромосом, а у культурного - 26: 13 малых и 13 больших. Этот вид с длинным текстильным волокном в природе не существовал, его вывели представители доколумбовых цивилизаций Мексики и Перу. Предшественники майя, ацтеков и инков сумели скрестить дикий местный вид с хлопчатником Старого Света и получили гибрид с превосходным прядильным волокном.
Каким же образом древние индейцы Мексики и Перу сумели получить семена вида из Старого Света, чтобы скрестить их с непригодным для прядения местным видом? Разгорелась полемика. Ботаники высказали предположение, что люди пересекали Атлантику до Колумба. Невозможно, возражали им. Никакие суда не могли пройти этот путь до европейского средневековья. Семена сами приплыли в Америку. Или же их туда занесли пассаты.
Ботаникам удалось доказать, что выведенный в Америке вид с 26 хромосомами был доставлен на Галапагосы и Маркизский архипелаг в Полинезии древними мореплавателями. Поэтому предметом спора оставались семена, которые пересекли Атлантику,- дескать, они могли принадлежать дикому, а не культурному виду
(Hutchinson et al. (1947; 1949); Silow (1949); Heyerdahl (1952, p. 446-453).).
Слабость аргументации археологов заключалась в том, что по их схеме выходило, будто семенам было легче доплыть до Америки самим, чем на борту парусного судна, которому помогали ветры и течения. К тому же трудно представить себе, чтобы американские индейцы стояли на берегу и ждали случая выловить нужные семена, заранее зная, что при их скрещивании с диким местным растением получится прядильный хлопчатник.
Слабым местом в рассуждениях тех, кто предполагал доставку семян человеком, было то, что ни финикийцы, ни норманны, ни какие-либо другие европейские и африканские народы, представители которых плавали по морям, не возделывали хлопчатник. Даже древние египтяне и жители Месопотамии не были хлопководами. Хлопководство для
собственных нужд и на продажу ограничивалось областью Индской цивилизации, пока вдруг не появилось в доколумбовы времена у всех цивилизованных народов и племен Мексики и Перу.
Глядя на волов, которые, как и тысячи лет назад, везли хлопок в порты Гуджарата, я задумался над возможными следствиями того, что на Мальдивах в древности тоже существовало хлопководство. Задолго до прихода на Мальдивы европейцев Ибн Баттута писал о тамошнем хлопке и называл мальдивские хлопчатобумажные ткани лучшими в мире! Может быть, семена прядильного хлопчатника сами приплыли на эти острова в доколумбовы времена? Сомнительно. Всякий, кто плавал на плотах в тропических водах, мог видеть, что поверхностный слой воды изобилует мусорщиками. Тут и крупные потребители планктона, и мелкие рыбешки, которые, как и вездесущие крохотные пелагические крабы, тотчас подхватывают любую крупинку. Мы никогда не узнаем, кто именно, но кто-то доставил по морю на Мальдивы семена хлопчатника, культивировавшегося в долине Инда. Ботаник Силоу, основываясь на бесспорных генетических свидетельствах, не побоялся предположить, что культурный хлопчатник в какой-то момент попал из долины Инда в Америку. Но каким образом? Ни он, ни я, ни кто-либо еще не думал в этой связи о Мальдивах. А ведь если учесть, что это океаническое королевство поддерживало контакт с Камбейским заливом по меньшей мере за тысячу лет до плавания Колумба, географические барьеры рушатся. Суда, способные доставить хлопчатник на Мальдивы, оказывались в точке, откуда вполне могли обогнуть южную оконечность Африки и с помощью стихий дойти до Мексиканского залива.
Хотя до храма Солнца был не один час езды из приморья и он не совсем оправдал мои ожидания, я не пожалел о времени, затраченном на эту экскурсию. Построенный уже в XI веке н. э., храм представлял совсем другой культурный период, нежели тот, который я осматривал в Бхаруче. Венчающая все сооружение кровля в виде ступенчатой пирамиды исчезла, но сохранилось множество колоссальных, богато декорированных колонн, подпирающих уцелевшие части надстройки. И даже того, что можно видеть сегодня, довольно, чтобы оценить великое мастерство древних гуджаратских строителей, чье творение стоит в ряду лучших образцов индийского искусства и архитектуры.
Местный гид рассказал, что фасад храма был обращен на восток и вся конструкция рассчитана так, что в дни весеннего и осеннего равноденствий лучи восходящего солнца проникали через двери мандапов внутрь, и все сооружение "лучилось сиянием верховного бога Солнца". Главное изваяние отсутствовало, но осталось двенадцать других огромных статуй бога Солнца и еще двенадцать поменьше. Гид объяснил, что они изваяны по образцу изображений бога Митры, найденных в Иране и других странах Центральной Азии.
А я тем временем открыл для себя одну деталь, которая побудила меня отстать от группы индийских экскурсантов. Я снова увидел пазы для фигурных скоб. И судя по тому, что они не везде стыковались, храм Солнца был воздвигнут на месте более древнего, разрушенного святилища. Некоторые большие блоки в половом настиле сохранили изначальное положение, их пазы подходили друг к другу, но несколько камней использовали в стенной кладке, не заботясь о совмещении пазов. Так или иначе, все говорило за то, что в древности такой специфический способ соединения блоков был широко распространен в этой части Индии. И столь же очевидно, что роскошный храм XI века не представлял исконную архитектуру здешних мест.
О том, что строители храма охотно использовали идею ступенчатой пирамиды как культового здания, говорила не только конструкция кровли, это подтверждал и мотив, воплощенный в сооружении, прилегающем к храму. У восточного выхода я догнал гида, который как раз кончил объяснять экскурсантам смысл украшающих стены и колонны бесчисленных больших и маленьких фигур, занятых ратоборством и любовью. Затем группа вышла наружу, и гид обратил наше внимание на огромный священный бассейн "Сурья Кунда", или "Купальня Солнца", размерами под стать самому храму. Ступенчатые стены наполненной водой прямоугольной чаши смыкались вверху с фундаментом храма Солнца. Мало того, что купальня представляла собой как бы опрокинутое зеркальное отражение зиккурата,- чтобы никто не сомневался в том, какой мотив лег в основу ее конструкции, каждую площадку окаймлял декор в виде крохотных ступенчатых пирамид.
Центральное место на западной стене храма занимала скульптура Вишну, возлежащего на своем неизменном змеином плоту. Не совсем обычное судно. Я невольно вспомнил Кон-Тики - доинкского бога Солнца в Перу. И Кецалькоатля - ацтекского бога Солнца в Мексике. Оба путешествовали на таких же диковинных плотах. В мифах обеих стран эти боги выступают в облике бородатых чужеземцев, которые принесли туда солнцепоклонничество и цивилизацию. А также научили предков возделывать хлопчатник. В ацтекских преданиях Кецалькоатль плавает по морю на плоту из змей. В доинкской иконографии в приморье Северного Перу Кон-Тики тоже изображен путешествующим со своей свитой на змеином плоту. Совпадение? У тех. кто вместе со мной пересекал Атлантику на папирусной ладье "Ра", было такое чувство, словно мы плыли на связке извивающихся змей.
Может быть, сходство легенд у этих народов объясняется чем, что они пользовались одинаковыми судами? Или же сходство судов вызвано тем, что у них были одинаковые легенды?
По пути обратно в приморье водитель сделал остановку, чтобы показать мне несколько уау (вав), которыми знаменит Гуджарат. Огромные подземные гидротехнические сооружения. В основном колодцы, оформленные как храмы, искусно декорированные, с ритуальными лестницами. Некоторые колодцы настолько велики и вода залегает так глубоко, что лестница состоит из нескольких пролетов, напоминая спуск в метро. Возраст этих замечательных образцов строительного искусства очень велик. Гуджарат явно входил в область распространения родственных гидротехнических цивилизаций, процветавших по всей Западной Ази"и начиная с III тысячелетия до н.э. Шумерские тексты изобилуют упоминаниями о больших судоходных каналах и сложных оросительных системах, для строительства и расчистки которых правители не жалели сил и средств. На острове Бахрейн датские археологи открыли подземные водоводы весьма совершенной конструкции, известной по раскопкам в Иране. По другую сторону Ормузского пролива я с изумлением осматривал в Омане древние фаладжи. На глубине до десяти метров в недрах пустыни тянутся облицованные камнем многокилометровые тоннели со смотровыми колодцами. Требуемый напор воды поддерживался за счет того, что фаладж, начинаясь в верхней части ущелья, спускался вдоль реки, затем нырял под ее ложе и вновь выходил на поверхность. Древние строители знали, как управлять водным потоком. Неудивительно, что на Шри-Ланку прибыли уже готовые мастера этого дела, а на Мальдивах строили прекрасные бассейны, где поступление пресной воды регулировалось при помощи отверстий в донном настиле. В наше время большинство потерпевших кораблекрушение, выплыв на берег соленой лагуны, погибли бы от жажды, не сообразив, что можно добыть пресную воду, если докопаться до твердого известнякового основания атолла.
Восхищенный всеми уже виденными в Гуджарате проявлениями интеллекта, вкуса и мастерства древних людей, на другой день я стоял на краю освещенного жгучим солнцем, заполненного стоячей водой огромного резервуара. Печатный плакат извещал, что длина этого сооружения 218 метров, ширина 37 метров, глубина 4,15 метра. В чашу необычного бассейна, сложенного из обожженного кирпича, не спускались никакие лестницы, но в одном торце открывался просвет со следами шлюзовой арматуры. Речь шла не о ритуальном бассейне, и плоскость вертикальных стен не нарушалась скамьями. Я находился в древнем порту Лотхал. Резервуар сложили из особо прочного кирпича, не боящегося соленой морской воды. Рао, открывший здешний комплекс в 1954 году и возглавивший раскопки, писал:
"Самое большое сооружение из обожженого кирпича, когда-либо построенное ха-раппцами, то, которое раскопано на восточной окраине Лотхала и которое служило доком для стоянки судов под погрузкой-разгрузкой". И еще: "Ни в одном другом из портов бронзового века, будь то раннего или позднего, не обнаружено искусственного дока с шлюзовым устройством. Да и в самой Индии гидротехника не пошла дальше после хараппского периода"
(Rao (1965, p. 30-37).).
Когда я был здесь в прошлый раз, меня удивили малые размеры входа в док: суда, способные протиснуться в этот просвет, с таким же успехом можно было просто вытащить на берег. И я сказал сопровождавшему меня профессору Мехта, что у дока должен быть еще какой-то вход.
- Рао пришел к такому же выводу,- сказал Мехта смеясь. Но мы заложили шурфы с наружной стороны других стен и всюду натолкнулись на твердый стерильный грунт. Другого входа не было. Вот почему кое-кто из нас теперь склоняется к мнению, что резервуар мог быть предназначен для сбора дождевой воды.
- Исключено! - воскликнул я.- Вы только что показали мне большие каменные якоря, которые Рао нашел внутри, и расположенный поблизости древний колодец. Никто не стал бы копать колодец рядом с резервуаром для пресной воды. И если им так уж нужно было собирать дождевую или паводковую воду, было бы проще и логичнее вырыть водосбор с покатыми берегами, чтобы люди и животные могли подходить к воде по мере понижения ее уровня. А не класть высокие вертикальные стены, чтобы доставать воду ведрами.
Мои спутники согласились со мной. И все же ни один корабль не смог бы войти через узкий просвет в эту великолепную гавань. А для чего служила большая пристань из сырцового кирпича с многочисленными складскими помещениями? Все обнаруженное Рао убедительно говорило о том, что перед нами док, и я попросил разрешения заложить еще один разведочный шурф. Два рабочих вооружились лопатами и выкопали яму рядом с входом снаружи. Рыхлая земля и старые черепки-позднейшая засыпка... Входной канал первоначально был намного шире! Это наблюдение заставило меня внимательнее присмотреться к хорошо сохранившейся кладке с внутренней стороны. Древние лотхалские каменщики клали кирпич совсем как современные мастера: стык двух кирпичей приходился точно посередине кирпича в следующем ряду. Однако метра на два в каждую сторону от нынешнего входа этот принцип был нарушен, словно кто-то позднее добавил новые секции, чтобы сузить просвет.
Пробный шурф снаружи и неровная кладка внутри позволяли заключить, что на заре существования лотхалского порта в док свободно могли входить большие бунтовые ладьи. А уже потом широкий вход в просторный бассейн уменьшили до размеров скромного водослива, перекрываемого деревянными затворами. Почему?
Сегодня Лотхал отделен от Камбейского залива сухой илистой равниной. Да и здешняя река протекает слишком далеко от дока, чтобы заполнять его паводковыми водами. Известно, что со времен Харапиы и Шумера море в этой области сильно отступило. Главный шумерский портовый город Ур тоже погребен песками вдали от реки Евфрат и Персидского залива. Известно также, что разность уровня воды во время прилива и отлива в Камбейском заливе достигает 10,5 метра
(По уточненным данным, величина прилива в Камбейском заливе составляет 9,1 метра.- Прим).). По сей день местные лодки строят с широким дном и чуть выступающим килем, чтобы не опрокидывались, очутившись на мели во время отлива. Древний лотхалский порт был приспособлен для двухбунтовых ладей, которые в прилив свободно входили в док. При этом палуба оказывалась выше пристани, когда же вода отступала, судно ложилось на обсохшее дно, и палуба опускалась вровень с пристанью. Напомню, что толщина бунтов нашего маленького "Тигриса" составляла 3 метра.
Я приехал в Лотхал в третий раз, и позади были раскопки на Мальдивах, где мы нашли древние привозные бусины. Одна из них, совсем крохотная, относилась к виду, который специалисты считают типичным для Лотхала. Буквально в нескольких шагах от пристани и развалин складских помещений находилась древняя мастерская, где Рао обнаружил множество миниатюрных бусинок толщиной 1-1,3 мм. В маленьком местном музее были и другие лотхалские ювелирные изделия. Прежде я как-то не обращал на них особого внимания, теперь же смотрел в оба. В одной стеклянной витрине лежало ожерелье из круглых агатовых бусин коричневого цвета, чередующихся с просверленными вдоль белыми цилиндрическими бусинами из камня или раковин. Оба эти вида также встретились нам на Мальдивах, причем в точности совпадали и форма, и величина. Надпись на дощечке гласила: "Индские бусины из полудрагоценных камней, пользовавшиеся большим спросом в Шумере, Бахрейне, Эламе и Египте, изготавливались в Лотхале и вывозились в далекие страны. Сырье, а именно агат, халцедон, яшма и др., поступало из копей Ратанпура в южном Гуджарате через хараппские порты Мехгам и Бхагатрав". Во дворе ювелирной мастерской Рао откопал сосуды, в которых хранилось 800 сердоликовых и агатовых бусин на разной стадии обработки. Точно таких, какие прямо или переходя из рук в руки попали и на Мальдивы.
Индийские археологи считают, что древний порт перестал функционировать после того, как около 1900 года до н. э. исключительно сильный паводок закупорил вход в портовый бассейн, положив конец процветанию Лотхала. Однако до тех пор Лотхал успел заполучить уже упоминавшиеся раковины каури, которые можно было увидеть в соседней с бусинами витрине. Импорт и экспорт. С импорта и экспорта, ставших возможными благодаря морским судам, началась цивилизация.
Глава XIV. Заключение
Мы сидели на втором этаже музея "Кон-Тики" в Осло - Арне Шёльс иолд, Юхан-сен, Миккельсен и я. В помещениях под нами находились бальсовый плот "Кон-Тики" и папирусная ладья "Ра II", которые в каком-то смысле свели нас вместе, привив нам интерес к археологии островов.
А еще с нами был Кнют Хаугланд, директор музея и мой ближайший сотрудник за все годы, минувшие с той поры, как оба мы, пройдя на бальсовом плот\ через океан, ступили на берег острова в Полинезии. Незаменимый член нашей группы, он превратил музей из сарая для временного хранения плота в подлинный научно-просветительный центр, доходы от которого идут на финансирование научных исследований.
Только что в музее побывал Аббас Ибрахим, министр канцелярии президента Мальдивской Республики. Готовилась экспозиция отдельных экземпляров из числа раскопанных нами камней с одинаковым декором. Теперь мы собрались, чтобы обсудить дальнейшую работу, поскольку Шёльсволду, Юхансену и Микксльсену предстояло написать иллюстрированные научные статьи о своих раскопках для публикации в изданиях музея "Кон-Тики".
Так кто же открыл Мальдивы?- шутливо спросил Кнют.- Вы нашли ответ?
- Один ответ есть,- сказал Шёльсволд.- И возможно, он многих удивит. Эти острова не были случайно обнаружены первобытными мореплавателями. Их заселили представители высокоразвитой цивилизации, совершавшие в древности дальние плавания.
- Притом они уже были великими зодчими и художниками,- добавил Миккельсен.- II все это происходило до эпохи викингов в Европе.
- Возможно, даже во времена европейского неолита.- Юхансен с улыбкой указал кивком на мешочек с черепками, который он положил на стол между нами.
- Может быть. Во всяком случае, мы теперь располагаем первыми доказательствами того, что мальдивцы возводили сооружения классического типа за 1000 лет до эпохи Колумба,-продолжал Шёльсволд.-Я только что получил из лаборатории первые радиокарбонные датировки. Около 500 года н. э. на Ниланду был построен храмовый комплекс. Возможно, даже перестроен, поскольку в его кладку вошли камни из какой-то прежней конструкции.
Мы вспоминали погребенные стены хавитты на Ниланду с профилированными блоками, которые могли бы украсить любой современный собор. Вспоминали также красивую раковину, лежавшую на самом дне под песчаным ядром конструкции. Она и еще одна большая раковина, а также образцы древесного угля, все из одного горизонта, дали примерно одинаковую датировку по радиоуглероду. Однако вместе с первой раковиной Шёльсволд обнаружил великолепные известняковые блоки красноватого цвета, явно взятые из какого-то более древнего сооружения.
Возраст этих блоков определить невозможно,- сказал Шёльсволд.- Но во всяком случае, очевидно, что на Ниланду кто-то трудился и до 500 года.
Мы не углублялись в тело хавитты на Гааф - Гане, а потому не располагали материалом для ее датировки, добыли только скульптуры. Костные образцы, полученные из шурфов рядом с хавиттой и датированные примерно 1500 годом, относились к мусульманскому периоду. И к эпохе Колумба, отделенной тысячью лет от перестройки хавитты на Ниланду.
Пятисотый год - это на шесть веков раньше .таты заселения Мальдивов, приводимой в местных официальных источниках, заключил Арне,
У археологов были все основания испытывать удовлетворение от своих первых пробных раскопок, однако Хаугланд недоумевал:
- Откуда могли плыть опытные зодчие за 1000 лет до того, как европейские каравеллы отважились выйти в открытый океан?
Азия, Африка, Америка... Настала моя очередь доложить об увиденном в древнем центре морской торговли на северо-западе Индии. В Лотхале и вокруг Бхаруча. На родине "львиных людей", которые строили морские суда и выходили на них в океан в VI веке до н. э. Память об их морских подвигах дала пищу древним легендам, записанным около 500 года, в одно время с второй фазой строительства на Ниланду. Жители Бхаруча были искусными зодчими задолго до того, как король - за 2000 лет до плаваний Колумба! - отправил большую экспедицию на поиски других земель. Эти мастера готовили профилированные блоки вроде тех. что мы нашли на Ниланду. Они вытесывали из твердых горных пород плиты с орнаментом, тщательно пригоняли их друг к другу и соединяли фигурными скобами. Организовали массовые работы для сооружения больших священных пирамид. Сохраняя традиции предков, они ваяли скульптуры львов и быков. Использовали в культовом декоре мотивы солнца, лотоса и свастики. Добывали халцедон и агат и делали на экспорт бусины вроде найденных нами. У них было даже общее с мальдивцами диковинное слово "барабаро". В общем, я обнаружил чуть ли не все, что мы все искали, включая четырехликого Шиву. Исключение составила плита с отпечатком ноги и пиктограммами. Она указывала на Нага-дипу, тамильскую территорию в крайней северной точке Шри-Ланки, где впервые высадились "львиные люди".
Ты по-прежнему считаешь, что пиктограммы на вашей разбитой плите сродни письменности долины Инда? - спросил Кнют.
 Обнаружив недостающие фрагменты разбитой каменной плиты со свастиками и другими причудливыми знаками, мы восстановили один из ключей к мальдивской загадке
Обнаружив недостающие фрагменты разбитой каменной плиты со свастиками и другими причудливыми знаками, мы восстановили один из ключей к мальдивской загадке
Прямой связи, возможно, нет, но косвенная намечается. У всех этих знаков было символическое значение. Это действительно пиктограммы. И все они стоят в ряду символов, исходивших из региона первой цивилизации на северо-западе Индии. Из портов Лотхал, Бхагатрав. Бхаруч и многих позднейших индусских королевств в той же области. Известно, что этот центр мореходства стал колыбелью всех разнообразных культур и королевств, которые затем складывались на обширной территории вплоть до южной оконечности Индии, а на восток-до Явы и других далеких стран. Судя по всему, Мальдивы можно считать одной из ветвей этой великой древней культурной экспансии.
- Вам известно,- вступил Миккельсен,- что фаллоидные камни существовали уже во времена Индской цивилизации?
- В национальном музее Карачи мы видели превосходный образец из Мохенджо-Даро! - подхватил Юхансен.
Считать ли прообразом найденных нами на Мальдивах фаллоидных камней мини-ступы или шивалингам, в том и другом случае у них был древний "предок" в культах Индской цивилизации. Так, Британская энциклопедия в статье о Шиве указывает, что фаллическая фигура, изображенная на индской печати в йогической позе, может быть прототипом этого божества "или же воплощает древнее представление о связи аскетического и фаллического, которое дожило в мифах о Шиве до наших дней".
- Когда-то и у нас в Норвегии были такие камни,- улыбнулся Юхансен. Священные Белые Камни периода, предшествующего викингам, в точности похожи на азиатские. Они датируются примерно 500 годом н. э.
Юхансен был специалистом по этим изделиям и показал фотографии фаллоидных камней, подобных обнаруженным нами на Мальдивах и предположительно относящихся к тому же периоду. Всем было ясно, что перед нами типичный пример независимого творчества.
Но как быть с загадкой раковин каури? Разумеется, жители Скандинавии могли сами додуматься до вытесывания священных фаллоидных камней, даже похожих на ступы. Но откуда они заполучили каури?
Вскоре после того, как мои друзья были проинформированы о раковинах, найденных археологами в захоронениях в Лотхале, я получил письмо от одной финской женщины, которая видела в хельсинкском Национальном музее каури, обнаруженные в древних могилах на востоке Финляндии. Я попросил прислать дополнительные сведения, она обратилась к сотрудникам музея и сообщила мне, что археологи постоянно находят раковины каури по всему финно-угорскому региону! В древней Финляндии они шли в основном на украшение конской сбруи. Живущие в Верхнем Поволжье марийцы называли их "змеиными головками"; из письменных источников видно, что они получали их в уплату за меха, поставляемые в Волжско-Камскую Болгарию, чья территория граничила с областью Хазарского каганата у Каспийского моря. Сюда каури привозили арабские купцы, торговые пути которых проходили от Индийского океана через Персидский залив, затем по суше через Тебриз до Каспия. По сути дела, речь шла о расширении сбыта вывозимых по морю в больших количествах мальдивских каури, о чем древние арабские путешественники сообщали задолго до того, как Мальдивы стали мусульманским султанатом. Одним из арабских авторов был Ибн Фадлан, посетивший Волжско-Камскую Болгарию в 922 году.
Эстонский историк Л. Мери пишет об этом поразительном торговом маршруте: "Мода на раковины каури охватила все финно-угорские народы, которые не имели понятия о том, что поставщик "змеиных головок" Мальдивы в далеком Индийском океане, где водились эти моллюски"
(Письмо от Эсы Анттонен, дат. 31.Х.84, основано на сведениях, полученных от Ильдико Лехти-нен; L. Meri (1984, S. 174).).
Знакомя моих друзей с этой новой информацией, я полагал, что мы достигли крайних пространственных и временных пределов торговли раковинами каури. Однако я ошибался.
- Мы можем добавить, что норвежские археологи находили каури на атлантическом побережье к северу от Полярного круга. Двенадцать раковин обнаружены в Лёдингене на севере Норвегии, в захоронении, которое датируется VI веком н. э.
Этот удивительный факт поведал нам Миккельсен. Выждав, пока мы осмыслим услышанное, Юхансен добавил:
- В 1975 году раковины каури были найдены в датируемой примерно 600 годом женской могиле на острове Люрэй у берегов Северной Норвегии, через который проходит Полярный круг!
Пока я переваривал этот сюрприз из моей родной страны, Миккельсен спокойно выложил на стол публикацию шведского археолога Б. Нермана, который раскапывал древние могилы на острове Готланд, расположенном к востоку от собственно Швеции. Нерман обнаружил каури из Индийского океана в трех женских захоронениях, датируемых 550-800 гг. н. э. Одна раковина была просверлена и, видимо, украшала пояс. Тот факт, что в столь отдаленные времена у Готланда был, пусть даже косвенный, контакт с народами Индийского океана, вызвал сенсацию в Швеции. А затем в одной шведской могиле того же периода нашли чудесную бронзовую фигурку Будды, восседающего на цветке лотоса.
Никто из нас не сомневался в том, что люди странствовали задолго до того, как было заведено регистрировать пассажиров. Но у Кнюта возник вопрос:
- А не могли каури поступать с Атлантики?
- Нет,- ответил я.- Моллюск Cypraea moneta водится только в Тихом и Индийском океанах, и больше нигде
(Burgess (1970, p. 343).).
- Может быть, из Восточной Африки?
- Ибн Баттута сообщает, что Восточная Африка импортировала мальдивские каури, и он сам возил большие партии раковин в Азию. Еще до того как арабы пришли на Мальдивы, чтобы внедрить там ислам, они называли этот архипелаг "Монетными островами". За триста лет до Ибн Баттуты аль-Бируни писал, что Мальдивам принадлежит монополия на каури.
От крайнего севера Европы наш обзор мальдивской торговли переключился на другой конец Старого Света-Восточную Азию.
- Древняя китайская керамика,- объявил Юхансен, раскладывая на столе знакомые нам зеленые черепки.- Вот это мы раскопали на Ниланду, Гааф - Гане и Фуа - Мулаку. Во время поездки по Юго-Восточной Азии я показывал эти образцы тамошним археологам. Все они определили, что речь идет о китайской посуде VIII века, когда древняя торговля с Китаем приобрела широкий размах и керамика была главным экспортным товаром.
Юхансен выяснил также, что сотрудник чикагского Института Востока Дж. Карсуэлл собрал на Мальдивах сотни черепков керамики, относящейся к периодам династий Сун (960-1279) и Мин (1368-1644). Р1сламитская керамика почти отсутствовала, и Карсуэлла удивило обилие свидетельств контакта с Восточной Азией в арабском периоде. На одном острове к югу от Мале некий Дж. В. Аллен подобрал черепки, представляющие, по мнению экспертов, сассанидскую керамику из области Персидского залива. Другие черепки, найденные тем же Алленом, представляли керамику из Юго-Восточной Азии и Китая.
Помимо Карсуэлла и Аллена, мы слышали только об одном собирателе мальдивских черепков - Иваре, шестилетнем сыне наших друзей в Мале, Евы Юнссон и Мухамеда Хамида. Ему попался поистине редкостный образец. Играя вместе с родителями на песчаном пляже острова. В аду (Кааф - Ваду), к юго-западу от Мале, он нашел черепок древней крашеной серой керамики ручной лепки, с особым лиственным узором, характерным для цивилизации долины Инда. Похоже, песок этого крохотного островка хранит много тайн. Я и сам наведался в тамошний туристский комплекс, чтобы осмотреть маленького бронзового Будду, найденного кем-то при прокладке канализационных труб.
Мы еще любовались черепком юного Ивара, когда Юхансен поставил на стол коробку с его главным козырем. Он тоже посетил Ваду и теперь, доставая из коробки трофеи, рассказал нам о своих поисках.
В соответствии с нашей коллективной программой Юхансен только что вновь побывал на Мальдивах, рассчитывая добраться до острова Маалхос в атолле Алифу, к западу от Мале. Дело в том, что незадолго перед тем туда проник один шведский турист, до которого дошли слухи о найденной 17 лет назад на этом острове каменной голове. Как он рассказывал нам потом, островитяне сперва решительно отрицали факт находки, но в конце концов показали ему каменную маску, лежащую лицом вниз на куче мусора, и объяснили, что она была обнаружена в старом колодце. Швед настоял на том, чтобы маску отправили в Мале, и перед самым нашим отъездом мы смогли ее осмотреть. Высотой около 30 сантиметров, она была вырезана из известняка; на лбу превосходно выполненного реалистичного лица - символический "третий глаз"; над орнаментированной головной повязкой возвышалась остроконечная шапочка.
Единственной целью повторной поездки Юхансена на Мальдивы было заложить пробные шурфы там, где была найдена маска. Однако наши друзья из Национального совета почему-то не пустили его на Маалхос, и тогда он отправился на Ваду, где Ивар сделал свою драгоценную находку. Юхансен убедился, что песок этого острова полон древних черепков. Очевидно, Ваду некогда играл важную роль. Услышав от местных жителей, что в прошлом остров был намного больше, Юхансен решил поискать в лагуне. И голыми руками собрал на дне целые пригоршни черепков. Некоторые из них лежали теперь перед нами.
Юхансен обратил наше внимание на осколки изящных некрашеных серых горшков ручной ленки с так называемым шнуровым орнаментом.
- Я показывал эти образцы археологам в национальных музеях Сингапура, Куала - Лумпура и Манилы, не говоря, что нашел их под водой у пляжа Ваадхуу. Независимо друг от друга все специалисты определили, что речь идет о неолитической керамике типа, который вышел из употребления около 2000 года до н. э.
Мы молча изучали переходящие из рук в руки черепки самого разного типа. Возможно, некоторые из найденных на Мальдивах образцов когда-нибудь поведают нам, каким образом Мадагаскар в древности был заселен выходцами из Индонезии.
Настал мой черед поделиться тем, что рассказали мне наши мусульманские друзья из Национального совета. Они в конце концов решились полностью посвятить меня в историю большой каменной головы Будды, из-за которой я в первый раз отправился на Мальдивы. Она и впрямь была частью статуи, разбитой на куски религиозными фанатиками. Нашли статую на острове Тодду к западу от Мале, чуть севернее атолла Алифу. Но это еще не все.
Статуя находилась внутри маленькой ступы, и ступа тоже хорошо сохранилась. Восемь веков она была скрыта под насыпью, поросшей пальмами и густым кустарником; местные жители называли этот холм Боду гафуси - "Большая груда камня". В 1958 году столичный чиновник Мухамед Исмаил Диди, заручившись разрешением властей и Мусульманского комитета, прибыл на Тодду и с бригадой островитян расчистил и раскопал холм. Купол маленькой ступы высотой всего около двух метров был цел, как и резная каменная ограда, имитирующая бревенчатый забор. Диди написал отчет о своем открытии на языке дивехи, и жена Азима Шадас перевела мне этот документ.
Будда помешался в отсеке, накрытом большой каменной плитой. Диди нашел также круглый каменный ларец для реликвий, в котором на черном порошке, возможно пепле, лежали серебряная чаша, две серебряные пластины с письменами, размером 30 х 5 сантиметров, золотой цилиндрик, вероятно служивший талисманом, несколько маленьких слитков золота и куски золотой проволоки, три кольца, две монеты и вещество, похожее на местное лекарство. Монеты тщательно очистили, чтобы рассмотреть, что на них изображено. В отчете говорилось: "Там был то ли олень, то ли конь, точно сказать мы не могли... на другой стороне монеты - чья-то голова. Вторая монета была слишком стертая. Мы сфотографировали обе монеты".
Никто не знал, куда подевалось содержимое ларца. Вместе со всем остальным пропали и монеты. Вандалы постарались уничтожить маленькую ступу. Но фотоснимки монет были спасены нашим другом Хасаном Манику. На одной монете была изображена увенчанная лаврами голова Аполлона; на обороте - Минерва на квадриге. В монете просверлена дырочка; видимо, ее носили как талисман. В 1980 году научный сотрудник Эбердинского университета А. Д. У. Форбс, занимаясь исследованиями на Мальдивах, приобрел копии снимков и послал их доктору Н. М. Ловику, сотруднику отдела монет и медалей Британского музея. В архивах в кабинете Лутфи нашлась машинописная копия подробного отчета Форбса, с которым я и познакомился: "Доктор Ловик сразу опознал в монете древнеримский динарий Кая Вибия Пансы, отчеканенный в Риме в 90 году до н. э. ...Такие монеты могли иметь хождение на территории Римской империи вплоть до 100 года н. э."
(A Roman Republican Denarius of с. 90 В. С. from the Maldive Islands, Indian Ocean". Manuscript by Andrew D. W. Forbes. National Centre for Linguistic and Historical Research. Male.).
- Монета 90 года до новой эры... Конечно, ее могли долго носить как талисман,- заметил Шёльсволд.- Вместе с тем известно, что между Мальдивами и Древним Римом существовали прямые контакты.
Он подразумевал времена правления римского императора Флавия Клавдия Юлиана, который умер в 363 году н. э. До нас дошел составленный соратником Юлиана, Аммианом Марселлином, перечень посланцев из далеких стран, прибывших в Рим, чтобы славить императора:
"По одну сторону престола, взывая о мире, выступали люди из стран за Тигрисом и из Армении, по другую сторону находились знатные посланцы народов Индии и даже Диви и Серендиви, спешившие первыми поднести свои дары" (
Ammianus Marcellinus, Book XXII, 7.10.).
Серендиви - Шри-Ланка; Диви - острова перед Шри-Ланкой.
- Римляне узнали от египтян, как доплыть до этих островов, -добавил я, повторив мою любимую цитату из Плиния Старшего.
В нашем музее был экземпляр "Естественной истории" Плиния, и, достав его с полки, я открыл страницу, пестрящую пометками. Плиний погиб при извержении Везувия в 79 году н.э.; уже тогда римские корабли доходили до Шри-Ланки и ближайшего к острову побережья Индии. Иначе говоря, как раз в ту пору, когда еще были в ходу римские монеты, подобные найденной на Мальдивах. Чтобы попасть в Шри-Ланку, римские суда должны были проходить через Мальдивский архипелаг.
Но сейчас я обратился к труду Плиния, чтобы освежить в памяти сообщаемое им о плаваниях к прасиям, обитавшим в области реки Ганг, на востоке Индии. Описав Шри-Ланку, ее города и продукты, Плиний продолжает:
"Раньше считалось, что этот остров находился в 20 днях плавания от страны пра-сиев, поскольку туда ходили на судах, связанных из папируса, и с оснасткой, применяемой на Ниле, но впоследствии с учетом скорости наших собственных судов расстояние стали исчислять семью ходовыми днями".
Те, кто утверждает, будто египетские папирусные ладьи никогда не ходили дальше Нила, явно проглядели эти строки. А ведь не будь их, я не стал бы так настойчиво испытывать папирусные ладьи в океане. Помимо примерных расстояний в ходовых днях, римляне узнали от египтян секрет, как пересекать Индийский океан, используя сезонные вариации муссонов. Плиний призывал римлян самим вести торговлю со странами Индийского океана, вместо того чтобы уступать прибыль египетским посредникам:
"Теперь, когда мы впервые располагаем надежными сведениями, было бы целесообразно начинать путешествие в Египте. Это очень важное дело, если учесть, что Индии достается в год не менее пятидесяти миллионов сестерциев из нашей имперской казны в обмен на товары, сбываемые у нас по цене, стократно превышающей себестоимость".
Плиний предлагает римским купцам совершить двенадцатидневное плавание вверх по Нилу до Кефта, откуда еще столько же дней верблюжий караван идет до Берениса у Красного моря. На этом пути через равные промежутки есть колодцы и караван - сараи, способные принять 2000 путешественников. Судя по всему, движение было весьма оживленным.
"Дальнейшее плавание начинается в середине лета, перед тем как покажется Сириус или сразу после его появления; на переход от аравийского порта Селла потребно около тридцати дней... от этого порта, если дует Гиппал, сорок дней плавания до первого торгового города в Индии... Возвращаясь из Индии, путники поднимают паруса в начале египетского месяца Тибис, что отвечает нашему декабрю, но. во всяком случае, раньше шестого дня египетского Мешира, то есть до 13 января по нашему календарю, что позволяет в том же году вернуться домой"
(Plinius (77, Book VI, p. 398-401, 416419).).
- Можно прочесть, что плавать с учетом муссонов Васко да Гаму научили арабы,- сказал я.- И это верно. Но не будем забывать, что на 1500 лет раньше египтяне научили этому римлян.
- Подумать только, какая картина представлялась глазам мальдивцев, когда гордые египетские папирусные корабли с красочными прямыми парусами шли по столбовой дороге солнца через Экваториальный проход,- произнес Юхансен.
Мы пришли к общем мнению, что эти корабли вряд ли проходили через архипелаг без остановок. Ни один моряк не стал бы пересекать Индийский океан в ту или,- другую сторону, не пополнив по пути запас свежей провизии и пресной воды. Быть может, мальдивские женщины переняли свои красочные пелерины, а мужчины - изящные обводы своих дхони у следовавших транзитом египтян.
- Кто сказал, что мальдивцы жили в изоляции среди океана?- спросил Миккельсон.- Они поселились на перекрестке, где встречались все великие морские нации.
Если на Мальдивы приходили папирусные ладьи из Красного моря, то еще проще это было для судов из Персидского залива. А моряки из Камбейского залива были, можно сказать, соседями,
Не составь Плиний ради интересов Рима свое руководство, мы не нашли бы в древних источниках данных об египетских плаваниях до Шри-Ланки и дальше. Путешествие царицы Хатшепсут по Красному морю в легендарную страну Пунт или организованная фараоном Нехо экспедиция, участники которой обогнули Африку,- такие события считались достойными увековечения, что же до обычных торговцев, то ни египтяне, ни их соседи не находили нужным посвящать этим людям надписи на стелах или папирусы. Краткие тексты Индской цивилизации не расшифрованы, к тому же они известны только по печатям; впрочем, на одной печати изображена большая бунтовая ладья, а многочисленные образцы с индскими письменами, раскопанные в разных концах Месопотамии, уже своим присутствием говорят о многом. Зато месопотам-ские глиняные плитки изобилуют сведениями о больших кораблях и многомесячных плаваниях в да\ьние страны. Правда, географические названия не те, которыми мы пользуемся сегодня, и лишь наиболее часто упоминаемые вроде Дильмуна (Бахрейн), Макана (Оман) и Мелуххи (долина Инда) удалось предположительно идентифицировать. Что касается других, намного более удаленных пунктов, нам остается только гадать, что кроется за древними названиями. Вряд ли конструкция судов, подобных шумерским и вавилонским, претерпела серьезные изменения к VI веку, когда доставка мальдивских каури вверх по Тигрису и дальше по караванным путям перешла в руки арабов.
Человек с широким кругом интересов, Мэлони отметил, что у мальдивцев сохранился обычай пользоваться двенадцатиричной системой счета. Подчеркивая, что эта загадка наводит на размышления, он задается вопросом, где могла быть заимствована такая система. Отвергнув Шри-Ланку и Индию, он высказывает такое предположение:
"Остается, видимо, обратить свои взоры на Месопотамию, откуда пользование числами 6 и 12 распространилось в самых разных направлениях"
(Maloney (1980, p. 53).).
Мэлони допускает, что этот обычай из Шумера или Вавилона мог попасть на Мальдивский архипелаг через Персию, Синд и Древний Гуджарат, связанный с Мальдивами морским сообщением.
Я сказал своим товарищам, что после посещения Бхаруча и Лотхала в Гуджарате твердо убежден в одном: индуистские элементы культуры пришли на Мальдивы из Северо-Западной Индии. И вероятно, кто-то другой еще до индусов проделал путь из Камбейского залива на юг до Мальдивского архипелага. Возможно, само солнце привело к Экваториальному проходу древних мореплавателей времен Месопотамии и Индской цивилизации, и они остались в народной памяти под именем рединов. Может быть, это они разбили горшки на Мальдивах ранее 2000 года до н. э. и тогда же привезли каури в порт Лотхала?
 Солнце заходит, и мы прощаемся с Мальдивами. Тысячи лет солнце указывало путь мореплавателям; для солнцепоклонников его небесная дорога над экватором была священна. Именно там, где экватор пересекает архипелаг, расположены острова, на которых мы находили камни с солярными знаками
Солнце заходит, и мы прощаемся с Мальдивами. Тысячи лет солнце указывало путь мореплавателям; для солнцепоклонников его небесная дорога над экватором была священна. Именно там, где экватор пересекает архипелаг, расположены острова, на которых мы находили камни с солярными знаками
Шёльсволд подчеркнул - и все мы согласились с ним,- что до введения на Мальдивах ислама там явно прочно обосновалась буддийская вера. Буддисты могли прийти на архипелаг прямо из Бирмы; на такую возможность указывает виденный нами бамбуковый плот. Вообще многое говорит за то, что в домусульманском периоде Мальдивы поддерживали контакт с народами буддийской веры в Юго-Восточной Азии и Китае. Но все же наиболее вероятен вариант Шри-Ланки, где летописи рассказывают о связанной с прибытием на этот остров некоего могущественного буддиста около 500 года до н. э. миграции большого числа людей на коралловые атоллы в океане. Хотя Мальдивы ни в политическом, ни в религиозном смысле не находились под владычеством Шри-Ланки в сингальский период, эти два независимых государства не могли не знать друг о друге и, наверно, поддерживали какие-то коммерческие отношения. Как заметил Миккельсен, об этом говорят некоторые из черепков, раскопанных им и Юхансеном в пределах храмового комплекса на Ниланду. Они были определены как шри-ланкийские и датированы периодом, начинающимся с 700 года н. э.
Итак, похоже, что буддисты из Шри-Ланки и индуисты из Северо-Западной Индии внесли равный вклад в заселение Мальдивского архипелага, причем даже примерно в одном и том же веке, около 2500 лет назад. Если до них на Мальдивах кто-то жил, этих людей либо изгнали, либо ассимилировали.
Мальдивский архипелаг, о котором большинство из нас прежде знало только понаслышке, теперь рисовался нам огромным барьерным рифом, протянувшим осьминожьи щупальца в Красное море, Персидский залив и Камбейский залив, в обход Шри-Ланки до Бенгальского залива, через индонезийские проливы до Китая и даже в самые отдаленные уголки Старого Света. Прямо или косвенно древние Мальдивы были вовлечены в мировую торговлю.
Но откуда все-таки родом исконные жители архипелага?
Оставим этот вопрос открытым,- заключил Шёльсволд.- Нам известно, что Шри-Ланка и порты в Камбейском заливе сыграли важную роль в древней и дальнейшей истории Мальдивов. Но очень уж много других людей прибывали на архипелаг или проплывали через него до того, как началась наша собственная, европейская история, а потому...
Л потому, подхватил я,- лучше всего ограничиться выводом, что с тех самых нор. как человек начал строить суда, океан всегда был для него открытой магистралью.
Значит, ты не берешься назвать нам имя и адрес первого человека, который пришел на Мальдивы?-сказал Кнют.
Как звали европейца, который первым пересек Ла-Манш? - спросил Юхансен.
Кнют улыбнулся:
И все же первый человек, доплывший до крохотного атолла в Мальдивском архипелаге, заслуживает упоминания в истории мореплавания.
БИБЛИОГРАФИЯ
Бибби Дж. В поисках Дильмуна. М., "Наука", 1984.
Хейердал Т. Экспедиция "Тигрис". М., "Физкультура и спорт", 1981.
Хейердал Т. В поисках рая. Аку-Аку. М., "Мысль", 1974
Battuta Ibn (с. 1354). The Travels of Ibn Battuta. Trans, with revisions and notes from the Arabic text edited by C. DcfrcmeryandB. R. San gviriefti, by H. A. Gibb, vol. II, Hakluyt Society. Cambridge, 1962.
Bell H. C. P. (1925). A Description of the Maldive Islands: C. I683.-"Journal of the Royal Asiatic Society, Ceylon Branch", JV° 78. Colombo.
Bell H. C. P. (1940). The Maldive Islands. Monograph on the History, Archaelogy, and Epigraphy. Published posthumously. Ceylon Government Press. Colombo.
Burgess С. М. (1970). The Living Cowries. New York, London.
Fernando A. D. N. (1982). The Ancient Hydraulic Civilization of Sri Lanka in Relation to Its Natural
Resources. -"Journal of the Sri Lanka Branch of the Royal Asiatic Society", N. S., vol. XXVII, Special №. Colombo.
Forbes A. D. W. (1983). The Mosque in the Maldive Islands. A Preliminary Historical Survey.-In: "Etudes Interdiciplinaires sur le Monde Insulindien", Archipel 26, Archeologie Musulmane. Paris.
Grav A. (1888). The Voyage of Francois Pyrard of Laval to the East Indies, the Maldives, the Moluccas, and Brazil., Trans, and annotated by Albert Gray assisted by H. C. P. Bell, 2 vols. London, Hakluyt Society.
Heyerdahl T. (1952). American Indians in the Pacific. The Theory Behind the Kon- Tiki Expedition. London, Chicago.
Hutchinson J. В., Si1оw R. A., Stеphens S. G. (1947). The Evolution of Gossypium and the Differentiation of the Cultivated Cottons. London, New York and Toronto.
Hutchinson J. В., Si1оw R. A., Stephens S. C. (1949). The Problems of Trans-Pacific Migration Involved in the Origin of the Cultivated Cottons of the New World. Abstract from the Seventh Рас. Sci. Congr., N. Zealand, Feb.
Maloney C. (1980). People of the Maldive Islands. Madras.
Maniku H. A. (1977). The Maldive Islands, a Profile. Male.
Maniku H. A. (1983). The Islands of Maldives. Male.
Meri L. (1984). Hobevalgem. Tallin.
Plinius Gaius Secundus (77). Historia Naturalis. The Loeb Classical Library, Cambridge Mass. London.
Rao S. R. (1965). Shipping and Maritime Trade of the Indus People.- "Expedition" (Univ. of Penn. Philadelphia), vol. 7, № 3.
Sastri K. A. N. (1955). The Colas, Univ. of Madras. Madras.
Silow R. A. (1949). The Evolution and Domestication of a Crop Plant.-"Austral. Inst. Agricult. Sci.", vol. XV, № 2. Melbourne.
Карты
Расположение Мальдивского архипелага в Индийском океане

Тур Хейердал
По следам Адама
Жизнь, сотканная из парадоксов

Тур Хейердал безусловно является, как это модно говорить сейчас, знаковой фигурой ушедшего XX века. В самом деле, мы не задумываясь ставим его в один ряд с Ф. Нансеном, Р. Амундсеном, Ж.-И. Кусто. Разумеется, между ними нельзя поставить знака равенства, но все же есть нечто, их объединяющее. На мой взгляд, это преданность своему делу, искренняя потребность принести человечеству пользу, способность к первооткрывательству и, как следствие, мировая известность. Последняя, кстати, возникла не в результате их научных достижений, а скорее, вопреки. И, пожалуй, еще одно обстоятельство: все они страстно стремились познать окружающий их мир, поэтому людская молва всех их называет выдающимися путешественниками.
Разумеется, Тур Хейердал — выдающийся путешественник, хотя бы уже потому, что именно он открыл новую страницу в современном мореплавании — он стал реконструировать маршруты древних мореходов. И надо признать, что весьма на этом поприще преуспел: все знают о бальсовом «Кон-Тики», папирусных «Ра» и камышовом «Тигрисе». Многие слышали и читали о том, что у него появился добрый десяток последователей, таких как Тиммоти Северин или Уильям Уиллис и др. Однако сам Хейердал считает себя ученым, специалистом в области древних цивилизаций, археологом, этнографом, антропологом. Сейчас этот факт ни у кого сомнений не вызывает, ведь он доктор наук, профессор, член не менее десяти научных Академий, почетный доктор многих университетов, в том числе и Московского. Но это сейчас. А что же пришлось Туру Хейердалу претерпеть на пути к этому признанию?
Именно об этом книга, которую Ты, читатель, держишь в своих руках.
Эта книга не похожа на все то, что Тур Хейердал написал прежде. Его перу принадлежит добрый десяток приключенческих книг и добрая сотня научных статей и монографий, несколько книг написано о нем самом. Безусловно, во всех книгах о его путешествиях или экспедициях изложена часть его жизненного пути, они документальны. Но еще ни разу Тур Хейердал не рассказывал о своей жизни, начиная с самого раннего детства. Долгая жизнь Тура Хейердала может служить примером истинного служения своему делу, своему увлечению, своей науке. Читатель узнает о том, что Тур очень рано, еще будучи студентом, увлекся изучением древнего человека, древних цивилизаций и с удивительным упорством, настойчивостью, изобретательностью, смелостью, риском для жизни и бескомпромиссностью занимался одним этим делом. Перерыв пришлось сделать лишь один раз на несколько лет — помешала Вторая мировая война. Военные приключения Тура Хейердала — одна из увлекательнейших страниц его жизни, правда, с одним допущением — он легко мог погибнуть.
Часто, наблюдая жизнь особо одаренных и талантливых людей, обыватель говорит: «Везет же…» Действительно, везунчик — все у него получается, все легко, все просто, протянул руку, а в ней уже птица счастья. На самом деле так не бывает, и жизнь Хейердала — тому пример. Чем больше он работал, чем больше он изучал и познавал, чем больше он популяризировал свои идеи и открытия, чем более известным и популярным он становился, тем зачастую жестче и непримиримей встречал его ученый мир (правда, не весь, но большинство). Большая часть научных авторитетов не брала на себя труд ознакомиться с научными публикациями Тура Хейердала, они (кстати, с удовольствием) читали его приключенческие книги, в которых, разумеется, отсутствовала строго научная аргументация. Читали и делали строго научные выводы.
Парадокс? Да.
Хейердал все умеет делать сам и все сам делает. Он не только вдохновитель и организатор, но и непременный участник всех своих экспериментов. Человек, сидящий безвылазно в своем кабинете и расшифровывающий письмена древних пасхальцев на деревянных дощечках, так называемые «ронго-ронго», не может взять в толк, что это понесло Хейердала на остров Пасхи на целый год?
А Хейердалу нужно было не только увидеть все своими глазами и копать там, но и ощутить загадочную, мистическую ауру острова и его идолов. Попытаться узнать и понять живущих там людей. И ведь именно они открыли Хейердалу свою главную тайну — родовые пещеры, о существовании которых не знал даже пришлый миссионер Патер Себастьян, проживший на острове Пасхи двадцать лет, учивший и лечивший местных жителей.
Парадокс? Да.
Как удалось Хейердалу настолько расположить к себе пасхальцев? Ответ, на мой взгляд, в главной сути Тура — он искренне и глубоко любит себе подобных, ему действительно все равно, араб ты или еврей или еще кто-то, какого цвета твоя кожа и какому Богу ты молишься. Искренняя доброта и отсутствие какой-либо агрессивности, честность и открытость — главные источники удивительного обаяния Тура Хейердала. Именно эти свойства его натуры открывают перед ним все границы и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации и обстановке. Мне много раз приходилось это наблюдать и слышать из рассказов общих друзей.
Герман Карраско, наш друг и участник экспедиции «Тигрис», о котором Тур упоминает в этой книге, рассказывая о «болотных арабах», поведал мне о приключениях Хейердала в Перу. Район Тукуме, где Тур производил раскопки, славился напряженной криминальной обстановкой. Разного рода бандиты и мафиози буквально заполонили эти места, и появляться там без охраны приезжим не рекомендовалось. Тур, однако, просто не обращал на это внимания и свободно один скакал по окрестностям верхом на лошади, общался с рыбаками и крестьянами и приобрел среди них множество друзей.
Опять парадокс? Да.
Но вернемся к книге.
Пожалуй, это первая книга, в которой Хейердал так много и подробно рассказывает о нашей стране (и о бывшем СССР), о своих друзьях, встречах, приключениях и отношениях с партийными боссами и учеными.
Читатель узнает из этой книги и то, о чем Тур не писал никогда. О его личной жизни. О его отце, матери, женах и детях. Тур повествует в этой книге о своей жизненной философии: отношению к Богу, религии, политике, окружающей среде и будущему Планеты. Помимо всех своих талантов, Тур Хейердал обладает явным писательским даром. Книга написана легко и интересно. Начав ее читать, трудно остановиться.
Ю. Сенкевич

Начало
Сотворение мира или эволюция?
Праотец Адам или обезьяна?
В кого вы верите — в Господа Бога или в Дарвина?
Я оставлю эти вопросы без ответа. Мне слишком часто их задавали. Даже мой собственный немногословный аку-аку в часы, когда я вел безмолвные беседы с самим собой.
Все мои попытки сосредоточиться над страницами незаконченной рукописи оказались напрасными — слишком уж я нервничал, ожидая, пока моя будущая жена выйдет из ванной комнаты, готовая для обряда церковного бракосочетания.
Церковного бракосочетания? Неужели это происходит со мной? Со мной, который в молодости был абсолютно уверен, что жениться надо один-единственный раз и оставаться вместе до гробовой доски?
Увы, мои юношеские идеалы не выдержали испытания временем. И теперь я сижу в гостиничном номере городка, затерянного среди песков Западной Сахары, перед тем как в третий раз в жизни пойти к алтарю. На сей раз — в католическом соборе в Эль-Аюне, городе, где все жители — мусульмане, кроме священника — настоятеля храма.
Первый раз был в Норвегии, в Бревике, родном городе моей невесты. Молодой лютеранский священник обвенчал нас в присутствии родителей и двух наших сокурсников. На следующий день мы распрощались с ними и отправились на остров Фату-Хива в Тихом океане, чтобы, подобно Адаму и Еве, прожить целый год в первозданных джунглях, вдали от цивилизации. Ее звали Лив. Удивительный человек. Не встречал никого другого, кто обладал бы достаточной силой духа и мужеством, чтобы вынести все ожидавшие нас испытания — ведь мы были полностью изолированы от внешнего мира и не имели ни лекарств, ни радио, ни спичек — ничего, кроме собственных рук.
Второй раз — в Мехико — нас поженил шериф города Санта-Фе, а в качестве свидетелей выступали лежавший на полке револьвер да некий Билл, которого шериф крикнул из соседней комнаты. Ивонна. Разве можно сравнить с ней кого-нибудь? У кого еще хватило бы гордости и преданности, чтобы оставаться рядом со мной на протяжении всех тех долгих лет, когда порой казалось, будто весь мир академической науки объединился в борьбе против новых знаний и в защиту старых догм?
И вот сегодня — третий раз. Я едва успел написать несколько первых строк вступления к новой книге, как дверь ванной комнаты распахнулась, я отшвырнул ручку и бумагу и последовал за Жаклин в холл гостиницы. В кармане брюк лежала коробочка с двумя маленькими деревянными кольцами. Я сам их вырезал из сухой ветки, валявшейся в саду. Вообще-то я терпеть не могу, когда мужчины вешают на себя украшения — да и женщины, на мой взгляд, вполне могли бы без них обойтись — и никогда не носил колец, но на сей раз отвертеться не удалось. Еще требовались разнообразные свидетельства о рождениях, смертях и разводах, выданные в Норвегии и Соединенных Штатах, переведенные на испанский язык и заверенные священником и епископом с Канарских островов. Иначе я, урожденный протестант из Норвегии, и женщина, родившаяся в католическом Париже, никак не могли бы пожениться в соборе, расположенном посреди мусульманской (некогда испанской) Западной Сахары.
Мы бегом спустились по ступенькам, чтобы не заставлять священнослужителей ждать. За дверьми отеля нас встретил мир песка, берберов в белых балахонах и ооновских солдат из шестидесяти разных стран, в голубых беретах и с нашивками в виде флага на рукавах. Так выглядела страна, по которой марокканский король Хасан II во главе 250 000 соплеменников провел «зеленый марш мира» под красными флагами, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Западной Сахары. С тех пор, как пять лет тому назад мы с Жаклин впервые приехали сюда, чтобы исследовать фигуры, высеченные из камня в пустыне, здесь мало что изменилось. Разве что ООН сократил свой контингент до пятисот человек.
Солнце жарило нещадно.
— А где же букет для невесты? — поинтересовалась Жаклин, глядя на мир, в котором не было не то что цветка — даже травинки. Она вернулась во внутренний дворик отеля и отыскала там несколько пальмовых листьев и одинокий гибискус, украшенный одним-единственным большим красным цветком. А затем, мимо мусульман и военных, мы направились в большой католический собор, оставшийся в мусульманской стране как напоминание об испанском владычестве, закончившемся после Второй мировой войны. Она — с огромным красным цветком в руках, я — с парой деревянных колец в кармане.
Я гадал, что ждет нас впереди, изо всех сил старался не думать о времени и не заметил, как мы подошли к собору. Два католических священника в белых одеяниях ждали нас, один на улице, второй внутри здания. Для человека, не привыкшего ходить в церковь, все это казалось несколько необычным, но я никогда ничего не имел против ритуалов, которые соблюдают люди в поисках своих богов.
Как и следовало ожидать в этой стране, вернувшейся к исламу, собор был абсолютно безлюден, за исключением двух свидетелей, личных друзей священника. Из них только дон Энрике, единственный оставшийся представитель интересов Испании в Западной Сахаре, исповедовал христианскую веру. Посольство давно было закрыто, а все попытки Организации Объединенных Наций провести свободные выборы с целью присоединения к Марокко завершились неудачей. По странной случайности, дон Энрике родился и вырос на Канарах, где мы сейчас жили и где в местечке Гальдар испанские археологи недавно обнаружили фундаменты домов тысячелетней давности, как две капли воды похожие на исландские времен эпохи викингов. И еще они нашли остатки меча, вроде тех, какими пользовались завоеватели с севера.
Другим свидетелем был очень интеллигентный доктор-араб по имени Абдель Хафид. С улыбкой он объяснил, что увлекался христианством в годы учебы в университете, но личные убеждения привели его назад к исламу.
Я огляделся по сторонам. Голые белые стены из бетона, такие же пустые скамьи, без единой статуи святых. Где безжизненная фигура распятого Иисуса? Его не было нигде, даже в алтаре. Может, это дань уважения приверженцам иудейской веры, которые, за неимением синагоги, могли заглянуть сюда в поисках тишины и уединения? В конце концов, этот храм тоже посвящен Богу племени Авраамова. Возможно, именно поэтому здесь нет статуй страстотерпцев и евангелистов. Только маленькая одинокая фигура Девы Марии, кротко сложившей руки в молитве, стояла возле амвона.
Скромный алтарь не блистал ни золотом, ни роскошной резьбой, но взгляд тем не менее останавливался на Всемогущем Создателе, скупыми линиями изображенном на троне в день седьмой, день отдохновения. Он сидел, босой, в простом кресле, возвышаясь над головами четырех смиренных евангелистов, нарисованных в той же сдержанной манере. И только кроткий голубь парил над всеми этими изображениями.
Такая нейтральная сцена вряд ли могла оскорбить чьи-либо религиозные чувства. Ведь царящий в Небесах Господь — един для всех трех религий, которые даже сейчас, в век космических путешествий, продолжают вести между собой кровавые войны.
Так ради чего же они воюют?
Раздавшееся с хоров пение отвлекло меня от моих антирелигиозных (или надрелигиозных) размышлений. Затем прошествовали два священника в своих великолепных белых одеяниях. Паства — все четыре человека — поднялась. Два свидетеля, мы — жених и невеста — и два священника между нами, стояли лицом к алтарю и к Господу, смотревшему на нас со стены. Только теперь я заметил, что на фреске не было прорисовано лицо. Наверное, это сделано специально, подумал я, чтобы не раздражать мусульман, чья религия запрещает изображать лица, особенно Создателя. Ведь и Библия, и Коран утверждают, что Он невидим. Но затем я понял, что все гораздо проще. Дождевая вода, стекая по стенам из-под прохудившейся крыши, смыла краску. Но только там, где было лицо. Мне не терпелось расспросить об этом священников. Позже они подтвердили, что все дело в дырявой крыше. Совпадение. Иногда я задаюсь вопросом — а есть ли вообще на свете такая вещь, как совпадение?
Я с трудом вслушивался в слова, произносимые священниками на французском и испанском языках и эхом отдававшиеся среди пустых стен. Скорее всего, речь в проповеди шла об Адаме и Еве, потому что вчера, когда мы летели сюда с Канарских островов, маленький отец Луи обсуждал со мной тему сотворения мира. Отца Луи многое интересовало, но прежде всего археология. Он давно переписывался с Жаклин, и именно его красочные рассказы об идолах, вырезанных из камня посреди Сахары, побудили нас впервые посетить Эль-Аюн пять лет назад. А теперь Жаклин уговорила его приехать сюда из мавританского города Нуадибу, где находился его новый приход. Из-за отсутствия нормальных дорог ему пришлось лететь самолетом до Канар. И вот сегодня он стоял на две алтарные ступеньки выше нас, рядом со своим начальником по церковной иерархии отцом Акачио, у босых ног Бога, нарисованного на стене, и казался ничуть не менее счастливым, чем мы с Жаклин, хотя мы олицетворяли собой те радости жизни, от которых он добровольно отрекся.
Нам было не по себе в гулкой пустоте собора. Что скажут, что предложат нам сделать эти два клирика? Но они смотрели на нас с дружелюбными улыбками, и Голубь мира парил высоко на стене, и все тревоги африканской жизни, казалось, отступили далеко в прошлое. Рядом с большим и более серьезно настроенным испанцем, похожим на гигантского, но доброго мишку, наш маленький французский друг в своей длинной белой робе священника напоминал младенца перед обрядом крещения. Об испанском священнослужителе мы мало что знали помимо того, что он являлся настоятелем этого храма, последнего оплота христианства на границе Западной Сахары, контролируемой силами ООН, и Алжира, где свирепствовали исламские экстремисты. Отец Акачио прекрасно представлял себе всю шаткость сложившейся ситуации, потому что он только что вернулся с церковной конференции в Марокко. Вместе с ним ездил его друг, архиепископ Оранский, о котором нам скоро предстояло услышать.
Впрочем, сейчас, когда мы стояли перед двумя священниками в белых одеждах, осененные крыльями священного голубя, проблема ненависти между различными последователями единого Бога любви казалась очень далекой.
Отец Луи светился от радости, и нам даже показалось, что именно таким должно было бы быть лицо у фигуры, нарисованной на стене храма. Он заговорил о любви. Об истоке любви. О сотворении мира.
— Мир был создан, когда Большой взрыв привел Вселенную в движение, — заявил он и с улыбкой посмотрел на меня.
Я покосился на второго священника. Тот стоял, благоговейно скрестив руки, и казался совершенно невозмутимым.
— Нельзя понимать буквально историю об Адаме и Еве и о сотворении мира за шесть дней, — услышали мы далее. — Ведь написано, что для Господа тысяча лет как один день, и один день, как тысяча лет. Вся Библия состоит из притч. Иисус почти всегда говорил образами. Адам и Ева — это символ любви, это автопортрет невидимого Бога. Легенда о прародителях была необходима для того, чтобы создать материальный образ Бога всеобщей любви.
«Как верно!» — хотелось воскликнуть мне. Я настолько разделял его мысли, что едва мог дождаться главного вопроса — согласен ли я жениться на Жаклин. Ведь мы и в самом деле рассуждали о теории Большого взрыва, когда летели на самолете с Канарских островов. И я согласился, что, хотя наука и установила, что Вселенная ведет свое начало от мощного взрыва, должны были существовать некие сверхсилы, которые организовали этот удачный взрыв, а затем привели к порядку хаос.
— А жених (биолог по профессии) признал, что за Большим взрывом должна была последовать тепловая волна такой силы, что без усилий Создателя ничего живого на Земле никогда бы не родилось, — продолжал святой отец.
Я действительно так говорил. И еще одна умиротворяющая мысль пришла ко мне в голову: если современная наука может прозвать могучую созидающую силу «Большим взрывом», то как можно отказывать нашим древним предкам в праве дать ей имя Аллаха или Господа? Нельзя не признать — вера в то, что мощь Большого взрыва может создать бесчисленное количество звезд, гораздо больше соответствует мышлению атомной эпохи, чем образ Святого духа, кротко парящего над водами. И пусть священник не обмолвился об этом, именно его слова привели меня к такому выводу. Еще меня поразило — как этот человек в белом одеянии, давший обет безбрачия, мог с такой теплотой говорить о любви. Для него понятие «любовь» не содержало ничего плотского, она жила в его душе, чистая и свободная, как птица. Большие взрывы могут порождать ненависть среди живых существ, но им не по силам вдохнуть любовь в мертвые атомы и холодные звезды. Любовь не обнаружить под микроскопом и не удалить хирургическим скальпелем, но она живет в наших сердцах, будь ты стриптизершей или священником в белой сутане.
Отец Луи посмотрел на одного из наших свидетелей и процитировал несколько строк из Корана в качестве свидетельства того, что пророк Мухаммед тоже прибегал к притче об Адаме и Еве. Невидимый Аллах создал мир за шесть явм, а явм — это не только день, но и период времени неопределенной длительности.
Христиане начали рисовать Бога на стенах храмов где-то в начале средних веков, а мусульмане до сих пор не допускают у себя в мечетях никаких изображений людей. Священники, один по-французски, другой по-испански, говорили о Боге в соответствии с древними канонами. Их Бог вовсе не походил ни на морщинистого старика с белой бородой, ни на мужчину, ни на девственницу. Символический портрет Создателя — это нечто, объединяющее мужское и женское начало, зримый символ созидательной любви. Именно она вдохнула жизнь во время и пространство, привела Вселенную в движение и посвятила шесть дней своего времени тому, чтобы заселить пустынную планету мужчинами и женщинами, способными в девятимесячный срок воспроизводить новые поколения себе подобных.
Чувство восторга переполняло меня. Я был готов сказать «да» всему на свете, и когда меня наконец спросили, хочу ли я взять Жаклин в жены, мой ответ прозвучал с такой силой, что согласие невесты показалось лишь слабым эхом моего согласия. Потом мы все вшестером обнялись, и когда мы с Жаклин, надев деревянные кольца, покинули пустой храм, нам казалось, что есть еще надежда на мир и понимание между потомками адамовыми, пусть даже сейчас в Западной Сахаре не обойтись без солдат ООН.



В тот же самый день, несколько часов спустя, недалеко от алжиро-марокканской границы прогремел взрыв. Бомба, брошенная исламским экстремистом, унесла жизнь архиепископа Оранского, друга отца Акачио.
И доморощенные террористы, и военные сверхдержавы одинаково верят и в Бога, и в Сатану. И в большие взрывы.
Ученые изучили в телескопы звезды и разглядели через микроскопы молекулы, но нигде не обнаружили ни рая, ни ада. Поэтому никакая наука не скажет, в чем разница между добром и злом.

Время для размышлений
В отличие от нас, затерянных в глуши Западной Сахары, Господу не пришлось ждать завтрашних газет, чтобы узнать об убийстве архиепископа Оранского. Один из его самых верных слуг принес последнюю жертву, приняв смерть во имя креста, и в тот же самый миг другой человек, простершись ниц в сторону Мекки, вознес слова-благодарности за успех святого дела. И оба они искренне верили в Бога любви, некогда вдохнувшего жизнь в их общего праотца Адама.
На сей раз мусульманин убил христианина в Африке. Судя по прессе, в Европе спокойствием тоже не пахло. В бывшей Югославии, где раньше мир между конфессиями держался только на авторитете Тито, после его смерти христиане и мусульмане принялись тысячами вырезать друг друга. На зеленом острове по другую сторону Европы, где мусульман вообще-то днем с огнем не сыскать, христиане убивали других христиан за то, что одни из них в вечерних молитвах обращались к Господу напрямую, а другие — через посредничество Девы Марии. И христиане, и мусульмане, и иудеи согласны, что мы все происходим от одного корня. У Адама и Евы родилось два сына, Каин и Авель, и один из них убил другого, потому что дым от его жертвенного костра поднимался к небу не Таким прямым и ровным столбом.
У нас в Скандинавии религиозный фанатизм давно уже пошел на убыль. Мы переболели непримиримостью и гневом еще в эпоху викингов. Но когда в конце первого тысячелетия новой эры Евангелие, наконец, достигло наших краев, наши предки долго не рассуждали — подняли паруса над своими длинными кораблями и отправились в Иерусалим рубить головы мусульманам. Будучи добросовестным норвежским школьником я, разумеется, запоем читал королевскую сагу «Круг земной» Снорри и восхищался тем, как викинги совершали походы в Святую Землю в XI и XII веках и как заодно уничтожали неверных вдоль берегов Португалии, Испании и Северной Африки. Некоторые из них вполне могли бросить якорь в удобной бухте алжирского Орана и заблаговременно отомстить за убийство, совершенное, когда мы слушали об Адаме и Еве, за закрытыми дверьми католического собора. Именно под знаком креста могущественный король Сигурд Крестоносец предпринял поход на Святую Землю и, расчищая путь на Иерусалим для крестоносцев, разорил прибрежные города Северной Африки. Все золото, отнятое его людьми у последователей Аллаха, он отдал митрополиту Константинополя и поставил весь флот и почти всех воинов под флаги борцов с мусульманами. А сам вместе с остатками армии вернулся домой, проехав верхом через всю Европу. Его предшественник на норвежском троне, король Олаф II, к тому времени был уже причислен к лику святых за то, что крестил Норвегию простым и эффективным способом — отрубая голову каждому, кто отказывался верить во Христа. История учит, что христиане далеко не всегда склонны жить по канонам своей веры.
На следующий день после свадьбы нам с Жаклин предстояло вернуться в наш дом на Канарских островах. Тем же рейсом отправлялся назад в свою епархию и отец Луи. По какому-то недоразумению прошла информация, что на рейс из Касабланки осталось только одно свободное место, и Жаклин поехала вместе с обоими священниками в аэропорт, чтобы усадить на самолет хотя бы кого-нибудь одного из них. Отец Луи уже находился на борту, когда в Эль-Аюн пришло известие о трагедии в Оране. Мы же узнали страшную новость только вечером, из уст отца Акачио. Он оставался внешне спокойным, в его словах не звучало ни ненависти, ни жажды мщения. Еще менее он казался озабоченным собственной участью, хотя вскоре должен был остаться единственным христианином в краю, где все прочие молились Аллаху. «Церковь всегда имела своих мучеников», — спокойно заметил святой отец. Мученичество зародилось гораздо раньше, чем появился на свет Мухаммед. К тому времени христианство вело борьбу за существование уже более пяти сотен лет. Почти двухтысячелетняя история церкви освящена именами многих мучеников. И на смену его другу в Оран уже едет новый проповедник христианства, архиепископ Клавери.
Проводив Жаклин в аэропорт, я оставался в таком же незамутненном состоянии духа. Утреннее солнце мирно освещало изумляющие своей новизной извечно юные пески Сахары, с которыми связано столько исторических событий и вершин человеческой мысли. Внезапно я понял, что мне совершенно нечего делать и что я свободен, как птица. Никаких обязательств, никакого графика. Я не планировал этого отдыха, но тем не менее он пришел как замечательный и долгожданный подарок.
Я отыскал кресло на плоской крыше отеля, куда не доносился навязчивый визг транзисторов и где можно было наслаждаться тишиной под голубым небом. Кроме неба, в поле моего зрения попадали лишь верхушки пальм из близлежащих садов да беззвучно чертившие по небу узоры птицы. Время исчезло, как исчезает оно на плоту посреди океана. Никакой почты. Никакого телефона. Только звенящая тишина, под которую так хорошо думается.
— Наконец-то ты сможешь отдохнуть, — напутствовала меня Жаклин перед отъездом. По ее словам, за все пять лет нашего знакомства у меня не было ни одной недели, свободной от каких-нибудь планов или проектов. Возможно, она права, но все дело в том, что мои программы не только и не столько работа, сколько любимое увлечение.
У постороннего наблюдателя может создаться впечатление, что я — упрямый авантюрист, перепрыгивающий с одного плота на другой и безнадежно погрязший в научных баталиях. На самом же деле я очень миролюбивый человек, прежде всего заинтересованный в том, чтобы найти решение той или иной проблемы, докопаться до ее корней. Но чем больше я делаю и чем больше я вижу, тем сильнее я поражаюсь ужасающему уровню неграмотности, царящему в научных кругах, среди так называемых «авторитетных ученых». И они еще претендуют на исключительное знание! С этим надо разобраться.
Должен признаться, что если бы всякий раз, когда я очертя голову бросался в новую экспедицию или исследование, меня постигала бы неудача, я, скорее всего, в конце концов сдался бы и нашел себе какое-то другое занятие. Но неизменно, когда я делаю открытие, которое оказалось мне по силам, я увлекаюсь, и мне хочется продолжать. И дело тут не только в интересе ученого. Я просто получаю от всего этого удовольствие.
И тем не менее, Жаклин сказала чистую правду. Стоит мне закончить экспедицию или книгу, как я начинаю что-то новое. Между путешествиями, перепиской и рукописями никогда не бывает перерывов. Наверное, я сумасшедший.
«Сумасшедший, — подумал я и вдруг услышал, как это слово эхом отозвалось где-то в глубине моего сознания. — Наверное, в разговор вступил мой аку-аку», — усмехнулся я.
Жители острова Пасхи утверждали, что у меня есть аку-аку. Все их предки, и многие из ныне живущих, имели аку-аку, маленьких невидимых спутников, в нужную минуту подававших добрые советы. Никто, кроме очень толкового аку-аку не мог бы посоветовать мне приехать на их пустынный остров и начать копать именно там, где лежали скрытые от людских глаз статуи.
Я всегда с удовольствием вспоминаю о тех нескольких месяцах, когда на острове Пасхи работала первая археологическая экспедиция. Тогда там не было ни причала, ни аэропорта. На самом одиноком острове в мире жило не более тысячи человек, и только раз в году, на Рождество, туда приходил чилийский военный корабль с очередным запасом провизии для потомков тех мастеров, что некогда воздвигли сотни гигантских каменных статуй, ныне бесславно сброшенных с пьедесталов. Сейчас на острове Пасхи есть и пристань, и аэродром, а когда в 1950-х годах наше исследовательское судно бросило якорь в заливе Анакена, местные жители питались только сладким картофелем да тем, что удавалось взять у океана.
Тогда, как и сейчас, у меня оставалось много времени для размышлений и фантазий. Пока мы раскапывали статуи или отдыхали на древней каменоломне, я думал о неведомых мореходах и о носителях ушедших традиций. Дни и ночи, в которые не ощущалось бега времени. Мои мысли унеслись в прошлое, а над головой сияло все то же синее небо. Скоро я уже не мог вспомнить, где я нахожусь. Мне показалось, что я слышу голос аку-аку.
— Иа-ора-на. Каоха-нуи. Здравствуй. Давно не виделись.
Внутренне я улыбнулся. Очевидно, мы оба в хорошем настроении и не прочь пошутить. «Давненько я не слышал тебя, — подумал я. — Трудно было не потеряться с тех пор, как я покинул мирный остров Пасхи?»
— Я не покидал тебя ни на минуту. Это ты пропадал. Сперва ты перенес меня из Полинезии в джунгли Южной Америки, затем на бревенчатых и папирусных плотах мы переплыли три океана, а теперь ты засунул меня на крышу дома посреди Сахары. В чем смысл такой гонки? Ты ученый или авантюрист?
— За исключением четырех лет в армии, куда я записался добровольцем, чтобы воевать против нацистов, всю свою жизнь я занимался только научными исследованиями. Началось все в восемнадцать лет, когда я принялся за изучение биологии. А приключения? Приключения только делали жизнь интереснее. Я никогда не ищу приключений ради них самих, но с радостью принимаю их как приятное дополнение, если к ним приводят эксперименты с древними инструментами, или поиски неизвестных культур, или борьба с закостеневшими догмами относительно доисторических судов.
— Люди говорят, что ты везунчик.
— Дело не столько в удаче, сколько в умении избегать неудач.
И тут вернулась Жаклин. Да, мне действительно повезло. Не встретить ее было бы большой неудачей.
Мы дремали в шезлонгах на крыше с видом на Сахару, а мой аку-аку все не унимался со своими вопросами.
— Не пора ли и честь знать? Свой первый медовый месяц ты проводишь на Фату-Хива, потом с другой невестой едешь на остров Пасхи, а вот теперь взял и женился посреди Сахары — прямо как мусульманин. Третья жена! Может, остановишься?
Да, действительно пора остановиться. Девять жизней и три брака. Всему должен быть предел. А в мусульманскую веру я не обращался. Просто мы с Жаклин познакомились именно здесь, благодаря священнику, который показал нам изваяния, вырезанные из камня.
— Ты веришь в Аллаха?
— У Аллаха есть много разных имен на разных языках. Я думаю, что Бог христиан — он же и Яхве иудеев, и Аллах мусульман.
Дело не в том, веришь ты в Библию или в Коран. Дело в вере в того Бога, о котором написаны эти книги. А Он един. Отец научил меня вечерней молитве. Исконный норвежец, он никогда даже не заговаривал об Аллахе, но и слово «Бог» никогда не слетало с его уст. Он всегда говорил: «Всевышний».
В школе нас учил закону Божьему священник. Меня восхитили Адам и Ева, а еще Ной с его животными. Когда мы дошли до Иисуса, я тоже слушал с интересом — у Него было чувство природы, и Он мог сказать: «Поглядите на птиц в полях, ни один знатный человек не имеет таких богатых нарядов»
[108]. Но когда учитель начал рассказывать, как Иисус пришел на свадьбу и превратил воду в вино, я решил, что тут вкралась ошибка, и поднял руку.
— Тур, — обрадовался он, — что ты хочешь нам сказать?
Мой отец работал директором городской пивоварни, поэтому я не мог не высказать экспертное мнение.
— Не думаю, что это было вино, — заявил я. — Скорее, пиво. Оно вкуснее и полезнее для здоровья.
Священнику мое выступление не понравилось. Он рассердился и выгнал меня из класса, и я стоял один, дрожа от холода, в то время как мои одноклассники слушали о чудесных творениях Иисуса.
С древних времен мы поклоняемся Богу, которого принес нам Авраам из страны Ур. С тех пор, как Моисей спустился с горы с каменными скрижалями в руках, мы знаем, что нельзя лгать, воровать и убивать. Но мы по-прежнему не можем прийти к единому мнению, следует ли молиться Богу Авраамову под знаком звезды Давида, креста или полумесяца, следует ли считать днем созидания пятницу, субботу или воскресенье, грешно ли есть свинину и пить вино и допустимо ли вкушать от плоти и крови Христовой. Мы продолжаем спорить о вещах, не упомянутых в заповедях Моисея. И тем самым оскорбляем память и Моисея, и Иисуса, и Авраама.
Во время плавания на плотах, когда ты словно паришь без движения в центре сферы, образованной синим морем и синим небом, без телевизора, без гула самолетов над головой, остается много времени для неторопливых размышлений. В 1947 году, когда мы собирались переплыть Тихий океан и достичь Полинезии на «Кон-Тики», плоту из бальсового дерева, американский посол в Перу подарил мне Библию. Его столь же доброжелательный военный атташе поспорил с нами на ящик виски, что мы не вернемся из плавания. И хотя Библия так и пролежала нераскрытой в своей коробке, Всеблагой Господь позволил нам сто один день спустя достичь атолла Рароиа. Атташе за это время перевели на другое место службы, так что виски мы так и не получили, но Библия позже все-таки пригодилась.




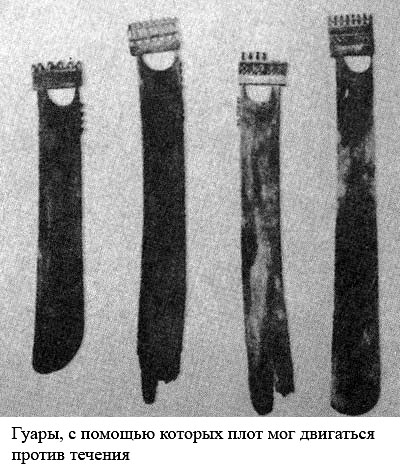

Экипаж «Кон-Тики» состоял из пяти норвежцев и одного шведа. Все были протестанты, и когда океан вспучился и швырнул нас на берег, я услышал, как Торстейн крикнул Кнуту: «Кто верит в Бога, лучше молитесь!» Я думаю, молились в тот миг не менее половины из нас.

Двадцать два года спустя, когда мы собирались спустить на воду в Марокко тростниковый плот «Ра» в надежде пересечь Атлантику, нас было уже семеро, и все принадлежали к абсолютно различным культурам. Я хотел доказать, что люди могут отлично уживаться на ограниченной площади и в состоянии опасности, независимо от цвета кожи, религии и политических убеждений. На протяжении почти двух месяцев араб и еврей укладывались плечом к плечу в тесной бамбуковой хижине, а штурман из США спал, уткнувшись лицом в ноги доктора из Советского Союза. Араб из Египта был не мусульманин, а копт, представитель древнейшей христианской группы. Абдулла из Центральной Африки, черный как смоль, не будучи арабом, верил в Аллаха. На сей раз паша из Сафи подарил нам Коран, но поскольку Абдулла не умел читать, Коран так и пролежал рядом с моей Библией до нашего следующего путешествия. Тогда на борту оказался грамотный мусульманин, бербер из Марокко, и он читал его каждый день.



И Библия, и Коран, сопровождавшие нас в океанских плаваниях, завершили свой путь на моей книжной полке, где они мирно стоят бок о бок рядом с другими материалами о происхождении мировых цивилизаций. Я еще не раз буду к ним ко всем возвращаться.
Многие не понимали, почему я включил Абдуллу, обитателя Центральной Африки, в состав трансатлантической экспедиции на древнем тростниковом плоту. Никто не забирается так далеко в глубь континента в поисках моряков, а сам Абдулла никогда не бывал даже близко у океана. Но дело в том, что в Египте папирус давно исчез, и только после путешествия «Ра» каирский Институт папирологии занялся его разведением, а строителей лодок из тростника сейчас можно найти только на внутренних озерах Эфиопии и Республики Чад.

Я часто замечал, что подготовка к путешествию часто оказывается более сложной, чем само путешествие. А иногда и более опасной. Когда я вместе с французским фотографом приехал в Чад искать строителей лодок из тростника, там было неспокойно. В столице государства, Форт-Лами (ныне Нджамена), я нанял джип, чтобы по длинному караванному пути добраться до озера Чад, места обитания темнокожих из народности бамбунду. Многие из них живут посреди озера на плавучих островах из тростника. Нас предупреждали об опасностях путешествия и о том, что на обочине дороги недавно нашли отрезанные головы медицинских сестер из миссии. Уже темнело, когда мы, наконец, добрались до деревни Бол на берегу озера Чад. Вся деревня состояла из очень красивых конусообразных хижин из тростника, а в конце дороги имелся сарай, в котором любой путник мог бесплатно переночевать. Три стены, цементный пол и цементная же крыша.
Мы уже спали на полу, когда вдруг я проснулся от звуков далекой музыки — ритмичного стука барабанов и завывания духовых инструментов. Деревня казалась пустой и безжизненной, любопытство мое разыгралось не на шутку, и я выскользнул из сарая в ночь. Почти сразу же я наступил на лежащего верблюда, тот истошно заорал, и я долго еще приходил в себя, пока не нашел силы продолжить путь.
Стук барабанов становился громче, я завернул за угол и увидел открытую площадь. Вокруг единственной керосиновой лампы кружились в танце молчаливые фигуры в развевающихся одеждах. Постепенно мои глаза привыкли к свету, и я разглядел двух музыкантов. Я плотно прижался к стене хижины и не сомневался, что в непроницаемом мраке африканской ночи увидеть меня невозможно.
К моему удивлению, одна из фигур медленно отделилась от других и, не прерывая танца, двинулась туда, где я стоял. Я надеялся, что незнакомец не подойдет настолько близко, чтобы заметить меня, но тут он вытащил меч и, по-прежнему в ритме танца, принялся делать выпады в мою сторону. Меня прошиб холодный пот, когда я понял, что мое белое тело отлично видно в темноте, и именно я являюсь объектом его атаки.
Остальные продолжали как ни в чем не бывало плясать вокруг лампы. Угрожающая фигура приблизилась настолько, что меч в любое мгновение мог вонзиться в меня. Я был безоружен и не мог убежать. Казалось, выхода не было, и тут я инстинктивно начал перебирать ногами в такт барабанам. Через мгновение я уже танцевал на пару с человеком, который держал меч у моей груди. Казалось, он находится под воздействием какого-то наркотика. Постепенно он начал отступать, а я последовал за ним, по-прежнему вплотную к его мечу. Когда мы приблизились к кругу танцующих, они расступились, чтобы дать нам место. Меч исчез в ножнах, и мы танцевали друг с другом и со всеми остальными.
В скудном свете керосиновой лампы я разглядел даму роскошных форм рядом с музыкантами, и еще я с удивлением заметил, что танцоры, похоже, начали уставать. Один за другим они выходили из круга, все в поту и тяжело дыша, и выкладывали по мелкой монетке в качестве отступного. В конце концов, мы остались только вдвоем, а через несколько минут я уже танцевал в одиночестве. Очевидно, я выиграл какое-то соревнование. Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, я положил довольно крупную купюру в чашу, куда остальные кидали монетки. Как потом оказалось, победителю доставалась та самая пышная красотка, и никто не понял, почему я не взял ее с собой, когда свалился без сил на цементный пол нашего сарая.
На следующее утро выяснилось, что я завоевал огромное уважение среди жителей деревни. В числе моих новых друзей был и Абдулла, строитель тростниковых лодок.
Во время путешествия из сердца Африки к океанскому побережью Абдулла узнал много нового для себя, а мы узнали немало нового от него. Он единственный из всех своими глазами видел настоящий папирус и знал, как строить из него лодки, загибающиеся к носу и корме, чтобы скользить по волнам. Абдулла никогда не видел другого водоема, кроме озера Чад в южной оконечности Сахары, и не представлял волн более крутых, чем те, что поднимаются там. Оказавшись на борту «Ра», он больше доверял Аллаху, нежели нам, ничего не понимавшим в папирусных лодках, но на всякий случай привязал себе на пояс маленький кожаный мешочек с когтями леопарда и заговоренными камнями. Снаряженный таким образом, он пугал нас до полусмерти, беззаботно балансируя без страхующей веревки на скользком борту лодки. А если и соскальзывал в воду, то просто хватался за пучок тростника и со смехом забирался назад на борт.
Волею Аллаха, Абдулла появился на свет в той части Африки, которая знавала лучшие времена. Сегодня Сахара наступает
на юг со скоростью около двух километров в год. Примерно пять тысяч лет назад аборигены, жившие к северу от родных мест Абдуллы, украсили пещеры на плато Тассилин-Аджер наскальными изображениями сцен охоты с лодок на гиппопотамов. Две тысячи лет назад Северная Африка все еще оставалась житницей Римской империи. Когда Абдулла пришел в этот мир, бесчисленные песчаные дюны с севера уже миновали озеро Чад и медленно наступали на тропические джунгли. Вокруг озера невозможно увидеть ни единого кустика, только бескрайнее море песка, ярко-зеленую поросль тростника вдоль кромки воды да искусственные плавучие острова, служащие домом для людей и скота.
В то время как мы живем в мире небоскребов и полетов в космос, Абдулла и двое его соплеменников, которых я привез в Египет для постройки судна, никогда не знали даже обыкновенной лестницы. Первую лестницу в своей жизни они увидели в аэропорту Форт-Лами. Они родились и выросли в живописных конусообразных тростниковых хижинах с земляным полом, и когда мы поднимались на третий этаж отеля в Хартуме, они высоко задирали ноги, словно карабкались на крутую гору. Их выхватили из мира, где единственным предметом обстановки была циновка, брошенная на пол. Поэтому, несмотря на все объяснения Абдуллы, который говорил по-французски и, следовательно, исполнял роль переводчика, один из них все же улегся спать, засунув голову под кровать. С еще большим недоверием они выслушали инструкции по использованию туалета — ослепительно чистого, с бачком, полным прозрачной воды. Сам Абдулла реагировал на все увиденное со стоическим спокойствием, и когда мы, наконец, добрались до Каира, никто, глядя на моих черных, как ночь, спутников, не мог бы заподозрить, что они меньше чем за неделю совершили прыжок из каменного века в век атомный. Всего за неделю… Но видели бы вы их глаза, когда мы привезли их в наш лагерь под сенью пирамиды Хеопса! Я выбрал именно это место, чтобы наше строительство точь-в-точь повторяло сюжеты древних рисунков. Трое из племени бамбунду ошарашенно глядели на пирамиду.
Кто здесь живет? — поинтересовался, наконец, Абдулла, сравнив размеры наших жилых палаток и пирамиды.
— Никто, — пояснил я. — Это могила.
— А сколько человек там похоронено?
— Только один.
Даже для Абдуллы это оказалось слишком.
Врут эти египтяне, — заявил он. Его скептицизм ничуть не уменьшился, когда ему сообщили, что египтяне построили это за три с половиной тысячи лет до рождения Магомета.
Коран позволял Абдулле иметь до четырех жен. Финансовая ответственность за благосостояние бамбундской красавицы, оставленной им на берегах озера Чад, легла на мои плечи. Но прошло совсем немного дней после нашего приезда в Египет, как Абдулла пригласил нас всех в Каир на свадьбу — настоящую арабскую свадьбу с музыкой, песнями и танцем живота. Мне была оказана высокая честь и доверие положить несколько банкнот в лифчик невесты, и к моменту отплытия из Марокко я уже являлся кормильцем двух жен Абдуллы в разных концах Африки. Счастливый миг третьего бракосочетания со скрытой под вуалью берберской дамой надвигался со стремительностью курьерского поезда, но тут нам удалось заманить Абдуллу на борт тростниковой лодки и уговорить повременить со свадьбой до окончания путешествия.
На календаре была весна 1969 года. В то же самое время американские астронавты заканчивали подготовку к первому полету на Луну. НАСА предложила установить нам на лодку какое-то оборудование, чтобы мы, находясь посреди океана, могли бы общаться с разгуливающими по Луне астронавтами. Мысль о том, чтобы воткнуть антенну в тело папирусного судна, названного в честь бога Солнца, для разговоров с людьми на Луне, показалась мне неуклюжей пародией, и я вежливо, но твердо отказался. К моему великому удивлению, в день отплытия на пристани Сафи появился человек из НАСА с коробкой в руках. Оказывается, там не поверили в серьезность моего отказа. Я был непоколебим, и коробка осталась у посыльного. Когда мы вышли в воды Атлантического океана, он, наверное, пролетел в самолете над нашими головами.



Абдулла оказался весьма толковым человеком, гораздо более сообразительным, чем многие другие. Сафи еще не скрылся за горизонтом, а он уже освоился с компасом и во время молитв определял по нему местоположение Мекки. Ветер и течение увлекали нас прямо на запад, как в свое время суда Колумба, поэтому направление на Мекку почти не менялось. Однако в первое же утро в открытом океане при, восходе солнца возникла неожиданная проблема. Абдулла сообщил, что кто-то рассыпал в воду соль. Согласно мусульманскому ритуалу, он зачерпнул воды и омыл лицо и руки по локоть. Затем раздался вопль. Вода оказалась не только соленой, но еще и грязной! Всю океанскую поверхность покрывал тонкий маслянистый слой мазута, в котором плавали тряпки и прочий мусор. Правда, на воде грязь бросалась в глаза сильнее, чем на черной физиономии Абдуллы. Для отправления религиозных церемоний Абдулле требовалась чистая вода. Поскольку все на борту с уважением относились к Аллаху, проблему решили быстро, решив на первое время выдавать Абдулле дополнительную порцию питьевой воды, которая хранилась в больших глиняных кувшинах. Вообще-то, в крайних случаях Коран позволял путешественнику очищаться песком, но Сахара осталась позади и с каждой минутой удалялась все дальше и дальше.
Мы уверили Абдуллу, что скоро вода очистится и будет такой же прозрачной, как двадцать два года назад, во времена «Кон-Тики». Тогда мы проплыли восемь тысяч километров по глади Тихого океана и не увидели ни единого пятна нефти и вообще никаких свидетельств, что кроме нашей шестерки на планете есть еще хоть одна живая душа.
Таким образом, Абдулла первым предупредил нас о страшной опасности: океан подвергается загрязнению!
А он у нас один, перегородки между Атлантикой и другими океанами нет. Материки, подобно островам, поднимаются из вод единого Мирового океана.
Во все последующие дни мы только и делали, что доставали из воды сгустки нефти. Некоторые по размеру не превышали зернышка риса, другие были не меньше картофелины или апельсина и служили домом рыбам-прилипалам и крошечным крабам. А я-то предвкушал, что покажу моим новым друзьям великолепный, девственно чистый океан, знакомый мне по плаванию на плоту из бальсового дерева! Моя тревога достигла таких размеров, что я послал сообщение о нарастающем загрязнении мирового океана Генеральному секретарю ООН У Тану. Он дал нам разрешение поднять над «Ра» флаг ООН, поскольку мы хотели осуществить в миниатюре главную цель этой организации — быть единым миром в центре общего океана.
Ничем другим море Абдуллу не разочаровало. Наоборот, при первой встрече с китами он, как ни в чем не бывало, закричал:
— Гиппопотамы по левому борту!
Нам не удалось достичь цели с первой попытки. Мы были еще новичками. В двадцатом веке нашими самыми авторитетными консультантами были только каирские ученые, которые изучали древнеегипетские рисунки и фрески с изображениями тростниковых лодок, да еще африканцы народности бамбунду, сохранившие старинное мастерство плетения лодок из папируса, но жившие на озере Чад, а вовсе не на берегу, омываемом могучими океанскими волнами.

Никто из них не понимал, почему фараоны строили свои корабли в форме серпа, с высоко задранной кормой, часто даже загибавшейся внутрь. Все решили, что главным соображением здесь служила красота, загнутая корма — лишь продукт воображения строителя, плотники из Чада убрали веревку, соединявшую ее с палубой, подобно тетиве лука. Мы и не подозревали, что это решение окажется роковым. Судно сразу потеряло эластичность, не могло больше легко скользить по гребням волн, и пучки тростника, из которых оно состояло, начали расползаться. Когда мы достигли Барбадоса, стало ясно, что они скоро просто рассыплются.
Ровно через год после отплытия «Ра» в том же самом марокканском порту Сафи подошло к концу строительство «Ра II». Мы были готовы к новому штурму Атлантики.
Все члены экипажа первого «Ра» вызвались плыть снова. Абдулла из Чада, Норман из США, Юра из СССР, Карло из Италии, Джордж из Египта, Сантьяго из Мексики и ваш покорный слуга, норвежец. Но на сей раз я довел число участников до восьми и впихнул в крошечную бамбуковую хижину на тростниковой палубе еще и Кей из Японии.






Весь этот год Абдулла ждал в доме своей египетской жены. Теперь он твердо решил жениться на берберке, которую он оставил в порту в прошлый раз. И вдруг в норвежское посольство в Каире пришла телеграмма: Абдулла стал отцом! У него родился сын! Аллах сделал ему такой подарок, рядом с которым померкла перспектива путешествия в Америку. Счастливый папаша оказался в Каире со скоростью, которая посрамила бы все ракеты мира. Мы стояли на тростниковой палубе и махали ему вслед, и среди нас стоял и прощался с остающимися на земле новый член экспедиции, бербер с Атласских гор. Днем раньше будущий мореход служил носильщиком в нашем отеле в Сафи. Он тоже впервые увидел океан, только спустившись со своих Атласских гор, но он, как Абдулла, был мусульманин, а горное солнце и ветры пустыни сделали его кожу почти такой же черной.
Мадами умел читать, и в сумке у него лежали плавки, коврик для принятия солнечных ванн и Коран на арабском языке. Абдулла первым обратил внимание на загрязнение океана, поэтому Мадами получил задание ежедневно вести наблюдения за чистотой воды, а также сачок для вылавливания комков нефти. Мы снова плыли под флагом ООН, только на сей раз Генеральный секретарь сам попросил нас составить отчет о загрязнении океана и предоставить образцы мусора. Мы добросовестно собирали большие и маленькие комочки нефти на протяжении сорока трех из пятидесяти семи дней нашего путешествия через Атлантику. На сей раз мы доплыли до Барбадоса. В том же году на Первой конференции по вопросам экологии в Стокгольме Генеральный секретарь У Тан включил наш отчет в качестве приложения «А» к своему докладу.
Несмотря на отсутствие антенн НАСА, мы очень хорошо пообщались с Нилом Армстронгом в Лондоне на конгрессе Всемирного фонда дикой природы. Мы оба подтвердили, что человек живет на очень маленькой и хрупкой планете На Земле так мало суши и так много воды, что с Луны она показалась Нилу окрашенной в голубой цвет. А мировой океан, в свою очередь, оказался таким маленьким что его можно пересечь за несколько недель на тростниковой лодке без мотора. Лодке, которая плыла только чуть-чуть быстрее, чем комочки нефти.
Вода над головой
Я проснулся на крыше отеля и мутным со сна взглядом обвел панораму пустыни. Жаклин ворчала, что нельзя спать на солнце.
— Не забывай про озоновую дыру. Мир уже не тот, что во время твоего детства.
Когда мы пошли на обед, я рассказал ей, что в юности нарисовал футуристическую карикатуру: как будут выглядеть пляжи, когда люди разрушат тонкий слой земной атмосферы. Тогда никто и не слышал о движении «зеленых». Но работы некоторых ученых заронили мне в душу подозрение, что война человека с природой может нарушить тонкий атмосферный баланс, установившийся благодаря деятельности океанского планктона и первобытных лесов задолго до появления гомо сапиенс.
— Как ты мог думать о таких вещах вместо результатов чемпионата Норвегии по футболу? — поразилась Жаклин. Все пять лет нашего знакомства она полагала, что я относительно нормален.
Почему мои мысли текли в подобном русле? Непростой вопрос. Вернувшись на крышу, мы передвинули шезлонги в тень, и Жаклин заснула быстрее, чем я смог сформулировать ответ.
Я чувствовал себя таким отдохнувшим, что мог обойтись без моей обычной десятиминутной послеобеденной сиесты. Вместо этого я лежал и смотрел на птиц, парящих под синим полотном неба, как в дни моего детства, когда мир казался вечным и бескрайним. Тогда никто никуда не спешил, кроме, возможно, меня, когда я опаздывал в школу. И еще мне приходилось почти бежать, чтобы не отстать от отца в те редкие случаи, когда мне позволялось сопровождать его в контору на пивоварне. Но он-то быстро шел, помахивая палкой, только для того, чтобы поддерживать форму и хорошо выглядеть в глазах встречных, которых он приветствовал, поднося к шляпе кончики пальцев. Он тоже не спешил.
Загрязнение окружающей среды? Где угодно, только не в крошечном городишке Ларвик. Его белые деревянные домики стояли на крутых склонах гор, а ветер приносил из леса чистый прохладный воздух. Тысячи окон смотрели на фьорд, а тот в свою очередь выходил в океан. Городок жил за счет моря и леса, в том числе за счет добычи китов в Антарктике. От пристани во все концы света уходили за горизонт корабли. Позади города рос единственный в Норвегии приморский лес, а вдоль озера Фаррис и далее, до далеких внутренних гор, тянулись бесконечные сосновые боры. Промышленность была представлена бумажной фабрикой Трещова, судоремонтной мастерской Альфреда Андерсена да пивоварней, наполнявшей воздух около городской площади приятным ароматом. Улицы регулярно подметались, а черный как смоль трубочист регулярно чистил трубы. В моем самом раннем детстве с улиц ежедневно убирали конский помет. Если рядом с лесной тропинкой вы видели брошенную корку от апельсина, обрывок бумаги или ржавую консервную банку, возмущению вашему не было границ. Во всех ручьях текла питьевая вода.


Идеальное место для детей. Почти при каждом доме имелся задний дворик для игр, сады были обнесены деревянными заборами, по которым так здорово лазить, а в лесах и на пляжах можно было гулять, где угодно.
Мои родители переехали туда из главных, по их мнению, городов Норвегии: отец из столицы, Осло, тогда еще Христиании, а мама из Тронхейма. В таком маленьком городке, как Ларвик, наша семья наверняка служила темой для пересудов. Развод в те годы считался чем-то, свойственным исключительно миру богемы. А моя свободомыслящая мама прошла через два развода, в то время как более консервативный отец развелся только один раз, чтобы жениться на ней.
Отец, способный бизнесмен, открыл собственную пивоварню. Когда он начал разливать по бутылкам местную минеральную воду, то получил разрешение короля Хокона назвать напиток его именем. Затем он объединил усилия с коллегой, и их общая пивоварня стала единственной в городе. Другая стояла заброшенная, и мы, мальчишки, замечательно играли в ее больших темных цехах, сводчатых погребах, опустевших конюшнях и на просторном дворе, обнесенном высоким деревянным забором. Тем более что она напрямую примыкала к заднему двору нашего дома.
Именно там я впервые почувствовал себя самостоятельной личностью, а не частью теплого материнского тела. Осень, вечер, начало Первой мировой войны. Кажется, я даже помню завывания осеннего ветра и хлопанье веревки на флагштоке во дворе. Я боялся темноты и вообще был трусоватым мальчиком.
— Ты, которого так все защищали?
— Возможно, именно поэтому. Мои родители были немолоды. Они так боялись, что с их единственным ребенком случится какая-нибудь беда, что у меня создалось впечатление, будто опасность скрывается повсюду. Другим детям разрешалось одним ходить в порт и играть на улице после темноты. Но не мне. Другие мальчики могли вытесать топором биту, вырезать острым ножом лук и стрелы. Но не я.
Если мои родители в чем-то и соглашались друг с другом — кроме подхода к моему воспитанию — так это в их вере в прогресс. Папа — потому что и его отец, и его дядя одними из первых в Норвегии использовали электроэнергию и сельскохозяйственную технику. Мама — поскольку была дарвинисткой и не сомневалась, что прогресс со временем принесет еще более замечательные плоды. Когда мы с отцом рассматривали его семейный альбом, он рассказывал, что его предки пришли из дремучих лесов на границе со Швецией и что среди них можно проследить двенадцать поколений землевладельцев, пока его отец и дядя не перебрались в столицу и не основали компанию «Хейердал и компания». Они провели первую в стране телефонную линию между офисом фирмы и складом. Отец хранил вырезки из столичных газет 1880 года с рассказом о том, как жители города впервые увидели электрическую лампочку:
«И по всей улице Карла Юхана, насколько можно видеть, стоя у пожарной части, горел свет, похожий на сияющую звезду и так же не похожий на желтые и тусклые газовые лампы, как свет газовой лампы не похож на свет лампы масляной».
Два года спустя их ждал главный триумф: мой дед, майор национальной гвардии, шел впереди королевской процессии, а два его брата зажгли два электрических фонаря перед входом во дворец. Газета «Афтенпостен» писала: «Словно по мановению волшебной палочки, возник из темноты дворец, сияя, будто под лучами солнца. Все собравшиеся восторженными криками отозвались на неожиданное возвращение из ночи в день».
— И вот, спустя два поколения, ты отказываешься от спичек, чтобы стать ближе к природе?
— Возможно, я унаследовал еще кое-что и от матери. Ее семья, наоборот, стремилась уйти подальше от городской жизни. Ее старший брат изучал теологию и мечтал стать деревенским священником. Его отличала большая рассеянность. Свою первую службу он проводил в годы объединения со Швецией. Он сложил руки и вместо «Наш Господь во облацех…» почему-то начал: «Наш Господь во Швеции…» Подобное заявление не могло встретить теплого приема среди норвежских фермеров того времени, и его отец увез сына назад в город. Двое других братьев моей матери изучали философию в Германии. Вернувшись в Норвегию ярыми последователями Руссо, оба купили по наделу земли в глуши Силенских гор. Один через какое-то время сдался, другой — нет. Мама получала от него письма, в которых он описывал себя сидящим на телеге, полной навоза, и с томиком Шопенгауэра в руках. Его дети построили автомобильную дорогу, чтобы приобщить долину Тидален к цивилизации.
Уже в раннем возрасте я начал сомневаться, правильно ли мы понимаем слово «прогресс»?
Сперва оно означало движение вперед к чему-то лучшему, но едва будучи произнесено, вырвалось из-под контроля и приобрело смысл решительного расставания с природой. Мы достигли того, что забыли свой долг перед породившей нас природой. Мы — часть природы, она в нас и вокруг нас, независимо от нашего мнения о собственном месте в мироздании.
Непросто объяснить, почему в таком раннем возрасте я начал подозревать, что, нанося вред окружающему миру, мы можем навредить себе. Возможно, дело в том, что с самого детства я привык воспринимать мир вокруг себя как нечто неустойчивое, постоянно меняющееся. Мать постоянно говорила о Дарвине, об эволюции. Ничто не казалось мне вечным.
Мама потеряла свою мать в детстве, и с тех пор у нее были сложные отношения с Иисусом. Ее мать, болезненная женщина, часто говорила, как ей не терпится снова встретиться с Христом. В юности маму отправили учиться в Англию, и вернулась она убежденной дарвинисткой: все, в том числе и люди, от поколения к поколению становятся лучше и умнее. Отец, в отличие от матери, был не столь вольнодумен. Из Германии, где он учился пивоваренному делу, он вывез убеждение Мартина Лютера, что Господь создал этот мир и не в людских силах изменить его. Он с радостью принимал жизнь такой, какая она есть, и не тратил времени на неразрешимые проблемы. Он никогда не произносил таких слов, как «Бог» или «Иисус», но возносил свои молитвы некоей силе на небесах и, похоже, в равной степени уважал и того, и другого.
«Вот они, плоды прогресса», — говаривала мама, указывая на пылесос или электроплиту. Человек ее поколения все-таки воспринимал как чудо воду, вскипевшую от каких-то проволочек, без помощи огня. Отец не был столь убежден, что человечество становится лучше. Газеты пестрили сообщениями о новых видах смертельного оружия, о политических бурях, о гонке вооружений, развернувшейся буквально на другой день после кошмарной мировой войны с ее ипритом, взрывчаткой, минами и подводными лодками. Норвегия держала нейтралитет, но немало невинных норвежских рыбаков пошло ко дну вместе со своими кораблями. Океан превратился в огромное кладбище и начал казаться мне чем-то зловещим.
Одно из моих первых воспоминаний: я на улице и пытаюсь вскарабкаться на старую, выветрившуюся ступеньку на невысокой горке. Никогда не забуду этот первый в жизни миг самостоятельности. Я уполз от своих одеял и от своей няньки и попробовал забраться на такую высокую ступеньку, что, в конце концов, решил ползти в обход. И вот тогда, уткнувшись лицом в траву, я обнаружил, что муравьям приходится так же тяжело, как и мне. Один попробовал забраться на травинку. Совсем уж крошечные жучки усеяли лист красными точечками, и рядом с ними зеленая гусеница казалась огромным драконом, сидящим опершись на хвост и, раскачиваясь из стороны в сторону, осматривающим окрестности. И вдруг откуда-то налетела Лаура, подхватила меня и утащила далеко-далеко от вновь обнаруженного мира.
Когда я стал немного постарше, меня как-то вели мимо небольшой горки золотого морского песка. Я вырвался из рук взрослых, запустил пальцы в мелкий легкий песок и внезапно обнаружил, что горка куда-то исчезла, а вместо нее я смотрю на волшебный мир крошечных игрушек. Они были такие маленькие, что взрослые не могли бы их разглядеть, а мои пальцы оказались слишком толстыми, чтобы схватить их. Одни походили на кукольную посуду, другие — на трубы, третьи — на морские раковины, только уменьшенные в тысячи раз. Когда меня оттаскивали, я горько рыдал от огорчения. Ну как мог я рассказать о своих открытиях этим взрослым, таким большим, что они даже не могут увидеть фантастический мир, скрытый в обыкновенной горке песка? Именно тогда я понял впервые в жизни, что есть вещи, скрытые от взгляда даже самых больших и самых умных людей.
А потом пришла очередь исследовать подводный мир. Мне стукнуло пять лет, и я не обнаружил там ничего хорошего. Впрочем, я был не готов. Даже не захватил купального костюма. Зима была в самом разгаре, и мама одела меня в теплую одежду, тяжелые башмаки и шапку с ушами. Я стоял на толстом льду — настолько толстом, что, по утверждению отца, он и слона бы выдержал. По крайней мере, он выдерживал вес стоявшей рядом со мной коренастой лошади, запряженной в сани. На самом краю льда двое одетых по-зимнему мужчин то вытаскивали из черной воды огромную пилу, то вновь опускали ее под воду. Они выпиливали здоровые куски стеклянного льда и складывали их на сани.
Отец купил плотину, лежавшую в границах города. Во время длительной датской оккупации она являлась частью графского парка. Теперь замок стал городским музеем, а моя мама — его председателем. Но отца больше всего интересовала плотина и пруд, источник льда для пивоварни.
Я просто ждал, когда взрослые, наконец, уедут. Мальчики, большие и маленькие, прижавшись носами к проволочному забору, ждали того же. Двое с пилой были работники пивоварни, и скоро им предстояло увезти свежевыпиленные льдины в ледник. Круглый год клиенты фабрики получали ледяные блоки, равно как пиво и содовую воду. Тогда еще не изобрели холодильников, но люди заводили специальные ящики, куда раз в неделю укладывался лед. Лед хранился на огромных складах пивоварни под толстым слоем опилок.
Наконец, работники уехали, и, дождавшись, когда утихнет колокольчик, я побежал к воротам с ключом в руке.
Помню, с каким восторгом я наблюдал за мальчишками. Самые старшие из них с разбега прыгали на плававшие около берега льдины и тут же прыгали назад. Они проделывали все так быстро, что возвращались на толстый лед раньше, чем льдины успевали перевернуться.
Их занятие показалось мне интересным. Я решил показать себя во всей своей красе. Сосредоточился, разбежался, прыгнул. Но не успел развернуться для прыжка назад, льдина перевернулась у меня под ногами, и я очутился в совершенно другом мире.
Изо всех сил я старался вернуться к приятелям, но не мог найти дорогу обратно. Казалось, я помнил, где находилась черная полынья, но моя голова и нос встречали только темный и холодный ледяной потолок. Я не знал тогда, что если сверху прорубь кажется темной, а лед светлым, то изнутри все наоборот. Если смотреть снизу, через отверстие под воду проникает свет, а сплошной лед отражает лучи. Я совершенно запутался и ничего не соображал, и это все, что я запомнил из своего заплыва. Очевидно, кто-то из мальчишек схватил меня за отчаянно дергавшуюся ногу и вытащил наружу. Я пришел в себя от собственных воплей, которыми я разразился, когда кто-то предположил, что я мертв. Это допущение так меня напугало, что я постарался убедить всех в его ошибочности. Замерзший и мокрый, я припустил к дому, к теплой постели и к материнской заботе, которая окончательно уверила меня, что я все-таки выжил.
Однако полностью в безопасности я почувствовал себя, только когда отец вернулся с работы и мы с ним произнесли слова молитвы. Это был наш с ним общий секрет, дававший нам ощущение тепла и спокойствия. Мама никогда не присоединялась к нашим молитвам. Иногда, когда до нас доносился скрип ступенек под ее ногами, я быстро нырял в кровать, а отец тут же уходил из моей спальни. Однажды они встретились прямо за порогом моей комнаты, и я услышал, как мама спросила дружелюбно, но с упреком: «Ну и чему ты учишь мальчика?»
Папа никогда не водил меня в церковь. Он и сам туда не ходил. Не в этом проявлялось его христианство. Он не выносил свою веру на суд посторонних. Про нее знал только я. Для нас с ним вера и совесть были чем-то интимным, о чем ведали только мы двое да Господь Бог. Возможно, отец сам с собой заключил тайную сделку: если он будет достойно вести себя во всем остальном, то ему простится увлечение красивыми женщинами.
Будучи атеисткой, мама больше верила в Дарвина, нежели в Бога, но она строго придерживалась христианской морали. Когда в юности она вернулась из Англии в модном шелковом белье и с колодой карт в саквояже, ее тетушки-лютеранки швырнули и белье, и карты в печь. Кстати, слово «белье» вслух никогда не произносилось, его заменял термин «неупоминаемые».
— Как могли уживаться вдвоем два таких разных человека?
— Возможно, ради меня. Но я никогда не видел, чтобы они ссорились. Когда они, попрощавшись со мной на ночь, спускались на первый этаж нашего старого деревянного дома, я прикладывал ухо к полу, но никогда ничего не слышал, кроме звуков классической музыки из трубы престарелого граммофона.
После своего ныряния под лед я начал часто задумываться о жизни и смерти. Вообще, меня больше интересовали животные и растения, чем та сила, которая их породила и поддерживала в них жизнь. Наверное, я никогда не сомневался, что за гранью видимого мира существует некая субстанция, и здесь я был ближе к философии отца. Однако материальные объекты привлекали меня гораздо сильнее, чем невидимые абстрактные ангелы на небесах, о которых нам рассказывал, впрочем, без особого убеждения в голосе, учитель Закона Божия.
Над кроватью моей худощавой няни Лауры висели застекленные картинки кудрявых ангелочков, а наша крепко сбитая повариха Хельга пела песни об ангелах, когда к ней на кухню на чашечку кофе заходили подруги. Однажды, будучи совсем маленьким, я выскользнул из кровати, прильнул к замочной скважине и увидел нечто такое, что потрясло меня до глубины души. Воспользовавшись отсутствием моих родителей, объемистая Хельга с кряхтением усаживалась в нашу ванну. В ужасе я бросился на кровать и закрылся с головой одеялом. До того момента я никогда не видел маму даже в нижнем белье, и эта сцена стала для меня настоящим откровением. Это было очень волнующе и познавательно, но я ни за какие коврижки не осмелился бы посмотреть еще раз. Хельга была нагая, как ангелы, но она с трудом помещалась в ванну. Что же произойдет с ней, которая так божественно поет, когда она попадет в рай и получит ангельские крылышки?
Нельзя сказать, что Хельга пробудила во мне интерес к противоположному полу, но расплескавшаяся по полу вода направила мои детские мечты в совсем другое, новое русло. Теперь, после того как я оставался у себя в комнате один, у меня появились новые ритуалы. Летом я на цыпочках подкрадывался к окну и забирался на широкий подоконник, откуда открывался вид на фьорд Ларвик. Наш дом стоял на крутом склоне холма, спускавшегося к морю, и с высоты третьего этажа я видел тянувшиеся до самой гавани черепичные крыши, а дальше — открытый океан. Вернувшись в постель, я фантазировал о том, что скрывалось дальше, за горизонтом. Потом я засыпал, и если мне везло, то мне снились негры и удивительные африканские звери. Но зимой вылезать из-под теплого одеяла не хотелось, тем более что мама настаивала, чтобы в моей комнате окна стояли нараспашку круглый год. В такие ночи я представлял, что стою в ванной, один, без Хельги. Вот я открываю оба крана, вода наполняет ванну, переливается через край, течет по полу, подбирается к двери в спальню. Затем подхватывает мою кровать и несет меня вниз по склону, во фьорд и дальше, дальше, пока я, наконец, не слезаю с кровати в стране пальм и новых друзей, гораздо более забавных, чем прежние.
В другой моей фантазии мне не требовалось никуда плыть. Я просто возводил огромный стеклянный купол над заброшенной пивоварней, а в получившейся оранжерее сажал тропические растения и приглашал туда то двух маленьких индейцев, то двух маленьких арабов, то негров — как Ной в его ковчег. Ну и животных, конечно.
— Ты был мальчик не от мира сего?
— Тихим и застенчивым я стал только в период полового созревания. Я никого не знал в своей новой школе. Все жившие по соседству дети покинули школу после семи классов. А до тех пор я был в центре внимания нашей компании. У меня были ключи от плотины, неограниченное количество содовой воды и оранжада в леднике, а когда я отправлялся в очередную экспедицию в лес, все стремились ко мне присоединиться.
Может быть, на меня оказали такое сильное впечатление принадлежавшие маме книжки о великих открытиях, диких животных и чужеземцах. Прежде всего, о чужеземцах. Но в те дни в окрестностях Ларвика даже завалящего чужеземца не удалось бы отыскать днем с огнем. Помню, как-то раз в город приехал цирк, и все бежали со всех ног, чтобы увидеть живого негра. Каково же было наше разочарование, когда один из мальчишек заметил, что у него светлые ладони. Мы пришли к единодушному выводу, что негр — поддельный.
Примыкавший к городу лес — в основном сосновый, переходящий в лиственный на востоке и в кедровый на западе — кишел всякой живностью. Мы часто откладывали в сторону наши игрушечные ружья и луки со стрелами и, вооружившись сачками и сетями, отправлялись ловить зверей. В те времена опасность могла исходить только от крупных млекопитающих. Никто и слыхом не слыхивал о токсичных пестицидах и загрязнении окружающей среды. В наших реках водилась рыба.
В маленьких озерах и ручьях мы ловили головастиков, цветных саламандр и крупных черных водяных жуков. На суше — дикобразов, мышей, жуков, кузнечиков и змей. В воздухе — все, что летало, от летучих мышей до бабочек. Несли в обнаруженном нами птичьем гнезде было много яиц, мы и яйцо добавляли к своей коллекции. Отец отдал в мое полное распоряжение заново обшитую панелями комнату в заброшенной конюшне, и мы повесили на ее дверь вывеску: «Зоологический музей».
В повседневной жизни я был конечно белоручкой, но когда дело касалось пополнения экспозиции «музея», во мне просыпались скрытые силы. Однажды, явившись домой с ватагой приятелей, я чуть не довел маму до обморока. Она открыла дверь на мой звонок, и перед ней предстал ее сынок, держащий за хвост живую гадюку. Змея шипела, извивалась и пыталась ужалить меня, но я каждый раз встряхивал ее, и она повисала головой вниз. Мама метнулась стрелой и принесла кувшин со спиртом, куда мы и опустили яростно шипящего гада. Когда пресмыкающее затихло на дне, свернувшись в кольца, я исхитрился выудить его оттуда с помощью раздвоенной палочки, не повредив его волшебной красоты.
— Ты самый тихий и скромный мальчик в классе?!
— По крайней мере, так писал обо мне Арнольд Якоби, мой лучший приятель в новой школе. Если бы не он, мне грозила бы репутация маменькиного сынка. Я не интересовался спортом, не блистал в футболе и не любил скакать на батуте во время уроков физкультуры. Вместо всего этого я часами мог разглядывать крошечных насекомых на булавках под стеклом.
Отец не одобрял мои склонности. Он даже не смог выучить меня плавать, во всяком случае, я твердо отказывался заплывать на глубину. В качестве крайней меры он решился на хитрость. В один прекрасный день он явился в компании молодой красивой дамы. Дама держала в руках длинный шест с веревочной петлей. Предполагалось прицепить меня к шесту и заставить бултыхаться, как лягушку, в глубокой воде у пирса. Оскорбленный до глубины души, я коротко распрощался и оставил его в обществе красотки. Никогда еще я не чувствовал себя таким униженным.
К тому времени многие из моих друзей буквально помешались на спорте и знали с точностью до секунды и до сантиметра, как Нурми пробежал полуторакилометровую дистанцию и как Рустадстуен прыгнул с трамплина на соревнованиях в Хольменколлбакене. Когда они устраивали состязания по марафонскому бегу в городском лесу, я всегда присоединялся, хотя и финишировал неизменно последним, потому что обязательно останавливался, если во время бега замечал нечто интересное. Впрочем, однажды посмотреть на забег пришли три симпатичные девочки. Я тут же вспомнил про даму с шестом и пришел первым.
Разве мог я тогда представить, что настанет день и я в качестве знаменитости буду приветствовать сорок тысяч болельщиков на открытии зимних Олимпийских игр у себя на родине? Это казалось ничуть не более вероятным, чем то, что я буду запросто беседовать с человеком, ходившим по Луне.
Мое увлечение бегом по лесным тропинкам пробудило в отце новые надежды. Пусть меня никак не удается затащить в воду, но ведь я зачитываюсь книгами о короле джунглей Тарзане, а значит, можно попробовать новую хитрость. По его приказу плотники из пивоварни поставили у нас на заднем дворе два высоких столба, соединенных перекладиной. К перекладине мы прицепили канат для лазанья и гимнастические кольца, и с тех пор я мог играть в Тарзана и раскачиваться на воображаемых лианах, сколько душе угодно. В результате ежедневных упражнений у меня стали такие сильные руки, что я мог удерживать свой вес на одной, к тому же согнутой в локте руке.
Но в прыжках через козла на школьных уроках физкультуры я оставался по-прежнему безнадежен. А после того, как отец заманил меня на финал чемпионата Норвегии по футболу, мой интерес к этому виду спорта упал до минимума. Мне пообещали, что если команда Ларвика выиграет, я получу новую удочку. Они проиграли.
Бег в лесу, лазание по канату и ночевки под открытым небом во время походов бойскаутов сделали меня почти таким же здоровым мальчиком, как в первые годы жизни, когда мной занималась мама. Здоровая диета и свежий воздух были ее пунктиком. На заднем дворе нашего городского дома мы держали двух коз, и мама заставила служанку освоить процесс доения, чтобы я мог пить парное козье молоко. Даже в дождь меня выставляли играть на улице. По утрам мне не разрешалось спуститься в гостиную, прежде чем я не продемонстрирую, что у меня все в порядке с пищеварением, и это было так стыдно, что однажды я засунул в горшок шарф и шапку, опустошил его в унитаз и дернул за цепочку.
Хорошо помню, как отреагировали мои родители на случившийся неподалеку пожар. Весь Ларвик состоял из деревянных домов, и незадолго до моего рождения полгорода выгорело дотла. Ночью, когда мы все спали, загорелась почта, стоявшая у основания холма. Снопы искр поднимались высоко вверх и достигали нашего дома. Отец объявил, что если дом загорится, мы спрячемся в винном погребе старой пивоварни. Услышав его слова, мама тут же послала меня на горшок, чтобы процесс произошел прежде, чем мы окажемся запертыми под землей. К счастью, скоро приехала пожарная команда, и к списку моих детских страхов не прибавилась боязнь огня.
С другой стороны, вода и второй раз едва не послужила причиной моей гибели.
Утес, на котором городские жители строили свои бани, отделяла от материка глубокая и широкая расщелина. Сильное подводное течение затягивало туда воду из ларвикского фьорда и затем с силой выталкивало ее назад. Когда-то там утонул сын сторожа с пивоварни. Также по городу ходили жуткие слухи о некоей женщине, которая бросила в расщелину своего незаконнорожденного младенца. Осенью бани стояли пустые. С материка на остров вел небольшой деревянный мостик без перил. Однажды я не устоял перед искушением и повел туда ватагу мальчишек, намереваясь поиграть в салочки. Я бегал быстро и упивался своим умением. Спасаясь от преследователя, я прыгнул наискосок на деревянный мостик, но оступился и упал в бездну. Даже хорошему пловцу трудно было бы выкарабкаться наверх по осклизлым стенам расщелины. Нелепо взмахнув руками, я рухнул в воду в каскаде брызг. Помню только, что я дважды выныривал на поверхность — а затем мир померк перед моими глазами. Один из мальчиков, застенчивый малыш по прозвищу «американец», сломя голову помчался к баням, схватил спасательный круг с привязанной к нему веревкой и швырнул его в бурлящий водяной котел. Как я сумел ухватиться за круг, остается тайной, но, тем не менее, мне это удалось, а ребята объединенными усилиями вытащили меня за веревку на сушу. Мой отец сделал все для того, чтобы скромный «американец» стал героем нашего класса, и подарил ему серебряный нож, который тот постоянно отныне носил на поясе.
После этого случая никто не мог убедить меня, что я тоже смогу удержаться на плаву с помощью ритмичных движений руками и ногами. Я попробовал и больше не хотел, увольте. Отцу пришлось смириться с тем, что боязнь воды останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Только через много лет, после завершения плавания на «Кон-Тики», он признает, что я победил детский страх. Но к тому времени я уже научился плавать.
Голова над водой
Воспоминания о днях раннего детства внезапно растаяли в лучах ослепительного солнечного света.
«Время собирать вещи. Наш самолет вылетает сегодня».
Жаклин встрепенулась в своем шезлонге. Я проснулся, а мой аку-аку, наоборот, погрузился в глубокий сон.
«Достаточно, — решил я про себя. — Довольно тишины и лени».
Я представил себе груды писем, которые еще предстояло разобрать, и рулоны оставшихся без ответа факсов, устилающие пол моего нового дома на Канарских островах.
Но я встречу их во всеоружии. Недаром я заранее позаботился об идеальной обстановке для работы, вдали от толп туристов, в старинном, уединенном и забытом всеми поселении. Там, на заброшенной плантации авокадо, в тени огромных деревьев, земля успела позабыть о мотыге. Старинные дома не торопились сносить из уважения к Их почтенному возрасту и к памяти местной знаменитости — поэта, когда-то нашедшего прибежище за здешними высокими стенами и разросшимися посадками.
Поскольку в сутках оставались все те же двадцать четыре часа, мне по-прежнему приходилось вставать в шесть утра — существенная смена распорядка для Жаклин. Ради любимого супруга ей пришлось выходить к завтраку на шесть часов раньше привычного времени. Но в награду, в качестве свадебного подарка, она получила восход солнца над океанскими просторами. За годы, проведенные под прицелом голливудских кинокамер, она, возможно, ни разу не видела рассвета! А теперь Жаклин каждое утро могла подойти к окну и увидеть, как солнце, первый и лучший художник на свете, доставало из-под скатерти океана кисти-лучи и ласковыми прикосновениями окрашивало волны, небо и горные пики в нежнейшие цвета, подобные обретшим плоть нотам. А что еще нужно преданному любителю живописи и археологии?! В такие часы я часто думал — может, не будь ее рядом, мой аку-аку дал бы знать о своем присутствии? Ведь скорей всего он притаился здесь, неподалеку, как и мы, лишившись дара речи от этой красоты.
В других частях острова целые города из небоскребов выросли на радость современным солнцепоклонникам, готовым платить целые состояния ради нескольких дней под чистым, голубым небом. Однако меня и Жаклин привели на этот остров и в эту долину настоящие, древние жрецы Солнца, и над нашими головами ежедневно совершал свой путь из Африки в джунгли Южной Америки настоящий, нетронутый суетой символ их божества.
В глубине долины с незапамятных времен скрывалось несколько ступенчатых пирамид. Никто уже не знал, кто их построил. Древние старцы слышали от своих дедов, что пирамиды стояли там всегда. Более молодые поселенцы относились к ним без особого интереса, просто как к живописным, но бесполезным грудам камня, возможно оставленным испанскими завоевателями при расчистке полей. До недавнего времени местное население уважительно оберегало район пирамид, и город рос вокруг древних сооружений, не задевая их. Вдоль улиц, заботливо огибавших запретную зону, плечом к плечу стеной встали дома. Дети в своих играх за все годы не вытащили из вековых стен ни одного камушка! Словом, сознательно или бессознательно, но люди почтительно хранили эти пирамиды, и только разрозненные группки странных чудаков собирались здесь, чтобы медитировать и общаться с духами жителей Атлантиды и с пришельцами с иных планет. А затем городской совет взял да и разрешил застройку пустыря, на будущих улицах которого не осталось бы места ни для науки, ни для суеверий.
Я приехал сюда как раз вовремя, чтобы успеть спасти пирамиды. На местных картах присутствовало название «Пирамиды Чакона», но конструкции неизвестного происхождения не имели статуса памятника истории. Ни один закон не стоял на страже пирамид, выросших на острове посреди Атлантики. Единственным охраняемым зданием была старинная испанская постройка, возвышавшаяся посреди пирамид и, судя по обилию маленьких комнатушек, служившая чем-то вроде монастырского общежития. Вот она-то, наравне с купленным мною домом, и считалась национальным достоянием.
Мне удалось узнать о пирамидах по чистой
случайности. Именно благодаря подобным случайностям я порой чувствовал себя марионеткой, которую невидимый кукловод перебрасывает с острова на остров и заставляет «открывать» для мира то, о чем давным-давно знало местное население.
Невозможно открыть то, что было у тебя перед глазами со дня твоего рождения. Норвежскому туристу по имени Сервик пришло в голову прислать мне вырезку из местной газеты с фотографией одной из пирамид. Подпись под картинкой намекала на то, что перед читателем — результат деятельности сверхъестественных сил, но изображенный объект был явно создан руками человека. Человека, добравшегося до Канарских островов через бурные воды Атлантики и знавшего о таких же ступенчатых пирамидах, возведенных на заре истории по обе стороны океана.
Я дважды посещал Канарские острова в надежде узнать что-нибудь о людях, живших там до прихода португальцев и испанцев. Многие из коренных обитателей Тенерифе внешне напоминали выходцев из северной Европы — такие же высокие, светлокожие и светловолосые. Но это описание подходит и к берберам, жителям северной Африки. Такими же были, согласно легендам ацтеков и инков, таинственные мореплаватели, открывшие их предкам цивилизацию и секрет строительства пирамид. Вот зачем я впервые приехал на Канарские острова — узнать хоть что-нибудь о таинственных мореходах, похожих на скандинавов, но бороздивших Атлантику задолго до Колумба и Лейфа Эйриксона. На своих судах они перевозили семьи и скот и подобно древним египтянам владели искусством мумификации умерших и навыками трепанации черепа.
В то время я работал на раскопках огромного комплекса пирамид в Тукумане на перуанском побережье, но дела заставили меня ненадолго вернуться в Осло, где меня и застигло письмо с газетной вырезкой. Из всех знакомых только один человек знал Канары как свои пять пальцев — мой старый приятель Фред Ольсен. Ему там досталась в наследство от отца кое-какая собственность и небольшая судоходная компания. Именно его отец Томас предоставил убежище Лив и моим ребятишкам, пока меня швыряло по фронтам северной Европы.
Фред ничего не слышал о пирамидах на Тенерифе. По занятной случайности, он жил на соседнем острове под названием Гомера, откуда Колумб отправился в свою первую экспедицию на поиски Нового Света. Жена Фреда и его дочь Кристин, отличный фотограф, отправились на пароме на Тенерифе. Именно на этом острове, куда сегодня в погоне за загаром каждый год съезжается по четыре миллиона бледнолицых горожан, светлокожие и бородатые туземцы дали бой морякам Колумба — тем самым, которых безбородые американские индейцы встретили как вернувшихся богов.
Двум увешанным фотоаппаратами норвежкам потребовалось немалое мужество, чтобы найти дорогу к пирамидам. Но в конце концов они добрались до Гуимара. Там не роились туристы, не сверкали огнями отели, но зато в глубине поселка таились загадочные пирамиды.
Когда я получил от Кристин увесистую бандероль с фотографиями, то тут же собрался и первым же рейсом вылетел на Тенерифе. Миновав ряды безликих цементных домов Гуимара и оказавшись перед отлично сохранившимися ступенчатыми пирамидами, я испытал острое чувство восхищения и восторга — прямо в глаза мне глядели минувшие века. Такие же эмоции я испытал тремя годами ранее в Перу, когда мы с Вальтером Альва свернули в какой-то переулок и мой провожатый показал мне тамошние пирамиды, более высокие, чем здесь, но такие же заброшенные и всеми позабытые. Интересно, что и тут, и там на местных жителей памятники старины не производили абсолютно никакого впечатления.
— А разве у вас в Норвегии нет пирамид? — удивлялись они в Перу.
— Какие же это пирамиды? Они здесь всегда были, — уверяли меня на Тенерифе.
В ту ночь я расстался со своими провожатыми и снова вернулся к пирамидам. Стоя у подножья древних стен, мне с трудом верилось, что я нахожусь в трезвом уме и здравой памяти и посреди модного туристического курорта.
Вдруг сердце у меня ушло в пятки. За моей спиной, на платформе древнего храма, бесшумно возник огромный белоголовый незнакомец.
— Вы Тур Хейердал? — спросил он.
— Да, а вы кто? — отозвался я.
— Я из племени гуанчи, — невозмутимо ответил незнакомец.
— Но говорят, на острове не осталось никого из гаунчи, — неуверенно возразил я.
— Мой отец гуанчи, и мать тоже.
От предвкушения удачи у меня застучало в висках.
— Если вы гуанчи, то вы знаете, что это такое, — указал я на силуэт самой высокой из пирамид.
— Люди говорят, просто груда камней с полей.
— И вы тоже так считаете?
Гигант усмехнулся.
— Они так думают, и тем лучше для них.
Моего нового друга звали Карлос Кампос, и он работал в местной полиции. Высоко в горах, окружающих долину Гуимар, я познакомился с его матерью и прочими родственниками, такими же светловолосыми и голубоглазыми, как и он. По их словам, почти у всех, кто живет в горах по эту сторону долины, в жилах течет кровь гуанчи. Здесь пролегала последняя линия их обороны, испанские каратели не совались сюда, опасаясь кинжалов горцев. Во времена Франко принадлежность к племени гуанчи и даже знание их языка означало одно — смертный приговор. Считалось, что завоеватели окончательно стерли с лица земли примитивные местные племена, но теперь, после падения диктатуры, Карлос и его соотечественники снова смогли наслаждаться правом говорить на родном наречии.
Пока городской совет собирался послать бульдозеры, чтобы снести пирамиды, Фред не терял времени даром и в одночасье скупил всю землю в этом районе. Никто и оглянуться не успел, как вокруг пирамид вырос забор, а на листах ватмана появились планы реконструкции древних домов племени гуанчи как свидетельств параллельного развития цивилизации на противоположных берегах Атлантического океана. Фред рассчитывал в дальнейшем финансировать проект за счет прибыли от туристов. Я должен был организовать комитет из археологов, который отвечал бы за функционирование выставки и распределял бы денежные потоки. Фотограф пирамид Кристина, яростная сторонница Фреда, наняла мою младшую дочь Беггину, чтобы та занималась практическими вопросами, пока я буду мотаться взад и вперед между пирамидами Перу и Канарских островов. Другой моей дочери, Марион, художнику по керамике, предстояло графически оформить доказательства родства культур, разделенных водами Атлантики.
Так появился на свет ФРИ — Фонд развития и исследований.
На вершине одной из этих ступенчатых пирамид я и познакомился с Жаклин. Какая-то газета поместила статью, что я приехал на остров с целью спасти пирамиды и что эти пирамиды — ближайшая родня перуанских и мексиканских. Этого оказалось достаточно, чтобы разбудить любопытство Жаклин, и она первой перебралась сюда с другого края острова. Та встреча круто изменила нашу жизнь, и долине пирамид отныне суждено было стать нашим общим домом.
Когда Жаклин прервала мой диалог с аку-аку на крыше гостиницы в Эль-Аюне, мы как раз собирались вернуться в эту долину. Мы решили сделать все, что в наших силах, чтобы спасти древний комплекс, а заодно и обгорелые руины испанского монастыря, где вполне мог бы разместиться музей. А для себя мы планировали восстановить старый флигель в саду. Когда-то я уговорил моего старого друга Фреда Ольсена купить землю, на которой стояли пирамиды, — ведь он с детства связал свою жизнь с Канарскими островами. Жаклин, не теряя времени даром, организовала мою встречу с местными властями, а те запустили бюрократическую машину, чтобы объявить этот район памятником культуры и взять его под охрану государства. «Пирамиды Чакона» должны были стать исследовательским центром, со своей страничкой в Интернете, посвященном изучению древних культур и старинным путям морских коммуникаций.
Свадебное путешествие в Западную Сахару планировалось как короткий перерыв в работе, однако из-за бюрократических проволочек оно затянулось на целых семь дней. Но вот теперь мы наконец были на борту самолета. Жаклин спала, а я наслаждался видом африканского побережья, похожего на золотую цепочку, брошенную на границе земли и моря. Пески Сахары постепенно уплывали вдаль, уступая место голубым водам Атлантики. Я и сам начал клевать носом, но тут вновь подал голос мой невидимый спутник.
— Посмотри вокруг — узнаешь?
Я бросил взгляд в иллюминатор и не увидел ничего, кроме голубых вод Атлантического океана. Наверное, мы находились уже на полпути между Африкой и Канарскими островами. Ну конечно же, я ведь проплывал здесь и на «Ра», и на «Ра И» перед тем, как выйти в открытый океан. Отсюда, сверху, океан вовсе не казался таким могучим, просто бескрайнее голубое пространство. Даже не видно белых верхушек волн, несущихся к берегам Америки. Да, чтобы составить правильное впечатление о нашей планете, ее надо разглядывать либо в упор, либо откуда-нибудь с Луны.
— Ты веришь в легенду о затонувшей Атлантиде?
Но тут как раз шасси самолета коснулись посадочной полосы, и в последующей суете и беготне я позабыл о заданном мне вопросе. А дома, в долине пирамид, меня ждали рулоны факсовых сообщений и ворох новостей о новорожденном проекте под названием ФИОК — Фонд исследования очагов культуры. Так что если мой аку-аку даже и пытался до меня докричаться, то я ничего не заметил.
— Тебе пора стричься, — заметила Жаклин несколько дней спустя. Я как раз собирался побриться, и зеркало тут же подтвердило справедливость ее слов. Вообще-то моя шевелюра вовсе не отличается пышностью, но зато шея зарастает с невероятной быстротой. Короче, несколько часов спустя она подбросила меня на машине до столицы острова, и едва я с наслаждением погрузился в глубокое кресло парикмахера, мой внутренний собеседник оказался тут как тут.
— Ты так и не ответил на мой вопрос. Может, ты боишься науки или, наоборот, страшишься, что тебя отнесут к числу тех, для кого пирамиды — лишь повод порассуждать об инопланетянах или таинственных обитателях океанских глубин?
— Я боюсь и того, и другого. Но больше всего — тех «авторитетных» личностей, кто утверждает, будто пирамиды — это всего лишь бестолковые груды камней. Остальные не так опасны. Лично я считаю, что пирамиды возводили обыкновенные люди, задолго до европейцев приплывшие из Африки на незамысловатых судах, груженных запасами семян и домашними животными. Но и гипотеза об Атлантиде не достойна того, чтобы ее с пренебрежением отбрасывали ученые мужи или дискредитировали заумные парапсихологи. Слишком просто с важным видом водрузить очки на нос и уверить себя, будто все о прошлом можно узнать, покопавшись в современных книгах, а свидетельства древних авторов — не более чем примитивное отражение мифов и легенд.
— Например, легенда о Ное и Потопе?
Положение становилось более серьезным. Парикмахер хотел узнать, следует ли ему постричь волосы, торчащие у меня из ноздрей, а аку-аку интересовался Ноем и Потопом.
«И в носу, и в ушах», — ответил я первому. Тонкий же вопрос Потопа и Атлантиды остался ждать своего часа.
На следующий день, к удивлению Жаклин, я отказался от привычной послеобеденной сиесты и вместо этого устроился с ручкой и блокнотом в гамаке под сенью авокадо.
Аку-аку не заставил себя долго ждать.
— Как получилось, что ты, с детства боявшийся воды, в зрелые годы вышел в море на старинных судах, в надежность которых никто не верил?
Я согласился, что логикой здесь и не пахло. И действительно, чему я обязан проснувшейся во мне в молодые годы уверенностью в своих силах? Я вспомнил, как я рассуждал в те, уже очень далекие, времена.
В студенчестве я часто ходил в горы, невзирая на непогоду. Моим единственным компаньоном была собака гренландской породы. Снег сдирал кожу у меня со щек, словно наждачной бумагой, а я твердил про себя: «Только так мальчик становится мужчиной!»
Я просто устал от самого себя. Устал от собственной робости и скромности. Мне надоело теряться в присутствии девочек и проигрывать в играх со сверстниками. Я хотел обрести уверенность в себе. Заставить себя расстаться со скорлупой, в которой я привык прятаться. И я сознательно пытался освободиться от своих внутренних оков. Снежный вихрь словно выдувал меня из теплого убежища.
После того, как я чуть не утонул во второй раз, к воде я начал испытывать примерно такие же чувства, как к дантистам и к темным кладбищам. Все мои друзья выучились отлично плавать и летом весело резвились во фьорде Ларвика. У каждого из них в семье была либо яхта, либо катер. К счастью, мы не имели ни того, ни другого, и я возносил хвалу Создателю, что мои родители только недавно переехали в Ларвик и что им принадлежали два домика в горах. Отец предпочитал свой, расположенный в лесу над деревушкой Эстейтс. Там была железнодорожная станция, множество дачных домиков и вообще масса возможностей для развлечений. Мама купила свою избушку в Восточной Норвегии, недалеко от моря, в горах между долинами рек Гудбансдаль и Эстер даль. Туда вела дорога, по которой не смог бы проехать ни один автомобиль, но зато в деревне имелась гостиница — правда, она редко могла похвастаться хоть одним постояльцем. Еще там была дюжина низеньких бревенчатых домиков. Зимой они стояли пустые и занесенные снегом по самые соломенные крыши. Но летом в них кипела жизнь. Одни использовались как небольшие летние фермы — их хозяева держали коз и варили сыр. В другие, как на дачи, приезжали отдохнуть горожане. Горожане держались замкнуто и ловили с лодок форель в горном озере либо уходили в долгие пешие прогулки высоко в горы.
Херншё стал моим вторым домом. Сюда приезжали на каникулы мамины родственники и мои взрослые кузены. Теплые воды Гольфстрима обходили этот край стороной, и каждая попытка искупаться заканчивалась очень быстро и с громкими воплями, так что я не чувствовал свою неполноценность.
Скорее всего бессознательно, но именно мама направила меня на тот путь, который хотел показать мне отец в день, когда он появился с удочкой и с незнакомой женщиной. К тому времени мои руки уже окрепли от ежедневных упражнений на гимнастических кольцах и от гребли на лодке в водах горного озера.
А затем, однажды летом, произошло нечто совершенно неожиданное. Из дикого, словно заколдованного леса, что лежал на противоположной стороне озера Херншё, вышел высокий человек, похожий на героя из детских сказок. На нем был старомодный поношенный охотничий костюм. Он постучал в дверь нашего дома и предложил купить у него горную форель невиданных размеров. Мама решила, что человек из сказки, должно быть, голоден, и пригласила его пообедать с нами. Какие удивительные истории рассказывал незнакомец! Никогда я не слышал и не читал ничего подобного о животных, которых нам доводилось видеть только изредка и мельком, в сосновом лесу или выше в горах. О лосях и оленях, о росомахах и куницах, о зайцах и даже о горностаях, о снежных мышах, леммингах, лесных гусях, журавлях и прочих диких созданиях, которые жили в чаще леса своей, неведомой нам жизнью. Все они составляли мир Уля Бьёрнебю, с ними он встречал восходы и закаты, им был обязан удивительным спокойствием духа и неизменным простым юмором.

Он нарубил нам дров и заработал еще несколько шиллингов. Мама даже не протестовала, когда он показал мне, как правильно вырезать биту. А потом случилось чудо. Однажды, возвращаясь из города, он позволил мне помочь ему донести покупки до его хижины в долине среди гор. Я вернулся домой без рук, без ног, но настолько взбудораженный и восхищенный увиденным, что через несколько дней мама, к моему неописуемому счастью, отпустила меня пожить у него короткое время.
Долина, в которой поселился Уля, была почти полностью оторвана от остального мира, с которым ее связывала только одна узенькая тропинка.
«Хюнна» — так называлась заброшенная горная ферма, где он нашел себе пристанище. Новое волшебное слово вошло в мою жизнь, когда мы прыгали с камня на камень там, где река вытекала из озера и начинала свой стремительный бег под густой кровлей соснового леса. Уля жил в бывшей овчарне, маленьком строении с земляным полом и бревенчатыми стенами, немного не доходившими до земли. Еду он готовил на жаровне посреди единственной комнаты, а дым от костра уходил через отверстие в крыше. Мебелью служили камни, пни и сучья деревьев. Самое длинное бревно одним концом лежало в кострище под жаровней и с каждым днем становилось все короче и короче, так что я был избавлен от необходимости рубить дрова, разве что для растопки.
Там, в мире старого Уля, я впервые понял, насколько, в сущности, проста жизнь. Сложной ее делают люди, в силу привычки сами того не замечая. С первых шагов нас учат: чтобы спать, необходима кровать, чтобы есть, нужны стол и стулья. Однако после первого же дня, проведенного в доме Уля, я вдруг осознал, что можно прекрасно обходиться вовсе без мебели.
Уля любил поговорить, но никогда не рассказывал о себе. Окольными путями мама выяснила, что он, как говорится, знавал лучшие дни. Сын некогда богатого, но спившегося и разорившегося землевладельца, Уля был слишком горд, чтобы просить подачек под видом помощи, и вместо этого в один прекрасный день просто взял да ушел в горы, захватив с собой только отцовскую охотничью и рыболовную снасть. Когда он нашел хижину в Хюннае, то решил остаться там навсегда.
Уля жил тем, что давал ему лес, и еще немножко браконьерствовал, но никогда не заступал слишком далеко за грань закона. Его любили все в округе, в том числе и егеря, и длинная рука правоохранительных органов редко дотягивалась до долины Аста. Таким образом, Бьёрнебю добывал себе пропитание на свой манер и ни от кого не зависел, подобно Робинзону Крузо наших дней. Как-то раз он принес на продажу в деревню горную форель таких невиданных размеров, что «доброжелатели» донесли на него лесникам. Страж закона, повинуясь приказу, отправился в долгий путь к озеру Лунг, расположенному высоко в горах Остердали. Он спрятался с биноклем за кустами и вскоре увидел, как мы с Уля, ничуть не таясь и ничего не подозревая, вышли на озеро на маленькой лодке. Уля решил научить меня ловить на наживку, которую в здешних местах называли «выдрой», и представлявшую собой ку-сок дерева с добрым десятком прикрепленных к нему крючков. Деревяшку цепляют на длинную леску и тянут вслед за лодкой. Таким образом, за один заход удается поймать сразу несколько рыб. Этот метод рыбалки считался допустимым для местного населения, но строго запрещенным для горожан и других посторонних.
Уля греб, внимательно глядя по сторонам, и вдруг заметил блеск стекол бинокля. Он тут же отнял у меня леску, а меня самого посадил на весла. Грести я имел полное законное право, а вот Уля, хотя и считался местным жителем, непременно угодил бы за решетку за то, что позволил мне держать «выдру». Я греб так, словно от этого зависела вся моя жизнь, и ни за что не признавался, что устал, даже когда совсем выбился из сил. Хорошо было этому типу лежать себе с биноклем! Мои руки покрылись волдырями, а скамейка казалась такой жесткой, что пришлось подложить подушку из свернутой несколько раз оленьей шкуры. С каждой минутой у меня на руках оставалось все меньше и меньше кожи, а на заднице — все больше и больше обнаженных нервов. Только вечером, когда мы пристали к берегу, бдительный стражник собрался в обратный путь. Мы же двинулись в противоположном направлении. Лесник торопился дотемна добраться до цивилизации, а мы спешили в хижину в Хюнне.
Победа на озере была одержана, но мой путь домой никак не напоминал триумфальное шествие победителя. Каждый шаг отдавался в задней части моего тела, словно удар хлыстом, и я никак не мог угнаться за моим наставником, хотя именно он нес большую часть нашего пятидесятикилограммового улова. «Не беда. Мы переночуем здесь и пойдем дальше рано поутру», — сказал Уля, улегся на оленью шкуру и моментально уснул. Обычно, если ночь застигала нас в лесу, мы забирались под шатер из еловых Веток. Что может быть лучше, чем лежать на спине под открытым, усеянным звездами небом! На сей раз, однако, я упустил возможность насладиться любимым зрелищем. Плюхнувшись животом на гранитный валун, я уснул как убитый.
Летние каникулы, проведенные в обществе Уля, многому научили меня, и эти уроки остались со мной на всю оставшуюся жизнь. Но главное — я понял, что являюсь частью природы, независимо от того, какая на мне одежда. Стоит один раз испытать это чувство, и вы везде будете как дома, даже если до ближайшего жилья много дней пути, а вокруг — лес, горы, пустыня или океан. В лесу мы с Уля не только видели диких зверей, но стали свидетелями их повседневной жизни. Мы все замечали — где спал лось, где проходила лосиха с лосятами, где заяц обгрыз ствол дерева, где лиса охотилась за птенцами. Когда я вернулся в школу и засел за учебники, я знал уже почти все про живую природу.
Налившаяся красным цветом рябина предвещала скорый приход осени. С тяжелым сердцем я променял свободные горы на цивилизованный Ларвик.
Мне исполнилось пятнадцать лет — возраст конфирмации. Однако я отказался участвовать в этом обряде. Другие школьники прошли его, но только из-за полагающихся по случаю подарков. Мне не нравился священник, и я не хотел, чтобы он клал руки на мою голову.
Когда мы с Арнольдом принимались философствовать, разговор обычно вертелся вокруг девочек из нашего класса и вокруг таинства любви. Тем не менее, как ни интересовали нас девочки, для нас они оставались чем-то совершенно неведомым. В те времена сексуальное образование было неизвестно в школе и невозможно в семье. Свои познания в этом вопросе мы черпали из собственных наблюдений за животными, а также из надписей на стенах общественных туалетов. Как-то раз мальчик постарше решил преподать мне первый урок символики секса. Он нарисовал мелом круг, перечеркнутый пополам и окруженный лучиками.
Знаешь, что это такое? — спросил он.
— Солнце, — ответил я невинно.
Он тяжело вздохнул.
— Это что-то отвратительное, — прошептал он мне на ухо.
— Неужели черт? — тоже шепотом предположил я.
В своей невинности я считал девочек и взрослых женщин существами совершенно отличными от нас, нормальных людей. Как и о чем говорить с ними — казалось неразрешимой загадкой. Один из моих одноклассников назначил девочке свидание. Чтобы быть в состоянии поддерживать беседу с этим таинственным созданием, он весь день перед встречей читал и запоминал спортивные новости.
Мы с Арнольдом пребывали в уверенности, что любовь — нечто совершенно божественное. И как раз тогда мои родители решили разойтись. Они не стали подавать на развод — отец просто продал свою долю в пивоварне и переехал в гостиницу в Осло на то время, которое потребуется нам с мамой, чтобы тоже перебраться в столицу. Шел 1933 год, и я собирался поступать в университет. В те дни я дал себе клятву, что ни за что не разведусь со своей будущей женой.
— И в итоге — ты дважды разведен и так и не прошел обряд конфирмации?
— Да, я прошел через процедуру разводов, но по-прежнему верю в любовь. Меня крестили в младенчестве, а от конфирмации я отказался, потому что не хотел, чтобы окружающие подумали, будто я верю в того мрачного, мстительного Бога, каким Его рисовал ларвикский священник. В отличие от него, я верил в бога Любви и не сомневался, что этот бог пожалеет несчастную женщину, которая бросила своего мертворожденного незаконного ребенка в реку, потому что ей не позволили похоронить его в священной земле кладбища.
Мы с Арнольдом часто говорили о религии и морали и пытались предугадать свою будущую жизнь в нашем крохотном городке, вымиравшем с наступлением темноты. Церковь тогда уже потеряла власть над юными умами, и наши сверстники ходили туда только на конфирмацию, потому что вслед за обрядом следовали обязательные подарки — часы, запонки или первая в жизни пара длинных брюк. Арнольд, как и остальные, принял причастие, чем, вкупе с красивым низким баритоном и умением играть на пианино, снискал расположение священника. Мы оба любили музыку, хотя я и не отличался хорошим слухом. Зато у меня дома имелся внушительных размеров граммофон.
Моей религией постепенно стала вера во всемогущую и всеобъемлющую созидательную силу, породившую природу и все, что растет и движется на нашей планете. Сын садовника, Арнольд любил цветы и охотно слушал мои философствования о том, что цивилизация ступила на неверный путь развития. Когда же я признавался другим людям, что ненавижу машины и моторы и что в конечном итоге эти изобретения не смогут улучшить жизнь человечества, на меня смотрели, как на идиота.
— Но как ты пришел к такому выводу?
Возможно, причина — в инстинктивной вере в природу как творца и хозяина человечества. Если существует некий высший разум, в чьей власти находится все на Земле, то почему он сам не изобрел машины на потребу людям? Я опасался, что когда-нибудь машины окажутся сильнее природы и заменят собой все то, что Господь подарил нам.
— Ты не верил в прогресс?
Верил, но я не считал, что каждый шаг, удаляющий нас от природы, может называться прогрессом. У меня появилось ощущение, будто мы, люди, начали ставить на себе эксперимент на выживание. Вырубаем леса. Как само собой разумеющееся считаем, что прогресс заключается в движении от фермы к заводу. В детстве я любил рисовать. Излюбленной темой моих рисунков было ярко-желтое солнце, сияющее над круглыми африканскими хинами, пальмами и стаями обезьян. Затем я сменил кисти и краски на карандаши, ластики и тушь, из-под которых выходили ироничные чертежи, высмеивавшие слабые стороны цивилизации. Я был непоследователен. Я любил ездить поездом и, как и все, пришел в восторг, когда кто-то из одноклассников принес в школу предмет со странным названием «радио». Мы по очереди одели наушники и с удивлением убедились, что из них действительно доносится далекая музыка.
После жизни на природе с Уля Бьёрнебю, я стал уделять больше внимания своему физическому развитию. Особенно близко я сдружился с огромным парнем по имени Эрик — он участвовал в наших марафонских забегах по окрестным лесам. Этот весельчак ничем не походил на Арнольда. Они так никогда и не сдружились, потому что Эрик не стал, в отличие от нас, получать высшее образование, а ушел в моряки. Оба они обладали недюжинной силой, но поскольку Арнольд увлекался музыкой и поэзией, с ним мы вели исключительно философские беседы. Эрик же любил путешествия, и в мои последние школьные годы, после общения с Уля Бьёрнебю, мы с ним все свободное время проводили в самых необжитых горах Норвегии.
При первой встрече мы не были готовы понять друг друга. Я в многочисленной компании приятелей направлялся в пригородный лес ловить саламандр, и тут мы столкнулись с Эриком. Во главе целой когорты мальчишек, вооруженных игрушечными пистолетами и деревянными мечами, он шел строить в лесу пиратский корабль. Позже, когда мы начали вместе устраивать марафонские забеги по лесам, я как-то заглянул к нему домой. Сперва меня бросило в дрожь при виде кровожадного пирата, целившегося в меня с картинки на стене его комнаты, но позже я научился ценить его озорные рисунки.
Эрик стал моряком, и мы потеряли друг друга, но спустя много лет именно Эрика Хессельберга я пригласил принять участие в путешествии на «Кон-Тики» в качестве штурмана.
Подобно мне, Арнольд после школы переехал в Осло. Я выбрал биологию и географию, он — искусство и со временем стал профессиональным художником и писателем. Его книга «Это касается и тебя» пользовалась большим успехом. В ней шла речь об единственной в Ларвике еврейской семье. У них было двенадцать детей, и все они, кроме самого младшего, погибли в газовых камерах во время фашистской оккупации. Мы, одноклассники Самуэля, и не задумывались о его национальности — мы только знали, что он никогда не ходит в школу по субботам. Что это за вера в бога Любви, из которой произрастает ненависть? Хотя и друзья, и враги могут верить в Единого Создателя, они порой расходятся во мнении относительно того дня недели, в который он решил отдохнуть.
Я был абсолютно убежден, что наша так называемая «цивилизация» стала опасной для нас самих. Что орудия уничтожения, стоящие наготове во всех уголках Земного шара, неизбежно втянут мир в новую ужасную бойню. Альфред Нобель верил в прогресс и вечный мир, когда изобретал динамит. Количество людей, погибших от динамита во время Первой мировой войны, значительно больше, чем число спасшихся благодаря противогазам. А когда мы учились в школе, нам рассказывали об изобретении гигантских военных машин без колес, способных передвигаться по любой местности. Казалось, с их появлением война потеряет всякий смысл. Мы с Эриком надеялись убраться подальше от Европы, пока люди не придумали и не пустили в ход еще какие-нибудь ужасные механизмы. Эрик мечтал основать идеальное общество где-нибудь в Центральной Африке, подальше от опасностей цивилизации. В то время на карте мира еще оставалось немало белых пятен.
Меня часто спрашивают: что значили для меня великие исследователи времен моего детства, Руаль Амундсен и Фритьоф Нансен. Трудный вопрос. Конечно, мы, мальчишки, видели в них героев — оба они тогда были живы. Еще до нашего рождения Амундсен первым достиг Южного полюса и лидировал в гонке покорителей Северного полюса. Никогда не забуду — в 1928 году я был в лагере скаутов в Андалсенсе. Дирижабль итальянца Нобиле потерпел аварию в районе Северного полюса, а самолет Амундсена, в отчаянной и благородной попытке спасти конкурента, рухнул посреди скованного льдом океана. И тут к нам в лагерь пришло известие, что Амундсена нашли живым. Что тут творилось! Все повыскакивали из палаток, прыгали и кричали, как сумасшедшие. Тем сильнее было наше горе, когда известие оказалось ложным.



Мне исполнилось всего восемь лет, когда Нансен получил Нобелевскую премию за помощь беженцам — жертвам Первой мировой войны. Больше всего мы восхищались им за то, что он сознательно позволил своему судну «Фрам» вмерзнуть в дрейфующие льды и вместе с ними подошел к Северному полюсу ближе, чем кто-либо в истории (за исключением его спутника Йохансона). Все мы слышали, что в 1888 году он пересек на лыжах Гренландию. Тогда, в годы моего детства, никто другой не забирался так далеко во льды Гренландии, чтобы сообщить географам, что же на самом деле представляет собой этот огромный полярный остров — нагромождение диких горных хребтов или плоскую ледяную равнину. Затем произошло событие, сыгравшее важную роль в моей собственной судьбе. В 1931 году два отважных студента из Норвегии пересекли на собачьих упряжках самую неизведанную часть Гренландии и написали книгу о своем путешествии. Один из них, Мартин Мерен, привез в Осло несколько собак из той упряжки.
Моя мать обожала собак и в годы первого замужества держала двадцать белых лаек — близких, хотя и несколько более изнеженных родичей могучих псов гренландских эскимосов. Начиная с того времени, когда я пил молоко нашей козы в Ларвике, я привык к спокойным животным, помогавшим скрасить одиночество единственного ребенка стареющих родителей. Затем школьные годы закончились, и мы с мамой переехали в Осло. Одиночество продолжалось в стенах большой квартиры на верхнем этаже дома на улице Камиллы Коле. Для маминой обширной коллекции антиквариата требовалась именно такая — с просторной гостиной во всю ширину здания и с узкими балконами по обеим сторонам. Сюда, в приобретенную для нас отцом квартиру в центре города, она и принесла с победоносным видом щенка гренландской лайки, которого купила у самого Мартина Мерена. Трудно описать охвативший меня восторг. Но едва она закрыла за собой дверь и опустила щенка на пол, как наш новый жилец стрелой бросился в гостиную и принялся прыгать, словно леопард, по столам и диванам. Затем он заметался с одного балкона на другой, вскочил на перила и опомнился, только увидев под собой многометровую пропасть.

С появлением Казана — так назвали собаку — моя жизнь совершенно изменилась. Три следующих дня я никуда не выходил из дома, даже в университет, а занимался воспитанием щенка. По команде «лежать» я силой укладывал его на коврик и удерживал его в таком положении, пока не следовала команда «встать». В оправдание пса мама говорила, что в нем, по словам Мерена, половина волчьей крови. Однако случилось чудо — Казан со временем превратился в послушную и умную собаку. Я даже брал его с собой в университет, а когда я изредка выбирался куда-нибудь в ресторан, он молча лежал под столом, не привлекая ничьего внимания. Зимой он без труда тащил груженые сани весом в пятьдесят килограммов, а летом Мог нести такой же вес на спине. Мы не расставались ни миг ни в городе, ни во время загородных прогулок.
Ничто не доставляло нам обоим больше радости, чем забраться как можно дальше от Осло и как можно выше в горы. Пес так далеко зашел в своей привязанности ко мне, что не позволял больше никому дотрагиваться до моего рюкзака и горных ботинок. А если рычание не помогало, в ход шли клыки.
Эрик чаще других сопровождал меня в моих вылазках в горы; старые друзья всегда были мне особенно дороги. В те времена ночевки под открытым зимним небом еще не пользовались большой популярностью, но мы с Эриком находились под влиянием Нансена и Мерена и никогда не заботились о том, чтобы найти на ночь крышу над головой. Мы научились отыскивать хорошие, плотные сугробы и выкапывали в них нечто вроде берлоги.
Мои товарищи по походам считали, что я готовлюсь к полярным экспедициям. Никого, кроме Эрика и Арнольда, я не посвящал в свои крепнущие с каждым днем планы отправиться в дальние страны. Репортажи в газетах о моих предыдущих путешествиях, снабженные фотографиями и рисунками, позволяли мне скопить деньги на следующие поездки. В тридцатые годы ночевки под открытым небом, да еще в снегу, были в новинку в Норвегии. Людям нравилось читать о том, как построить ледяной дом-иглу из блоков льда.
Ничто не может сравниться с чувством, которое испытываешь, проснувшись зимним утром на самой вершине горы Стор-Рунден и глядя на раскинувшуюся внизу родную страну. Пусть снаружи завывает вьюга — в иглу или даже в простой яме в снегу тепло и безопасно, главное, чтобы небольшое отверстие в потолке обеспечивало нормальную циркуляцию воздуха, а вход располагался ниже уровня пола. Обычной свечи достаточно, чтобы поддерживать внутри плюсовую температуру, если за стеной столбик термометра упал ниже нуля — дело в том, что внутренняя часть иглу быстро превращается в лед, это прекрасный термоизолятор, созданный самой природой.
Я всегда предпочитал заранее готовить пути отхода на случай непредвиденных обстоятельств. Только один раз я отступил от этого правила. Когда мы путешествовали на плотах, то всегда припасали бревно или связку тростника, чтобы было на чем плыть, если плот развалится. Но однажды мы с Эриком пошли на риск, о чем я очень пожалел, хотя все и обошлось. Мы решили взойти на гору Глиттертинн, покрытую никогда не тающей шапкой снега и потому ставшей на какое-то время выше соседнего Галькепиггена, самой высокой точки Норвегии. Итак, Эрик и я отправились в путь на лыжах, а Казан следом за нами тащил груженые сани. Мы рассчитывали, дойдя до вершины, построить иглу, но вскоре началась такая пурга, что не удавалось разглядеть даже кончиков лыж. Справа и слева зияли глубокие пропасти, но их тоже скрывала снежная пелена, и поэтому нам ничего не оставалось, как продолжать восхождение.
Когда мы наконец достигли каменного столба, установленного на вершине Глиттертинна, ветер превратился в настоящий ураган и буквально валил с ног. Пришлось снять лыжи. Кроме каменного столба, мы ничего вокруг не видели, а снег бил в лицо так сильно, что невозможно было открыть глаза, и дышать было трудно. Все вокруг покрывала ледяная корка такой прочности, что ни построить иглу, ни вырыть яму не представлялось возможным. Мы изо всех сил цеплялись за лыжи, чтобы их не унесло ветром, и у нас не было ни секунды, чтобы спокойно обдумать сложившееся положение. Мы выпрягли Казана из упряжки, по компасу определили ту сторону, откуда только что пришли, сели на сани и помчались вниз. Сперва нам удавалось тормозить сани и даже иногда останавливаться, чтобы Казан мог нас догнать, но затем мы не сладили со скоростью и больше не могли контролировать полет саней. Вот это была поездочка! Мы неслись все быстрее и быстрее и в конце концов перевернулись, но уже на ровной поверхности и в глубоком снегу. Мы понятия не имели, где именно находимся, и мысленно уже попрощались с бедным Казаном. Казалось, прошла вечность, и тут наконец собака вынырнула из-за снежной пелены, по брюхо увязая в сугробах и напрягая все силы в попытке догнать нас. Мы догадывались, что вокруг нас на многие километры тянется дикая равнина без признаков жилья, но видели только друг друга, сани да собаку. Весь мир исчез за белой плотной завесой, и невозможно было различить, где право, где лево, где верх, где низ.
В незнакомой местности, да еще когда не видно ни зги, компас и карта — плохие помощники, но мы примерно представляли, где находимся, и направились туда, где, по нашему разумению, лежала ближайшая долина. Ничего удивительного, что вскоре дорога пошла на подъем и с каждым шагом становилась все круче и круче. Мы уже не катились, а карабкались вверх. Все мысли были только о следующем шаге, а единственная надежда — на то, что нас не погребет под собой лавина. Бедному Казану досталась самая тяжелая задача — тащить сани, и когда мы взобрались на перевал, сил у собаки уже совсем не оставалось. На смену метели пришел густой туман, за которым по-прежнему ничего не удавалось разглядеть. Поэтому, когда вдалеке показался большой дом, мы оба приняли его за галлюцинацию. Но он оказался реальным — правда, не большим, а маленьким, зато всего в двух шагах от нас. Когда туман рассеялся, мы поняли, что добрались до приюта путников под названием Спитерстулен. Через много лет нам рассказали, что до нас никто не переходил через этот перевал на лыжах.
— С тех пор ты стал осторожным?
— Скажем так: более осторожным. Спустя какое-то время я отправился в другое путешествие на лыжах; на сей раз один, если не считать Казана. Но тут мною руководили особые соображения.
Дело было в середине тридцатых годов. В начале Пасхи в горах дали штормовое предупреждение. Я провожал своего двоюродного брата на поезд. Мы с ним прожили некоторое время в снежном доме в Троллхеймене и вместе с Казаном дошли до Снохетта. Оттуда кузен возвращался в Тронхейм, а я собирался пересечь плато у горного хребта Довр и добраться до Гудбрансдаля. Но на полпути меня застигла метель. Я укрылся от нее в горном домике и вовсю наслаждался огнем в камине, какао и печеньем. Снег бился в стены дома, а Казан терпеливо ждал под столом. Хороший пес должен знать, что о нем непременно позаботятся, и никогда ничего не выпрашивать. Вот и Казан отлично понимал, что я сам испытываю удовольствие, когда сытно и обильно кормлю свою любимую собаку. А сегодня его ждало нечто лучшее, чем привычная сушеная рыба. Когда мы оба насытились, шторм достиг невиданной силы. Ураганный ветер завывал и бился в окна, и на улицу можно было выйти, только не выпуская из рук привязанную к двери веревку.
И тут я решил принять вызов. На плато Довр нет ни обрывов, ни скал. Здесь не растут деревья, а все кусты, камни, озера и заборы лежали под толстым слоем снега. Все в доме пытались удержать меня, но безрезультатно. Я запряг Казана в сани, встал на лыжи и через несколько мгновений исчез за пеленой снега.
Каждый шаг давался с трудом. Чтобы противостоять порывам ветра, мне приходилось сильно нагибаться вперед. Даже Казан, с его волчьей силой, двигался еле-еле. В идеальных условиях, по ровной поверхности, для него не составляло труда тащить груженые сани, даже если я сам садился сверху. Сегодня же ему приходилось пробираться по глубоким рыхлым сугробам, а то, что сыпалось с неба, не шло ни в какое сравнение с теми зарядами снега, которые ветер поднимал с земли и швырял нам в глаза. Время от времени пес пропадал из вида, и тогда мне приходилось останавливаться и ждать его — часто с перевернутыми санями за спиной.
— Но в чем суть этого бессмысленного поединка с природой?
— Я все время твердил про себя: «Только так мальчик становится мужчиной! Только так мальчик становится мужчиной!»
Я знал, что уже нашел себя здесь, посреди гор. Но мне еще оставалось определить свое место в городе. Всякий раз, возвращаясь из похода, я гордо шел вдоль городских улиц — чего мне бояться здесь после того, что я испытал там? Но уже на следующий день дома начинали давить на меня. Я казался себе крошечным и ничтожным. Мне не оставалось другого выхода, как сдаться и принять чужие правила игры. Возможно, Казан, трусивший рядом со мной и задиравший лапу на каждом углу, испытывал то же самое.
Пришла пора преодолеть это чувство неуверенности, почти страха, которое охватывало меня на асфальте или в городской гостиной. Мне предстояло закалить свой дух и осознать, что я остаюсь самим собой, где бы я ни находился — среди деревьев и скал или среди оклеенных обоями стен.
Возможно, я тогда еще просто не до конца повзрослел. В любом случае, давало о себе знать неправильное воспитание.
«Только так мальчик становится мужчиной!» Идти дальше не имело смысла. То, что мы находимся здесь, посреди диких гор, что мы одержали победу над силами природы, что мы можем в любой момент просто лечь и заснуть во время бури — уже триумф человеческого духа! Легкий снег не позволял вырыть яму или построить иглу. Мне удалось разыскать палатку в поклаже саней, но ветер не давал ее установить. «Ничего страшного», — подумал я, просто расстелил ее на снегу, забрался внутрь и затащил за собой Казана. Так мы и лежали, постепенно превращаясь в один большой сугроб, — я в своем спальнике из оленьей шерсти и Казан в шубе из гренландского меха.
Вдруг сердце замерло у меня в груди. Неподалеку раздался паровозный гудок. Где-то здесь проходила железнодорожная ветка между Осло и Тронхеймом. Еще гудок — все ближе и ближе. Интересно, не под нами ли лежат скрытые под снегом рельсы? До моих ушей уже доносился звук паровозного двигателя. Поезд на всех парах несся прямо на нас!
Казан испугался не меньше моего. Надо было побыстрее выбираться и из спальника, и из палатки. Поскольку рельсы лежали под снегом, я совершенно не представлял, откуда
ждать опасности. В подобных ситуациях даже закоренелый атеист вспоминает о Боге и обещает больше никогда не грешить. Ни жив, ни мертв от страха, я ждал неизбежного. Грохот паровоза достиг высшей точки, и тут в нас швырнуло густой снежной массой от пролетевшего в двух шагах состава. А затем все стихло. Никто в поезде так никогда и не узнал, что в ту вьюжную ночь рядом с рельсами лежал мальчик в обнимку с собакой. Мальчик, который хотел стать мужчиной.
По следам Дарвина
Из нашего сада на Тенерифе открывался прекрасный вид на сосновый лес, покрывающий основания гор. Одна из них, Тейде, простирала свою покрытую снегом вершину на 3700 метров над уровнем моря. В дни моего детства путь от Ларвика до нашего коттеджа в горах занимал целых три дня и включал в себя две ночевки, несколько пересадок с поезда на поезд и семичасовую поездку на запряженной лошадьми повозке. Теперь от Тенерифе до Херншё можно добраться всего за день. Но меня не тянет в край моего детства. Бульдозеры и новостройки мало что оставили от того Херншё, который вставал перед моим мысленным взором, когда я беседовал со своим аку-аку, лежа в гамаке под южным синим небом.
— Ты почти ничего не говоришь о девочках.
— К сожалению, в моем детстве они играли очень маленькую роль. Когда я был совсем маленьким, у меня была подружка, миленькая черноволосая и кареглазая девчушка, стриженная под пажа. Однажды я увидел ее голой, и хотя зрелище показалось мне интересным, я так и не понял, где у нее зад, а где перед. В шестилетнем возрасте, когда я пошел в школу, я уже кое-что соображал и пребывал в уверенности, что мальчику стыдно водиться с девочками. Они играли в куклы, а мы — в войну. Мальчикам и девочкам не разрешалось учиться вместе — даже наши игровые площадки разделяла высокая кирпичная стена.
Разница между мужским и женским началом настолько угнетала меня, что на уроках танцев я не мог заставить себя пригласить девочку. Целых три года, повинуясь родительскому приказу, я посещал эти классы — в ботинках из патентованной кожи и матросском костюмчике. Это искусство давалось мне нелегко: мне приходилось рисовать на бумаге последовательность шагов в вальсе и танго, и, несмотря на все мои старания, я все время наступал партнершам на ноги и сбивался с шага.
Именно своей неловкости я обязан первым шансом на успех у противоположного пола..
Когда дети становились постарше, их объединяли в классы совместного обучения, так что общение становилось неизбежным. Но я уклонялся от участия в сборищах, если они включали в себя танцы.
Итак, мои школьные годы подходили к концу, а опыта у меня так и не прибавилось. Однако я все сильнее предвкушал надвигающееся чувство. После окончания школы, увенчанный традиционной кепкой с красным козырьком и счастливый оттого, что все экзамены остались позади, я принял участие в школьном спектакле. Я сам помогал писать сценарий и получил главную роль профессора Пикара, реального человека, незадолго до того впервые поднявшегося в стратосферу на воздушном шаре. В моей пьесе он оказался столь рассеянным, что забыл вернуться на Землю и предстал перед райскими вратами и охранявшим их святым Петром. Это был мой первый театральный опыт, и ему сопутствовал успех.
Выпускники изо всех окрестных городков получили приглашение на прощальный вечер нашего класса. В лучшем ресторане Ставерна, на берегу ларвикского фьорда, нас ждали накрытые столы, вино, оркестр и танцы. Танцевали все, даже Арнольд. Я сидел в одиночестве, потягивал пиво, разглядывал яхты в заливе и изо всех сил пытался показать, что я выше этих жалких развлечений.
Тут ко мне подошел Арнольд и представил свою партнершу девушку из соседнего города. После этого я не видел никого, кроме нее. У нее были кудрявые светлые волосы, ярко-голубые смеющиеся глаза, алые губы, не знавшие помады, и к тому же вид умного и уверенного в себе человека. Будь на то моя воля, я бы прикрепил крылья к ее белому летнему платью — так идеально она подходила на роль ангела в моей пьесе.
Она хотела танцевать.
Я растерялся, не находя приличной отговорки.
— Так пойдем потанцуем? — повторила она.
Упускать ее я не собирался.
— А может, погуляем вдоль берега? — в панике выпалил я.
К моему великому облегчению, она согласилась. Огни ресторана и свет звезд отражались в воде. Моя спутница тоже не осталась равнодушной к красоте вечера. Мы вернулись назад и сели рядом.
— Ты хотела бы вместе со мной вернуться назад к природе? — брякнул я.
— Но это должно быть по-настоящему, а не как в кино, — вдруг ответила она.
Эмоции лишили меня дара речи. Она согласна жить в первобытном лесу, примитивной жизнью — и со мной! Как только я получу диплом географа, мы найдем какой-нибудь остров в южных морях или где-нибудь еще!
Я вглядывался в ее ласковое, но серьезное лицо, пытаясь понять, не шутит ли она, но все больше убеждался в ее решимости. То были минуты наивысшего блаженства. Но вечер уже подходил к концу. Как оказалось, Лив должна была окончить школу только в следующем году. Сюда ее пригласил молодой человек из соседнего Бревека: он воспринял свое поражение по-мужски и позже стал нашим другом. Автобус уже ждал, и мы расстались, пообещав друг другу, что мы еще увидимся.
В те времена молодым людям из разных городов было совсем не просто общаться. Как отнесутся родители Лив к междугородному звонку от незнакомого парня? А она, как благовоспитанная девушка, не могла сама набрать номер моего телефона.
Мы встретились спустя почти два года.
За это время робкий мальчик стал студентом университета. В черной студенческой кепке я гордо шел по широкой лестнице университетского здания, располагавшегося по соседству с королевским дворцом. Большинство моих друзей, выбравших юриспруденцию, медицину или гуманитарные науки, училось в новом здании на окраине Осло. Только я поступил на зоологический факультет, и меня переполняло предвкушение нового мира, который вот-вот откроется, стоит только распахнуть массивную дубовую дверь в конце лестницы. Я и понятия не имел, что Фритьоф Нансен тоже проходил через эту дверь, что он тоже изучал зоологию и, в отличие от Амундсена, был профессиональным ученым и автором многих серьезных статей. Более того, он был удостоен звания профессора зоологии и до самой смерти, наступившей несколькими годами ранее, преподавал здесь. Теперь же мне предстояло встретиться с его преемником, моим будущим наставником в науках.
— Но зачем тебе наука, если ты собрался вернуться назад к природе?
— Я планировал нечто большее, чем просто добраться до Африки, раздеться догола и рыскать в поисках пропитания. Меня снедало желание узнать как можно больше о белых пятнах на карте мира, а если у меня ничего не выйдет, необходимо было иметь достойную профессию.
Преисполненный смутными надеждами, я распахнул Дверь факультета зоологии и невольно вспомнил о тех временах, когда на двери моей комнаты висела шутливая табличка: «Зоологический музей». Я ожидал увидеть комнату, набитую чучелами животных, но первое, что бросилось мне в глаза, был человеческий скелет. Он стоял, подобно молчаливому дворецкому, и на каждой кости висело по этикетке с латинским названием. Студенты звали его Ольсеном. Я решил, что поскольку человек являет собой высшую форму развития животного мира, его не захотели выставлять в виде простого чучела. Но на полу и на полках стояло множество скелетов других животных. Исключение составляли только несколько эмбрионов и желудков, плававших в высоких колбах со спиртовым раствором. Единственным существом из плоти и крови оказался мой будущий профессор, точнее профессорша. Кристин Бонневи, объект восторженного поклонения моей матери, была одной из трех женщин во всей Норвегии, добившихся профессорской мантии, и единственной — в области зоологии. Я поклонился от порога и в ответ ощутил крепкое рукопожатие приветливой женщины со старомодным лорнетом. Про себя я подумал: хорошо бы, если уму она предложит больше, нежели взгляду.
Она поинтересовалась, почему я выбрал именно зоологию, и честно предупредила, что по окончании университета мне трудно будет найти другую работу, кроме как учителем в школе.
В ответ я рассказал о своей детской мечте стать путешественником, о давнем интересе к жизни животных, от насекомых до млекопитающих, которых я наблюдал в лесу. Она заметила, что ее лично больше интересуют микроанатомия и законы наследственности. Однако Кристин позволила мне посещать ее лекции и посоветовала зайти в соседний кабинет к профессору Хальмару Броху, специалисту по коралловым полипам.
Когда я повернулся, чтобы уйти, она окликнула меня и показала маленькую любительскую фотографию, запечатлевшую стоявшего вдалеке лося на фоне леса.
— Что это — лось или олень?
«Первая проверка», — подумал я и ответил:
— Конечно, лось.
— Откуда вы знаете?
— Ну, по всему видно — по позе, по общему виду.
Ученая дама со смущенным видом пояснила, что ей дали эту фотографию для идентификации, как эксперту, а в справочниках написано только, что олень и лось отличаются тем, что у оленя ноздри расположены ближе друг к другу.
— А на фотографии ноздрей не разглядеть, — с улыбкой добавила она.
Так в самый первый день в университете я узнал важную истину: специалист и энциклопедист — вовсе не одно и то же. Даже наоборот.
Я надеялся узнать от профессора зоологии гораздо больше о животных, чем от моего приятеля Уля Бьёрнебю. А выяснилось, что ведущий специалист в стране мог отличить лося от оленя только по расположению ноздрей!
Однако изо всех женщин, которых я знал в дни моей молодости, профессор Бонневи оказала на меня самое большое влияние после моей матери и Лив. Тогда я этого не осознавал, но за несколько дней она предопределила весь мой жизненный путь. Для начала она придумала такую тему для моей курсовой работы, что я смог убедить всех в необходимости моей поездки в Полинезию. Во-вторых, поскольку она рассматривала человека как часть животного мира, она рассказывала нам о различных типах черепов и о том, что группа крови передается по наследству. Набор и последовательность хромосом интересовали ее больше, чем живые животные в их естественном окружении. Прошло совсем немного времени, и переход от изучения чистой зоологии к науке о происхождении человека и о развитии культуры стал для меня совершенно естественным шагом.
На следующий год Лив окончила школу и тоже переехала в Осло, чтобы продолжить образование. Я представил ее маме и Казану, но не своим профессорам, поскольку отец Лив определил ее на факультет социальной экономики. Разумеется, мы сразу же продолжили разговор, начавшийся на школьном выпускном вечере, и я сообщил ей, что план остается в силе.
Никому, кроме Лив и двух моих друзей из Ларвика, я не рассказывал о своем намерении покинуть цивилизацию ради того, чтобы изучить ее под другим углом зрения. Но моя учебная программа позволяла накопить достаточно знаний, чтобы правильно выбрать место для отшельнической жизни. К тому времени мое мнение о профессоре Бонневи полностью изменилось. Она оказалась чрезвычайно эрудированным человеком, хотя сфера ее интересов была мне довольно чужда. Зоология оказалась раздробленной настолько узко специальных тем, что даже в стенах одной лаборатории один ученый не понимал, чем занят его коллега. Исследования ради исследований. Главное — сделать открытие и опубликовать статью. Потом, может быть, кто-нибудь найдет ему применение.
Лив пришла в ужас, когда узнала, что я часами сижу над микроскопом и пересчитываю волоски на спинках у крошечных банановых мух: на их примере мы доказывали справедливость закона Менделя о наследственности. Пер Хост, самый старший в нашей группе, заслужил всеобщее восхищение, когда открыл банку с мухами и выпустил их на улицу. «Мы и так знаем, что Мендель прав, — пояснил он. — Так зачем зря тратить время?» Еще Пер пришил на спину саламандре пятую ногу. Эта нога двигалась сама по себе, независимо от четырех остальных. Однажды на вечеринке он посадил пятиногую саламандру на плечо крепко подвыпившего гостя. Студент аккуратно поставил стакан и принялся тщательно разглядывать свое плечо — правда, Пер к тому времени уже успел забрать уродца назад. Впрочем, Пер же сам и пострадал — его гостю стало так плохо, что тот стремглав бросился к окну и его вырвало прямо на улицу. Пер жил на седьмом этаже, и наутро обитатели первого этажа предъявили претензии жильцам второго. Те переправили их на этаж выше, и искатели справедливости поднимались вверх до тех пор, пока Пер не остался единственным подозреваемым. Ему ничего не оставалось, как вооружиться ведром и тряпкой и уничтожить следы ночного веселья.
Только Пер, Ингвар Хасен и Эдвард Барт разделяли мой интерес к жизни обитателей леса. Шурин Пера работал управляющим крупнейшего фотомагазина, и мы могли одалживать у него шестнадцатимиллиметровые кинокамеры в обмен на запечатленные на пленку сцены из жизни лосей, сов и других существ, которых встречали во время вылазок на природу.
Остальные наши сокурсники предпочитали писать о более любопытных вещах. Например, совершенно нормальный и приятный в общении парень по фамилии Стоп-Бовиц принялся изучать цветовую структуру морского трубчатого червя. Не думаю, что это ему пригодилось в дальнейшей жизни, но хорошую отметку он получил.
Мы все понимали, что по мере развития науки узкая специализация становится необходимостью. Каждый ученый должен определить конкретную сферу своих интересов и стремиться к совершенствованию познаний в ее рамках. Но уже тогда я чувствовал, что здесь что-то не так. Специалисты узнавали все больше и больше о все меньшем и меньшем, а в результате невежество все глубже проникало даже в их ряды. Ведь для них не составляло секрета, что человечество не знает еще очень и очень многое.
Разумеется, ученые должны углублять свои знания в выбранных ими областях науки, но нельзя же за деревьями не видеть леса! В университетах должны быть подразделения, отслеживающие общую картину и систематизирующие достижения более узких специалистов. Кто-то Должен складывать кусочки мозаики в панно.
Когда Лив приехала в Осло, я, по совету моих наставников, кроме зоологии занялся еще и географией. Математическая география позволила мне осознать последствия того, что Земля имеет форму шара. Древние географы узнали это задолго до Колумба, но даже антропологи с их теориями миграции народов не до конца понимали, что следует из того, что Тихий океан — тоже часть этого шара. Они рисовали стрелки на карте мира и распространялись о прямой линии вдоль экватора и о кривых линиях, идущих вдоль побережья от тропической Азии на север и затем снова на юг к тропикам Южной Америки. На самом же деле прямая между побережьем Юго-Восточной Азии и Южной Америкой пройдет через центр Земли, поскольку Земля круглая, а Тихий океан настолько велик, что занимает целое полушарие. Если идти по линии экватора, то Юго-Восточная Азия и Южная Америка противоположны друг другу, поскольку расстояние между ними равно ста восьмидесяти градусам. Следовательно, путь через Северный полюс не длиннее, чем вдоль экватора. Согласно теории «Большого кольца», все линии, проведенные по поверхности Тихого океана между Филиппинами и Перу, одинаковы по длине. Но ведь все, что может держаться на воде, начиная от кокосовых орехов и заканчивая примитивными судами древних мореходов, могло под влиянием ветров и течений доплыть от Америки до Азии вдоль зоны экватора, а от Азии до Америки — благодаря теплому Японскому течению.
Я быстро понял, как важно знать математическую географию, хотя сам учебник вызывал у меня отвращение. Позже, когда я поближе познакомился с его автором, профессором Вернером Веренскойльдом, он признался, что специально написал книгу столь заумным языком, чтобы показать, что география — тоже наука.
Лекции по географии были очень информативными, и приобретенные знания тут же отразились на моих первоначальных планах. В результате мы с Лив сузили район поисков до нескольких тысяч островов, разбросанных в просторах Тихого океана. Веренскойльд рассказывал нам о доисторических лесах и о том, что солнце не могло пробиться сквозь сомкнутые кроны их деревьев. Следовательно, в джунглях невозможно было собирать ягоды и цветы. В поисках пропитания приходилось лезть высоко на деревья только затем, чтобы выяснить, что обезьяны уже обобрали все мало-мальски съедобное и ничего не оставили своим бесхвостым родичам. Лив поняла, почему я отказался от «белых пятен» в Африке и Южной Америке: в джунглях все съедобное росло слишком высоко для нас.
Когда профессор Бонневи узнала, что я собираюсь на острова Тихого океана, она предложила мне пойти по следам Дарвина. Теория происхождения видов возникла у кумира моей матери на Галапагосских островах у побережья Южной Америки. Разбросанные на большом расстоянии друг от друга Полинезийские острова расположены еще дальше от континента. Некоторые из них поднялись над поверхностью Тихого океана в результате вулканической активности, другие выросли благодаря деятельности коралловых полипов, но у них у всех одно общее: в момент появления на них не было никакой жизни. Как же там появились растения и звери? Бонневи только что прочитала работу одного американского зоолога, изучавшего земляных улиток на Маркизских островах — на каждом острове, в зависимости от его высоты над уровнем океана, развились уникальные виды и подвиды.
Маркизские острова. Мы все пришли в восторг — мама, влюбленная в Дарвина и его теорию, моя руководительница и мы с Лив. Мы просиживали часами напролет, вычеркивая из списка острова, уже испорченные цивилизацией, страдающие от нехватки питьевой воды или не подходящие по каким-либо другим причинам. Скоро нам стало ясно, насколько важны расчеты профессора Веренскойльда относительно «Больших колец» и воздействия вращения Земли на океанские течения и ветра.

Однако больше всего пригодились мне в дальнейшей жизни университетские вводные курсы по логике и философии, которые я прослушал в университете. Особенно мне нравилась философия древних греков. Мне по душе были Диоген с его бочкой и Сократ, любивший бродить по базару и радоваться, что на свете есть такое множество вещей, без которых он отлично обходится.
Простая логика подсказала мне, что плот из бальсового дерева может проплыть путь от Перу до Полинезии. Во-первых, ведущий специалист по флоре Маркизских островов ботаник Ф. Б. М. Браун выяснил, что несколько полезных южноамериканских растений, которые не могли самостоятельно преодолеть океанские просторы, уже росли там задолго до появления европейцев. Во-вторых, крупнейший эксперт по древнему мореплаванию доказал, что в те времена не существовало других судов, кроме плотов из бальсы. Следовательно: бальсовый плот может совершить такое путешествие, хотя все — ни разу не попробовав — утверждали обратное.
— Сам ты тогда плыть не собирался?
— Даже мысли не возникало. Я и плавать-то еще не умел. В моих мечтах о будущем я всегда рассчитывал иметь твердую почву под ногами, пусть и босыми.
Летом, когда Лив уже настолько хорошо познакомилась с моей матерью, что я рискнул пригласить ее в Хорнсо, я предложил ей снять туфли и ходить по траве и жнивью босиком, как я. Я считал, что ступни наших ног должны стать твердыми и закаленными. Еще мы пробовали добыть огонь трением, правда безрезультатно. Во всем остальном я настолько хорошо подготовился, что даже читал в университете лекции о Маркизских островах.
Возможно, одним из первых счастливых совпадений в моей жизни стало то, что именно в Осло находилась знаменитая полинезийская библиотека Бьярне Крёпелина. Мои родители были знакомы с владельцем этого самого богатого в мире собрания литературы по Полинезии, преуспевающим винным импортером. Он разрешил мне читать драгоценные книги. В молодости Бьярне побывал на Таити и влюбился в Туимату, прекрасную дочь могущественного вождя Терииероо. Последствия этого романа повлияли на мою жизнь сразу в двух аспектах. Во-первых, Бьярне начал собирать свою библиотеку, а во-вторых, через много лет Терииероо объявил меня своим приемным сыном. Когда юный Крёпелин жил на Таити, там разразилась эпидемия испанки. Полинезийцы умирали, как мухи. Бьярне и Туимата помогали хоронить умерших, пока она сама не заразилась и не умерла. Бьярне не забывал ее до последних дней жизни. Он написал замечательную книгу о своей любви, которая заканчивалась словами: «Там, где лежит под могильной плитой Туимата, и мое сердце». Всю свою оставшуюся жизнь он собирал книги о Полинезии — переписывался с издателями и коллекционерами со всего мира и покупал все о Полинезии, невзирая на цену.
За годы студенческой жизни я провел в его библиотеке не меньше времени, чем в аудиториях университета.
Позже мне очень пригодились приобретенные в юности познания. Мои оппоненты во всем мире воспринимали меня просто как моряка, в чьих жилах течет кровь викингов, а антропологи не желали слушать мнение зоолога о Древних мореходных судах. Прочитав все, что публиковалось вплоть до 30-х годов о первооткрывателях, миссионерах, мореплавателях и ученых, я мог достойно отстаивать свою точку зрения. Из года в год я пополнял библиотеку Крёпелина, а после его смерти вся коллекция перешла в исследовательский отдел музея «Кон-Тики».
По своему географическому положению Полинезия идеально подходила под определение «рай на земле», хотя значительную часть ее населения выкосили эпидемии и заразные болезни, занесенные европейцами. Я знал, что восемьдесят процентов обитателей Маркизских островов вымерло от различных заболеваний, и поэтому мы имели все основания рассчитывать найти там достаточно диких плодов и ягод для пропитания.
Я прекрасно знал, что происхождение полинезийцев все еще оставалось покрытым завесой тайны, и никак не мог понять, почему антропологи упорно не желали замечать последних открытий ученых-ботаников. Сам я намеревался собирать все зоологические достопримечательности, какие только можно сохранить в глиняных горшках и стеклянных контейнерах. Вопрос о том, как полинезийцы попали в Полинезию, ни капельки меня не занимал. Гораздо больше нас волновало, как нам самим туда добраться. В тридцатые годы ни в одном туристическом агентстве Норвегии и слыхом не слыхивали ни о каких Маркизских островах. Все, чем они тогда занимались, сводилось к пароходным круизам вдоль побережья Скандинавии, эмиграции в Америку да изредка — к поездкам на острова Средиземного моря. Пассажирских авиарейсов тоже почти не было, а через океан — и подавно. Когда кто-нибудь из знакомых решал перебраться в Америку, остававшиеся прощались с ним навсегда.
Так мы и бились, как рыба об лед, пока в столичном Бюро путешествий «Беннетта» не связались с Парижем и не выяснили, что до расположенного в относительной близости от Маркизских островов Таити можно добраться французским пароходом, который раз в месяц отплывает из Марселя в Новую Каледонию. Еще можно было сесть на норвежский корабль, ежемесячно курсировавший между Сан-Франциско, Самоа и Таити. В конце концов, мы выбрали судно под названием «Морской курьер», совершавшее шестимесячное плавание через Атлантический океан и Панамский канал.
— Это звучит вполне обыденно.
— Ничего обыденного. Лив было двадцать лет, и она считалась еще несовершеннолетней, а все мои капиталы сводились к пятидесяти кронам в месяц, которые я получал от отца.
Помню — мы с Лив сидели в Театральном кафе в Осло и смотрели на толпы вечно озабоченных горожан, которые сновали туда-сюда в плащах и под зонтиками. Никто ни с кем не здоровался, никто никому не улыбался. Я заказал по стакану содовой с пирожным и принялся убеждать Лив, что родители поймут наше желание пожениться и уехать в Полинезию. Лив представила реакцию своего отца, и ей стало страшно и смешно одновременно. Тем не менее, мы выработали план действий, после чего я вытащил Казана из-под стола, проводил Лив до троллейбуса и отправился через парк домой обрабатывать маму.
Ее не пришлось долго убеждать. Профессора Бонневи и Брох подтвердили ей, что после семи семестров ни на одной лекции по зоологии я не услышу для себя ничего нового, а их авторитет был для нее беспрекословен. Кроме того, Брох согласился с Бонневи, что мне следует набрать на островах материал для диссертации о происхождении местных видов флоры и фауны. К Лив мама тоже относилась очень хорошо, к тому же она считала, что в край соблазнительных полуголых островитянок лучше ехать в сопровождении и под присмотром законной жены.
Согласия отца я добился с гораздо большим трудом. Источником его опасений были все те же знойные островитянки, но в отличие от матери он считал, что ехать туда с женой — то же, что везти снег на Северный полюс. Он соглашался рассматривать мою поездку как составную часть учебной программы и профинансировать ее, но со свадьбой я должен был подождать, пока не вернусь и не найду себе работу. Впервые в жизни я не мог переубедить отца. Он просто не желал слушать моих доводов.
Однако я знал, что больше всего на свете он хочет восстановить хорошие отношения с мамой. Она же до сих пор не желала его видеть. Тут-то и был мой шанс.
— А вот мама согласна, — бросил я невзначай.
Тогда я должен с ней поговорить, — немедленно отозвался он.
Предвидя его реакцию, я заранее подготовил почву и уговорил мать пригласить его на чашку кофе. В результате мои родители и я пришли к полному взаимопониманию. Это была лучшая чашка кофе в моей жизни.
Лив пришлось гораздо труднее. Ее родители жили в городке под названием Бревик, и она написала им красноречивое письмо. В письме говорилось, что она встретила парня из Ларвика по имени Тур, что они решили пожениться и уехать жить на Маркизские острова. Мать Лив, очень умная и добрая женщина, так описывала первую реакцию ее отца: кровь прилила к его щекам, он поднялся из своего уютного кресла и медленно подошел к книжному шкафу. В старой, конца прошлого века, энциклопедии он нашел под буквой «М» статью о Маркизских островах и зачитал вслух, что это — затерянный участок суши в Тихом океане, населенный дикарями и каннибалами.
Мой будущий тесть категорически отказался отпустить свою единственную дочь к дикарям и каннибалам и слег с сердечным приступом. Бесплодные дискуссии длились до тех пор, пока моя мама не уговорила отца съездить в Бревик. Там он пустил в ход все свое обаяние, и в итоге все сошлись во мнении, что наш план — само совершенство, тем более что медовый месяц оплачивает мой отец. Мы поженились под Рождество, и на следующий день после скромной церемонии наши родные попрощались с молодоженами, которых ждал поезд до Марселя, а далее — пароход до Таити.
Тогда мы думали, что едем в рай. Но к концу экспедиции мы пришли к выводу, что в рай невозможно купить билет. Путь туда пролегает через собственную душу человека и не стоит ни гроша. Весь мой опыт убеждает меня, что рай и ад расположены по соседству, и как далеко бы вы не забрались, вам всегда будет рукой подать и до того, и до другого. Правда, невозможно находиться и там, и там одновременно, но достаточно ненадолго остановиться, и за относительно короткое время вы испытаете и райское наслаждение, и муки ада.

По билетам, купленным отцом в Норвегии, мы могли добраться только до Таити (Французская Океания). В тридцатых годах Таити оставался точно таким же, как тогда, когда Крёпелин отдал свое сердце прекрасной Туимате. По узким улочкам столичного города Папеэте, ни разу не видевшим автомобиля, сновали торговцы — китайцы со своими ручными тележками. Среди деревянных домов один носил гордое имя отеля — если сесть на кровати, можно было поверх стенки заглянуть в соседний номер. Регулярного сообщения с далекими Маркизскими островами не было и в помине, и приходилось ждать долгие недели, пока не подвернется попутная шхуна с грузом копры. На всем острове не было проложено ни одного шоссе, но зато до долины Палено ходил живописный автобус с местными девушками — «вахинес», словно сошедшими с полотен Гогена. Девушки перевозили живых кур и свиней, — на коленях хозяек или на крыше автобуса.
Мы втиснулись в автобус и доехали до Папено, где до сих пор жил Терииероо, отец прекрасной Туиматы и самый могущественный из семнадцати вождей острова. Этот колоритный персонаж, которого природа не обделила ни плотью, ни духом, происходил из знатного и древнего полинезийского рода. Мы привезли подарки от Бьярне Крёпелина, и нас приняли с распростертыми объятиями как членов семьи. В доме Терииероо нам предстояло провести четыре недели, пока автобус не привез известие о том, что на Маркизы наконец-то отправляется шхуна. За этот месяц мы многое узнали. Целыми, днями мы оба расхаживали босиком, завернувшись в цветастые «парео». Лив почти всегда можно было найти в обществе Фауфау и других женщин вокруг кухонного очага, а я вместе с вождем и его сыновьями бродил по окрестным лесам и полям.
Главное, что со мной произошло на Таити, — я научился плавать. И это умение пришло ко мне помимо моей воли.
Я поскользнулся, упал в речку Папено, и меня подхватило течением. В какой-то момент я оказался в тихой заводи, но меня неудержимо несло к ревущей стремнине. Отчаянно сражаясь за свою жизнь, я как-то умудрился проплыть несколько метров и выбраться на берег. Мне так понравилось плавать, и это оказалось так легко, что я тут же нырнул в заводь еще раз.
Лазить на кокосовые пальмы оказалось гораздо труднее. Когда же одна из них мне все-таки покорилась, на вершине ее я обнаружил гнездо шершней. Поскольку быстро спускаться я еще не умел, пришлось просто съехать вниз по шершавому стволу. Когда я, наконец, достигнул земли, почти вся моя кожа осталась на пальме, к тому же я был весь в огромных занозах, и Терииероо, вооружившись щипцами, долго и мучительно их из меня извлекал.
Но вот, наконец, мы оказались на борту шхуны, отправлявшейся на Маркизы. Через несколько дней спасательная шлюпка доставила нас на остров, на котором не было ни белых людей, ни радио, ни вообще какой-либо связи с окружающим миром.
— Ты помнишь, о чем ты тогда думал?
— О том, что наша планета невероятно велика. Только путешествие на корабле заняло более двух месяцев. А на Таити мне рассказывали, что Маркизские острова настолько оторваны от цивилизации, что о начале Первой мировой войны 1914 года там узнали только после ее окончания в 1918-м — и это при том, что германские суда бомбардировали Папеэте.
Прощание всегда несет в себе привкус горечи, и если бы мне не надо было подавать Лив пример мужества, я, возможно, не смог бы побороть слезы, глядя вслед удаляющейся шлюпке. Шхуна подняла паруса и вскоре скрылась за горизонтом, а мы остались на берегу совсем одни. «Может быть, я вернусь через год», — пообещал капитан Барндер. Наконец, мы отвели взгляд от океанской глади и обнаружили, что из-под сени кокосовых пальм на нас с любопытством смотрят несколько дюжин коричневых физиономий. И у них, и у нас было множество вопросов друг к другу, но мы не знали, на каком языке их задавать. Хорошо помню, что я подумал, глядя на усеянные плодами верхушки пальм: «Уж голодать-то нам здесь не придется».
Странно вспоминать все эти мелочи по прошествии стольких лет. Иногда мне кажется, что с тех пор я прожил не одну, а несколько жизней. Но с другой стороны, все это было словно вчера.
О чем это ты задумался? Разлегся, ручка и тетрадка на животе… раздался рядом со мной задорный голос. Я поднял взгляд, и мой аку-аку растворился в густой листве авокадо. Сквозь ветки на меня смотрело веселое лицо Жаклин.
— Я думал о Фату-Хива, — пояснил я. — О моей первой попытке найти рай.
— Но вы с Лив не нашли его на островах Южных морей. Ты же сам говорил, что искать его надо внутри себя, а на Земле ближе всего к раю — это возделанный твоими руками сад.
Все верно. Поэтому я хочу вспомнить не остров Фату-Хива и мои приключения на нем. Мне важнее понять, что же мне открылось после года жизни на полном пансионе в открытом всем ветрам и пустынном курорте посреди джунглей.
Жаклин не хотела мне мешать, ей только надо узнать, устроят ли меня сыр с зеленью на ужин. Едва она ушла, как аку-аку снова занял место около моего гамака.
— Итак на Фату-Хива ты не нашел рая на земле даже несмотря на то, что он, по твоим собственным словам, самый прекрасный и плодородный остров во всем Тихом океане?
— Мы видели рай, когда Фату-Хива появился посреди океанских просторов, словно гигантская корзина с цветами, и морской бриз донес до нас его волшебные ароматы. Мы ступали по райской земле, когда шли от берега к буйному дикому саду под жарким тропическим солнцем.
Маленькие пушистые облачка, словно белые мирные овечки, прикорнули на склонах каменистых красных гор, протянувшихся через весь остров. Даже немного погодя, когда в полдень смолкло волшебное пение птиц, когда под воздействием невыносимой жары образовались тяжелые темные тучи и прогнали утренних белых овечек, мы все еще оставались в раю и наслаждались журчанием протекавшего по долине ручья. Проходили недели, но нас по-прежнему переполняла любовь к природе, мы по-прежнему чувствовали себя как дома посреди диких джунглей. Мы ни на миг не ощущали себя одинокими, не тосковали по родине, хотя окружавшие нас пейзажи совершенно не походили на наши любимые сосновые леса. Плоды хлебного дерева, бананы, апельсины и папайя свисали прямо над нашими головами, и обезьяны не успели добраться до них раньше нас. Мы наслаждались плодами, завезенными с востока и запада людьми, преодолевшими огромные расстояния и мучительные болезни. Ведь до появления человека на островах Полинезии не росло ничего съедобного, кроме разве что орехов.
Если и есть рай на земле, то мы нашли его в долине Омоа, и никто не мешал нам поселиться гам. Мы обнаружили высокую плиту из массивных каменных блоков — «паэ-паэ». Подобные конструкции виднелись в долине то там, то здесь. Когда-то на них ставили хижины из пальмовых листьев, чтобы их не заливало во время сезона дождей. Рядом с нашим «паэ-паэ» протекал ручей с холодной, кристально чистой водой. Ручей впадал в речушку, кишащую рыбой. Некогда здесь жила последняя королева острова — так утверждали ее соплеменники, пережившие свою властительницу и перебравшиеся в крошечную деревушку на берегу океана. На этой-то платформе мы и построили дом из бамбуковых стеблей под пальмовой крышей и с видом на этот рай. Мы поселились в своем райском саду.
Но в настоящем райском саду, скорее всего, не было москитов, если конечно не москиты изгнали из рая Адама и Еву. Когда начался сезон дождей, эти мерзкие насекомые выкурили нас из джунглей. До этого на протяжении многих недель мы бродили по своей долине нагие и босые. Единственными четвероногими зверьми были ящерицы и небольшие фруктовые крысы да еще кое-какие одичавшие домашние животные. Никаких змей. Семейство ядовитых насекомых представляли огромные жуки, жившие под камнями и никогда не проявлявшие агрессивных намерений — за исключением одного-единственного случая, когда пьяный и злобный туземец по прозвищу Наполеон спрятал несколько штук посреди банановых листьев, служивших нам постелью. Он рассчитывал, что Бог католических священников будет благодарен тому, кто избавит округу от двух протестантов.
Но начался сезон дождей, и с ним пришли полчища москитов. Это был конец рая. Мы чесались, скреблись и быстро сходили с ума. Вид Лив, с воплями и стонами катающейся по полу нашей бамбуковой хижины под толстым слоем москитов, окончательно убедил меня — наш рай превратился в ад. Я никогда не видел, чтобы она пугалась, не слышал от нее ни единого слова жалобы, но отсюда надо было бежать. В наши дни в раю на островах Южных морей можно выжить только при наличии противомоскитной сетки. Добрый сборщик копры из деревни выручил нас такой сеткой. Единственный полукровка среди островитян, он был сыном Греле, друга Поля Гогена, жившего на острове в начале века.
Но не только москиты выжили нас из рая. Мы знали, что рано или поздно не убережемся от филарии — ужасного червяка, вызывающего слоновью болезнь. В деревне у каждого десятого были либо руки толщиной с ляжку, либо ноги как колонны. Проказа тоже свирепствовала вдоль побережья, и, разумеется, ни о врачах, ни о больницах никто здесь и не слышал. Жизнь стала совершенно невыносимой, когда у Лив на ногах образовались огромные нарывы — по-местному «фе-фе», — которые лопались и превращались в незаживающие язвы. Мы бежали из джунглей и обосновались в прибрежной части долины Оуиа, с подветренной стороны острова, куда дувшие со стороны Южной Америки ветра приносили мелкие белые облака. Постоянный восточный ветер загнал насекомых обратно в леса, и на несколько чудесных недель мы снова вернулись в рай.
Занятно, но именно островитяне отговаривали нас переезжать на подветренную часть острова, потому что там круглый год бушевали волны и никто не рисковал выходить в океан на каноэ. Там жил только один человек — Теи Тетуа, последний представитель эпохи каннибалов.
— Вот бы твоему отцу это увидеть, — заметил я, когда мы с Лив преодолели горный хребет и спустились в долину Омоа. Навстречу нам бежал старик, абсолютно голый, если не считать набедренной повязки. Его лицо сияло от счастья встречи с людьми, и он обратился к нам с традиционным приветствием островитян: «Хамай те каикай» — «Заходите и поешьте». Но для Теи Тетуа это была не пустая фраза. Полинезиец старой закалки, он единственный из всех обитателей острова жил так, словно за окном стоял не двадцатый век, а времена, когда Тихий океан еще не видел ни одного европейца. Кроме приемной дочери, двенадцатилетней Тахиа Момо, никто в целом свете не разделял его одиночества.
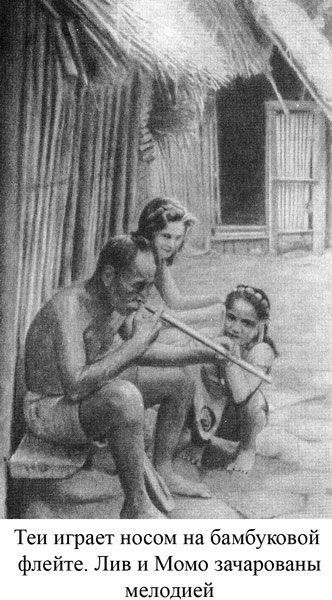
То, что отец Лив прочитал о каннибализме на Маркизских островах, вовсе не являлось досужим вымыслом. Официально считалось, что каннибализм закончился в 1887 году, когда в долине Пуамао на острове Хива-Оа состоялось последнее кровавое пиршество. Последним человеком, про которого точно известно, что он был съеден, являлся некий шведский плотник, погибший в 1879 году. Теи Тетуа скромно поведал нам, что он попробовал человечинки всего-то однажды в жизни, да и то в раннем детстве, когда в соседней долине кого-то забили до смерти. А вот его отец, Ута, был настоящим каннибалом. Он не только соблюдал ритуал обрядного поедания павшего противника, но и вообще предпочитал человеческое мясо свинине.
Волосатые свинки вольготно хрюкали и копались в земле долины, где Теи Тетуа со своими собаками и веревочным лассо был единственным охотником. Трудно себе вообразить свинину лучше той, которой угощал нас старик, — с гарниром из плодов хлебного дерева, запеченных в банановых листьях. Он помог нам построить хижину в форме птичьего гнезда из трех стен. Чтобы избежать ночного нашествия диких свиней, хижина возвышалась над землей на высоких шестах.
С тех пор нам больше не пришлось готовить еду. Все, что нам было нужно, ежедневно приносила прелестная маленькая полинезийская девушка Тахиа Момо на подносе из огромных листьев таро. Ей не приходилось далеко ходить — ДОМ Теи находился в двух шагах от нашего жилища. Еды было в изобилии, и гораздо более разнообразной, чем в джунглях, откуда все перебрались на побережье еще в прошлом веке. Еще Теи Тетуа держал цыплят, а на окружавших долину холмах росли замечательные помидоры и ананасы. Ботаник Ф. Б. М. Браун пришел к заключению, что их занесли на острова пришельцы из Южной Америки во времена, когда европейцы не подозревали о существовании островов в Тихом океане.
Океан. Восемь тысяч километров гнал он свои могучие волны от берегов Южной Америки, чтобы наконец с грохотом обрушить их на наш остров. Круглые отполированные водой камни безостановочно крутились и стучались друг о друга в струях, набегавших и скатывавшихся с берега волн, сливаясь в удивительную симфонию звуков. В углублениях окружавших долину скал скапливались небольшие озерца соленой морской воды, и в них ни на миг не затихала жизнь. Крабы и рыбки ползали и плавали посреди моллюсков, анемон и водорослей. После джунглей океан показался нам гораздо более добрым приемным родителем.
К счастью, на земле немало хороших и дружелюбных людей, и со многими из них я знаком. Но мне не встречался никто добрее и щедрее, чем этот бывший людоед. Порой, сидя на корточках и вгрызаясь в сочную кость, мы чувствовали, как у нас мороз пробегал по коже от его рассказов о другой жизни и о другом мире. Он вспоминал, как его папаша Ута брал в руки богато украшенную резьбой дубинку — ныне ценный музейный экспонат — и отправлялся отомстить врагам из Ханативы или шел пешком в далекую долину Омоа, единственное место, где у Теи оставались родственники.
Теи Тетуа не был еретиком. В один прекрасный день священник из католической миссии в Хива-Оа спустился с гор и обратил всех островитян в христианство. С тех пор Теи знал, что Тики по-французски будет «Дьё», «Бог», а когда он выкопал себе могилу рядом с хижиной, то на всякий случай положил рядом с ней крест. Если в смертный час ему не хватит сил, чтобы самому спуститься в могилу, ему поможет маленькая Тахиа Момо.
Он твердо помнил рассказы предков о первых людях, явившихся из-за океана. Их возглавлял Тики, и пришли они с востока, из Те-Фити, где встает солнце. Из книг Крёпелина я уже знал, что немецкий этнограф Карл фон ден Штейнен много лет назад записал предание туземцев с Маркизских островов о большой стране Фити-Нуи в краю, где восходит солнце. Американский этнолог Ханди, посетивший Хива-Оа годы спустя, слышал от стариков, что их предки пришли из огромной страны на востоке под названием Те-Фити. Ханди так удивился, что островитяне помещали свою прародину в район Южной Америки, что даже переспросил еще раз. И ему снова подтвердили, что до земли предков можно доплыть, если держать курс на «те тихена оумати» — «туда, где встает солнце».

То же утверждал и Теи Тетуа. Мы сидели на краю леса, наслаждаясь отсутствием москитов, и смотрели туда, где по утрам над океаном поднималось солнце. Ночной ветер гнал по небу маленькие белые облачка. Теи пересказывал нам легенды, заученные в юности, и было ясно, что он хорошо выучил свои уроки, хотя не написал в жизни ни слова. Он не читал трудов по ботанике, но рассказывал то, о чем я знал из ученых книг. Он прекрасно знал, что дикий ананас и маленькие
помидоры были завезены на остров его предками — он звал их «эната», «люди», в отличие от чужеземцев. Даже молодежь из долины Омоа знала о происхождении этих вкусных плодов. Сейчас на острове росло два вида ананасов («фаа хока»), но только один звался «эната» и считался настоящим. Другой, «оаху», сравнительно недавно посадили миссионеры с Гавайских островов.
Еще на острове было два вида американской папайи. Та, что крупнее, звалась «ви оаху», более мелкая — «ви эната». Вообще слово «эната» неизменно входило в название тех растений, которые были завезены из Южной Америки до прихода европейцев.
Именно благодаря Теи Тетуа я понял, что устная традиция является богатейшим источником бесценной информации, которую часто сбрасывают со счетов, как «сказки», «легенды» и «мифы». В Полинезии легенды заслуживают не меньшего доверия, чем записанные на бумаге повествования средневековых историков.
— Что нового ты понял о своем мире, увидев его глазами Теи Тетуа?
— Я понял, что мы обманываем сами себя, считая себя более сложными, чем так называемые «примитивные народы». Мы отказываемся признать, что изменился лишь антураж, а мы сами не стали ни лучше, ни хуже, чем столетия назад. Поколения за поколениями рождаются на свет точно такими же, как Адам и Ева. Хромосомы Каина и брата его Авеля до сих пор живут в каждом из нас.
Мы убеждаем себя и окружающих, что в искусстве убивать себе подобных мы достигли невиданного прогресса. В прошлом веке на всех островах Полинезии миссионеры без устали твердили, что нельзя бить человека дубинкой по голове только за то, что он тебе не нравится. Но прошло всего несколько десятков лет, и мы вернулись в военной форме и сказали, что, надев ее, убивать можно сколько угодно — лишь бы на убитых была униформа другого образца.
Нам было непросто объяснить, что дальнобойные орудия позволяют убивать, не видя своих жертв, и что так гораздо лучше. Великий воин и вождь, отец Теи Тетуа, всегда знал, с кем он сходился в смертельной схватке.
Антропологи утверждали, что причиной межплеменных войн на Маркизских островах являлось их перенаселенность, и рассказы Теи Тетуа только подтверждали этот вывод. Он нисколько не удивился, когда я сказал, что опасаюсь новой мировой войны, поскольку после первой выросло уже целое поколение. Наш друг из долины Оуиа Считал такое положение вещей совершенно естественным. Он также делал свои, совершенно оригинальные выводы из моих рассказов о жизни в больших городах, вроде Лондона и Нью-Йорка.
Мы размножаемся так быстро, что наши леса исчезают; нас так много, что мы строим дома стена к стене, а потом начинаем громоздить их один на другой.
Я рассказывал, что, хотя мы не едим людей, мы питаемся коровами, курами и животными, которых находим вкусными. Впрочем, мы предпочитаем, чтобы животных и рыб убивал кто-нибудь другой. Это очень удивило Теи. По его мнению, глупо отказывать себе в удовольствии самому порыбачить, и еще глупее потом менять полезные вещи на рыбу, пойманную другими. Наш друг ничего не знал о таких понятиях, как деньги и цена, а я не стал усложнять наш разговор рассказами о магазинах и посредниках.
Теи Тетуа согласился с тем, что каннибализм — плохо. Но затем и я, в свою очередь, неприятно поразил его. Теи спросил, что мы делаем с телами погибших на войне.
— Хороним, — ответил я.
— Как, просто зарываете в землю?!
По лицу старика было видно, что я его очень сильно разочаровал.
У подножия лестницы Иакова
— От межплеменных войн к всемирной бойне — вы это называете прогрессом?
На сей раз аку-аку заглянул ко мне в кабинет, где я просматривал старые заметки, чтобы освежить в памяти дела минувших дней. Давно я не листал эти записи и не вспоминал о событиях, им предшествовавших!
Судьба выкинула странный фортель. Мы оставили цивилизацию, чтобы убежать от неизбежности новой мировой войны, но жизнь среди, мирных туземцев оказалась настолько отравленной москитами и опасностью всевозможных инфекций, что мы вернулись в двадцатый век — как раз под те самые бомбы, от которых рассчитывали ускользнуть.
Всего лишь через год после нашего возвращения с Фату-Хива норвежские газеты оповестили о вторжении немецких танков на территорию Польши. Тех самых танков, о которых говорили, что после их изобретения война становится бессмысленной. Увы, совершенное оружие не гарантирует мира.
Мы купили замечательную бревенчатую избушку высоко в горах неподалеку от Лиллехаммера и жили там круглый год. Из избушки открывался замечательный вид на озеро Мьёса, на раскинувшийся на берегу город и на почти непроходимый сосновый лес, который поднимался в горы, постепенно переходя в заросли кустарника и альпийские луга.
Я устроил себе кабинет в маленькой пристройке, отделенной панельной стенкой от дровяного склада и туалета. В моей душе царил абсолютный покой. Ежечасно я благодарил судьбу за полученное образование. На хлеб я зарабатывал тем, что писал книгу и читал лекции о своей попытке вернуться в первозданный рай.
Но кроме этого я напряженно работал над научным трудом. Полки моего кабинета ломились от выписок из библиотеки Крёпелина, и я забросил биологию ради антропологии Полинезии. Рукопись все больше разбухала от цитат и ссылок. Я назвал ее «Полинезия и Америка».
Моя работа принципиально отличалась от научных трудов того времени. Я пытался решить загадку Полинезии, словно писал детективный роман. Представители самых разных наук уже собрали множество фактов, а я поставил своей целью собрать разрозненные сведения в единое целое. Этот метод нарушал все существующие правила, но он давал отличные результаты.
В те времена все ученые признавали, что Полинезия испытала по крайней мере две волны миграции, причем последняя случилась буквально перед самым приходом европейцев; жители островов, отстоящих на тысячи километров друг от друга, по-прежнему еще говорили на одном языке. Однако, поскольку каждый исследователь изучал тайну Полинезии под углом своей научной специальности, все они приходили к диаметрально противоположным выводам. Согласие царило только среди филологов, доказавших, что полинезийцы имели общие языковые корни с жителями Малайзии, хотя и принадлежали к совершенно другой расе и культуре.
Но пути их миграции все еще скрывались под покровом тайны. Малайзийцы и полинезийцы жили на противоположных концах необъятного Тихого океана, к тому же между ними барьером в четыре тысячи километров лежала Меланезия с ее негроидным населением. И нигде на огромном пространстве между Полинезией и Малайзией — ни единого следа великого переселения. Все это было очень странно, поскольку полинезийцы достигли конечной точки своего маршрута во времена европейских средних веков. Их культура носила ярко выраженные черты классического каменного века. Следовательно, они покинули прибрежные районы Азии до окончания каменного века на этом континенте, то есть между вторым и третьим тысячелетием до Рождества Христова. Вопрос: где они скитались все это время?
Не один ученый ломал голову над главной загадкой полинезийцев. Их далекие предки вышли в открытый океан в районе Филиппин примерно в третьем тысячелетии до нашей эры и где-то пропадали целых четыре тысячи лет. Где?
Существовало две основные теории. Одни считали, что переселенцы так быстро преодолели острова Меланезии и Микронезии, что не успели оставить там никаких следов. С хронологической точки зрения эта гипотеза не выдерживала никакой критики. По второй версии, они путешествовали против ветра тысячи лет, от одного острова к другому, и в ходе миграции под влиянием процесса «микроэволюции» из малайзийцев превратились в полинезийцев. Но и здесь было больше вопросов, чем ответов.
Ученое противостояние как раз достигло своего апогея в то время, когда я отправился на Маркизские острова, чтобы увидеть Полинезию глазами биолога и географа и сопоставить увиденное с прочитанным ранее. Самым авторитетным экспертом по Полинезии был тогда новозеландец сэр Питер Бак. Он поддерживал тех, кто считал, будто волна миграции шла через Меланезию, но только потому, что она уж точно не могла идти через Микронезию. Другой светоч науки, французский этнолог доктор Метро, исследовал состав крови у разных племен и утверждал, что любая попытка разместить прародину полинезийцев в Меланезии «является преступлением против истины».
Я не видел абсолютно никакого смысла в этих спорах. Ни Меланезия, ни Микронезия не могли служить непреодолимым препятствием. Земля круглая, а филиппинское течение проходит севернее этих островов и, минуя Британскую Колумбию, упирается в Гавайские острова.
Британская Колумбия. Никто даже не предполагал, что полинезийцы могли сделать остановку так далеко на севере. А ведь теплое океанское течение, проходящее мимо берегов Японии и омывающее острова у берегов Британской Колумбии, создает там такой климат, что можно круглый год ходить босиком, находясь на одной широте с Гудзоновым заливом и Лабрадором. Проведя год в Полинезии, теперь я должен был найти способ посетить эти американские острова. Никто из ученых не обратил на них внимания, несмотря на то, что они располагались как раз посредине пути возможной миграции, а население их, придя из Азии во времена каменного века, так и жило в каменном веке до появления европейцев.
Грузовые корабли судоходной компании Фреда Ольсена ходили и в Британскую Колумбию. Мои родители знали Фреда, а его сын Томас одним из первых узнал мою теорию. Сам я считал, что решение полинезийской проблемы просто лежит на поверхности, и ужасно боялся, что кто-нибудь украдет мое открытие прежде, чем я его опубликую. Томас Ольсен проникся моей идеей, и мы с Лив и годовалым Тором получили билеты до Ванкувера за совершенно символическую плату.

Мы еще находились в Норвегии, когда пришло известие о начале войны между Англией и Германией. Из-за этого нашему кораблю пришлось огибать Шотландию с севера, чтобы избежать возможной встречи с немецкими подлодками в проливе Ла-Манш. Ужасы межплеменных стычек в Полинезии померкли по сравнению с тем, что происходило в Европе.
В Британской Колумбии и моя семья, и моя теория встретили исключительно теплый прием — сперва в университете стремительно растущего Ванкувера, а затем и в идиллическом городке Виктория на острове Ванкувер, где находился Музей провинции. Антропологический факультет университета пока еще оставался только на бумаге, но я познакомился с замечательным специалистом по языкам северо-западных индейцев, профессором Хилл-Тоутом. Дружелюбный пожилой ученый вместе с коллегой из Оттавы в свое время написал две статьи о значительных различиях в языках племен, обитающих вдоль побережья Британской Колумбии, труднообъяснимых различиях ввиду очевидного сходства их культур и антропологических черт. Самое странное, на что независимо друг от друга обратили внимание оба исследователя, это то, что в языке некоторых племен прослеживалось полустертое временем, но вполне отчетливое влияние полинезийских и малайзийских диалектов.
Престарелый профессор не испытывал в этом никаких сомнений. Он допускал, что полинезийские каноэ могли в далеком прошлом добраться до Британской Колумбии. Но теперь ему стало ясно, что отсюда они с точно таким же успехом могли доплыть и до Гавайских островов. Незадолго до этого некий капитан Восс вышел из Ванкувера в океан на похожем каноэ, миновал Гавайи и, попав в зону действия северо-восточных ветров, достиг земель маори в Новой Зеландии.
Неплохое начало нашей поездки получило еще лучшее продолжение в музее столицы провинции. Этнографические и археологические находки со всего побережья хранились в картонных коробках в подвале здания, но у директора имелись ключи, а сам он был ученым-зоологом.
Как коллеге по науке, а также благодаря тому, что я подарил музею несколько заспиртованных фруктовых крыс с Маркизских островов, мне выделили для работы уголок просторного директорского стола и разрешили пользоваться замечательной библиотекой.
Сидя в кабинете директора и жадно поглощая новые для себя факты, я чувствовал себя, как в раю. Исследователи Полинезии никогда не обращали своих взоров в сторону островов, разбросанных вдоль побережья Британской Колумбии. Их интересовали исключительно острова Южных морей. Они просто упустили из виду, что Земля имеет форму шара, а двухмерные карты искажают реальное расстояние между объектами. Непредвзятому же сознанию сразу становится ясно, что острова Британской Колумбии лежат вовсе не на отшибе, но, наоборот, являются частью весьма рационально проложенного морского пути.
Именно в результате работы в музее мне со всей очевидностью открылся тот факт, что, начиная еще с капитанов Кука и Ванкувера и вплоть до двадцатого века, многие наблюдатели отмечали удивительное культурологическое и антропологическое сходство между индейцами северо-запада Америки и населением Полинезии.
То, что другие отмечали не покидая пределов Полинезии, я увидел своими собственными глазами, когда, оставив город, вместе с семьей поселился среди индейцев племен Белла Кула.
Местная пресса много и доброжелательно писала о моей научной теории, и как-то раз один журналист разыскал меня даже в долине Белла Кула. Я как раз занимался тем, что очищал ото мха и других наслоений древние наскальные рисунки на скалах вдоль реки, и моим глазам представали лица богов с концентрическими кругами вместо глаз — точно такие же, как на Фату-Хива. Еще мы во множестве находили необычной формы каменные топоры и колотушки для отбивания коры, знакомые нам по Маркизским островам, а среди местных жителей каждый день встречали лица, живо напоминавшие нам о нашем приемном отце Терииероо и добром приятеле Теи Тетуа.
Наконец на мою гипотезу откликнулась солидная «Нью-Йорк Таймс». Впрочем, рядом был помещен комментарий госпожи Маргарет Мид, специалиста по полинезийской антропологии, незадолго до этого прославившейся на весь мир благодаря своей книге о любовных обычаях на Самоа. Она опровергала мою теорию и предполагала, что я, скорее всего, нашел лишь предметы, случайно оставленные экспедицией капитана Кука. Я не стал отвечать, что с трудом представляю себе такую картину: капитан Кук карабкается на скалу и копирует полинезийские наскальные рисунки. В то время происходили более важные события и в моей жизни, и в жизни всего человечества.
Через много лет после войны я встретился в Осло с Маргарет Мид, моим первым ученым оппонентом. К счастью, нам пришлось констатировать, что мы оба делали свою научную карьеру в совершенно разных областях. Маргарет согласилась, что о наскальных рисунках в Британской Колумбии она знает ничуть не больше, чем я о любовных обычаях на Самоа.
А тем временем произошло событие, полностью изменившее нашу с Лив жизнь. Я отправился на медвежью охоту с индейцем-полукровкой Клейтоном Маком, позже написавшим знаменитую книгу «О медведях гризли и о белых парнях» — там есть и рассказ о нашем с ним приключении. Все кончилось тем, что Клейтон ранил медведя, а тот принялся гонять меня кругами вокруг дерева. Клейтон добил зверя, а тот, умирая, так душераздирающе закричал, что это отбило у меня тягу к охоте на всю оставшуюся жизнь. Затем мы отбуксировали медвежью тушу на каноэ, и когда достигли длинного и узкого залива Белла Кула, кто-то окликнул меня с берега:
— А Норвегия капитулировала!
Я сложил ладони рупором и крикнул в ответ:
— Перед кем?
У меня в голове не укладывалось, чтобы кто-то мог напасть на нейтральную Норвегию, не воевавшую со времен викингов. В глазах обывателей всего мира Гитлер оставался скорее комической фигурой, а США еще не вступили в войну. Уже через неделю мы с Лив и маленьким сынишкой поднялись на борт корабля, совершавшего прибрежный рейс. Я собирался вернуться в Ванкувер и, как полагается военнообязанному, явиться для получения указаний в консульство Норвегии.

Вообще-то в консульстве меня ждал довольно холодный прием.
Консул по фамилии фон Штальшмидт сообщил мне, с явным немецким акцентом, что Германия и Норвегия остаются добрыми друзьями и что мне лучше вернуться к моим индейцам и спокойно ждать окончания войны.
Я приехал в Канаду по студенческой визе и с обратным билетом в кармане, но сейчас и то, и другое превратились в бесполезные бумажки. К тому же денег у нас оставалось всего на несколько дней, а Лив ждала второго ребенка. Положение складывалось хуже некуда.
Вдобавок некий американский журналист, которого интервенция застала в Осло, написал абсолютно лживую статью, будто бы норвежцы приветствовали завоевателей. Статью опубликовали как в Америке, так и в Канаде. И уж разумеется, немцы ни словом не обмолвились о том, что норвежцы пустили ко дну крупнейший корабль германского ВМФ, «Блюхер», с тысячью человек на борту, а также о сражениях, которые продолжались на севере Норвегии еще много недель после капитуляции.
Насколько доброжелательно нас встречали по приезде из Норвегии, настолько все от нас отвернулись теперь. Мы даже боялись разговаривать на родном языке в общественных местах. Понадобилось больше года, чтобы неприязнь к моей стране постепенно уступила место уважению. Когда США, наконец, вступили в войну, президент Рузвельт произнес речь, в которой отметил, что Германия могла бы выиграть Битву за Европу, если бы норвежцы не увели от нее и не передали союзникам свой торговый флот, третий по численности в мире.
Вообще, жизнь открылась нам своей мрачной стороной. Нам пришлось выехать из отеля и перебраться в дешевую комнатушку с видом на задворки портовых зданий. Вся обстановка состояла из газовой лампы, колченогой кровати, стола, стула да видавшей виды колыбельки для маленького Гора. Окно без занавески выходило на большой угольный склад, освещенный одним-единственным фонарем. Хозяйка нам досталась не лучше комнаты — вредная, подозрительная и крикливая, и ее характер отнюдь не улучшился, когда она узнала, что мы из Норвегии.
Никто не мог сказать, сколько продлится война. Мне предстояло найти какую-нибудь временную работу. Каждый день у дверей бюро по трудоустройству выстраивалась длинная очередь. Я долго присматривался к ее завсегдатаям, а затем отпустил щетину, надел потрепанную кепку и встал в самый хвост. Сотрудники бюро интересовались у каждого его специальностью, и почти все называли себя плотниками или сантехниками — независимо от того, держали ли они хоть раз в жизни в руках пилу или гаечный ключ. Когда подошел мой черед, я отрекомендовался зоологом. Никто не знал, что это такое. Тогда я добавил: и этнолог. Тоже не помогло. В конце концов, меня спросили, умею ли я возить тачку. Я гордо отрекомендовался мастером этого дела, но работу все равно не получил. Дело в том, что я приехал в Америку по студенческой визе и не имел права на трудоустройство.
Дни шли и складывались в недели. Наши финансы таяли с угрожающей быстротой — мы уже получили наличные по последнему чеку, а Лив к тому же ждала второго ребенка. Нам приходилось экономить каждый кусок хлеба. Только тогда я осознал, как мне повезло родиться в той среде, где ежедневные завтрак, обед и ужин считались чем-то само собой разумеющимся.
На Фату-Хива во время сезона дождей нам доводилось оставаться без продуктов, но тем не менее в ручье всегда копошились раки, а с пальм время от времени падали кокосовые орехи. Здесь нас окружали только асфальт, закрытые окна да запертые двери. Только тот, кто испытал подобное, может понять чувства голодного человека, у которого дома сидят не менее голодные жена и ребенок, когда он смотрит на витрину ресторана и видит медленно вращающегося на вертеле золотистого цыпленка и вдыхает восхитительный аромат пищи всякий раз, когда открывается дверь, выпуская сытых посетителей и впуская новую порцию счастливцев.
Когда такой человек становится революционером, в основе его решения лежит вовсе не политика. Сытые люди не бунтуют.
И я тоже не мог отогнать от себя мысли о социальном несовершенстве мира. Почему я должен стоять здесь, без копейки, чтобы заплатить за жилье, смотреть на роскошные витрины магазинов и знать, что не смогу побаловать чем-нибудь вкусненьким моих дорогих Лив и Тора. И я был не одинок. Тысячи и миллионы людей, фактически половина обитателей Земли, страдали так же, как я, если не больше. Благополучные счастливцы любят порассуждать об истощении ресурсов и перенаселении планеты и предрекают грядущую катастрофу. Но для многих и многих катастрофа уже давно наступила, только они не могут читать и писать и никто не слышит их стоны.
Однажды, остановившись перед хлебной лавкой, я вдруг понял, что само существование моей маленькой семьи находится под угрозой.
Лив вела себя исключительно мужественно, точно так же, как на Фату-Хива. Ни одной жалобы, ни одного резкого слова. Я же часами расхаживал взад и вперед по комнате, то кипя от ярости, то впадая в пучину отчаяния. А затем наступил самый тяжелый день. Это было воскресенье. Завтра предстояло платить за жилье. Из денег оставалось всего несколько жалких грошей. Тридцать центов. Я мерил комнату шагами, как тигр в клетке. Лив встала, ничего не говоря, вышла на улицу и на последние деньги купила три сладкие булочки. Вместе с маленьким Тором мы отправились погреться на солнышке и сели на скамейку в парке Стэнли, глядя на каноэ, которое проделало путь отсюда и до самой Новой Зеландии. К черту мою замечательную теорию! Старый тотем, установленный рядом с каноэ, гораздо больше соответствовал нашему настроению. Гротескные фигуры карабкались вверх по шесту, а венчал его победитель, обладатель длинных когтей и хищных клыков. Я был готов упасть перед ним ниц и просить о помощи все силы рая и ада, где бы они ни находились, в небесной вышине, в подземных глубинах или в самых дальних тайниках моей собственной души.
Возможно, то, что произошло потом, было просто случайностью. Но и в последующие годы, в самые критические моменты, со мной происходили подобные случайности, поэтому я считаю, что на них всегда стоит надеяться и рассчитывать.
Когда на следующее утро хозяйка постучала в нашу дверь, у нас не осталось ни цента. Не было ни выхода, ни времени, ни надежды. Мы проиграли.
Помимо счета за жилье, у нее в руках было письмо. Письмо от судоходной компании Фреда Ольсена, доставленное нам стараниями представителя компании в Ванкувере.
Судовладелец Фред Ольсен с семьей сумел вырваться из оккупированной Норвегии. Все его суда теперь были приписаны к конвоям союзников. Из своего нового офиса в Лондоне Ольсен послал телеграмму, что его агент должен найти всех пассажиров компании, застрявших в Ванкувере без малейших шансов вырваться оттуда. К тому же, мне полагался заем на сумму, необходимую, чтобы дожить до окончания войны.
Мне казалось, что я вижу чудесный сон. Жизнь продолжалась! Радость и благодарность переполняли меня, но я не хотел быть неблагодарным и попросил всего пятьдесят долларов в месяц. Даже в те времена это была весьма скромная сумма, но мы уже убедились на собственном опыте, что доллар состоит из ста центов. А три сладкие булочки мы купили на последние тридцать.
С новыми силами я сел за работу и вскоре закончил две статьи на английском языке. Одну, строго научную, я послал в «Интернэшнл Сайенс», вторую, научно-популярную, — в «Нэшнл Джиографик». Обе были приняты, а из «Нэшнл Джиографик» мне пришел чек на двести долларов. Вскоре после этого Лив положили в родильный дом, и деньги очень пригодились для нее и для новорожденного Бьёрна. Между собой мы прозвали его Бамсе в честь медвежонка, которого мы как-то видели в долине Белла Кула, когда он карабкался на дерево с маргариткой в зубах.

Впрочем, беззаботная жизнь в долине Белла Кула осталась в прошлом. Начиналась другая, совсем непохожая. Из Оттавы мне пришло разрешение на работу, и благодаря отцу одного знакомого студента из Норвегии у меня появились и работа, и гарант. Господин Роберт Лепсо занимал должность инженера на крупной фабрике в Скалистых горах. До него уродливые заводские корпуса отравляли дымом всю округу, погубив леса и поля до самой американской границы.
Лепсо установил на фабрике систему очистки, и теперь большая часть серы не улетала в небеса, а оказывалась в железнодорожных вагонах и превратилась в солидный источник дохода. Благодаря его протекции меня взяли на фабрику разнорабочим — вот тогда-то я действительно научился катать тачку. В бригаде нас собралось семнадцать человек, и, кажется, мы говорили на семнадцати разных языках. Мы работали ежедневно, и скучать нам не приходилось, потому что каждый день нас ждало новое задание, в то время как все остальные монотонно трудились на конвейере. В первый день меня послали на погрузку мешков с цементом. Я поискал взглядом тележку, но оказалось, что их надо таскать на себе. Когда гигант-поляк взвалил мне на плечи первый мешок, я чуть не упал. Хуже всего было ковылять по узкой доске, ведущей в вагон, в то время как все остальные гоготали и издевались над зеленым новичком. К концу дня я едва мог стоять на ногах, а все тело болело так, что я едва сумел раздеться.
Назавтра мне не пришлось таскать мешки. Для цемента нашлись большие емкости.
— Иди-ка сюда, Мак, — крикнул бригадир. — Для тебя есть работенка получше.
Я вежливо объяснил, что меня зовут не Мак, а Тур.
— Мне наплевать, как тебя зовут, — ответил он. — Для меня ты Мак.
«Работенка получше» заключалась в том, чтобы забрасывать цемент в огромный вращающийся барабан. Мы выстроились вереницей, и каждому в тележку высыпали по мешку цемента. Весь фокус заключался в том, чтобы, не отставая от предыдущего и не мешая последующему, подняться по узкой доске к жерлу барабана, высыпать туда содержимое тачки и налегке вернуться за новой порцией. Двигаться надо было в едином ритме и с такой скоростью, что пот заливал глаза, а напряжение хотелось сорвать на ком-нибудь. Несколько раз я делал шаг назад, чтобы разогнать тачку и подняться наверх по доске, и каждый раз сзади неслась ругань, что я сбиваю всех с ритма. После полудюжины кругов я так устал, что оступился и высыпал на землю все, что было в тачке. Бригадир с воплями бросился ко мне, но тут как раз объявили перекур — на этой работе он полагался каждые пятнадцать минут. Пока остальные затягивались вонючими сигаретами, я быстро убрал следы своей оплошности и растянулся во весь рост, наслаждаясь мгновениями отдыха.
Но зато я никогда не ел с таким аппетитом, как в те дни.
Всем известно, что голод — лучший повар. Но услуги этого повара невозможно купить.
Как любой обеспеченный человек, я люблю устроиться поудобнее и наслаждаться какими-нибудь деликатесами, вроде устриц или икры, запивая их бокалом шампанского или просто сухого мартини. Но ничто не сотрет в моей памяти восхитительные обеды в «Консолидированной рудодобывающей и рудоплавильной компании», когда мы падали на кирпичи и доставали бутерброды с маслом и сыром и бутылку холодного шоколадного молока.
Физическая работа тяжело дается тем, кто использует свою мускульную силу от случая к случаю. На третий день я почувствовал себя значительно лучше. У меня появилась уверенность в себе, и я стал меньше уставать. Но это приятное состояние длилось недолго. Бригадир направил меня и еще одного парня на менее тяжелую работу. Какой-то всезнайка шепнул, что нас, скорее всего, пошлют чистить какие-то огромные баки — адская процедура, которую делают раз в пять лет.
Нам выдали скребки на длинных ручках и высокие резиновые сапоги, доходившие до паха. Прежде чем спуститься внутрь, нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае не потеряли равновесие. На дне бака скопилась серная кислота. Стоило нам поскользнуться и упасть, как кислота в мановение ока проела бы и одежду, и кожу, и плоть.
Когда я спустился в темное чрево бака, то прежде чем отпустить лестницу, я потрогал дно ногой. Его покрывал толстый слой слизи, скользкой, как мыло. Со всей осторожностью мы сделали первые шаги, в то время как бригадир, свесившись в горловину бака, выкрикивал команды. Впрочем, из-за эха мы не могли разобрать ни слова. Однако мы поняли, что кислотные отложения надо выгребать через отверстие в дальнем углу бака. То была жуткая работа. Широко расставив ноги, мы медленно скользили по направлению к отверстию, скребками гоня перед собой отвратительную субстанцию и одновременно опираясь на них для равновесия. Стоило нажать на ручку чуть сильнее, как нас тут же отбрасывало назад, а потеря равновесия означала падение в смертельную жижу. Порой мне начинало казаться, что я по недоразумению попал в котелок к гигантским людоедам.
Потом меня ждали и более сложные задания. Например, я чистил топку плавильной печи. Наша фабрика в основном специализировалась на выплавке металлов и выполняла некоторые экспериментальные задания. На внутренней стороне некоторых печей образовался нагар, и я, вооружившись отбойным молотком и зубилом, полез его отчищать. Внутри было пыльно и темно, поэтому мне дали респиратор и фонарь. Как только я начал колотить по стенам топки, мне сразу же вспомнилось мое собственное описание современной цивилизации — грязь, шум и нездоровая атмосфера. Все это в самой что ни на есть концентрированной форме окружало меня сейчас. Отбойный молоток грохотал, как сотня пушек, я задыхался от пыли и духоты, пот заливал мне глаза — было от Чего сойти с ума. Я не мог расслышать даже собственного голоса, но я отчетливо помню, как при каждом оглушительном ударе по железной стене я выкрикивал одни и те же слова:
— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Когда мои мучения, наконец, закончились и я выполз на свет божий, я поразился: почему тысячи и тысячи фермеров добровольно оставляют свои поля и приезжают в города, где их ждет работа, подобная этой? Как можно променять чистый сельский воздух и здоровую жизнь на безумное поклонение золотому тельцу современности — бездушным машинам? Но некоторое время спустя, смыв под душем грязь с тела и ожесточение с души, я все же пришел к выводу, что возвращение назад к природе тоже не дает ответа на все вопросы.
Бывали на фабрике занятия и полегче. Каждое утро после развода — на работу оставалась небольшая группа не-востребованных счастливцев. Их посылали чистить бывшие старые кирпичи. Мы рассаживались, клали по кирпичу на колени и принимались сбивать с них остатки засохшего раствора. Потом очищенные кирпичи складывались в аккуратные стопки, а мусор и обломки выносились на помойку. С каждым днем мы все глубже вгрызались в огромную гору необработанных кирпичей, а чистые научились складывать таким образом, чтобы они скрывали нас от бдительного ока начальства.
Мои коллеги относились к тому социальному слою, с которым я раньше практически никогда не общался. Вопреки ожиданиям, они не так уж и отличались от бизнесменов и ученых. Большинство из них на своем опыте познакомились с безработицей, и только война, породившая новые вакансии, позволила им, наконец, найти работу. Больше всего мне нравились так называемые «бродяги» — их отличала столь понятная мне тяга к путешествиям и замечательное чувство юмора. Каждому из них довелось объездить на поезде всю Канаду и большую часть США, причем подчас в товарных вагонах, а то и под вагонами.
Со временем даже с нашим суровым бригадиром у нас установилось взаимопонимание. Более того, он стал мне симпатичен. Что с того, что ему было наплевать, как меня звали на самом деле? Ведь его настоящего имени тоже никто не знал, только прозвище — «Секретный». «Почему „Секретный“? Потому что никто никогда не видел его отца», — объяснили мне. В гневе он переходил на итальянский. Насколько он умен от природы, я понял, когда выяснил, что он не умеет читать. Дело было так. На моих глазах кто-то дал ему записку. «Секретный» не глядя сунул ее в нагрудный карман рубашки. Когда он думал, что его никто не видит, он засунул обе руки в бочку с чем-то липким, а потом подошел ко мне и попросил достать у него из кармана и прочитать записку, потому что, дескать, у него все руки грязные. Больше всего он любил управлять маленьким паровозиком, который ходил по территории завода. Знаки и надписи вроде «Стоп», «Тихий ход» он запомнил по их внешнему виду и никогда не путал.
Наверное, ради моего же собственного блага он послал меня работать на крыше нового заводского цеха. Он видел, как я ненавижу едкий вонючий дым, обволакивавший нашу фабрику. Ежедневно тяжелое облако пыли, дыма и ядовитого пара сползало в долину, где в маленьком городке Трайл жили наши рабочие. Только заводская аристократия имела возможность поселиться на близлежащем плато, находившемся вровень с корпусами. Там был чистый воздух, красивые дома и зеленые лужайки. Я же решил, что лучше подольше добираться до работы, чем рисковать здоровьем своих близких, и снял комнату в местечке Росланд, куда не доходил насыщенный серой дым фабричных труб. Этот опасный для здоровья дым долетал даже до американской территории. В конце концов, американцы обратились в суд и выиграли дело. На фабрике поставили фильтры, но полностью искоренить угрозу не удалось. Все рабочие со стажем болели силикозом из-за отложений, годами накапливавшихся у них в легких. Помню, как-то после работы один из них, худой как тростинка, повернул ко мне свое бледное лицо и печально пошутил: «День прошел. Мы стали на доллар богаче и на шаг ближе к могиле».
Свежий воздух — это прекрасно, но я был отнюдь не счастлив, когда «Секретный» послал меня карабкаться по шатким лестницам и ненадежным доскам на крыше строящегося здания. Не помню сейчас, сколько там было этажей, шесть или восемь, но отчетливо помню свежесть воздуха в разгар канадской зимы на высоте 1400 метров над уровнем моря посреди Скалистых гор. К тому же, я побаивался высоты. В годы учебы я едва не свалился в километровую пропасть в районе долины Ромсдаль. И теперь мне предстояло лежать на животе на краю крутой крыши, головой вниз, и прибивать гвоздями рубероид. Крыша была необъятная, а гвоздей — просто видимо-невидимо. Меня определили в подручные к опытному кровельщику. Он спокойно ходил по крыше во весь рост и мазал расплавленным асфальтом края листов рубероида, чтобы следующий слой намертво прилипал к предыдущему. Постепенно мы отходили все дальше и дальше от опасного карниза, и я мог уже обращать внимание на что-то еще — в частности, я обратил внимание на жуткий холод и пронизывающий ветер. К счастью, мой тезка Мак, варивший для нас асфальт на земле, оказался парнем опытным. Каждый раз, когда я спускался с пустым ведром за новой порцией асфальта, он давал мне по нескольку горячих кирпичей, завернутых в тряпку. Я совал один такой кирпич себе под спецовку, а когда он остывал, менял его на новый.
Но потом «Секретный» вспомнил, что я умею писать, и моей верхолазной эпопее пришел конец. Мне вручили карандаш и толстую амбарную книгу и поставили рядом с плавильной печью, одной из тех, которые я так хорошо знал как снаружи, так и изнутри. Кому-то из инженеров понадобился письменный отчет. Он потребовал, чтобы наш бригадир фиксировал показания термометра, когда начинала плавиться руда, отмечал движение магмы и цветовую структуру плавящейся массы. Естественно, «Секретный» перепоручил это дело мне, а в конце каждого рабочего дня забирал мои записи и передавал их далее по команде. Причем всякий раз он внимательно смотрел на заполненную страницу и глубокомысленно изрекал. «Неплохо. Очень неплохо».
Как-то раз я решил убедиться, что он действительно не умеет читать. Я дал ему книгу вверх ногами. Он не стал ее переворачивать.
— Неплохо. Очень неплохо.
Но однажды инженер явился лично и изъявил желание посмотреть, кто пишет отчеты. «Секретный» вынужден был представить ему своего помощника. «Хорошо пишешь», — сказал инженер, и я получил повышение. Бригадиру пришлось искать мне замену. К счастью, в бригаде нашлись другие грамотеи.
А я стал контролером на недавно построенной фабрике по производству магния. Я понятия не имел, в чем суть происходившего на ней процесса, знал только, что мы делаем магниевый порошок, очень нужный для победы над нацистами.
Моя новая работа длилась недолго. В один прекрасный день, когда наш автобус подъехал к проходной, фабрики на месте не оказалось. На ее месте громоздилась груда бесформенного железа. Оказалось, что фабрику уничтожило взрывом во время ночной смены. Никогда не забуду рассказ одного из рабочих дневной смены, раньше других оказавшегося на месте катастрофы. Первое, что бросилось ему в глаза, была металлическая балка, на которой висела чья-то оторванная рука.
Так прекратила свое существование фабрика по производству магниевого порошка. Но я получил другую работу.
К тому времени мы уже перебрались в принадлежавший Лепсо летний домик возле озера Эрроу. Цивилизация была далека, под полом у нас жили скунсы, и мне приходилось вставать затемно, под вой койотов, и добираться до работы сначала на велосипеде, потом на лодке, а уж затем на автобусе. Я так и не пробился в число заводской аристократии, но зарабатывал достаточно, чтобы полностью расплатиться за кредит с пароходным агентом в Ванкувере. Затем я купил билет на автобус и отправился через границу, в Нью-Йорк, чтобы в Генеральном консульстве Норвегии предложить свои услуги родной стране.
Королевская семья Норвегии и все правительство нашли убежище в Англии. Там же разместилось и армейское начальство, которое собирало моряков и беженцев из Норвегии, готовых сражаться в одних рядах с союзниками. В ожидании ответа я устроился на временную работу табельщиком в доках Балтимора. Это была непыльная сидячая работенка, которая заключалась в проверке нарядов кто из докеров работал над пропеллером, кто — над корпусом, а кто возводил надстройку строящегося корабля. В то время как другие готовили корабли к спуску на воду, я с чистой совестью мог целыми днями читать книги по американской антропологии. Я посетил двух профессоров в университете Джона Хопкинса и получил от них подробный список литературы по интересовавшему меня вопросу. Оба ученых мужа нашли время, чтобы терпеливо выслушать табельщика из доков, который почему-то прочитал много научных книг. Профессор Рут Бенедикт первой дала мне очень важную подсказку. Очевидно, полинезийцы пришли из региона, где господствовало иерархическое общество, возглавляемое обожествляемым королем-первосвященником. Это было очень существенное наблюдение, связывавшее племена Полинезии с их соседями из Мексики и Перу.
Тем временем я перевез в Штаты Лив с малышами. Бьёрна давно уже следовало окрестить. Вдень, когда мы понесли его в Норвежскую морскую церковь в Балтиморе японцы разбомбили американский флот в гавайской бухте Пирл Харбор. Соединенные Штаты объявили воину Германии и Японии. Я много думал о Терииероо и Теи Тетуа — возможно, на их дома тоже начали сыпаться бомбы.
Конечно, нет ничего хорошего в молчаливых рейдах полинезийских дикарей, когда они убивают дубинками и съедают своих врагов.
Но что бы они сказали, если бы им довелось пережить Пирл Харбор?

Танцы с дьяволом
Любой противник агрессии и насилия одновременно является борцом за свободу. Миролюбивый человек не потерпит, чтобы чужеземцы врывались в его дом и наводили там свои порядки. Когда военное безумие распространяется по миру, как эпидемия чумы, заражая своим дыханием одну страну за другой, в противнике начинаешь видеть само воплощение вселенского зла. Знать, что твоя родина захвачена врагами, само по себе тяжело. Но до нас доходили известия, что наши соотечественники вынуждены питаться листьями и корой деревьев!
Война — это танец с дьяволом. Ненависть к общему врагу гораздо сильнее, чем дружба с теми, кто стоит с тобой по одну сторону баррикад.
Когда я был маленьким, взрослые боялись русских и Красной Армии. Отец не разрешал мне даже смотреть на первомайскую демонстрацию с ее красными флагами. Боязнь новой революции передавалась от одного к другому, как инфекция. Разумеется, во время русско-финской войны весь свободный мир сочувствовал отчаянным ребятам в белом камуфляже, отражавшим нашествие красных орд.
Теперь все изменилось. Уже через неделю после того, как Гитлер совершил роковую ошибку и напал на Россию вместо Англии, слова «Красная Армия» приобрели совсем другой оттенок. Теперь их произносили, словно говорили о красных ангелах, помогающих нам бороться с фашистами. Среди моих знакомых мало кто смог бы внятно объяснить разницу между коммунизмом и нацизмом, и тем не менее Сталин и русские стали нашими союзниками против Гитлера и немцев.
Много лет спустя, когда и Гитлер, и Сталин канули в вечность, я понял, что большинство русских и немцев были против и коммунизма, и фашизма. Я жил на севере Италии, среди бывших врагов, и был благодарен судье, что мне не довелось убить никого из этих замечательных людей. И я не встретил ни одного итальянца, который в свое время защищал фашизм с оружием в руках. Те, кто имел такую возможность, скрывались и делали все, что в их силах, чтобы бороться с тем, что они считали немецкой оккупацией. То есть большинство людей чувствовали одно и то же, и я никак не мог понять, почему же миллионы людей позволили втянуть себя во вторую в двадцатом веке братоубийственную войну?
— У тебя самого есть ответ?
— Разумеется, я сочувствовал тем, кто стремился дать отпор агрессорам, но никогда не связывал слово «враг» с понятием национальности. На самом деле, как только окончилась война, я заключил сам с собой пари, сколько времени пройдет, прежде чем мы лишим русских ангельского чина и вновь пририсуем им дьявольские рога и зубцы. И вот я был с ними рядом под лучами северного солнца, но не замечал ни того, ни другого. Обыкновенные замерзшие солдаты, такие же, как мы, четко усвоившие что форма одного цвета означает врага и в него надо стрелять, а форма другого цвета — друга. И еще они очень хотели вернуться домой, причем желательно целыми и невредимыми, а не по кусочкам.



Если уж искать воплощение воинственного духа, надо обратиться к полинезийцам или индейцам с северо-запада Америки. Они даже избегали пользоваться луком и стрелами, чтобы не отказывать себе в удовольствии заглянуть противнику в глаза, прежде чем хрястнуть его по
голове дубинкой такого же образца, что и у него. Мы же предпочитали сбрасывать бомбы на мирные дома в час семейного обеда или запускать от своего порога ракеты, несущие смерть тысячам женщин и детей. Но с другой стороны, мы компенсируем рецидивы собственного варварства тем, что постепенно становимся более гуманными, претворяем в жизнь социальные программы и даже улучшаем условия труда. Лучший пример — мой плавильный заводик в Трайле. Некогда настоящее преддверие ада, царство отравленного дыма и вопиющего неравенства, за последние пятьдесят лет он превратился в образцовое предприятие, на котором работают счастливые люди и даже лес потихоньку возвращается на склоны окружающих холмов.
После наступления мира я так же не хотел становиться профессиональным военным, как не хотел быть профессиональным политиком после того, что я увидел на фабрике в Трайле. Однако, несмотря на то, что я видел, как живут солдаты разных видов войск в разных странах, я пошел по военной стезе. Как и в гражданской жизни, я не сделал захватывающей дух карьеры, но успел побывать в шкуре рядового и офицера. Если бы сейчас мне довелось вновь стоять перед таким же выбором, я предпочел бы трудиться на благо родной страны самостоятельно и независимо от других, нежели влиться в ряды тех, кто носит форму и отдает или получает приказы. По собственному опыту я знаю, что не очень-то мудро поступает тот, кто высказывает свое мнение людям в погонах и начищенных сапогах.
Я попросил направить меня на такой участок, где я мог бы сражаться в тылу врага, среди лесов и гор. К тому же я умею общаться с собаками. В то же время я абсолютно безнадежен в технических областях и даже не умею водить машину, да что машину, я и батарейку в радиоприемнике меняю с трудом.
Меня внимательно выслушали и направили в школу радистов.
В Лондоне было изготовлено специальное телекоммуникационное оборудование, и сейчас оно направлялось в Канаду. Там оно найдет себе применение, когда начнется битва за освобождение Норвегии. В обстановке строжайшей секретности отобрали десять человек, которым предстояло это оборудование использовать. Я оказался в числе этой десятки. По каким-то неясным мне причинам нашей группе присвоили кодовое название «Группа И». В ожидании прибытия оборудования мы изучали волшебные слова «На-аправо, на-алево, кру-угом!» в норвежском тренировочном лагере в Луненберге, в Новой Шотландии. Когда мы научились маршировать, нам выдали авиационное обмундирование и принялись нас учить на воздушных телеграфистов в лагере «Маленькая Норвегия» недалеко от Торонто. Получив удостоверения, что мы еще и корабельные телеграфисты, мы отправились в затерянный в лесах лагерь для летчиков, расположенный на берегу маленького идиллического озера. Там четыре инструктора в армейской форме принялись обучать восемь человек, оставшихся в нашей группе (одетых в форму военно-воздушных сил) всем новейшим премудростям радиодела — от устройства передатчиков со скрытыми антеннами до основ только зарождавшейся телевизионной технологии. Мы бегали по Мускокским лесам со специальными мегафонами и орали «Раз-раз-раз, ты меня слышишь?» — так громко что жители Хантсвилла писали нам записки: «Конечно слышим, и в Гравенхерсте вас слышат тоже».

Никогда опасность утонуть не была так близка ко мне, как во время поездки на байдарках в Алгонкинском национальном парке. Мы с несколькими другими солдатами внимательно изучили карту обширного лесного массива и наметили места, где можно волоком перетащить лодки из одного озера или реки в другое. Помимо возможности увидеть лосей и медведей, больше всего нас привлекал Большой водопад — место, где потоки воды с ревом устремлялись вниз с огромной высоты и где на наших глазах огромные бревна разлетались на части, словно стеклянные. Согласно карте, нам следовало пройти пятьдесят метров по тропе вдоль русла реки выше водопада и там спустить байдарки на воду. Тропа заканчивалась, упираясь в крутую гору, и поскольку дальше идти было некуда, карта, очевидно, не врала. Мы все считали, что риск слишком велик, поскольку после весеннего половодья течение набрало очень большую силу. Я предложил не искушать судьбу и закончить путешествие, однако Пер и Рулле настаивали, что надо пройти намеченный маршрут до конца. Чтобы не испортить друзьям удовольствие, я подчинился.
У нас хватило ума не выплывать на середину потока. Цепляясь за ветки и сучья руками, мы проводили лодку вдоль берега. Но через несколько сотен метров нашу байдарку подхватило боковое течение, и наших сил не хватило, чтобы удержать ее. Рулле моментально оценил опасность и, не теряя времени, бросился в воду, пока оставался шанс доплыть до берега. Но, прыгая, он сильно качнул байдарку, и я очутился в холодной воде. Я и так был плохим пловцом, а сейчас мне еще мешали зимняя армейская форма и тяжелые ботинки. Ледяной ужас охватил все мое существо. Водопад! Его рев доносился все ближе и ближе. Спасение казалось невозможным. Рулле мчался вдоль берега, как сумасшедший, но течение неумолимо тащило меня к утесу, после падения с которого от меня мало что осталось бы.
Я отчаянно работал руками и ногами, но в глубине души понимал, что у меня не оставалось ни единого шанса добраться до твердой земли. Еще несколько секунд — и я узнаю, что такое смерть и что случается после нее.
Этой мысли оказалось достаточно, чтобы я начал искать в себе — не на небесах, не в других, а именно в себе — ту всемогущую созидательную силу, которую принято называть Богом. Рулле ничем не мог мне помочь — он бежал вдоль берега, безнадежно протягивая ко мне руки, но не приближался ко мне ни на сантиметр.
Внезапно чувство решимости преисполнило все мое существо. С новыми силами я начал медленно, но верно выгребать к берегу под углом к потоку.
Вода неслась все быстрее, водопад грохотал все оглушительнее, но берег перестал удаляться от меня. Рука Рулле почти дотягивалась до меня. Еще немного… Еще… Наконец-то! Наши пальцы переплелись, и через несколько секунд я уже лежал на берегу, абсолютно обессиленный.
Но где же Пер?!
Перевернутая байдарка плясала на волнах у самого края водопада. Огромный камень, к которому ее прибило течением, не давал ей соскользнуть в пучину. Нам удалось ухватиться за нос лодки. Она оказалось на удивление тяжелой. Когда мы, наконец, подтащили ее к берегу, то увидели Пера. Висевший у него на спине рюкзак встал враспор поперек узкой лодки и не дал течению утащить нашего товарища.
Мы освободили его и заметили на противоположном берегу трех великолепных оленей. Величественные животные неподвижно стояли на гребне горы, похожие на каменные изваяния.
— Я думаю, это знак, что мы все втроем выживем в войне, — пробормотал Пер.
Через пару месяцев самолет, в котором он летел, был сбит над Норвегией.
Самое яркое воспоминание, оставшееся у меня от моих солдатских дней, это рядовой с идентификационым номером 1132, в миру художник Стенерсен. Он очень старался стать хорошим солдатом, но беда в том, что он вкладывал в это понятие отличный от других смысл. Главное, чему каждый должен научиться в армии, — это слепо и без рассуждений повиноваться. Первый урок, который вам преподают: как стоять по стойке «смирно». Пятки вместе, носки врозь под углом шестьдесят градусов, позвоночник прямой, как ствол винтовки, глаза устремлены вперед, голова свободна от любых мыслей в ожидании приказа. Мы быстро освоили эту науку и по первому требованию выстраивались, словно оловянные солдатики. Только Стенерсен постоянно портил картину. В мешковатой гимнастерке и тесной фуражке, он стоял в строю с блуждающей ухмылкой на губах, и при виде этой улыбки у сержанта не оставалось сомнений, что именно номер 1132 думает о нем и об армии вообще. Сержант набрасывался на него и гневно уличал, что между его носками никак не шестьдесят градусов. Стенерсен спокойно отвечал, что как раз шестьдесят, просто сапоги великоваты, и бодро шел на гауптвахту. Самое страшное, он пребывал в абсолютной уверенности, что норвежцы победят фашистов, даже если угол между носками их сапог будет составлять всего-навсего сорок градусов!
В один прекрасный день Стенерсен явился на утреннюю поверку в красном шарфе художника, и с тех пор ему было приказано снять форму и заняться своим делом — писать пейзажи норвежской природы для офицерской столовой.
Классовые различия, с которыми я столкнулся на заводе, царили и в армии. У нас в лагере было три кухни и три столовые — одна для рядовых, другая для сержантов и третья для офицеров.
Как только будущие телеграфисты ВВС закончили обучение и получили звания сержантов, им запретили питаться вместе с остальными членами «Группы И», поскольку мы оставались рядовыми. Также было строжайше запрещено солдату и офицеру общаться как-либо иначе, чем по службе.
Мало кто из обладателей звезд и нашивок на погонах ходил в любимцах у нас, рядовых. Я могу припомнить только двоих. Один — командир лагеря, полковник Уля Рейстад. Благодаря ему я понял, что уважение подчиненных можно завоевать по-разному. Например, тем, чтобы отдавать приказы таким тоном, что подчиненный чувствует себя таким же человеком, что и начальник. Второго звали майор Вигго Ульман, единственный во всем лагере, кроме меня, кто привез в Торонто жену и ребенка. Мы снимали квартиры в городе. Когда я получал увольнительные, то, в нарушение всех правил, мы ходили друг к другу в гости. Взрослые сидели за столом, а мои два малыша возились на полу с его двумя дочками, Лив и Биттен. Кто мог тогда предположить, что маленькая Лив Ульман со временем станет знаменитой кинозвездой и что настанет день, когда мы с ней будем открывать зимние Олимпийские игры в свободной Норвегии?!
Самым ярким воспоминанием, которое осталось у меня от учебного лагеря Весле Скаугум в Мускокских лесах, был визит одного шестилетнего норвежца. Когда он без предупреждения оказался среди нас в обществе своей матери, это стало не меньшей сенсацией, чем его появление, уже с двумя собственными сыновьями, в королевской ложе на открытии тех же Олимпийских игр много лет спустя. Мы с Лив, нашими двумя малышами и любимцем семьи, маленьким медвежонком, жили в крошечной бревенчатой хижине в стороне от лагеря. Каждое утро по дорожке мимо хижины совершал утреннюю пробежку принц Харальд в сопровождении командира лагеря. Как-то раз они заметили нашего медвежонка, важно восседавшего около стола, в то время как мальчишки старательно расчесывали его лоснящуюся шубу. Он был такой чистый, что Лив разрешила мне укладывать его на ночь в ногах нашей кровати — так я хотел приучить его к людям. Я выменял медвежонка у дровосеков на бутылку виски, и поначалу он вовсе не торопился высказывать свою благодарность. Со временем он прибавил в весе, мне стало тяжело удерживать по ночам его тушу на ногах, и я начал использовать его вместо подушки. Не сказать, чтобы Лив была в восторге от этого.

Мне дали увольнительную на день, чтобы я показал принцу и принцессе трюки, которые научился делать наш любимец. Принцесса умоляла разрешить ей прокатиться на байдарке. Они видели, как я катался на лодке с медвежонком и как он прыгал в воду и вытягивал байдарку за веревку на берег. Итак, медвежонок Пейк устроился на носу, принцессы Рангильда и Астрид заняли места пассажиров, и я бережно провел свое суденышко мимо причала, на котором сидела с вязанием на коленях их венценосная мать принцесса Марта, а юный принц Харальд возился с кинокамерой. Больше всего на свете Пейк любил мед. Именно намазав палец медом, я завоевал его дружеское расположение при первой встрече. По мере приближения к пристани стрекот королевской камеры все больше напоминал гудение пчелиного улья. Медведь встал в байдарке на задние лапы, и мы, естественно, перевернулись. Я-то часто переплывал через озеро, но я понятия не имел, умеют ли плавать принцессы. Впрочем, все закончилось очень весело — там было так мелко, что мы просто встали на ноги и вышли на берег пешком.
Но самое страшное еще не произошло. Вода стекала с Пейка ручьями, но он направился прямиком к принцессе Марте, встряхнулся, забрызгав все кругом, а потом запустил свои длинные кривые когти прямо в ее почти законченное вязание. Принцесса не уступала, и между ними разгорелось настоящее сражение. К счастью, положение спасла Лив, достав откуда-то кусок медового пирога.
Наконец наступил день, когда рядовой ВВС Хейердал, идентификационный номер 2209 (бывший рядовой сухопутных войск номер 1136), равно как и семь его коллег из «Группы И», узнал об электронике больше, чем кто бы то ни было во всей норвежской армии. Одна беда — никто из нас понятия не имел, какое найти практическое применение нашим выдающимся знаниям. И кажется, этого не знал никто.
Теперь, когда война давно закончена и бесценное оборудование «Группы И» покоится на дне океана, я наверное имею право кое-что рассказать о нашем вкладе в победу.
Когда океанский лайнер «Королева Мэри» установил рекорд, приняв на борт восемнадцать тысяч пассажиров, я был одним из них. Из Лондона пришла секретная телеграмма, и восемнадцать тысяч военнослужащих союзных войск из тренировочных лагерей в Канаде, Австралии и Новой Зеландии в обстановке строжайшей тайны были доставлены ночью на сборный пункт в Галифаксе. В их число вошли и восемь курсантов из «Группы И». Там нас запихнули, как сельдей в бочку, на огромный корабль и отправили за океан, в район боевых действий. Нашей восьмерке досталась одноместная каюта, но спали мы в ней через ночь, меняясь с теми, кто оказался на переполненной палубе и не имел возможности даже вытянуть ноги. Никогда не забуду свирепых приступов морской болезни и бесконечную, безрадостную очередь в туалет. Для немецких подлодок мы представляли собой желанную добычу, поэтому наш корабль мчался на всех парах, погасив огни и постоянно меняя курс.
Через пять дней наше путешествие закончилось. В небе было черно от самолетов союзников. Сойдя на берег, все пассажиры дружно закурили. Во время плавания курить запрещалось категорически.
Итак, мы пересекли океан. Но никто понятия не имел, кто и зачем нас сюда вызвал. Двое из наших офицеров носили форму сухопутных сил. Глядя на них, мы тоже решили избавиться от авиационных мундиров. Так я перевоплотился в рядового пехоты номер 5268. Наверное, это еще больше запутало ситуацию, потому что теперь нас точно никто не мог найти. По прибытии в Лондон Главнокомандующий приветствовал нас такими словами: «Мы долго вас ждали, и нам вас очень не хватало!» Через четыре дня нам объявили, что никто не может понять, кому же именно нас не хватало. Поэтому нас послали в учебный лагерь в Шотландии и велели ждать до прояснения ситуации. Еще через какое-то время нам выдали новое оружие и амуницию и перевели в роту связи норвежской армии, базировавшуюся в заброшенном шотландском замке.
Командир роты встретил нас с распростертыми объятиями — под его началом служило множество офицеров и почти ни одного рядового. Каждое утро капитан Петерсен тщательно строил своих людей, и лейтенанты и сержанты браво рапортовали ему, что все на месте и чрезвычайных происшествий не произошло.
Поскольку у бойцов «Группы И» не имелось в наличии их мудреного оборудования, то каждый день нас либо отправляли в наряд по кухне, либо посылали помогать местным фермерам. Своих офицеров мы видели только на утренних построениях, поскольку пищу мы принимали в разных помещениях. Наконец спустя месяц на нас пришел приказ, и мы покинули замок капитана Петерсена, но только для того, чтобы расположиться неподалеку, в чудесной шотландской деревушке Калландер. Через несколько дней нас перебросили в университетский город Сент-Эндрю, где мы воссоединились с капитаном Петерсеном и его ротой связи. Разместились мы на сей раз в Вестерли, огромном старинном замке с широкими каменными лестницами, длинными коридорами и некрашеными деревянными полами. Целыми днями мы мыли эти лестницы и полы — именно мыли, а не протирали, потому что если пол не мокрый, то как доказать, что здесь убирались? Вскоре весь замок провонял сыростью и плесенью.
Мы жаловались и просились на фронт — все бесполезно. В качестве представителя группы я регулярно встречался с командиром роты и втолковывал ему, что с каждым днем мы все больше забываем то, чему нас учили. Тогда нам открыли доступ к передатчику Морзе. Надо сказать, за время учебы мы в совершенстве освоили азбуку Морзе, а чтобы записывать принимаемые сообщения, научились печатать десятью пальцами.
Меня беспокоило не только то, что мы ни на шаг не приближались к Норвегии. В довершение всех неприятностей ни одно письмо жены не доходило до меня из Канады. Я знал, что моего денежного довольствия не могло хватить Лив и детям на жизнь, даже на ту незатейливую жизнь, которую они вели в хижине в Мускокских лесах. Поэтому мне пришлось принять непростое решение продать Бруклинскому музею мою бесценную этнографическую коллекцию, собранную на Маркизских островах. Я не расставался с ней с того дня, когда покинул Норвегию. Помимо прочего, она включала редкие фотографии местных богов, королевскую мантию из человеческих волос, скрепленных волокнами кокосового ореха, а также великолепную корону из резного черепашьего панциря, инкрустированного перламутром. Откуда мне было знать, что в мое отсутствие Томас Ольсен предложил Лив и малышам пожить до окончания войны вместе с его семьей в их очаровательном загородном домике под Нью-Йорком?!
Когда я стоял в строю, расправив носки под углом шестьдесят градусов и бессмысленно уставившись перед собой в ожидании приказов, моя прошлая научная карьера казалась чем-то далеким и нереальным. Душа моя не засохла только благодаря книгам из библиотеки университета Святого Андрея, которые я набирал огромными пачками. В дневнике того времени я записал: «Снова принимаюсь за антропологию, поскольку, похоже, нас здесь нарочно маринуют. После обеда все, как всегда, мыли лестницу».
В нашей особо секретной группе из Канады зрело недовольство. Каждое утро начиналось с осточертевшего утреннего развода. Капитан-связист не хотел, чтобы его солдаты занимались под началом майора инженерных войск, расквартированного в том же замке. Поэтому он проводил занятия со своими подчиненными, а также с «Группой И» на заднем дворе замка. В утренних сумерках со всех сторон древнего здания зычно разносились приказы, и могло показаться, что здесь собрались целые батальоны, а не жалкие группки по шесть-восемь человек, которыми самозабвенно командовали толпы офицеров. Капитан приходил с фонариком, чтобы убедиться собственными глазами, что мы пришили на форму эмблему связистов, а не какую-нибудь другую. Затем двое из числа рядовых отправлялись на ритуальное мытье лестницы, а остальных распускали по казармам.
Так больше не могло продолжаться. Уж на что нам надоело драить лестницу и ходить в наряды по кухне, а тут еще разнесся слух, будто официанта из офицерской столовой переводят в другую часть. Значит, не за горами еще и эта работенка. Нам угрожала полная деградация. Мы договорились, что если кого-нибудь назначат на его место, он откажется, а остальные его поддержат. Только так можно напомнить о себе вышестоящему командованию. Нашу предыдущую жалобу мы обнаружили в корзине для мусора, когда убирались в кабинете капитана Петерсена.
Развязка наступила на разводе на следующее утро. Рядовому Байер-Арнесену (номер 5269) следовало заступить на дежурство в офицерскую столовую.
В ответ раздалось громкое и четкое: «Я отказываюсь».
Повисла зловещая тишина. Байер-Арнесену приказали выйти из строя и явиться к капитану в кабинет. Сперва капитан пытался его убедить, что служить в офицерской столовой — большая честь. Байер-Арнесен стоял на своем. Капитан в ярости схватил телефонную трубку и вызвал наряд военной полиции. Солдат и ухом не повел. Через некоторое время он собрал свои пожитки и под конвоем отправился на гауптвахту в Сент-Эндрю.
Меня, как представителя нашей группы, вызвали к начальству, чтобы я повлиял на товарища. Я сообщил капитану, что Байер — взрослый человек и сам знает, что ему делать. А если его арестовали, то следует арестовать и нас всех, потому что мы все отказываемся подчиняться этому приказу. В ответ мне заявили, что никто из нас еще не имел возможности отказаться, и такая возможность нам не представится, а вот Байера ждет трибунал. Более того, случись такое в немецкой армии, его давно бы уже расстреляли. Когда я поинтересовался, стоит ли брать пример с фашистов, то услышал в ответ: «На войне как на войне».
«Группа И» собралась на совещание. Поскольку на мне была форма связиста со всеми соответствующими нашивками и эмблемами, я взял ящик с инструментами и отправился в город, прямо в здание военного трибунала. Там я сказал, что что-то случилось с проводкой в одной из камер. Меня впустили и позволили проверить камеры. Проводка во всех камерах оказалась в порядке, кроме той, в которой сидел Байер. Там я задержался, передал заключенному шоколад и сигареты и кое-что получил от него. В штабе Верховного командующего норвежской армии в Лондоне служил в чине лейтенанта друг детства Байера, между прочим, сын министра обороны Оскара Торпа. Мне следовало передать ему письмо.
Капитан Петерсен не стал чинить мне препятствий, и я получил увольнительную в Лондон. Лейтенант Торп пришел в ужас, когда узнал, что его приятель сидит в тюрьме в Шотландии, и тут же организовал мне встречу со своим отцом. Когда я зачитал министру обороны выдержки из своего дневника, тот огорчился еще сильнее. Он сказал, что «Группе И» действительно отводилась важная роль в планах командования и что, наверное, произошла какая-то ошибка. Он обещал лично разобраться в нашей ситуации. Я, в свою очередь, получил следующие инструкции: спокойно возвращаться и передать товарищам, что нам надо вести себя паиньками до скорого решения вопроса. Я еще не успел покинуть Лондон, когда до меня дошло известие, что колеса завертелись и Байер уже освобожден.
В Сент-Эндрю наша праздная жизнь продолжалась, как и прежде. Прошло целых пять месяцев, прежде чем мы наконец сделали нечто более существенное, чем мытье лестницы и сгребание в кучу листьев. Лежа на койках, мы целыми днями обсуждали, как унизительно ничего не делать, что наше дорогостоящее обучение пропадает впустую, в то время как наши однокашники из летной школы давно уже воюют. Все мы, естественно, знали о подвигах норвежских летчиков и моряков, не говоря уж о героях Сопротивления.
Мы прочитали опубликованное в прессе выступление британского министра иностранных дел Антони Идена, в котором он отдал должное норвежскому торговому флоту, обеспечивавшему транспортировку сорока процентов всего горючего, необходимого союзным армиям. Так почему же нам, профессиональным телеграфистам, не находится применения? Английский адмирал Диккенс во всеуслышание произнес: «Мы понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Поэтому не будет преувеличением сказать, что вклад Норвегии бесценен». А мы сидели без дела в шотландской глуши. Даже когда одного из нас послали мыть туалет в казарме инженерных войск, куда мы никогда не ходили, мы все равно не протестовали.
Незадолго до Рождества 1943 года меня вызвали в военную полицию и спросили, остается ли в силе отказ «Группы И» служить в офицерской столовой. Если да, то нам грозило обвинение в мятеже. Но мы остались солидарны с Байером.
Сразу после Нового года на «Группу И» наконец пришел приказ. Всех нас распределили в разные части. Меня, к моей неописуемой радости, направили в роту норвежских горных стрелков, расквартированную в холмах Шотландии. Мои новые товарищи оказались отличными солдатами, а командир, по прозвищу Тарзан, пользовался всеобщим уважением и любовью. Мы много занимались спортом и целыми днями лазили по горам, как заправские альпинисты. Я снова почувствовал себя человеком.
Однажды на утреннем построении нам отдали команду «смирно». Когда Тарзан развернул перед строем какую-то бумагу, я понял, что сейчас произойдет нечто важное. Бумага оказалась постановлением трибунала. Рядовой Хейердал (личный номер 5268) приговаривался к шестидесяти дням заключения с отсрочкой исполнения на год за — тут Тарзан выдержал паузу — за отказ прислуживать в офицерской столовой.
По застывшим рядам прошло легкое шевеление, а некоторые даже позволили себе ухмыльнуться. Тарзан быстро навел порядок, но в уголках его рта тоже играла улыбка.
Мы все получили по году отсрочки, и Верховное Командование постаралось сделать так, чтобы до конца войны мы не имели больше возможности создавать начальству проблемы. Нас снова собрали вместе, но уже под командой не капитана Петерсена, а маленького, жилистого и коренастого лейтенанта-связиста, награжденного норвежскими и английскими орденами. Лейтенант Бьёрн Рорхольт только что вернулся из-за линии фронта и был одним из героев Сопротивления. Мы скоро поняли, что он — беспокойная душа, человек, преисполненный энергии, из тех, кто начинает искать новое дело, едва закончив предыдущее. При первом знакомстве он выразительно нам подмигнул — многие были наслышаны о нашем «подвиге» — и рьяно взялся готовить нас к настоящему делу.
После того, как мы вдоволь повозились с портативными передатчиками и скрытыми антеннами и восстановили свои познания в электронике, нам предоставили несколько дней отпуска. Мы провели его в английских семьях. Однако даже на время отпуска мы получили задание — каждую ночь мы должны были незаметно ускользать из дома и, оставаясь незамеченными, передавать закодированные сообщения, которые принимали наши английские коллеги по всей стране. Что касается женщин, с которыми мы встречались по вечерам в пабах, то тут похвастаться нечем. Особенно мне. Единственное мое уникальное достижение того периода — это то, что за всю войну я не убил ни одного вражеского солдата и не соблазнил ни одной девушки, хотя Рорхольт меня и пытался знакомить. Надо сказать, то, что я появлялся в обществе офицера и орденоносца, производило определенное впечатление на представительниц прекрасного пола, даже несмотря на мои скромные погоны. Кажется, многие из них подозревали, что я нарочно, с какой-то тайной целью, переодеваюсь солдатом.
А потом нас послали учиться прыгать с парашютом.
Нам всем было жутко страшно, когда нас выстроили перед самолетом, и лейтенант Рорхольт сообщил, что решение прыгать или не прыгать нам предстоит принять самостоятельно, а приказывать нам никто не имеет права.
У одного хватило духу признаться, что он не сможет себя пересилить. Как я им восхищался, когда он вышел из строя!
Никогда не забуду того ощущения, которое испытываешь, сидя в самолете рядом с люком и ожидая команды к прыжку. Парашюты были маленькие, а для того, чтобы мы быстрее спускались под вражеским огнем, в куполах были проделаны отверстия. После того, как мы вываливались из самолета, и до того момента, когда открывался парашют, в ушах стоял жуткий гул, от которого можно было сойти с ума. Зато когда он все-таки открывался, на смену страху приходило совершенно волшебное чувство, словно сам Господь Бог подставлял тебе руку. Иногда в такие моменты мне казалось, будто в прошлой жизни я был птицей. Правда, эта иллюзия заканчивалась, как только земля стремительно подскакивала под пятки и я грохался об нее с такой силой, словно выпал с третьего этажа.
Теперь мы прыгали с пугающей частотой. Однажды нам предстояло приземлиться на площадку, которую отмечали в темноте только три горящие свечи. Многие тогда сильно ушиблись, потому что не видели землю и не успели вовремя сгруппироваться. Я приземлился удачно благодаря тому, что еще в самолете зажмурился и открыл глаза, только когда вокруг было темно. Но вообще-то, самое трудное — это наземная подготовка к прыжку. Посудите сами: надо выпрыгнуть из окна высокой башни, а единственная страховка — это веревка, одним концом привязанная к вам, а вторым — к оси установленного на крыше пропеллера. Теоретически, по мере того как веревка начнет разматываться, пропеллер начнет вращаться и замедлит падение. Но что-то покажет практика? К счастью, все обошлось.
Но самым страшным был другой прыжок. Кто-то решил проверить на нас новый способ десантирования.
Нам предстояло выпрыгнуть из самолета с рюкзаком, в котором лежало оружие и прочая амуниция, причем рюкзак был привязан веревочной петлей к нашим ногам. Перед приземлением надо было ослабить петлю, после чего рюкзак повисал на восьмиметровой веревке. В результате он падал на землю с той же скоростью, что и парашютист, только немного раньше. В итоге двое из нас оказались в госпитале с переломанными ногами. Со мной могло быть еще хуже. У меня не раскрылся парашют. Он висел над моею головой, как пустая оболочка от сосиски. Земля летела мне навстречу, и я уже слышал, как инструктор орал в мегафон, чтобы я распутал стропы. А тут еще петля и тяжелый рюкзак на ногах… Парашют все-таки раскрылся в самый последний момент, и мне даже удалось избавиться от рюкзака, но когда я заученным движением покатился по земле, все потемнело у меня перед глазами.
Как-то раз, когда я растянулся на скирде сена в перерыве между прыжками, ко мне подошел маленький и щуплый человечек в форме лейтенанта. Вся грудь его была увешана боевыми наградами. Острые черты бледного лица и резко очерченный рот выдавали сильный характер и твердую волю. Его звали Кнут Хогланд, и он был радистом из знаменитой группы подпольщиков, которые сорвали планы немцев получить тяжелую воду для их первой атомной бомбы. Передо мной стоял герой-норвежец, подпольщик, спаситель родины! Британский премьер-министр Уинстон Черчилль придавал огромное значение судьбе норвежского завода по производству тяжелой воды в Рьюкане, и лейтенант Хогланд уже был удостоен аудиенции у короля Норвегии Хокона и у Черчилля, а также получил награду из рук короля Англии. В день нашей встречи он как раз вернулся из Норвегии с очередного задания. Три года спустя, будучи радистом на «Кон-Тики», он рассказывал, как гестаповцы окружили его вовремя сеанса радиосвязи, который он вел из вентиляционной шахты женской больницы в центре Осло. Отстреливаясь, он сумел перелезть через стену больницы, хотя пули так и свистели вокруг него.
Мы быстро подружились. Впоследствии он утверждал, будто в день нашего знакомства я лежал на сене, мечтал о Полинезии и бурчал, что если маститые старцы из Академии не желают мне верить, я построю плот и докажу всем, что моя теория верна. Не знаю, в моем дневнике ничего такого не записано. Но зато я точно знаю, что Кнуту в самом ближайшем будущем предстояло высадиться с парашютом на окраине Осло и координировать работу доброй сотни подпольных радиопередатчиков, разбросанных по территории Норвегии. Он предложил мне стать его заместителем, и я согласился.
Советские войска наступали через Финляндию на север Норвегии. Двухсоттысячная немецкая армия в панике бежала из Финляндии, оставляя за собой выжженную землю, но все-таки сумела зацепиться за новые рубежи. На некоторое время на фронте воцарилось затишье. В такой вот неопределенной ситуации малочисленные норвежские части в спешке перебрасывались к театру боевых действий, чтобы стоять на страже интересов своей родины.
Первая норвежская горнострелковая рота в составе союзнического конвоя отправилась в Мурманск. Лейтетант Рорхольт получил приказ следовать за ним во главе группы из двух человек с целью обеспечивать связь между опустошенными после отступления немцев районами Финляндии и норвежским правительством в Лондоне. Вся «Группа И» тут же получила повышения в звании, а прапорщик Хейердал и прапорщик Стабел были включены в группу лейтенанта Рорхольта.
Следовательно, парашютный рейд с лейтенантом Хогландом не состоялся. Что ж, война есть война, как сказал бы капитан Петерсен. Более того, надо мной все еще висел приговор.
После войны, когда я предложил Хогланду и Рорхольту присоединиться к экспедиции на «Кон-Тики», они оба согласились. Правда, потом Рорхольт изменил свое решение, но он все же обеспечил нам связь — предоставил портативный военный радиопередатчик и настроил его на любительскую частоту. Хогланд же поехал и выполнял функции радиста.
По сравнению с плаванием на плоту миссия Рорхольта оказалась гораздо более опасной. В ноябре 1944 года Рорхольт, Стабел и я отправились в местечко Скапа-Флоу на Оркнейских островах, а оттуда на огромном американском авианосце в составе союзнического конвоя двинулись на Мурманск. Конвой состоял почти из восьмидесяти кораблей, половина из них была боевыми судами, а остальные — грузовыми, многие из которых я помнил еще по работе в доках Бетльхема.
Едва мы оказались на борту, как пришла телеграмма о том, что прапорщики Стабел и Хейердал получили очередное воинское звание лейтенантов. Лейтенант же Рорхольт получил капитанский чин. Позже, когда мы окажемся на советской территории, это повышение обернется неожиданными неприятностями.
Мы шли на север и вскоре пересекли Полярный круг. Нас поглотила полярная ночь, зловещая и непроглядная. Оттого, что суда шли с потушенными огнями, небо и вода сливались в единое черное марево. Днем на юге проглядывала узкая полоска красного цвета, и тогда мы могли различить силуэты больших и маленьких кораблей, разбросанных по простору безбрежного океана. На палубе ближайшего к нам грузового судна стояли два огромных паровоза, предназначенных американцами в дар русским. Казалось, весь окружавший нас мир состоял только из стали, льда, пушек и черной воды.
С английских складов нам в спешке выдали зимнюю амуницию. Я, как опытный путешественник, пришел в ужас. Мне едва хватило времени купить несколько упаковок жевательного табака, чтобы потом обменять их у лапландцев на спальные мешки из оленьей шкуры. Наши никуда не годились. Стоило их развернуть в вертикальном положении, как набитая в них ерунда тут же проваливалась вниз. До нас дошли слухи, что на нашем авианосце есть маленький склад, где можно купить кое-какое арктическое снаряжение. Мы отправились туда. Спустившись по каким-то лестницам и миновав несколько переборок, мы наконец добрались до цели. Когда Рорхольт и я примеряли длинные меховые куртки, вдруг раздался зловещий грохот. Инстинктивно мы бросились вверх по лестнице, но переборки оказались задраены. Снаружи раздался звук еще одного удара, сопровождаемый серией взрывов. Это бросали глубинные бомбы наши корабли сопровождения. Мы поняли, что где-то неподалеку находятся вражеские подводные лодки.
Я всегда подозревал, что худшее, что может случиться на войне, — это оказаться запертым на подводной лодке во время сражения, и мои опасения полностью оправдались. Мы сидели в замкнутом пространстве в чреве корабля, как мыши в мышеловке, а под нашими ногами и над головами гремел бой. Вдруг воцарилась мертвая тишина. Через некоторое время переборка открылась, и мы выбрались наверх, в царство ледяной полярной ночи. До Мурманского залива оставалось совсем немного. Как мы потом узнали, советские суда пришли к нам на помощь во время боя.
В Мурманске мы расстались с американцами. За время плавания я выучил несколько десятков русских фраз и решил проверить свои знания на первом встречном огромном бородатом мужике в меховой шубе. Он не понял ни слова и вообще оказался… англичанином, бежавшим из немецкого плена. Чтобы очутиться в Мурманске, он прошел через половину России, не зная ни единого русского слова. «Просто улыбайтесь им, — посоветовал он мне. — И они обязательно помогут».
Первого русского я увидел на борту советского торпедного катера. Катер, изрядно поврежденный огнем немецкой артиллерии, направлялся в недавно освобожденный финский порт Петсамо. Во время долгого шестичасового перехода по бурному морю я сидел рядом с советским офицером, человеком сурового и подозрительного вида. Я замерз и сильно проголодался. Вспомнив совет англичанина, я улыбнулся. Улыбка получилась дружелюбной, но боюсь, несколько неуверенной, потому что я впервые в жизни видел коммуниста. Русский широко осклабился в ответ, схватил меня за руку и потащил в каюту. Там он сдернул одеяло с койки, достал из-под него здоровенную буханку черного хлеба, разломил ее пополам и одну половину отдал мне. За бортом бушевало холодное море, а мы сидели рядком на узкой койке, жевали сухой хлеб и лучезарно улыбались друг другу.
К полуночи мы достигли Петсамо, единственный не скованный льдом порт, находившийся в руках Красной Армии. У причала стояло крохотное норвежское суденышко, груженное тринадцатью ящиками с оборудованием для «Группы И». На борту оставалось место только для одного человека, поэтому я с радостью уступил его Стабелу, а сам вместе с Рорхольтом отправился по суше к цели нашего путешествия — на линию фронта, проходившего по территории Финляндии. Итак, я уселся в русский военный грузовик рядом с водителем. В кабине не было лобового стекла, зато в изобилии имелись пулевые отверстия. Холод стоял зверский, а в небе безмолвно сияло северное сияние.
Мы с шофером улыбнулись друг другу и надолго замолчали. Потом, несмотря на полное отсутствие слуха, затянули «Волгу-Волгу». За ней последовали другие русские и норвежские народные песни. Я все время порывался воспользоваться моим словарным запасом из пятидесяти русских слов, но они отказывались складываться во что-то членораздельное. Грузовик дергался и прыгал на ухабах, и ничто вокруг не указывало на то, что мы уже в Финляндии. Заночевали мы в землянке, где нас угостили горячей кашей и крупно нарезанными ломтями черного хлеба. Все вокруг кутались в меховые шубы, и мы старались покрепче прижиматься друг к другу, чтобы сохранить остатки тепла. Утром мы переехали длинный понтонный мост, и наш новый русский друг указал рукой на едва различимые в темноте очертания одинокого домика.
— Норвежский дом, — торжествующе произнес он по-русски, и я его сразу понял. Наш дом!
Итак, я снова оказался на родине. Здесь жили мой отец и моя мать. Но до южной Норвегии было еще несколько тысяч километров оккупированной фашистами земли. Так далеко на север я никогда не забирался. Край полярных дней и ночей лежал передо мной в руинах. То тут, то там над обгорелыми развалинами поднимался дымок от еще не погасшего огня. Отступая, немцы использовали тактику выжженной земли, они уничтожали все, что не могли унести с собой. В городке Киркенес уцелел один-единственный дом. Более того, фашисты угнали на юг все мирное население. Несчастным беженцам пришлось целых три дня идти пешком по пустынной земле, между двумя воюющими сторонами.
Рорхольт поселился в брошенном немецком бункере вместе с командиром роты горных стрелков полковником Арне Далем. Полковник приехал с предыдущим конвоем. Им не удалось установить прямую связь с Лондоном, и все сообщения они отправляли через расположенный неподалеку штаб русских. Мы все с нетерпением ждали прибытия корабля с оборудованием.
Через несколько дней пришло сообщение, что он потоплен врагом. Пять норвежских моряков вместе с тринадцатью ящиками для «Группы И» оказались погребенными на морском дне.
К нашему удивлению и радости, перед самым Рождеством к нам явился Стабел, в русском обмундировании и без единого, даже самого маленького, приборчика из нашего груза. Сигнал тревоги застал его на задней палубе, и он тут же помчался на мостик за указаниями, что делать. В этот миг вся задняя палуба взлетела на воздух, и Стабел оказался в ледяной воде. Жить ему оставалось считанные минуты, но его спас советский корабль. Еще он рассказал, что когда наш конвой покинул мурманский порт, его уже поджидали немецкие подводные лодки и пятьдесят «юнкерсов». По сообщениям англичан, противник потерял двенадцать субмарин, но и союзники недосчитались несколько кораблей, в том числе двух русских. На эскадренном миноносце «Кассандра» погибло шестьдесят один человек, и когда его на буксире дотащили до мурманского причала, у него была снесена вся носовая часть, а между кусками искореженного железа торчали трупы моряков.
Мы очень были рады возвращению Стабела и должным образом отметили это событие на Рождество. Лапландский охотник принес оленятины на жаркое, а русский интендант, услышав про норвежское Рождество, подарил ящик водки и мешок риса. Он заверил нас, что как только немецкое сопротивление будет сломлено, Красная Армия немедленно отправится домой. Мы пели Рождественские гимны и русские народные песни и желали ДРУГ Другу мира.
На второй день Рождества из русского штаба явился посыльный с приказом, согласно которому лейтенанту Хейердалу следовало немедленно возвращаться в Лондон, поскольку он не был включен в список личного состава, согласованный с советским посольством в Англии. Полковник Даль тотчас послал ответное сообщение, что имя лейтенанта Хейердала включено в дополнительный список, к тому же ввиду острой нехватки офицеров его никак нельзя отсылать назад. Русские просмотрели дополнительный список и нашли там сержанта Хейердала. Что-то здесь было не так, и лейтенанту следовало немедленно убираться в Лондон. Так приказала Москва.
Это был полный бред. Мы с полковником Далем выработали план. Меня назначили помощником командира группы командос, отправляющейся на опасное задание, а полковник должен был меня прикрыть.
В последний день 1944 года наша маленькая группа из семи человек перевалила через горы у фьорда Смал и на реквизированном грузовике добралась до самых удаленных наших позиций, которые удерживали семьдесят горных стрелков. Позади лежала ничья земля, а впереди, по другую сторону фьорда, стояли немецкие войска. Мы отдохнули в оставленных немцами окопах, а затем вышли на задание. На противоположном берегу возвышался маяк, а рядом с ним стояли на якоре три немецких эсминца. Нам предстояло незаметно переплыть на лодке через фьорд, захватить охрану врасплох и взорвать маяк.
Перед началом операции меня мучили сомнения. Спящие в караульном помещении немецкие солдаты — я ведь их совсем не знаю. Конечно, они солдаты вражеской армии, но они же подневольные люди, и если они откажутся выполнять приказы, их расстреляют без разговоров. В армии нельзя даже отказаться прислуживать в офицерской столовой. Я ворочался всю ночь, решая дилемму: что лучше — бросить гранату в окно комнаты, полной беззащитных спящих людей, или предупредить их криком, но при этом подвергнуть огромному риску моих товарищей? Но тут раздалась трель полевого телефона. Советское командование потребовало, чтобы полковник Даль немедленно выслал
патрульные команды на поиски лейтенанта Хейердала.
Приказ был короток и не подлежал обсуждению. Я попрощался с командиром группы, лейтенантом Альфредом Хеннингсеном — теперь ему предстояло выполнить задание силами всего лишь пяти человек — и сел в грузовик рядом с шофером. Надо было возвращаться в абсолютной темноте, через усеянную минами ничейную землю. Глупо, как глупо! Но главное теперь было вернуться в Киркенес прежде, чем все норвежские солдаты, вместо того, чтобы воевать с врагом, начнут патрулировать местность, чтобы найти Хейердала и отправить его в Лондон за советской визой.
За все время войны я больше ничего не слышал о Хеннингсене и его людях. Позже выяснилось: немцы обнаружили их и открыли огонь. Лодка потонула, половина диверсантов погибла, а остальных взяли в плен. Хеннингсен оказался среди выживших и много лет спустя стал членом парламента Норвегии от города Тромсё.
Началась сильная метель, и грузовик застрял в сугробе. Неподалеку мы обнаружили брошенный и вмерзший в снег снегоочиститель от бульдозера. Мы с шофером начали его выдирать изо льда, как вдруг заметили, что к нему присоединена мина. После этого нам как-то расхотелось к нему приближаться.
Медленно, постоянно откапываясь, мы все же продвигались вперед. Никаких указателей на дороге видно не было. Война не пощадила мосты через реки Гульюк и Тана, но нам удавалось переправляться на другой берег по замерзшему льду. Правда, один раз грузовик застрял посреди реки, и мы никак не могли сдвинуть его с места. К счастью, неподалеку оказалась хижина лапландца. Мы упросили его дать нам лошадь и с ее помощью вытащили машину. Наутро следующего дня, пересекая фьорд возле Нессеби, мы провалились под лед. Мне живо вспомнился мой детский ужас, связанный со льдом и водой, но до берега было недалеко, и мы сумели до него добраться, промокнув до нитки. Нам на выручку пришли три проезжавших мимо лапландца, но едва мы приступили к спасению грузовика, как сани тоже ухнули под лед. С помощью березовых лаг мы вытащили сани и лошадь, но машину пришлось бросить.
После нескольких дней таких приключений я наконец под утро добрался пешком до Вардё и уснул мертвым сном в первом попавшемся доме.
Перед тем, как пересечь фьорд, отделявший меня от Киркенеса, я встретил загадочного вида небритого прапорщика. Во время отступления немцев он прятался в снежном иглу. Когда он наконец вышел из своего убежища, то, подобно мне, оказался на нейтральной полосе. После того, как мы прониклись доверием друг к другу, он представился под вымышленным именем Торстейн Петерсен. Наша дружба, начавшись тогда, выдержала испытание временем. Через годы он присоединился к экспедиции на «Кон-Тики». На самом деле его звали Торстейн Рааби.
Во время войны в Финляндии Торстейн не особенно распространялся о своем прошлом. Позже я выяснил, что он прошел подготовку в Англии и был выброшен с парашютом в Норвегию, в район Тромсё. Он жил по подложным документам неподалеку от места базирования немецкого броненосца «Тирпиц» и на протяжении нескольких месяцев каждую ночь отправлял радиограммы в Англию, используя портативный передатчик и антенну, которой днем пользовался один немецкий офицер. Подобно Рорхольту и Хогланду, союзники высоко отметили его заслуги. Во многом благодаря ему британская авиация в конце концов потопила «Тирпиц» — второй флагман фашистского флота, нашедший упокоение на дне норвежского фьорда.
Когда стало известно, что лейтенант Хейердал появился в Киркенесе и собирается в Мурманск, чтобы с первым же конвоем вернуться в Англию, норвежское командование испытало чувство облегчения, а остальные мои земляки заметно переполошились. После гибели оборудования «Группы И» норвежский корпус не мог поддерживать связь ни с какой другой страной, кроме Советского Союза. У каждого нашлось, что передать или попросить сделать в Лондоне. Один сообщал, что в партии обуви, пришедшей с последним конвоем, были только ботинки на левую ногу. Мурманские коммунисты ли тому виной, навсегда останется загадкой, но факт остается фактом — на следующий день лейтенант отправился в патрулирование с восемью солдатами и только одним спальным мешком. Число восемь объяснялось очень просто — именно столько пар обуви было в его взводе, и солдат он подбирал по одному-единственному критерию — чтобы на них налезли ботинки. Еще патруль располагал тремя автоматными рожками и четырьмя котелками и кружками. Военная полиция хотела доложить о количестве норвежских нацистов, задержанных в районе Киркенеса. Врач посылал рапорт о состоянии здоровья личного состава и умолял прислать лекарства, а начальник склада рапортовал об отсутствии практически всего — от оружия и боеприпасов до обувного крема, варежек и солнцезащитных очков.
11 января 1945 года за мной заехал советский броне-транспортер. К моему великому удивлению, я оказался не одинок. Со мной ехали два лейтенанта норвежских ВМФ, тоже объявленных Москвой «персонами нон грата». Наша троица возвращалась в Лондон с одним и тем же конвоем. Более того, вскоре к нам присоединились еще три человека в форме майоров. Они не производили впечатления профессиональных военных, но их мундиры украшали офицерские знаки отличия, поскольку все они были важными чиновниками. В Лондоне от них ждали отчета о настроениях и образе жизни гражданского населения. В холоде и темноте мы стукались друг о друга, шесть норвежских офицеров и один русский водитель, а бронетранспортер неумолимо вез нас на восток, через понтонный мост, прочь от Норвегии. Дни ничем не отличались от ночей, и в прорези в бортах машины мы видели только снег да бесконечные колонны машин и одетых в овчину солдат. Мы ехали и ехали, изредка останавливаясь, чтобы перекусить и выпить чаю в каком-нибудь занесенном снегом бункере в обществе полуодетых русских солдат, молча сидящих вдоль стен. Потом мы увидели множество огней и поняли, что финская граница осталась позади и перед нами лежит Мурманск.
Советский флотский офицер распахнул люк бронетранспортера и приказал нам торопиться, поскольку мы прибыли с опозданием и конвой уже отплывал. Сперва он выудил на свет божий трех лейтенантов, а майорам сообщил хорошую новость: им разрешено вернуться в Киркенес! Один из них, в обычной жизни директор банка, изобразил самую завораживающую улыбку и попытался объяснить благодетелю, что тут какая-то ошибка. Это три майора должны вернуться в Англию, а трем лейтенантам, наверное, можно остаться.
«Никаких ошибок. Приказ Москвы», — твердо ответил русский. С этими словами он захлопнул люк, бронетранспортер отправился назад в Киркенес, увозя в своем чреве трех майоров, полумертвых от холода и горя.
Мы, лейтенанты, решившие было, что остаться разрешено именно нам, тоже испытали жуткое разочарование. Однако нас, не слушая никаких возражений, усадили со всеми нашими пожитками на советский противолодочный корабль, и тот на всех парах пустился догонять конвой, уже покинувший бухту Полярную. Когда мы выходили из бронетранспортера, один из майоров случайно поставил свою сумку рядом с моей. Я знал, что помимо личных вещей он вез секретные документы и пистолет, поэтому я сделал вид, будто у меня было две сумки.
Менее чем через два часа мы догнали замыкавшие колонну конвоя два английских эсминца. Не снижая скорости, опасно раскачиваясь на бурных волнах, корабли обменялись пассажирами. Один лейтенант оказался на «Зебре», а я вместе со вторым — на «Замбези». Мы отправились в офицерскую кают-компанию и немедленно заснули.
Но взлетая на гребне волн, то проваливаясь в бездну, корабли каравана вышли из фьорда в открытое море. А под водой нас караулили немецкие субмарины. Я проснулся от взрывов глубинных бомб. «Зебра» отбомбилась первой, но через несколько минут за кормой «Замбези» всплыла подводная лодка и передала кодированное сообщение. Это могло значить только одно — скоро у охраны конвоя будет много работы.
Мой товарищ-моряк мучился от морской болезни и не мог оторвать голову от подушки. Мне тоже нелегко дался резкий переход от твердой земли к океанской качке, но тем не менее я нашел в себе силы проследовать за английским офицером в штурманскую рубку, где мне стала ясна структура построения конвоя. Он состоял из большого количества грузовых кораблей, возвращавшихся порожняком в порт приписки, и судов охраны: одного авианосца, одного крейсера, восьми эсминцев, девяти противолодочных охотников и нескольких судов поменьше. Мы ожидали вражеской атаки в любой момент, поэтому спать нам приходилось в гамаках, натянутых в открытом коридоре, не снимая спасательных жилетов.
Естественно, спалось нам плохо. На то имелось несколько причин. Во-первых, коридор был настолько узок, что при качке гамаки бились о переборки. Едва ты успевал заснуть после близкого контакта с одной переборкой, как тут же знакомился с противоположной.
Вскоре со всех сторон до нас стали доноситься взрывы. Англичане отнеслись к этому с мрачным юмором. «Мы обнаружили косяк макрели», — сказал капитан.
Но нет; Господь никогда не допустил бы, чтобы в океанах водилась подобная рыба. Эти дьявольские механические чудовища были порождением человеческого мозга с единственной целью — уничтожать людей. Я часто задавался вопросом: что сказал бы Теи Тетуа о нашей замечательной цивилизации, доведись ему лежать в гамаке по соседству со мной.
Мои размышления прервал грохот близкого взрыва, и столб воды поднялся в воздух прямо рядом с бортом.
— Это мы, — гордо объявил стоявший в двух шагах от меня моряк.
Я поднялся на мостик узнать, что происходит. На борту царило лихорадочное оживление. Приказы отдавались и получались. Из катапульт в голубые неспокойные воды Атлантического океана широким веером сыпались похожие на бочки глубинные бомбы. Через несколько мгновений вода вокруг словно закипела и брызги взлетели выше мостика. Не покидая своего места в конвое, мы шли зигзагами, чтобы уменьшить вероятность попадания торпеды.
Чтобы сбить с толку основные силы противника, с авианосца пришел приказ изменить курс на восток, в направлении Сибири и Кольского полуострова. Затем мы вновь повернули на запад, только двумястами километрами севернее. Там нас поджидал настоящий шторм, и следующей ночью нас раскачивало с амплитудой в тридцать пять градусов.
Удерживать все суда конвоя вместе стало практически невозможно. Мы снова сменили курс и два дня шли на юго-запад, но шторм только усиливался. На третий день я услышал крик: «Человек за бортом!» Троих моряков смыло волной, но следующая волна чудесным образом забросила их назад на палубу корабля. Качка была просто непереносимой. Мостик кренился то вправо, то влево на сорок градусов, и удержать что-либо в руках не представлялось никакой возможности. В разгар снежной бури всего в пяти километрах от нас пролетел немецкий разведывательный самолет.
Попытка пообедать за столом окончилась полным фиаско на гране комедии. Я и еще двое офицеров изо всех сил пытались удержать блюда и столовые приборы, но, наконец, пришла огромная волна, и стулья, половики и посуда разлетелись по всей каюте. В самый последний момент я ухитрился зацепиться ногами за привинченные к палубе ножки стола, но зато корабельный доктор пролетел через всю каюту и закончил свой полет в углу, прижатый к переборке и накрытый половиком. Мичман вдруг побежал от стены к стене, как сумасшедший, держа в руке нож с куском мармелада. И, словно этого было недостаточно, вдруг откуда-то появился стюард в одной рубашке и принялся плясать босыми ногами на осколках посуды и раздавленных сандвичах. Мы в недоумении смотрели на него, и тут из-под половика раздался голос корабельного доктора.
— Это что, стриптиз такой? — сухо поинтересовался он.
Следующая волна отправила стюарда обратно туда, откуда он пришел, и дверь с треском захлопнулась за ним, придав сцене недостающую завершенность.
На следующий день море стало поспокойнее, и тут же неподалеку от нас всплыла подводная лодка и передала очередное сообщение. Она неотступно следовала за нами на дистанции в тридцать километров со скоростью восемнадцать узлов и погрузилась, только когда с авианосца поднялся самолет. В подводном положении она не могла развить скорость больше шести узлов, поэтому конвой разогнался до двадцати узлов и ушел от нее. Но наше местонахождение перестало быть секретом, и вскоре нас со всех сторон окружили вражеские субмарины. «Замбези» первой приняла удар на себя.
Я только что проверил водонепроницаемые переборки и направлялся на мостик, как до моих ушей донесся странный металлический звук и весь корабль содрогнулся, словно от боли. Первым делом я решил, что в нас попала торпеда, но как оказалось, это мы сами вели огонь. Матросы на палубе суетились вокруг катапульт и запускали одну глубинную бомбу за другой, а в это время эхолот на мостике нашел еще одну цель с правого борта. Тем не менее командир конвоя приказал нам покинуть строй и вступить в бой с подводными лодками. Волны швыряли «Замбези» то вверх, то вниз, то вправо, то влево, а наблюдатели и акустики пытались вовремя заметить приближающуюся торпеду. Вскоре мы услышали сигнал эхолота и поменяли курс, чтобы перехватить еще одну субмарину. Через некоторое время она оказалась прямо под нами. Затем навигационные приборы начали давать сбои, и пока мы их чинили, оказалось, что мы отстали от конвоя. Мы разогнались до двадцати узлов и на Полярном круге догнали своих. Но тем временем шторм разыгрался совсем уж не на шутку. Волны вздымались, словно водяные горы, и обрушивали на бедный эсминец удары страшной силы. Он вздрагивал, как породистый жеребец под кнутом, но продолжал бой с морским чудовищем.
Ближе к вечеру пришло сообщение, что авианосец вынужден свернуть с курса и пойти по ветру. Чуть позже до всех был доведен приказ: кто может, должны продолжать движение на юг, сохраняя строй. К десяти вечера нам тоже пришлось прекратить борьбу, и мы повернули на север. Некоторое время на борту царил настоящий хаос. Навигационные инструменты снова вышли из строя, и в полной темноте мы пошли наперерез остальным судам конвоя, лишь чудом избежав столкновения с транспортом, который внезапно вырос у нас прямо по носу. Шторм теперь представлял большую опасность, чем подводные лодки, и на всех кораблях зажглись бортовые огни.
Отдохнуть в гамаке не представлялось никакой возможности, потому что он раскачивался от стены к стене, и приходилось смягчать удары обеими руками. Поэтому я не спал, когда чудовищная волна обрушилась на «Замбези» и разнесла в щепки нашу единственную спасательную шлюпку. Затем вырвало с корнем одну из катапульт, и в образовавшуюся в палубе пробоину с каждой новой волной устремлялись потоки воды. Теперь самая серьезная опасность исходила не извне, а от нас самих. Глубинные бомбы, приготовленные к запуску, сорвались с креплений и катались по палубе. Из оружия для защиты они превратились в непредсказуемого врага. Судно швыряло из стороны в сторону, потоки воды носились по палубе, сметая все на своем пути, бомбы перекатывались от борта к борту. Казалось, коварный противник внезапно напал из-за угла и втянул нас в бессмысленную игру, ставкой в которой была наша жизнь. Наверное, все чувствовали себя такими же беспомощными, как и я. В какой-то момент я всерьёз прикидывал, какие у меня шансы на спасение, если я прямо сейчас прыгну за борт и поплыву прочь от обреченного корабля.
И тут часть бортового ограждения, наконец, не выдержала, и первая из глубинных бомб скатилась в океан. Обычно при бомбометании корабль идет на полном ходу, чтобы в момент взрыва отойти как можно дальше от его эпицентра. Теперь же «Замбези» делал жалкие три узла, а бомба упала совсем рядом. В результате случилось то, чего и следовало ожидать. Одна за другой бомбы попадали за борт и под влиянием давления воды начали взрываться. Штормовое море, казалось, совсем взбесилось, и с каждым взрывом я ждал, что корпус, наконец, не выдержит напряжения. Экипаж корабля предпринимал героические усилия, чтобы не дать упасть оставшимся бомбам, но после того, как одного матроса смыло за борт, остальные были вынуждены прекратить попытки. На сей раз беднягу не выбросило назад, и все попытки спасти его не увенчались успехом. Жутко было видеть его голову, то появлявшуюся, то исчезавшую в ледяных волнах всего лишь на расстоянии вытянутой руки от корпуса судна. Только мгновение назад раздался крик «человек за бортом», и вот все уже было кончено. В таких условиях найти его было невозможно. Уже через несколько минут все тело будет покрыто коркой льда.
— Жаль, — пробормотал один из офицеров. — Он так хорошо играл на аккордеоне.
Он, так же как и я, мучился от собственного бессилия и не знал, как выразить словами свои чувства.
Шторм набрал такую силу, что никого нельзя было послать на палубу, даже привязав канатом. В общей сложности за борт упало двенадцать бомб. С флагманского корабля пришел приказ всем судам, которые еще держались вместе, сменить курс и самостоятельно добираться до Фарерских островов. Во время снежной бури столкнулись два транспорта. У одного образовалась огромная пробоина в борту, и он начал тонуть. Прежде чем мы достигли Фарерских островов, эхолот обнаружил цели с трех сторон от нас. Наш капитан не хотел лишаться последних бомб, поэтому «Зебра» и еще один эсминец принялись охотиться за вражескими лодками и прикрывали нас до тех пор, пока мы не вошли в порт.
С Фарерских островов я перелетел в Шотландию, а оттуда в Лондон, чтобы получить визу в советском посольстве и вернуться на фронт. Разумеется, я также доставил по назначению документы и прочие вещи, которые майоры предоставили в мое распоряжение.
Только через много лет после войны я выяснил, почему мои бумаги не понравились русским. Меня пригласили в советскую Академию наук на дискуссию, посвященную моей теории. В Москве на сцену вместе со мной вышел человек, занимавший один из самых высоких командных постов на Северном фронте, и нас представили аудитории как товарищей по оружию. Я не преминул воспользоваться ситуацией и выяснил, что всему виной мое повышение в чине. В бумагах, поданных на визу, фигурировал прапорщик Хейердал. А приезжает лейтенант Хейердал — вдруг это другой человек?
В Лондоне оказалось, что я первым вернулся с норвежского фронта. Поэтому на Би-Би-Си вышла программа с моим участием на английском, французском и норвежском языках. Трудно описать чувства, которые испытала, слушая эту передачу, моя престарелая матушка. Все военные годы она жила в доме одной из моих племянниц в Лиллехаммере. На чердаке они прятали парашютистов и бойцов Сопротивления. Один из них как раз завершил свое задание и на следующий день собирался уходить в Швецию, а оттуда в Англию. Когда норвежский диктор Би-Би-Си объявил, что завтра лейтенант Тур Хейердал расскажет о положении дел на финском фронте, парашютист отложил свое возвращение, и шестого февраля 1945 года мама впервые за шесть лет услышала мой голос и убедилась, что я жив и здоров. После войны моя семидесятидвухлетняя мать тоже получила награду за вклад в победу над врагом фотографию Уинстона Черчилля с собственноручной благодарственной надписью.
Теперь мне предстояло вернуться на фронт с действительной визой в кармане. Но на сей раз мне не пришлось Дожидаться следующего конвоя до Мурманска. К моему великому удивлению, в Лондоне я встретил капитана Рорхольта. Он сумел пробраться в Лондон через нейтральную Швецию с тем, чтобы раздобыть новые средства связи для норвежских войск, сражающихся за полярным кругом. Мы вместе продумали план дальнейших действий, и с его благословения я сам написал приказ, согласно которому мне предписывалось отправляться в Швецию и там наладить обучение норвежских беженцев радиоделу и технике прыжков с парашютом. Рорхольт зачитал бумагу на совещании высшего офицерства норвежской, американской и британской армий, и написанный мною приказ был немедленно завизирован одним высокопоставленным генералом. На следующий день после моего выступления на Би-Би-Си я уже летел над оккупированной Норвегией в маленьком английском самолете без бортовых огней. Я был единственным пассажиром, на мне красовался гражданский костюм с чужого плеча, а в чемодане лежали пистолет и лейтенантская форма. После приземления в Стокгольме я приехал в тренировочный лагерь норвежской военной полиции. Официально Швеция соблюдала нейтралитет, что помогло ей избежать фашистской оккупации, и в то же время она представляла собой райский островок безопасности для беженцев, в том числе и из Норвегии, да и вообще втайне Швеция сделала немало для победы над нацистами.
Рорхольт обнаружил, что в Швеции под видом «полицейских» находится около десяти тысяч норвежских военнослужащих и все они рвутся в бой. Моей задачей было отобрать подходящих людей для десантирования в тыл врага и для работы радистами по обе стороны линии фронта. Тем временем Рорхольт найдет необходимое радиооборудование, и мы переправим его нашим оторванным от мира ребятам на севере Финляндии.
В Стокгольме меня встречали с искренним радушием. Едва покинув пределы города, я переоделся в военную форму, чем вызвал полный восторг соотечественников. Вскоре я отобрал шестнадцать лучших «полицейских» — все бывшие студенты, недавно окончившие пятимесячные радиокурсы, а также одиннадцать профессиональных криптографов. Я начал обучать их приему и передаче по норвежским и британским стандартам, а также стал тренировать их выносливость.
Спустя три недели позвонил Рорхольт. Он раздобыл-таки оборудование, а также установил контакты с двумя независимыми офицерами, посвященными в наши секретные планы. Один из них — прапорщик «Петерсен», тот самый, которого я встретил в Финляндии и который помог потопить «Тирпиц». Он стал нашим агентом на норвежской стороне шведской границы. Другой, знаменитый норвежский пилот Бернт Бальхен, сейчас имел чин полковника американской армии. Его самолеты базировались на секретном аэродроме на территории Швеции. Я должен был привести туда своих солдат. Вылет был назначен на следующий день в шесть утра ровно.
К тому времени группа разрослась, и я уже командовал и обучал тридцать пять человек. Провезти через пол-Швеции тридцать пять переодетых в гражданское полицейских не представлялось возможным. Я решил рискнуть в расчете на то, что мало кто в нейтральной стране увидит различие между голубоватой формой норвежских полицейских и мундирами союзных войск цвета хаки с норвежским флагом на рукаве. И я оказался совершенно прав. Никто даже головы не повернул, когда наша группа промаршировала по улицам Стокгольма по направлению к Центральному вокзалу и погрузилась в специально забронированный вагон.
На севере Швеции нас, соблюдая строжайшую секретность, расквартировали в летном тренировочном лагере Каллакс, неподалеку от границы с Финляндией. Шведские летчики, наверное, были немало удивлены, когда поутру обнаружили вдоль взлетной полосы длинный ряд эскимосских иглу. К тому времени я уже начал обучать своих солдат технике выживания в условиях дикой природы, и у меня имелись все основания не очень-то доверять нашему снаряжению.
Рорхольт несколько задерживался, и мы посвятили образовавшееся свободное время тренировкам, отработке прыжков с парашютом и физической подготовке. Чтобы поддерживать дисциплину в группе, я своей волей произвел самых толковых ребят в сержанты, а некоторых — в капралы.
Наконец прибыл Рорхольт и привез оборудование. Бальхен разрешил нам, прежде чем посылать людей на настоящее задание, совершить несколько тренировочных прыжков с его «Дакот». Потом Бальхен лично доставил меня в Киркенес, где я тут же попал в объятия того самого русского офицера, который четыре месяца назад отправил меня в Лондон.
— Добро пожаловать, лейтенант Хейердал, — с широкой улыбкой сказал он. — Теперь ваши бумаги в полном порядке.
Он только что получил подтверждение из Москвы.
У развалин Киркенеса расположилось небольшое, но отлично подготовленное подразделение связистов. Мы наладили прекрасное снабжение: американское полярное обмундирование, английское и советское оружие и отличные шведские продукты. Надо мной не было ни одного прямого начальника. Полковник Даль и командование норвежскими войсками в Финляндии по-прежнему располагались в районе Киркенеса по соседству с советским штабом, но норвежские горные стрелки зашли глубоко в нейтральную зону после того, как Красная Армия приостановила свое наступление, выйдя на берег широкого фьорда Варангер, естественной границы между Норвегией и СССР. Мы с Рорхольтом договорились, что я буду продолжать командовать людьми, а он займется материальной частью и вопросами координации. В итоге, получив разрешение от шведского командования, он остался в тренировочном лагере в Швеции, где нам отвели одну из казарм. Этой казарме предстояло стать головной базой всех наших дальнейших операций.

Высадившись на норвежской территории, я организовал лагерь ускоренной подготовки для финских добровольцев и одновременно, по заданию Рорхольта, создал цепочку маленьких радиостанций слежения. Однажды Рорхольт получил сообщение от одной из этих станций, что со стороны Нарвика навстречу наступающим норвежским войскам выдвинулась группа норвежских нацистов. Если они обнаружат, сколь малочисленны на самом деле наши силы на этом участке, немцы могут предпринять еще одну атаку в северном направлении, и тогда они сотрут наших с лица земли прежде, чем русские успеют прийти к нам на помощь через заминированную нейтральную полосу.
С благословения русского командования и полковника Даля, я снова отправился за линию фронта. Как раз вовремя под рукой оказался одинокий волк, прапорщик «Петерсен», и вместе с лейтенантом Стабелем, успевшим к тому времени переодеться в норвежскую форму, он присоединился к моей маленькой группе. Снег еще сковывал горные перевалы, и чтобы в третий раз не пробираться через минные поля нейтральной полосы, мы взяли две рыбацкие лодки и отправились морем.
В Батсфьорде мы высадили патруль, который должен был предупредить нас в случае возможного появления вражеских разведчиков. Ни одно судно антигитлеровской коалиции не заходило в эти кишащие минами воды. Здесь по-прежнему курсировали немецкие субмарины. Каждый час я выходил на связь со второй нашей лодкой — она кралась за нами следом вне пределов прямой видимости. Перед отплытием мы договорились встретиться в Хопсейдете, но на подходе к нему у меня появилось дурное предчувствие, будто мы сами идем врагу прямо в руки, и я послал Стабелю, старшему на второй лодке, зашифрованное указание продолжать движение мимо Нордкина и далее в устье длинного фьорда Порсангер. Со стороны этот шаг казался чистым безумием — на западном берегу фьорда располагались немецкие позиции. В том-то и заключался мой расчет — им и в голову не могло прийти, что мы войдем во фьорд прямо у них под носом.
Перед тем, как мы сменили курс, немецкие наблюдатели нас засекли. Ночью три вражеские подлодки высадили в Хопсейдете десант. Пьяные десантники разоружили немногочисленную норвежскую охрану и, как рассказывали позднее очевидцы, арестовали шестерых гражданских, долго допрашивали их и, ничего не добившись, расстреляли. К тому времени мы уже давно шли вдоль восточного берега фьорда Порсангер.
Если в январе, когда я впервые попал на фронт, круглые сутки царила непроглядная полярная ночь, то теперь и ночью было светло как днем. Перед тем, как войти в бесконечно длинный фьорд прямо на виду у немецких позиций, мы, разумеется, погасили бортовые огни, но это был скорее символический жест. В мае ночью на суше и на море отлично видно на многие километры вокруг.
В девять утра мы высадились на берег и обнаружили там невероятные нагромождения колючей проволоки. Кроме того, земля была буквально нашпигована противопехотными минами. Двое несчастных подорвались на мине всего лишь за день до нашего появления. Еще мы нашли два нераскрытых парашюта и разбившийся при падении генератор — их сбросил для нас Рорхольт с одного из самолетов Бальхена. Мы вернулись на лодки и поплыли дальше до Хамнбукта, располагавшегося в самой дальней точке фьорда. Там мы со всеми мерами предосторожности разбили лагерь неподалеку от поселения лапландцев. Когда вечером мы вышли на связь с Рорхольтом, нам сообщили, что немецкие войска в Дании капитулировали.
Мы отметили радостную новость вместе с лапландцами, которые угостили нас своим национальным напитком «клонк». Правда, мы все равно старались не шуметь, поскольку орудия на противоположном берегу фьорда оставались заряженными и никто не мог поручиться, что соседи разделяют наше веселье.
В последующие дни и ночи я хорошо узнал, что такое современная война. Мы с осуждением говорим о тех варварских временах, когда наши предки мечами рубили друг другу головы, и тешим себя иллюзией, что в наши дни война стала значительно гуманнее. Конечно, запускать ракеты и устанавливать мины можно, даже не снимая белых перчаток.
Когда я впервые оказался посреди минных полей Финляндии, фашистские бомбежки Лондона были еще свежи в моей памяти. Я видел своими глазами, как на город дождем сыпались бомбы, и беззащитные, ни в чем не повинные женщины, дети и старики в отчаянии искали спасения в подвалах и в метро, словно первые христиане в катакомбах Римской империи. Я также видел, как эскадрильи союзников, словно сказочные драконы, заполоняли все небо от края до края, отправляясь на миссию отмщения, чтобы сделать с немецкими стариками и женщинами то же самое. И вослед им неслись благословения священнослужителей! Однажды мне довелось увидеть незабываемую символическую картину: воплощение пяти тысяч лет технического прогресса. Дело было так. Я всегда мечтал посмотреть на знаменитые руины в Стоунхендже, и как-то раз, в свободное от мытья лестниц время, я сел на поезд до Солсбери, а дальше на попутных машинах добрался до забора из колючей проволоки. Как выяснилось, неподалеку разместилась военная база, и забором обнесли всю округу.
Однако я твердо решил не отступать, покуда не увижу своими глазами знаменитый храм древних друидов. В конце концов, не зря же меня учили военному ремеслу. Конечно, я не собирался наносить материальный ущерб союзникам. Я нашел пустой картонный ящик и, когда стемнело, проложил между соседними витками проволоки два слоя картона и пролез между ними. Сперва я сполна насладился видом величественных каменных глыб, а затем забрался на алтарь. Там я съел свой ужин, развернул спальный мешок и улегся, размышляя о том, какая чудная штука — время. Надо мной сияли созвездия, которые точно так же светили, когда на Земле еще не было ни единого живого существа. Эти созвездия, вместе с луной и солнцем, вдохновляли древних строителей Стоунхенджа так же, как и нас, а может даже больше. Тут одна из звезд медленно пересекла ночной небосвод от края до края. Эту звезду создало мое поколение — бомбардировщик летел на задание.
Там, на алтарном камне в Стоунхендже, я по-новому увидел современную войну. Прошли месяцы, и на берегу фьорда Порсангер мы с лейтенантом Стабелем, прапорщиком «Петерсенем» и нашими солдатами готовились к старому как мир единоборству с противником. Правда, мы рассчитывали и на помощь со стороны современных технологий.
Мы сошли на берег в полузанесенной снегом долине, чем-то напоминавшей долину Белла Кула в Британской Колумбии. Но на сей раз мы охотились не на медведей. Великолепный березняк, когда-то покрывавший всю долину, был варварски вырублен. Только несколько уцелевших гигантов горестным укором торчали тут и там. Немцы усеяли землю невероятным количеством противопехотных мин и мин-ловушек. В свое время здесь, очевидно, скапливались большие силы. По пути мы встретили множество заброшенных лагерей, окруженных минными полями. На территории лагерей лежали груды пустых консервных банок и бутылок, а также обрывки бумаги, осколки стекла и даже сломанные машины и танки.
Новые конвои доставили в Мурманск свежее пополнение для норвежской армии, и она продвинулась далеко на юг, до лапландского города Карасйок, который находился гораздо ближе к Швеции, чем мы сейчас. Рорхольт десантировал им на помощь группу радистов, и сейчас его люди очищали от мин взлетную полосу аэропорта. Каждый день приходили сообщения о потерях среди солдат и среди мирного населения. Что касается нас, то мы воевали не столько против живого врага, сколько против различных механических приспособлений, которые он оставил после себя. Соблазнительного вида бутылка, полезное приспособление, да вообще все, что угодно, могло оказаться соединенным тоненькой проволочкой с адской машиной, специально оставленной для того, чтобы оторвать человеку руку, изуродовать ему лицо, просто убить.
Я думаю, что истинными героями современной войны следует считать тех, кто обезвреживает эти дьявольские ловушки, а также врачей, ведущих сложную, отчаянную игру со смертью. Враг может превратиться в друга на следующий миг после приказа о прекращении огня, но для смертоносного прибора, предназначенного нести смерть, не существует слова «мир». После того, как солдаты из плоти и крови разошлись по домам, я сделал отметку в своем дневнике: всю оставшуюся жизнь я буду помогать тем, кто трудится ради мира на земле. Тогда и только тогда я смогу жить в спокойствии и согласии со всеми населяющими нашу планету людьми, из какой бы страны и из какого социального слоя они бы не происходили. Никогда больше я не буду участвовать в танцах с Дьяволом.
У нас на северном фронте переход от войны к миру произошел буднично и незаметно. Вот что записано в моем дневнике шестого мая:
«Стабел брился… когда мы услышали взрыв. Все замерли. После того, как эхо вернуло отраженный звук, я вышел из палатки. Лейтенант Андерсен и два санитара уже направлялись в сторону минного поля. В любую минуту под их ногами могла взорваться еще одна мина. Когда мы подошли поближе к эпицентру взрыва, из-под бесформенной груды железа, когда-то бывшей ангаром, раздайся стон. „Помогите Рольфу“, — попросил раненый солдат с изрезанным осколками лицом. С противоположной стороны песчаного холма мы нашли Рольфа. Он лежал на спине метрах в восьми от воронки. Белые стволы стоявших неподалеку берез были щедро забрызганы грязью и кровью. Вместо лица у бедняги была маска из сажи, грязи и крови, вместо волос — какая-то влажная масса. Он был в сознании и громко жаловался на боль в ногах. Мы обрезали ножом его окровавленные брюки, носки и белье. Огромные открытые раны тоже покрывай слой грязи. Здесь очищать их не имело смысла. Мы наложили повязку, чтобы приостановить кровотечение, и затем санитары унесли его в лагерь, старательно наступая в собственные следы».
Седьмого мая по радио передали неподтвержденные слухи, будто немцы в Норвегии сложили оружие. Наш горнист все порывался протрубить сигнал к окончанию боя, но мы успокоили его, поскольку вражеский авангард находился совсем недалеко — на другой стороне близлежащих холмов.
Девятого мая и мы, и немцы по-прежнему пребывали в состоянии боевой готовности, у нас по-прежнему хватало работы врачам, и постоянно прибывали новые раненые. Затем по радио началась трансляция из Осло. До нас доносился гул тысяч торжествующих голосов: норвежский десант из Англии высадился неподалеку от столицы и с минуты на минуту должен был в нее войти. Мы полностью разделяли радость своих соотечественников, хотя не могли удержаться от горькой улыбки, когда комментатор торжественно объявил: «В этот самый момент нога первого норвежского солдата ступает на родную землю».
Однако какое значение имеет приоритет! Мы вылезли из палаток и пустились в пляс от радости. В это время мимо проходил лапландец с частью оленьей туши за спиной.
— Мир! Война кончилась! — крикнул я ему.
Он остановился и вынул трубку изо рта.
— И кто победил?
— Да, действительно, так кто же победил?
— Многие из нас задавались потом этим вопросом. Когда немцы напали на СССР, Красная Армия в мгновение ока превратилась из дьяволов в ангелов, но стоило фашизму пасть, как русские снова стали исчадием ада. Германию приняли в НАТО, чтобы защищать нас от прежних освободителей. Когда через несколько лет я прожил довольно много времени в Италии, среди бывших врагов, это ни у кого не вызвало ни малейших эмоций. Точно также никто не удивился, что вместе со мной в путешествие на тростниковом корабле «Тигрис» отправились немец, русский и американец.
— Так что же случилось с врагом?
— Мы сами носим врага в себе, и время от времени Дьявол своими чарами пробуждает его и выпускает наружу, чтобы он принял участие в его дьявольских плясках. На самом деле неважно, кого мы избираем на роль врага в каждом конкретном случае. Главное — выпустить заряд ненависти, который хранится в каждом из нас со времен Каина. В Библии сказано, что Каин убил Авеля, а поскольку у Адама не было других сыновей, то ясно, от кого мы все происходим.
Некоторое время мы не могли понять, что сейчас — мир или война. Приказ о прекращении огня пришел 13 мая, но за ним следовало странное разъяснение, что он применим только к соединениям в составе дивизии и выше. Поскольку в Финляндии нас было явно меньше, к нам он, получалось, не относился. Помню, что в тот день мы отправились на дорогу обследовать воронку от бомбы, которую надо было засыпать, и обнаружили рядом с ней семьдесят мин.
Стабел едва не утонул в Атлантике, когда мы в первый раз прибыли в Мурманск. Только чудом его не забросило прямо на небеса в один из тех дней, которые он провел в одной палатке со мной и «Петерсеном» — Рааби. 22 мая я записал в дневнике:
«Перебрались в новый лагерь. В нашем старом лагере разместились инженерные войска. Сегодня они проводили занятия с использованием миноискателя и представьте себе — нашли противотанковую мину на том самом месте, где стояла наша палатка!»
Теоретически, противотанковая мина не взрывается, когда на нее наступает такой легкий и «незначительный» объект, как человек, но теория это одно, а практика подчас — совсем другое. Что и доказал один прибывший в Карасйок офицер. Он положил на землю немецкую противотанковую мину и объяснил своим солдатам, что она рассчитана на вес танка или тяжелой машины. В доказательство своих слов он встал на мину обеими ногами, и она взорвалась! Результат лекции — двадцать два убитых и девять раненых. Один из наших радистов оказался на месте трагедии, он срочно связался с головной базой в Швеции. Рорхольт и Бальхен немедленно доставили к нам двух докторов и медсестру. Им пришлось прыгать с парашютом. К счастью, они приземлились в глубокий сугроб и не пострадали. Когда пришла пора хоронить погибших, церковное кладбище первым делом очистили от мин.
13 июля, почти через два месяца после освобождения, я отправил рапорт на имя главнокомандующего с просьбой об отставке. В просьбе мне отказали. Оказывается, я был нужен в Финляндии. Когда я попросил двухнедельный отпуск, чтобы увидеться с женой и детьми, которые недавно приехали из Америки, и со стариками-родителями, которых не видел шесть лет. На сей раз мне пошли навстречу.
Я поехал в Осло через Швецию. В лейтенантской форме я заявился прямиком в штаб главнокомандующего. Там я поймал двух прапорщиков, приказал им принести бланки приказа об увольнении, заставил эти бланки заполнить, отнести на подпись и доставить в соседний кабинет.
Через несколько дней, когда я наслаждался покоем в лоне моей семьи, мне по почте пришел приказ об увольнении из армии, подписанный двумя высокопоставленными офицерами.
Я снова стал гражданским лицом, свободным человеком, принадлежащим только самому себе, без всяких чинов, погон и личного номера.
Без времени на раздумья
Итак, я лежал в гамаке в саду своего дома на Канарах. Мой взор был устремлен вдаль, а воспоминания о бесцельно потраченном за годы войны времени отступили на задворки памяти, где им суждено лежать, подобно рулонам давно отснятой кинопленки.
Пока я мысленно перебирал страницы дневника, заполненные в дни безжалостной бойни на берегу холодного океана, мой аку-аку куда-то исчез. Сперва я решил, что его напугали рассказы о моих друзьях и врагах, живших по бесчеловечным правилам войны, но потом взглянул на часы и понял, что на самом деле моего невидимого спутника отогнали охватившие меня волнение и нетерпение. Для аку-аку нет ничего страшнее часов — ведь он живет вне времени, в его мире нет различия между одним днем и тысячелетием.
Никогда моя жизнь не была столь наполнена событиями и никогда время не бежало так быстро, как сейчас, через пятьдесят лет после нашего путешествия на плоту «Кон-Тики» от берегов Перу до Полинезии. Повинуясь безмолвному приказу часовых и минутных стрелок, я вскочил на ноги, напугав своих верных четвероногих приятелей Кана и Оро, мирно спавших у меня в ногах. Втроем мы быстро побежали по направлению к дому. Солнце стояло еще высоко, но меня ждало множество дел. В последнее время я непривычно много перемещался по свету — не успел разобрать чемоданы после поездки в Японию и США, как настала пора собираться в Перу и на остров Пасхи. Какие уж тут неспешные беседы с аку-аку! Время бежало быстрее реактивных самолетов и телексов, и я едва за ним поспевал.
О пятидесятой годовщине путешествия на «Кон-Тики» во всем мире говорилось и писалось гораздо больше, чем в свое время о самом путешествии. Тогда нам было достаточно, что мы вернулись живыми и здоровыми. Пятьдесят прошедших лет придали событию особую значительность и торжественность. Я часто чувствовал себя виноватым, что то и дело бросаю собак и долину пирамид на Тенерифе и тащу Жаклин на все эти торжественные собрания и мероприятия. Мы постоянно летали из конца в конец нашей планеты, оставляя далеко внизу так хорошо и близко знакомые мне океаны. И все это с одной-единственной целью — засвидетельствовать тот факт, что прошло много лет после нашего путешествия в Полинезию.
Всегда приятно расслабиться в уютном самолетном кресле. Никаких встреч, никаких обязательств до того момента, когда шасси снова не коснутся земли. Когда самолет перевалил через Анды и нашим взорам открылся бескрайний Тихий океан, меня охватило такое чувство, словно я возвращаюсь домой. Невозможно сосчитать, сколько раз я бороздил его воды, особенно вдоль южноамериканского побережья, начиная от Чили, Перу и Эквадора, мимо
Центральной и Северной Америки и до канадских островов у берегов Британской Колумбии. Именно там, по моей теории, останавливались древние переселенцы из Азии на пути в Новый Свет, прежде чем ветра и течения увлекли их на острова Полинезии. Я неоднократно повторил их путь — на корабле, на плоту, а в последние годы на самолете. Знаком я и с другими берегами океана. Я изучал следы, оставленные древними мореплавателями на Окинаве, на острове Чеджудо вблизи Южной Кореи, и особенно — в Японии. Всего лишь несколько недель назад я читал лекции в Токийском университете о влиянии океанских течений на древние миграционные пути. После этого, по пути на Канары, я ухитрился прочитать еще три лекции в Национальном географическом обществе в Вашингтоне. Только-только мы перевели дух, как надо было укладывать в чемоданы самое лучшее, что есть в нашем гардеробе — предстоял обед с королевскими особами в музее «Кон-Тики» в Осло, а оттуда путь лежал сюда, в Лиму. Шасси самолета коснулись земли. Мы прибыли в столицу Перу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных тому, что 28 апреля 1948 года от причала здешнего военного порта отплыл плот под названием «Кон-Тики».
Я снова оказался в стране воспоминаний. В те дни я только что скинул лейтенантскую форму как знак перехода к новой жизни. Совсем недавно мне удалось преодолеть детский страх воды. Вместе со мной были мои боевые товарищи Кнут и Торнстейн; Эрик, с которым я в детстве играл в пираты; Герман, с которым я столкнулся в Нью-Йорке в ресторане для норвежских моряков; и наконец, швед Бенгт, с которым мы познакомились, когда он плыл на байдарке по Амазонке. Никого из них больше нет рядом со мной. Торнстейн завершил свой жизненный путь среди льдов Гренландии. Герман — на берегах озера Титикака, в царстве бога солнца Кон-Тики. Эрик похоронен на нашей родине, в Ларвике, где мы вместе мечтали когда-то о дальних путешествиях. В живых остались только Кнут и Бенгт. Первый из них сейчас живет на пенсии в Осло. В свое время он внес большой вклад в организацию музея «Кон-Тики», а также музея норвежского Сопротивления.
Трудно поверить, что позади столько лет и что я ухитрился выжить после стольких опасностей — и неясно, что представляло большую угрозу: два перехода через океан или последующие за тем нападки со стороны всех тех, кто предпочел бы, чтобы я утонул. Тихий океан ничуть не изменился и все так же уходил за горизонт, как в те дни, когда я впервые увидел его, перелетев в Перу из Эквадора в поисках наилучшей строительной площадки для плота. Но вот Лима и портовый городок Кальяо превратились в огромный мегаполис с населением вдвое больше, чем во всей Норвегии. Там, где пролегала тропинка от гостиницы до бухты, выросли гигантские небоскребы. Среди них совсем затерялась наша скромная гостиница, отель «Боливар», который я помню гордо возвышающимся над окружавшими его домишками.
Даже импозантный президентский дворец съежился и побледнел на фоне бетонных монстров новейшего времени. Заполненные машинами улицы, окружившие его со всех сторон, напоминали веревки, которыми связали по рукам и ногам потерявшего силы героя. Жилые кварталы, как змеи, расползлись по окрестным холмам и долинам, заражая все вокруг смогом и отбросами. Как во всех развивающихся странах, богатство и бедность здесь шли рука об руку. Напрасно здешние политики и чиновники пытались, опять же, как и везде в мире, решить проблему больших городов, задыхающихся от машин и заводов. Все шло своим чередом — богатые строили новые небоскребы, бедные — новые хижины, и чихать все хотели на расчеты специалистов.
Музей «Кон-Тики» вел археологические раскопки в Тукумане, на северном побережье, поэтому за последние не-сколько лет я часто бывал в Перу. Эта страна стала мне родной, у меня появилось здесь много добрых друзей, как среди богатых и знатных, так среди бедняков. Поэтому, когда я ступил на землю бывшей империи инков, чтобы принять участие в церемонии, посвященной юбилею «Кон-Тики», все эти контрасты и перемены меня вовсе не шокировали. Но по сравнению с той страной, куда мы с Германом приехали, чтобы построить плот из девяти огромных бревен бальсового дерева, тут конечно все стало по-другому. Кстати, министр ВМФ тогда не дал нам своего разрешения. Точно так же, как и специалисты из Национального географического общества и прочие эксперты, он считал, что отправляться в океан на таком судне верный способ покончить с собой. Теперь же, пятьдесят лет спустя, тот же самый флот торжественно отмечал годовщину спуска плота на воду. Национальное географическое общество устроило в Вашингтоне такой же праздник несколькими днями раньше. Нас ждали в президентском дворце — ведь именно правивший тогда президент, Бустаманте-и-Риверо в конце концов приказал министру флота разрешить нам построить плот в доках его ведомства.
Теперь в красивом, старинном дворце был новый хозяин, в чьих жилах текла японская кровь. Еще недавно никто не знал о человеке по имени Фухимори, но, как часто бывает, его избрали потому, что разочаровались во всех более известных политиках. В итоге в перуанской политике появилось новое лицо, в котором невозможно разглядеть черт ни инков, ни испанцев.
Непросто управлять страной с таким пестрым по составу населением и с такой противоречивой историей. До сегодняшнего дня я встречался с пятью президентами, которые брались за эту задачу. Только один из них, тот самый, кто позволил мне строить «Кон-Тики», отработал положенный срок и покинул свой пост с гордо поднятой головой. После знакомства с Бустаманте-и-Риверо следующая моя встреча с перуанским политиком случилась у меня дома, в Осло. Прошло несколько лет после того, как я вернулся живым и здоровым после экспедиции «Кон-Тики». Кто-то позвонил в мою дверь. С огромной радостью я увидел своего веселого друга-художника, рядового Стенерсена (номер 1132) из тренировочного лагеря в Канаде. В свое время его признали негодным к несению военной службы, потому что он отстаивал свое право носить красный шарф вместе с солдатской формой. Я сразу узнал его по широкой улыбке и необычному галстуку, но вот маленького иностранца, стоявшего рядом с ним, я видел впервые.
— Милейший человек, — отрекомендовал Стенерсен своего спутника. Оказалось, они только что познакомились в баре, и незнакомец захотел повидаться со мной, потому что я отправился на «Кон-Тики» от берегов его родины.
За чашкой кофе около камина мой гость поинтересовался, кого я знаю из его соотечественников. Я не хотел хвастаться и признал, что знаком только с министром флота да еще с министром авиации, который и организовал мне аудиенцию в президентском дворце.
— Оба они — мои лучшие друзья, — скромно заметил гость.
Я сделал вид, что поверил. Но после этого я уже не мог удержаться от искушения назвать имя президента.
— Именно я организовал ему победу на выборах, — не меняя спокойного выражения, объявил он.
Я попросил его повторить, как его зовут.
— Виктор Рауль Айя де ла Торре, — прозвучало в ответ.
Это имя было мне знакомо. В тридцатых годах он основал партию АПРА, на протяжении нескольких лет остававшуюся крупнейшей в Перу. Причуды политической жизни сделали его изгнанником, и он уже много лет жил в Норвегии, даже научился говорить на ломаном норвежском.
Когда в конце восьмидесятых я снова приехал в Перу, у власти вновь стояла АПРА, а президентский дворец занимал яркий харизматический лидер Алан Гарсия. Я обратился к нему с просьбой выдать разрешение на раскопки в Тукумане. И президент, и члены его правительства впервые услышали это слово из моих уст, и когда министр культуры развернул свою карту, на ней не оказались отмеченными ни деревня Тукумане, ни близлежащий комплекс пирамид. Однако, когда мы начали раскопки и на вершине самой большой пирамиды обнаружили мумию последнего вице-короля времен империи инков, президент начал проявлять интерес. Покойный правитель сидел высоко над землей в ярком одеянии из перьев и серебряной короне, сжимая в руке скипетр. У его ног лежали кувшины для еды, а в удлиненных мочках ушей красовались массивные серебряные серьги. Первые испанские завоеватели записали легенду, согласно которой эти пирамиды построил правитель Наймлап, приплывший с севера во главе флотилии плотов из бальсового дерева. На стене храма мы обнаружили изображения кораблей из тростника. Ими управляли таинственные люди с птичьими головами — точно такие же, какие нарисованы на египетских храмах и на скалах острова Пасхи.

Все это очень заинтересовало молодого любознательного президента, и вскоре и он, и его свита стали частыми гостями в простом, но просторном доме, который я построил рядом с пирамидами из глиняных кирпичей, обожженных на солнце.
Ни в Тукумане, ни во всей долине Ламбаене никогда до сих пор не видели столько полицейских и военных в пышных разноцветных мундирах. Ночью они спали вповалку вокруг забора, на крыше, под кустами, в стойле и даже в курятнике. Между Тукумане и президентской спальней протянули шесть километров телефонного кабеля. Когда пришла пора обеда, в промежутке между стеной и нашим длинным столом едва хватило места для всех слуг и музыкантов. Наша скромная местная повариха совсем потерялась в окружении мастеров, которые готовили такие блюда, о каких она никогда и не слышала.
На следующий день рано поутру наш местный шофер Писарро отправился в ближайший город, чтобы к завтраку на столе у президента был его любимый сорт хлеба.
Когда все были наконец готовы к утреннему визиту на пирамиды, Писарро сел за руль большого экспедиционного грузовика и приготовился возглавить колонну. Мы вышли из дома, и президент тут же поинтересовался, на какой машине я поеду. Я указал на свой четырехдверный пикап. Не говоря ни слова, президент подошел к машине и выгнал из-за руля насмерть перепуганного Писарро. Президент указал мне место рядом с собой, завел мотор и тронулся с места. Писарро, который знал — что бы ни случилось, отвечать ему, — набрался смелости и вскочил на заднее сиденье, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Высокопоставленный автолюбитель сорвался с места в тучах песка и пыли, и мотоциклисты его эскорта бросились следом в тщетной попытке нагнать своего патрона. Охранник на воротах успел распахнуть их настежь. К тому времени за воротами собралось все население Тукумане в надежде хоть глазком взглянуть на лидера нации. Каково же было их удивление, когда из ворот выскочил автомобиль, за рулем которого сидел сам президент, а на заднем сиденье, скромно помахивая односельчанам рукой, — их сосед Писарро.
Буквально через несколько недель после визита горячо любимого президента в Перу состоялись перевыборы. Партия АПРА потерпела поражение, и Алану Гарсия пришлось бежать из страны, спасаясь от тюрьмы. Победу же одержал никому не известный человек с ярко выраженными японскими чертами лица. Как и везде в мире, перуанцы перестали доверять обещаниям хорошо известных политиков.
Таким образом, спустя пятьдесят лет после начала экспедиции «Кон-Тики» мне предстояло встретиться в президентском дворце с главой государства, Альберто Фухимори. Всего несколько дней назад он взял штурмом японское посольство, захваченное террористами. Дипломатов продержали в заложниках целых сто двадцать шесть дней. За время, прошедшее после окончания операции, он еще ни разу не показывался на публике. Как и следовало ожидать, нас с послом Норвегии принял политик, находящийся отнюдь не в самом лучшем расположении духа. Президент Фухимори, человек с военной выправкой и каменным выражением лица, предложил нам сесть и указал на стойку с напитками. Обычно официальная обстановка таких визитов довольно быстро уступает место дружескому общению, но на сей раз все держались скованно очень долго. Первая улыбка озарила лицо нашего хозяина только тогда, когда я напомнил ему, что мы уже встречались, и при каких забавных обстоятельствах.
Это случилось несколько лет назад. Я еще не был знаком с Жаклин. В Перу свирепствовала эпидемия холеры, и ходили слухи, что всему виной рыба, которую ловили вдоль побережья. В Тукумане тоже царила мрачная атмосфера. Помощник повара свалился с тифом, а Писарро только-только оправился от приступа холеры. Деревенский священник пригласил меня на прощальный обед. Террористы из банды, называющей себя «Сияющий путь», вывесили свой флаг на одной из пирамид. Священник, отец Педро, начал получать письма, что в его доме заложена бомба, и епископ приказал ему уехать на год из деревни.
Я плотно пообедал козленком и пивом у священника и уже собирался распрощаться, когда зазвучала музыка. Оказывается, от меня ждали, чтобы я открыл танцы. Мне удалось отговориться, поскольку из прибрежной деревни Санта-Роса пришло письмо с обещанием какого-то «сюрприза». Письмо подписал некто Николас, «президент профсоюза рыбаков».
Писарро уже ждал меня в машине. Я пригласил поехать со мной соседку по обеденному столу, местного архитектора. Она проводила все время на наших раскопках и тщательно зарисовывала то, что мы находили. Как и я, она думала, что «сюрприз» будет заключаться в гребле наперегонки. У меня установились замечательные отношения с рыбаками, потому что во многом благодаря моему заступничеству государство стало платить им за их усилия сохранить заросли редкого камыша «тотора». Из него они испокон веков сплетали свои рыбацкие лодочки.
Однако дорога на Санта-Роса оказалась перекрытой полицией, и как ни объяснял Писарро, что я — почетный гость сельчан, нас так и не пропустили. Писарро нашел объездную дорогу, и мы оставили полицейский кордон позади. Все население деревни высыпало на улицы. По главной улице маршировал духовой оркестр, но мы опоздали и не могли присоединиться к шествию. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, я проталкивался сквозь толпу, таща за собой даму-архитектора. Наконец нам удалось протиснуться к самому оркестру, и мы влились в строй марширующих. Оркестр шел сразу за нами, а впереди — только небольшая группа людей. И тут я увидел, что один из них — президент Фухимори собственной персоной. Рядом с ним вышагивал мэр деревни.
Выбраться из марширующей колонны мы не смогли, и нам пришлось идти следом за президентом, а оркестр наступал нам на пятки. В городскую ратушу вошли только президент и мэр, а нас прижало толпой к самой стене здания. Я поднял голову и увидел, что обе важные персоны стоят на балкончике прямо над нами. Мы с мэром встретились глазами, и я верноподданно помахал ему. Он исчез с балкона и внезапно оказался рядом со мной. Прошептав, чтобы я ждал в деревенском ресторанчике, он снова вернулся к президенту. С большим трудом мы выбрались из толпы и направились к ресторану, где обнаружили два длинных стола и множество народа. Все сидели за одним из столов, но там не оставалось ни одного свободного места. Поэтому мы уселись за другой стол, где не было никого.
Есть и пить нам не хотелось — мы ведь только недавно обедали у священника. Тут распахнулась дверь, и в сопровождении мэра вошли президент Фухимори и его младший сын. Мэр посадил их за стол прямо напротив нас и почтительно удалился.
«Ничего себе сюрприз», — подумал я и только тут понял, что произошло недоразумение. Фухимори этого не знал и грустно улыбнулся, когда я представился ему. Он явно решил, что мое присутствие за его столом каким-то образом входило в программу его визита, и после короткого разговора с сыном по-японски принялся поглощать свое любимое блюдо «севиче» — маринованную сырую рыбу.
На некоторое время воцарилась неловкая тишина, но потом президент, сориентировался и спросил, не я ли плавал на «Кон-Тики»! Получив положительный ответ, он коротко просветил своего сына по-японски, а затем подвинул поближе ко мне свое блюдо, приглашая присоединиться. Как ни пытался я, по-испански и при помощи жестикуляции, объяснить, что я не голоден, ничего не помогало. Итак, мы с ним ели из одного блюда сырую рыбу в районе, где свирепствовала эпидемия холеры, и я все больше и больше убеждался, что произошло серьезное недоразумение. Тем не менее мы мило беседовали о морепродуктах и об использовании океанских ресурсов, и я высоко вырос в его глазах, когда горячо согласился с его теорией, что причина холеры не в рыбе, а в том, что ее перевозчики на земле не соблюдают мер санитарной предосторожности. Действительно, люди заболевали и в Тукумане, и в других деревнях в глубине материка, а прибрежных рыбаков словно заговорили.
Случайно бросив взгляд в окно, я увидел вязаные шапочки Николаса и других рыбаков. Они стояли на улице и заглядывали в окно. Совершенно очевидно, в ресторан допустили только местную элиту. Наконец до меня дошло, что обещанным мне «сюрпризом» был вовсе не обед с президентом. Он прилетел на вертолете, чтобы поесть рыбы наедине со своим сыном, и они хотели только одного — остаться вдвоем. А потом мэр увидел, что я марширую в окружении президентской свиты, и по ошибке пригласил меня в ресторан. Еще одна ошибка привела меня за стол, предназначенный исключительно для высоких гостей.
Ситуация начала совершенно выходить из-под контроля, когда дверь тихонько приоткрылась, и пожилая женщина, стараясь казаться незаметной, на цыпочках подошла ко мне. Это была донна Перла, знатная дама, посвятившая всю свою жизнь борьбе за улучшение условий жизни рыбаков. Она сунула записку мне в руку и тут же удалилась.
«Не могли бы Вы представить президенту Николаса?» — гласила записка. Даже под угрозой смерти я не мог бы отказать этой замечательной женщине.
Тут в дверном проеме появился сам Николас. Скромно сжимая шапку в руках, он направился к президенту. Тот, увидев, что я встал, тоже поднялся на ноги. Что мне оставалось делать?
— Разрешите представить. Президент союза местных рыбаков, — сказал я. — Президент республики Перу.
На этом процесс знакомства завершился, но Николас вернулся к своим товарищам вне себя от гордости. Поскольку президент уже наелся не меньше моего, он встал из-за стола и направился к вертолету. Меня же рыбаки подхватили на руки и понесли к пристани. Там мне показали тот самый сюрприз, ради которого меня на самом деле приглашали — полностью готовые к регате камышовые лодки. Но сперва мы направились в бар. Николас теперь был на короткой ноге с самим президентом, и это следовало должным образом отметить.
Фухимори не забыл своего нового знакомого. Он подарил ему совершенно новый грузовик для перевозки чистой рыбы. А донна Перла получила правительственную поддержку для программы восстановления посадок камыша тотора, а также обещание больше не выдавать разрешения на строительство в местах произрастания камыша.

К концу беседы Фухимори несколько расслабился и позволил себе кое-какие человеческие реакции. Мы с послом горячо поблагодарили его за аудиенцию и откланялись. Теперь нам надо было спешить в Национальный музей на открытие выставки фотографий, сделанных во время экспедиции «Кон-Тики» и «Ра». На прощание я из чистого озорства поинтересовался, не почтит ли господин президент мероприятие своим присутствием, и, как и ожидал, получил в ответ кривую ухмылку.
Выставка развернулась в просторном холле музея. Народу собралось очень много, и людям пришлось потесниться, чтобы дать нам пройти. Жаклин ждала нас на подиуме вместе с директором музея и нашим добрым другом генеральным консулом Стимманом. Они уже начали волноваться, что мы опоздаем. Едва толпа успела сомкнуться за нашими спинами, как раздались крики полицейских и рев мотоциклов. Собравшимся опять пришлось расступиться перед прибывшим гостем. Им оказался сам президент Фухимори. Он прямиком направился навстречу директору музея, а тот почтительно проводил его на подиум. Директор был поражен и растерян не меньше остальных.
Таким вот образом президент Фухимори, долгое время державшийся затворником, появился на публике на открытии выставки. Сперва он произнес короткую речь о целях и достижениях нашей экспедиции, а затем торжественно разрезал шелковую ленточку.
Не дожидаясь окончания мероприятия, президент вернулся в свою резиденцию. На самом деле «Кон-Тики» отправился в путешествие от причала военного порта в городке Кальяо. Туда мы все и поехали. В честь годовщины военный исторический институт издал мою небольшую книжку о мореплавании в Перу в доколумбову эпоху. Адмиралтейство организовало торжественную церемонию как раз на том самом месте, где плот был спущен на воду.
Машина генерального консула неслась так быстро, что мы начали опасаться за свою жизнь. Наконец мы миновали ворота порта. Рядом с теми самыми стапелями, по которым спускали на воду «Кон-Тики», выстроился военно-морской оркестр.
Ради такого случая организаторы водрузили небольшую трибуну около стапелей. Ее заполнили офицеры в ослепительно белых мундирах с золотыми погонами и блестящими медалями. Нам с Жаклин отвели места в первом ряду, рядом с адмиралами.
Открывая церемонию, президент Института военной истории адмирал Арроспайд отметил, что именно из этой бухты отправились европейские мореплаватели, которым было суждено открыть острова Тихого океана. После покорения империи инков испанцы узнали от местных ученых, что в океане, в нескольких месяцах пути, лежат острова, о которых европейцам ничего не известно. Историк Сармьенто де Гамбоа собрал настолько полную информацию о местоположении островов, что убедил вице-короля снарядить две экспедиции под командой Альваро де Менданьи и сам принял в них участие. Первая экспедиция добралась до Меланезии в 1567 году. Вторая открыла Полинезию в 1595 году.
Адмирал эффектным жестом указал на памятную табличку, посвященную путешествию Менданьи. Затем он попросил меня сдернуть занавеску с соседней таблички. Она оказалась посвящена экспедиции «Кон-Тики», покинувшего порт Кальяо в 1947 году и достигшим острова ароиа в Полинезии. Оркестр сыграл норвежский и перуанский гимны.
Мой аку-аку, ничем не дававший о себе знать ни во дворце, ни в музее, этого уже вынести не мог.
— Что тебе еще остается желать?
— У меня тоже комок подступил к горлу.
Впрочем, абсолютного счастья не бывает. На церемонию приехала съемочная группа из Москвы. В составе ее был и Юрий, мой приятель и спутник по плаванию на тростниковом корабле. Я обещал им показать пирамиды в Тукумане и статуи на острове Пасхи. Для поездки к пирамидам русские наняли небольшой самолет. Единственное оставшееся свободным место за безумные деньги выкупил какой-то норвежский журналист. Итак, мы полетели.
Стемнело, и я устало смотрел в иллюминатор на черные воды ночного океана. Мы летели на север, материковые огни горели по правому борту. Через некоторое время я обнаружил, что справа огни исчезли, а слева появились. Иными словами, мы на полной скорости летели в обратном направлении. Оставалось только надеяться, что мы дотянем до аэропорта, а не рухнем в океан, где сейчас наверняка не плавает ни одного бревна из бальсового дерева.
После приземления нам сообщили, что скоро подадут другой самолет, вот только найдут пилота. Мы с Жаклин и русскими телевизионщиками терпеливо ждали, а норвежский журналист отправился выяснить, что же все-таки произошло. Несколько дней спустя мы прочитали в его газете, что, оказывается, образовалась утечка топлива. Мы и не подозревали, что были гораздо ближе к смерти, чем пятьдесят лет назад на деревянном плоту.





Давид и Голиаф
Когда мы совершили аварийную, по садку в аэропорту Кальяо, празднование еще не закончилось. Наша интернациональная команда пересела на другой самолет, и за два дня мы вместе с любознательными русскими побывали у пирамид Тукумане, в Сантьяго де Чили и, наконец, на острове Пасхи.
Согласно местным легендам, предки островитян целых два месяца плыли на запад, прежде чем добрались до этого кусочка суши, самого уединенного места в мире. Под предводительством Хоту Матуа и его супруги Ава-реипуа, им пришлось искать спасения в открытом океане после поражения в кровопролитной войне. Нам, сегодняшним, так же трудно представить себе, что можно целых два месяца плыть по бескрайнему океану, как древним первооткрывателям — вообразить, что возможно облететь все побережье империи инков и добраться до острова Пасхи за каких-нибудь два дня.
Гигантские статуи терпеливо дожидались нас на своих вековечных постаментах. Русские расчехлили кинокамеры и разбежались по всему острову. Я же воспользовался редкими моментами одиночества, чтобы предаться неторопливым размышлениям посреди знакомого пейзажа и еще раз подняться к старым заброшенным каменоломням около вулкана Рано-Рараку.
Давным-давно, когда я вместе с четырьмя профессиональными археологами приехал сюда в мою первую экспедицию, много месяцев подряд мы изучали этих каменных гигантов. В кратере погасшего вулкана и рядом с горой они лежали в хаотичном беспорядке, сложив руки на груди и уставившись незрячими глазами в небо, похожие на нерожденных детей. Но у подножья горы они уже стояли на ногах, решительно сжав губы, и ждали последних, завершающих прикосновений резца, чтобы отправиться в путь к месту своего назначения.
Я отыскал каменную приступку рядом с лежащим исполином, на которой я ночевал когда-то много лет назад. Отсюда открывался замечательный вид на долину. Яне переставал поражаться, до каких вершин мастерства и искусства поднялись древние скульпторы. Почти сразу после того, как Хоту Матуа и его подданные высадились на острове, они в совершенстве освоили технику изготовления и транспортировки массивных каменных изваяний. Благодаря раскопкам, нам удалось восстановить эту картину. Потомки «длинноухих» продемонстрировали нам, как их предки топорами из крепчайшего базальта высекали каменных истуканов, как они ставили их в вертикальное положение с помощью жердей и булыжников. Легенды утверждали, что статуи сами «шли» туда, куда их направляли скульпторы. Что ж, спустя столетия мы доказали, что так оно и было. После того, как изваяния оказывались в вертикальном положении, их обвязывали веревка-ми и медленно, враскачку, доставляли на предназначенное им место.
Жаклин отыскала меня в моем убежище. Ей хотелось узнать, где находится статуя, на груди у которой изображена камышовая лодка с тремя мачтами. Она знала, что именно этот моряк с вытатуированным на груди кораблем зародил во мне идею пересечь Атлантический и Индийский океаны на таком же судне. Это случилось после моей первой экспедиции на остров Пасхи. К тому же, именно при ней была поставлена точка в эпопее с камышовыми лодками. Альфредо занимался раскопками храма в Тукумане, и он сообщил нам, что нашел интересный рисунок. Сперва он обнаружил изображения птичьих голов, а затем его взору открылись и человеческие тела. Когда же он тщательно удалил остатки песка, мы увидели, что фантастические существа стоят на палубе плывущей на веслах камышовой лодки.
Я понимал, как важно для Жаклин оказаться здесь, на острове Пасхи. Здесь произошли решающие события моей жизни. Я видел, как жадно впитывает она в себя те картины, о которых я ей столько рассказывал и о которых она читала в моих книгах. Но больше всего она обрадовалась знакомству с моими прежними друзьями-островитянами. Не все из них дожили до нашей встречи. Но Жаклин подружилась со старым Лазарусом — в молодые годы он руководил бригадой «длинноухих», когда они подняли огромную статую, долгие годы лежавшую лицом вниз у подножья собственного постамента в заливе Анакена. С тех пор почти шестьсот «аху», каменных статуй, вновь поднялись над землей, куда их сбросили «короткоухие» во время восстания, случившегося за несколько поколений до прихода первых европейцев.
Радостный крик известил меня, что Жаклин нашла статую с кораблем. Ей повезло, впрочем, так же, как и мне. По чистой случайности, на следующий день после того, как мы вместе с русскими телевизионщиками прилетели на остров Пасхи, был запланирован спуск на воду большого трехмачтового корабля из камыша. Местом спуска была избрана бухта Анакена, то самое место, где в свое время высадился Хоту Матуа. Судно построил мой испанский друг Китин Муньос, взяв за образец изображение лодки на статуе. Величиной камышовый корабль был точно таким же, как «Санта-Мария», знаменитая каравелла Колумба. И вот теперь «Мата-Ранги» — так окрестили судно из золотистого камыша — мягко покачивалась на воде, словно реинкарнация трехмачтового корабля, высеченного на груди у каменного гиганта.
Через несколько недель выяснилось, что я не даром волновался, не увидев на корабле Муньоса толстого каната вдоль бортов. Этот канат предназначался для того, чтобы во время шторма волны не вырывали из корпуса судна наиболее короткие куски камыша. В свое время я внимательно изучал картинки лодок, нарисованные в древнем Египте и на острове Пасхи, и в точности скопировал их, включая канаты, когда строил три свои папирусные лодки. Через три дня после того, как Муньос и его команда, состоящая из полинезийцев и индейцев с берегов озера Титикака, вышли в море, разразилась сильная буря. Под ударами волн корпус лодки переломился пополам. На любом другом корабле экипаж погиб бы вместе с судном. Но капитан «Мата-Ранги» собрал всю команду на носу, предоставив корме плыть по воле стихий. Три недели их носило по океану на половинке лодки, а затем их обнаружили и доставили на остров Пасхи, где они немедленно принялись готовиться к новому путешествию.
На заре мореплавания, когда у древних вождей хватало рабочих рук и времени, чтобы строить пирамиды размером с горы, постройка больших кораблей не представляла проблем. И папируса, и времени имелось в избытке. Так почему бы, в самом деле, не построить лодку размером с каравеллу? Сегодня все не так. Время — деньги, что на земле, что на море, и спешка сказывается на безопасности. В средние века в кораблекрушениях погибло гораздо больше моряков, чем в древности, когда связки тростника успешно заменяли спасательные круги.
Постоянный цейтнот — один из самых больших недостатков цивилизации, нечто совершенно непонятное для людей, живущих посреди дикой природы. Мы, дети прогресса, смирились с такими его негативными сторонами, как шум, загрязнение воздуха, консервированная пища и болезни сердца — лишь бы скорость не снижалась, лишь бы мы успели переделать как можно больше дел. Скорость вырвалась из-под контроля. В недалеком будущем развлечений и удовольствий будет больше, чем в состоянии одолеть человек. Наши потомки, как и мы сами, будут стремиться к нормальной, простой жизни, но в этом стремлении надорвут свой разум. Наша нервная система не в состоянии вместить в себя столько шума, жестокости и секса, столь быструю смену самых разнообразных впечатлений и постоянное возбуждение.
Можно обожраться до смерти. Но точно так же можно убить себя развлечениями.
В заброшенной каменоломне царила тишина. До моих ушей едва-едва доносились шепот ветра среди камней и безжизненных статуй да отдаленный гул прибоя. Время, казалось, тоже остановилось. Я лежал на спине и неотрывно смотрел в голубое, бесконечное как вечность небо.
Вот мы уже и празднуем пятидесятую годовщину экспедиции «Кон-Тики». Сколько всего произошло с тех пор! И нельзя сказать, что прошлое усеяно исключительно розами. Ученые со всего мира ополчились против меня. К тому же, наш брак с Лив начал давать трещину. Когда мы, наконец, встретились после многих лет разлуки, что-то изменилось между нами. Несколько последних лет мы провели совершенно по-разному. Она беззаботно жила вместе с детьми в уютном доме Томаса Ольсена под Нью-Йорком, а я познал всю грязь и жестокость войны. Теперь мы воспринимали жизнь с противоположных точек зрения. Там, где она видела героизм и патриотизм, я не замечал ничего, кроме смерти и людских страданий. Лив потеряла веру — она не могла представить, как Всевышний мог допустить такую ужасную войну. Я же, наоборот, укрепился в вере в Бога, который запрещал людям убивать себе подобных, будь то добровольно или волею обстоятельств. В конце концов, мы с Лив решили, что нам лучше расстаться друзьями. А если один из нас захочет связать свою судьбу с другим человеком, то никто не даст ему лучшего совета, чем бывший супруг.
Вскоре после путешествия на «Кон-Тики», на вечеринке у друзей я познакомился с Ивонной. Когда я представил ее Лив, реакция была однозначной:
— Она — просто ангел!
Я не мог не согласиться. Ивонна удивительным образом сочетала в себе красоту, дружелюбие и неизменно ровное расположение духа. После изучения пенициллина в лабораториях в Глазго она перебралась ко мне в штат Нью-Мексико, и в офисе шерифа из Санта-Фе мы заключили наш брак. Высоко в горах мы купили каменный домик, и там я принялся за книгу под названием «Обзор доисторических связей между Полинезией и Америкой». Из окон моего скромного кабинета открывался вид на долину Лос-Аламос, где Оппенгеймер и его коллеги создали первую атомную бомбу. Когда Нобель изобрел динамит, он думал, что отныне на земле установится вечный мир. К сожалению, история пошла по другому сценарию, и его последователи рассчитывали добиться того же результата с помощью еще белее мощного оружия.
Именно тогда началось мое длительное сотрудничество с археологами из Музея штата Нью-Мексико, расположенного в Санта-Фе. Ивонна сразу поверила в мою теорию миграции народов Полинезии, и в дальнейшем она неизменно поддерживала меня в самые тяжелые моменты моих бесконечных сражений с научными оппонентами.
По возвращении в Норвегию я купил несколько старинных домов в той части Осло, которая носит имя Майорстун. Красные деревянные дома под огромными каштанами полукольцом охватывали просторный внутренний дворик. Здесь мы с Ивонной жили, когда я планировал экспедицию на остров Пасхи, сюда мы вернулись, чтобы обработать ее результаты.
А тем временем Лив познакомилась с Джеймсом Стилменом Рокфеллером, более известным под прозвищем «Пеббл» — «Камушек». Он только что закончил кругосветное путешествие на маленьком парусном судне. Заходил и на Маркизские острова. То, что Лив прожила там целый год, произвело на него такое сильное впечатление, что он тут же сделал ей предложение. Я благословил их союз, и Лив уехала в Штаты.
Мои противники, во множестве появившиеся после плавания на «Кон-Тики», испытали новый прилив энергии в связи с экспедицией на остров Пасхи. Дошло до того, что два норвежских археолога публично утверждали, будто я нарочно, ради сенсации, выбросил плот на скалы. И столичные газеты охотно отводили под подобные статьи целые полосы! В сложившейся обстановке я решил, что мне будет спокойнее работаться где-нибудь за границей.
В 1958 году мы с Ивонной открыли для себя крохотную деревушку Колла Микери на Лигурийском побережье Северной Италии. Из окон полуразвалившихся средневековых домов были видны покрытые лесом холмы, тянувшиеся до суровых пиков прибрежных Альп, а стоило повернуть голову, и взгляду открывалось бирюзовое Средиземное море с дикими горами Корсики на горизонте. Мимо одного из домов проходила старинная, построенная еще римлянами, дорога, некогда соединявшая две католические столицы, Рим и Авиньон. Мемориальная доска на крохотной церквушке гласила, что в 1814 году, по дороге из Авиньона, Папа Пий VII остановился здесь передохнуть и благословил жителей деревни. В одном из домов, среди сваленных в кучу фигур святых, лежало кресло, в котором он отдыхал.
Два события практически опустошили деревню — сильное землетрясение и строительство Наполеоном новой дороги вдоль побережья. Мы купили и восстановили почти все дома. С одной стороны наше поместье охраняла высокая римская сторожевая башня, с другой — средневековая башня для охоты на птиц. В ней-то я и устроил свой кабинет на долгие годы. Однако потом мне пришлось перебраться еще дальше на юг.
Когда мы с Ивонной впервые ступили на остров Пасхи, с нами была наша двухлетняя дочурка Анетт. Она уморительно карабкалась по валунам и называла статуи, разбросанные вокруг каменоломни, «своими большими куклами». Ее смерть в юном возрасте стала величайшей потерей моей жизни. Я лежал, смотрел на бесчисленные звезды, и старая боль вновь сжимала мое сердце.


Моя последняя ночь на острове Пасхи была такая же звездная. Все звезды южного полушария смотрели на меня. Странная все-таки штука — время. Можно одним взглядом охватить все звезды, а ведь между ними тысячи световых лет. Когда мы глядим на самые удаленные звезды, мы погружаемся в самые глубины времени, а когда переводим взгляд на те небесные светила, что находятся ближе к Земле, то становимся на миллионы лет ближе к нашему веку. На своей планете мы видим то, что происходит в данный момент, но частями, фрагментами. И неизвестно, где находится начальная точка времени. Может быть, совсем рядом, но она недоступна нашим взорам. Возможно, будущее хранится в хромосомах, а время вырабатывают некие гены, отвечающие за процесс развития, будь то превращение семени в дерево или планктона в человеческое существо.
Наука выяснила, что давным-давно солнечные лучи вдохнули жизнь в дотоле безжизненные частицы, плававшие в просторах мирового океана. Отсюда начался процесс развития от простейшей клетки к сложным генам и хромосомам и далее, ко всему разнообразию земной природы. Но разве не могло солнце точно так же создать еще и время?
— Ты меня спрашиваешь?
Мне следовало бы догадаться, что аку-аку не упустит появиться в момент, когда у меня на душе царят спокойствие и мир. Кроме всего прочего, именно здесь его родина. На острове Пасхи, когда мы достали из-под земли невиданную прежде коленопреклоненную статуэтку, покойный мэр острова Педро Аттейн и Лазарус сказали мне, что это — мой аку-аку.
Нет, конечно, я и сам знал ответ. Вовсе не современные ученые открыли, что вся жизнь на земле своим существованием обязана солнцу. В древние времена, когда предки христиан поклонялись Ваалу, а предки норвежцев — моему суровому тезке с молотом в руке, другие строили пирамиды в честь бога Солнца. Они-то и знали истину.
Шумеры, хетты и создатели древнейших культур в Египте, в долине Инда поклонялись Солнцу как символу невидимого творца. Когда европейские конкистадоры убивали инков, то была величайшая несправедливость — ведь инки считали себя детьми Солнца, в то время как пришельцы из-за океана привезли с собой крест, предшественник электрического стула, в качестве символа бога любви. Я думаю, если бы сам Христос выбирал символ своей жизни и смерти, а также людского терпения и всепрощения, он остановил бы свой выбор на Солнце, а не на кресте, к которому его приковали палачи.
Во время нашей первой экспедиции на остров Пасхи Эд Фердон обнаружил древнее святилище, Оронго, на вершине вулкана Рано-Као. Он открыл солнечную обсерваторию и каменные барельефы трехмачтовых серповидных лодок из камыша. Рядом с лодками древние художники изобразили свое верховное божество, Маке-маке, с огромными круглыми глазами, олицетворявшими солнечный диск. На Фату-Хива старый Теи Тетуа открыл мне, что Тики — это бог-человек, а создал его Атеа, что значит «свет». Точно такая же связь была между богами древнего Перу Тики, Коном и Виракоча.
Мои размышления о том, что между быстротекущим временем и Солнцем, стоящим у истоков всего, имеется некая связь, столь же не новы, как и самопоклонение Солнцу. В мифологии Полинезии и Перу часто повторяются рассказы о предках, которые пытались захватить солнце, чтобы остановить время. Но эта задача оказалась слишком тяжелой даже для строителей пирамид, и им пришлось ограничиться созданием календаря. Этот календарь, с его годами, месяцами и днями, мы используем до сих пор.
— Быстротечность времени — величайшее благо. Если бы оно остановилось в дни горя и беды, твои мучения никогда бы не кончились. А если бы оно остановилось в момент полного счастья, радость быстро превратилась бы в скуку и тоску.
Аку-аку сказал абсолютную истину. Память так устроена, что она искажает картины прошлого в нашем мозгу. Дар помнить и дар забывать. Искусство пользоваться этими дарами во благо себе и остальным. Способность вычеркнуть из памяти дурное и хранить воспоминания о добром — вот залог счастливой жизни. Я не смог сдержать улыбку при мысли о том, какими беззаботными казались сейчас мне и моим друзьям прошедшие пятьдесят лет. Пятьдесят лет известности, путешествий, приключений, встреч с интересными людьми, пятьдесят лет дружбы, солнечного света, радости, вкусной еды. Все действительно так. Но было и другое. Стоит мне подальше углубиться в закоулки моей памяти, и я буду только рад, что эти годы остались позади.
Помню, какая буря разразилась, когда мы добрались, наконец, до берегов Полинезии, живые и здоровые. И она только усиливалась в последующие годы, по мере того, как я собирал все новые и новые доказательства того, что полинезийцы говорили правду. Они утверждали, что их острова открыли пришельцы с востока, в то время как европейцы, сами, кстати, добравшиеся туда тем же путем, настаивали, что этого не может быть, что освоение Полинезии шло только с запада.
Я всегда рассматривал местные легенды как наиболее надежный источник информации и с опаской относился к общепризнанным научным догмам. Однако я никогда и ничему не верил безоговорочно. Поэтому, когда меня охватывали сомнения, я брался либо за лопату археолога, либо за весло древнего корабля и проверял, правду ли говорят древние сказания.
Еще когда я готовился в библиотеке Крёпелина к поездке на Маркизские острова, я впервые прочитал, что все полинезийцы помещают родину своих праотцов на востоке, а все современные ученые утверждают совершенно обратное. Где бы ни записывали миссионеры прошлого века легенды и сказки полинезийцев, на всем пространстве от Таити до Новой Зеландии, от Самоа до острова Пасхи, везде повторялось одно и то же. В 1827 году миссионер Эллис написал:
«Занятно, что во всех без исключения историях о морских путешествиях, будь то древние легенды или рассказы более позднего времени, указывается одно направление движения — с востока на запад…»
В те дни, когда я принял решение строить плот «Коники», самым большим авторитетом по Полинезии считался сэр Питер Бак. В пользовавшейся
огромной популярностью книге «Мореплаватели солнечного восхода» (я с большим удовольствием прочитал ее после возвращения с Маркизских островов в 1938 году) он приводит текст песни маори:
«И вот я направляю мое каноэ
Туда, где поднимается Бог-Солнце.
Тама-нуи-те-ра, Великий сын Солнца,
Не дай мне сбиться с пути,
Позволь мне достигнуть земли,
Земли моих отцов».
Именно поэтому Питер Бак и прозвал полинезийцев «мореплаватели солнечного восхода». Но, тем не менее, он тоже считал, что прародина полинезийцев находится на западе, потому что в Новой Зеландии, равно как в остальной Полинезии, в Перу и в Египте, словом, во всех краях, где поклонялись Солнцу, существовало поверие, будто души умерших отправляются на запад, вслед за солнцем. Однако уважаемый ученый упустил из виду один факт: полинезийцы считали, что солнце опускается в туннель, идущий через весь подземный мир и выходящий на поверхность на востоке, в доме Солнца. Пройти весь этот путь вместе со светилом полагалось только мертвым. Живые же могли отправиться прямо на восток, о чем и пелось в песне.
Бак опубликовал научный труд «Введение в антропологию Полинезии» всего за два года до экспедиции на «Кон-Тики». Как и все остальные, он не сомневался, что плот из бальсового дерева не может доплыть до Полинезии. На первых же страницах своей книги он подчеркивал, насколько непроницаем занавес между Перу и Полинезией:
«Поскольку индейцы Южной Америки не имели ни подходящих судов, ни необходимого опыта для того, чтобы переплыть океан между южноамериканским побережьем и ближайшими к нему островами Полинезии, мы можем смело исключить их из числа возможных предков островитян».
Когда плот «Кон-Тики» прорвал бумажную стену, возведенную учеными к востоку от Полинезии, и открыл острова ветрам и течениям со всего мира, мы, самостоятельно испытавшие невероятные плавучие свойства бальсового дерева, ожидали, что все вокруг будут счастливы. После первой недели суматохи и торжеств я очень обрадовался, когда меня предупредили по телефону, что первой реакцией ученого мира на наше путешествие станет газетное интервью с сэром Питером Баком.
Потом я прочитал вырезку из «Окленд Стар», и моя радость несколько поутихла. Сэр Питер явно считал нашу экспедицию забавной шуткой, не более того. «Когда я спросил его о „Кон-Тики“, он громко расхохотался», — сообщал журналист.
Каковы же были его контраргументы?
«Ни один рыбак не выйдет в море с женщиной на борту. А в соответствии с их теорией, переселенцы были должны высадиться на необитаемых островах — так кто же, я вас спрашиваю, стал матерями полинезийцев?»
Именно тогда я понял, что в наш век узкой специализации крупнейший эксперт по Полинезии может ничего не знать об Америке. Например, о том, что Писарро, когда он плыл из Перу в Панаму, перехватил бальсовый плот, на котором были и мужчины, и женщины. Это случилось еще до того, как испанцы открыли для себя империю инков. На плоту испанцы захватили тридцать тонн груза, к тому же они взяли в плен пять женщин и в дальнейшем, во время завоевания Перу, использовали их в качестве переводчиц. И еще: а если бы рыбаки плыли не с востока на Запад, а с запада на восток, им что, было бы легче размножаться?
Обычно весьма серьезно настроенный научный мир с радостью подхватил шутку, прозвучавшую с берегов Новой Зеландии. Но, тем не менее, плавание плота из бальсового дерева продолжало будоражить умы широкой публики. Возможно, многим это представлялось как морской бой, в ходе которого мореплаватели с востока таранили своими плотами деревянные каноэ столь любимых сэром Баком мореплавателей с запада. Кстати, эти каноэ были столь тяжелыми, что долго в океане не протянули бы.
На сем наше заочное общение с сэром Баком закончилось. Но мне говорили, будто он пришел на премьеру фильма о «Кон-Тики» в Гонолулу.
Весь научный мир ополчился против так называемой «теории „Кон-Тики“», а средства массовой коммуникации разнесли разноголосицу моих противников по всем закоулкам планеты, от Америки до Австралии, и даже преодолели «железный занавес», окружавший Советский Союз. Газеты с готовностью взяли на себя роль секундантов. Они радостно публиковали каждый новый выпад против меня и с еще большей радостью — мои ответы. Удары сыпались со всех сторон, и все происходящее больше напоминало мне борьбу не на жизнь, а на смерть с превосходящими силами противника, нежели академический научный спор. Атаки и контратаки занимали столько времени, что мне пришлось скрыться в хижине на склонах норвежских гор, чтобы написать книгу об экспедиции на «Кон-Тики». Я рассчитывал, что ее издание принесет достаточно денег, а также повысит интерес к предыдущей чисто научной публикации на ту же тему, которую никто из ученых не хотел читать и ни одно издательство не хотело издавать.
Норвежский издатель Харальд Григ, владелец «Гюллендаль Норвегиан Паблишерз», оказался первым, кто рискнул напечатать мою книгу. До войны он уже издал мои воспоминания о приключениях на Фату-Хива и еще до начала экспедиции «Кон-Тики» поспорил на пять тысяч крон, что тут без книги тоже не обойдется. В США нью-йоркский издатель Даблдей отказался печатать рукопись, потому что на плоту не было секса и никто не утонул.
Но затем Адам Хелмс, хозяин маленького издательства «Форум», прочитал рукопись и распродал рекордное для Швеции количество экземпляров. Следом за ним решил рискнуть Рэнд МакНэлли из Чикаго, и книга взлетела на верхнюю строчку рейтинга бестселлеров и оставалась там несколько недель подряд. Английский издатель сэр Стенли Анвин потом говорил, что если бы он сложил стопкой все экземпляры моей книги «Экспедиция „Кон-Тики“», проданные им, то получилась бы гора выше Эвереста. Со временем ее перевели на шестьдесят семь языков, в том числе на эсперанто, эскимосский, телугу, сингальский, монгольский и многие другие.
— Вот уж, наверное, прекрасное было времечко!
— Я предпочел бы о нем поскорее забыть. Чем популярнее наша шестерка становилась среди широкой публики, тем меньше нас любили в научных кругах. Моя рукописная теория, обосновывавшая смысл экспедиции на «Кон-Тики», так и лежала мертвым грузом. Никто не хотел ее читать — во-первых, из-за внушительного объема, а во-вторых, потому что одних только ссылок там насчитывалось более тысячи.
С другой стороны, популярная версия была написана в расчете на широкую аудиторию, и в ней я избегал научного жаргона. В те времена настоящему ученому считалось неприличным писать иначе, чем для узкого круга посвященных. Наука должна была развиваться ради науки, и никому не позволялось выходить за рамки избранной специализации. Я знал правила игры, но нарушил их, чтобы пробить стену, возведенную между Полинезией и Америкой, а также между различными областями науки. Ведь только объединив усилия ученых различных направлений можно разгадать головоломку, которая называется «пути миграции в Тихом океане». Еще я хотел, чтобы обыкновенный человек с улицы тоже узнал о том, что происходит в науке — ведь порой посторонний обладает более свежим взглядом, нежели специалист.
С течением времени оппозиция ученых добилась своей цели — мой научный эксперимент стал восприниматься просто как спортивное достижение. Я же выглядел авантюристом, неучем, нагло вторгшимся в святая святых. Парадоксальным образом я, с моим только недавно изжитым ужасом перед водой, приобрел репутацию отчаянного мореплавателя, в то время как наше великолепное судно, словно на ковре-самолете доставившее нас в Полинезию, считалось не более чем грудой связанных веревками бревен. Порой я не знал, плакать мне или смеяться — меня, до экспедиции не знавшего, что такое парус, наперебой звали в различные яхт-клубы и на коктейли с адмиралами, а ученые всего мира не пускали на порог.
Пока я в одиночку защищал свое доброе имя и свою теорию, в Нью-Йорке открылся 29 Международный конгресс американистов. По такому случаю в Американском музее естественной истории была развернута выставка. Называлась она — «Через Тихий океан». Название давало повод предположить, что путешествие на «Кон-Тики» могло оказаться в центре внимания конгресса. По возвращении в Копенгаген известный датский антрополог, профессор Биркет-Смит, дал интервью. Его ответ на вопрос, как специалисты оценивают результаты моей экспедиции, удостоился быть вынесенным в заголовок:
«ЭКСПЕДИЦИЮ НА „КОН-ТИКИ“ СЛЕДУЕТ ЗАМАЛЧИВАТЬ, ПОКА О НЕЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ ЗАБУДУТ».
Вскоре после этого другая бомба разорвалась на противоположном конце Скандинавии. Финский антрополог профессор Рафаэль Карстен не выдержал и нарушил обет молчания, к которому призывал его датский коллега. Статья в крупнейшей ежедневной газете, выходящей в Хельсинки, называлась «МОШЕННИЧЕСТВО ПОД НАЗВАНИЕМ „КОН-ТИКИ“».
Редакция представила профессора Карстена как всемирно известного специалиста. Я действительно слышал его имя: оно упоминалось в связи с запланированной экспедицией по Амазонке. Задолго до того, как мы подняли парус на «Кон-Тики», профессор предрекал, что одно лишь чудо поможет нам избежать верной гибели. Он и теперь не отказывался от своих слов и добавил только следующее — поскольку в наше время чудеса случаются редко, все наше путешествие с начала до конца было просто мошенничеством! Плот, очевидно, был сконструирован таким образом, что, даже перевернувшись, мог донести экипаж до цели. Закончил же он утверждением, что если хотя бы половина того, что я написал в своей книге, окажется правдой, это просто невероятно.
Теперь уж члены команды «Кон-Тики» не могли молча проглотить оскорбление, но прежде чем мы успели достойно ответить, события вышли из-под контроля. «РАЗОБЛАЧЕНО ЖУЛЬНИЧЕСТВО С „КОН-ТИКИ“», — кричал заголовок другой финской газеты. «СЕНСАЦИЯ В НАУЧНОМ МИРЕ: ЗНАМЕНИТЫЙ ФИНСКИЙ УЧЕНЫЙ ОБЪЯВИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ НА „КОН-ТИКИ“ МОШЕННИЧЕСТВОМ», — вторила ей шведская пресса. «БЫЛ ЛИ „КОН-ТИКИ“ ПРОСТО РЕКЛАМНЫМ ТРЮКОМ?» — вопрошала датская газета. И с моей родины тоже эхом донеслось: «МОШЕННИЧЕСТВО, МОШЕННИЧЕСТВО!»
В день, когда вышло интервью профессора Карстена, я находился в Стокгольме на презентации любительского фильма о путешествии на «Кон-Тики». Когда я понял, в каком направлении пошла газетная дискуссия, я почувствовал, как почва уходит у меня из-под ног. Что подумает моя мама? Она не верила в Бога, но для нее не было ничего превыше правды. Всего один раз я видел ее плачущей — когда я, еще мальчишкой, провел день, катаясь на велосипеде по автомобильному шоссе, а ей соврал, будто играл в саду у соседа.
Мне казалось, будто целая армия невидимых врагов напала на меня из-за угла и нанесла мне смертельную рану. Уж лучше бы я действительно утонул, как предрекали мои оппоненты, чем дожить до такого позора! В тот момент я не слишком верил в божественную справедливость, да и само существование Бога казалось мне под вопросом. Но ведь было и другое! Мы налетели на риф в Полинезии, и волны вцепились в меня мертвой хваткой. Казалось, сам океан со всей своей силой хотел оторвать меня от каната, за который я держался из последних сил. В тот момент у меня было такое ощущение, что я бросил короткий взгляд по ту сторону жизни и смерти и увидел там нечто помимо темноты и бесконечности. Я поклялся тогда, что если нам всем суждено выжить среди гигантских волн, я никогда не забуду свое видение. Я вспоминал данную клятву, когда я выбрался на песок атолла Рароиа и с бесконечной благодарностью убедился, что никто из моей команды не погиб. Я опустился на колени и набрал полные горсти горячего сухого песка. Откуда пришла ко мне та удивительная, сверхъестественная сила, о которой я молил на краю гибели? Мы лежали на песке, изможденные духовно и физически, и над нами в синем небе парили белые птицы, словно голуби — посланцы небес из христианских легенд. Но та помощь, тот удивительный прилив сил, который я ощутил в бушующем океане, пришел не извне. Мы нашли его в себе. Возможно, помимо Рая с большой буквы, о котором говорится в Библии и в Коране, существует еще другой рай? И этот рай, невидимый для глаз, находится внутри каждого человека?
В тот вечер я никак не мог заснуть в тесном гостиничном номере. Мысли роились у меня в голове. С какими глазами я выйду к людям завтра утром? Каким образом я смогу опровергнуть газетную клевету? Отчаявшись заснуть, я решил почитать. Но у меня не было с собой никакой книги. И тогда я открыл ящик комода. Там, как обычно в отелях, лежала Библия. В черном мрачном переплете, словно предназначенная исключительно для похорон и печали.
Жизнь моя казалась такой же черной. Я наугад открыл книгу, в первую очередь чтобы попытаться отвлечься от тяжелых мыслей, но в то же время и со слабой надеждой прочитать нечто такое, что можно истолковать как послание свыше.
Итак, я открыл ее и не глядя ткнул пальцем. Передо мной была притча о Давиде и Голиафе.
Я рассмеялся и отогнал от себя мрачные мысли. Затем накрылся с головой одеялом и крепко заснул.
Научная братия
Раздавшиеся у подножья горы голоса вырвали меня из плена воспоминаний. С минуты на минуту они окажутся здесь и нарушат одиночество, которым я наслаждался в компании с молчаливыми каменными Голиафами острова Пасхи. Я пошел навстречу людям, пробираясь между разбросанными тут и там незаконченными статуями, уставившимися в небо незрячими глазами. Древнее поле битвы, усеянное окаменевшими телами павших гигантов.
«Очень символично», — подумал я и отправился показывать русским единственную на острове коленопреклоненную статую. Иногда мне казалось, что только она одна выжила после битвы с «короткоухими» и теперь на коленях просит пощады. Эта статуя относилась к древнейшему периоду истории острова. Мы ее откопали и поставили в вертикальное положение во время нашей первой экспедиции. Все другие фигуры не имели ног, их туловище было словно обрезано. Они стояли, скрестив на вместительном животе руки с длинными ногтями. Самые первые поселенцы вырезали из камня коленопреклоненного гиганта, совершенно не похожего на остальные здешние статуи, но словно скопированного с аналогичных изваяний доинкового периода, встречающихся в Андах вблизи озера Титикака. Все другие фигуры на острове Пасхи напоминали друг друга, словно близнецы, и не имели аналогов нигде во всем мире.
По просьбе русского телеоператора я встал рядом с одиноким гигантом. Он стоял на коленях, опустив руки на бедра и подняв голову к небу, словно в молчаливой молитве. На его фоне я казался карликом. Неведомые солнцепоклонники древности, которые высекли из камня этого гиганта, принесли на остров дотоле невиданное искусство. Остальные павшие исполины, вновь вознесенные на постаменты — «аху», — выстроились вокруг с прямыми спинами и презрительно сжатыми губами, упорно отказываясь замечать суетящихся вокруг людишек. Как правильно угадал капитан Кук, они олицетворяли собой богоподобных королей «длинноухих», и чем могущественнее был древний король, тем выше вздымалась посвященная ему статуя над жалким муравейником простых смертных.
Телевизионщики хотели продолжить съемку на берегу залива Анакена, где находился широкоплечий гигант, которого мы первым водрузили на его «аху». Его глубокие пустые глазницы первыми встретили взгляд европейцев. Когда я впервые заглянул в его глаза, то с чувством, близким к потрясению, осознал, что точно такие же глубокие отверстия на месте глазниц я видел у статуй времен империи хеттов во внутреннем Средиземноморье. А еще у статуй, каменных и деревянных скульптур, относившихся к древнейшему периоду истории Мексики и Перу — правда, там в отверстия вставляли глаза из кости или раковин со зрачками из черного обсидиана, и только когда они выпадали, становилось очевидным их сходство с гигантами с острова Пасхи.
Я рассказал русским, как еще в 1975 году в своей книге я выдвинул предположение, что и у статуй с острова Пасхи некогда в глазницы были вставлены глаза, но мои оппоненты дружно отвергли эту идею, поскольку-де такое совершенно не вписывалось в традиции полинезийского искусства. «Зато вписывалось в традиции искусства Центральной и Южной Америки, — отвечал я, — а из множества тихоокеанских островов остров Пасхи к Америке ближе всех». Но меня не хотели слушать. А всего два года спустя молодой археолог Соня Хаоа на раскопках в Анакена нашла первый огромный глаз от статуи классического среднего периода. Позже она же обнаружила еще один глаз — теперь уже от фигуры древнего периода.
Но с тех пор произошло много важных событий. Найденная в Перу маска мумии из Сипана с искусственными глазами подвигнула нас начать раскопки пирамид в Тукумане. Для того, чтобы вставить в маски усопших королей глаза голубого цвета, как у голубоглазых светловолосых богов-людей из легенд, древние перуанские мореплаватели отправлялись далеко на юг, где на территории современного Чили находится единственное в Южной Америке месторождение голубой ляпис-лазури. Зрачки же они делали из черного обсидиана.
Лазарус со своими людьми смог поднять широкоплечего гиганта на предназначавшийся ему постамент без помощи современных технических средств, и теперь величественный исполин в гордом одиночестве возвышается к востоку от залива Анакена. Позже различные команды археологов, вооружившись подъемными кранами, вернули многочисленные «моаи» на их «аху». Тем из нас, кому довелось в свое время заглянуть в глубокие пустые глазницы древних статуй, порой становится не по себе при виде выстроившихся рядами каменных истуканов. Они молча стоят, как на параде, повернувшись спиной к заливу, и зловеще смотрят на вас огромными, величиной с блюдо глазами.
Второй раз за тысячу лет хрупкие двуногие существа из плоти и крови открыли глаза огромным Голиафам. Если бы они нас увидели и если бы они могли разомкнуть свои плотно сжатые губы, то они поведали бы, насколько мало изменилось человечество за последнее тысячелетие.
Пока русские снимали статую и суетились вокруг камышовой лодки Китина Муньоса, я незаметно ушел на другую сторону холма и лег на землю. Передо мной расстилался залив Анакена, похожий на божественное голубое зеркало в золотистой оправе песчаного пляжа. Очень непросто мысленно возвращаться в печальное прошлое, когда настоящее так прекрасно и насыщено событиями, когда ты находишься на том самом месте, где высадился Хоту Матуа, и видишь каменных исполинов на берегу, а трехмачтовый корабль из камыша мерно раскачивается на гребнях набегающих волн.
— Но чем же все закончилось? Поразил Давид Голиафа камнем из пращи?
— Я никогда не пытался причинить кому-либо вреда. Я всегда оборонялся и никогда не атаковал. Если я порой и бывал агрессивным, то исключительно в качестве ответной меры.
Враждебные действия со стороны профессора Карстена неожиданно закончились, когда Академия наук Финляндии пригласила меня в Хельсинки для участия в публичной дискуссии. Я не замедлил откликнуться, но Карстен не явился. Он предпочел встретиться со мной за закрытыми дверьми своего дома. Секретарь Академии проводил меня до его квартиры. Нас обоих впустили внутрь, но раздавшийся с антресолей голос настоял, чтобы я поднялся один. Я шел следом за мило улыбающейся пожилой дамой и перебирал в памяти ученые доводы и аргументы. Но случилось чудо. Голиаф оказался мирным старичком, сидевшим в кресле-качалке с чашкой чая. Мне тоже дали чашку, но не позволили обсудить мою теорию. Оказывается, он не называл экспедицию «Кон-Тики» мошенничеством. Скандальный заголовок придумали журналисты. Спустя некоторое время он написал соответствующее опровержение. Я сидел, пил чай с пирожным и слушал, как человек, до недавнего времени бывший моим главным врагом, рассказывает о своих путешествиях.
Казалось, с капитуляцией Карстена наступит мир. Но я и понятия не имел, какие страсти и какие схватки неутоленных честолюбий кипели за кулисами научного сообщества. О, там были великие бойцы! Они выстроились плечом к плечу с единственной целью — вытащить меня на плаху и торжественно, прилюдно отрубить мне голову.
Сперва их объединенные усилия не дали желаемого результата. Датский ведущий антрополог профессор Биркет-Смит считал, что пресса должна просто замолчать экспедицию «Кон-Тики», словно ее и не было. Финский профессор Карстен, наоборот, развязал против меня газетную кампанию по всей Скандинавии. И, наконец, вице-президент Шведской академии наук профессор Карл Скоттсберг придал дискуссии чисто научный оборот.
Скоттсберг действительно заслужил право именоваться крупнейшим экспертом по культурам тихоокеанского региона. В моей так и не опубликованной рукописи я часто ссылался на его работы, но он не мог об этом знать. Когда Скоттсберг выступил в качестве моего очередного оппонента, на его стороне было одно важное преимущество. В отличие от меня, он уже побывал на острове Пасхи. В то время я лучше знал более удаленные от материка острова. Как ехидно заметил уважаемый профессор, сперва я провел там год в шкуре дикаря, а затем приплыл на плоту-развалюхе.
Перу Скоттсберга принадлежал целый ряд работ по ботанике, а также отчет о путешествии на остров Пасхи. Поскольку в качестве объекта критики он выбрал мой рассказ о путешествии на «Кон-Тики», мое заочное и поверхностное знакомство с островом Пасхи стало, в его глазах, моей ахиллесовой пятой. Он рассыпался в комплиментах по поводу моих достоинств как моряка, но, увы, он не мог признать Хейердала настоящим ученым. Рассуждения Хейердала о способах передвижения статуй на острове Пасхи содержат ряд существенных неточностей, равно как приводимые им измерения. Прежде чем высказывать свое мнение, Хейердалу следовало бы почитать знаменитого французского этнолога Альфреда Метро.
На страницах той же газеты я ответил, что информацию о способах передвижения статуй я нашел как раз в книге Метро, а данные измерений я позаимствовал из работы самого Скоттсберга.
Больше ничего членораздельного я от профессора не дождался. Он выступил с еще одной короткой заметкой, в которой привел три латинских названия растений, встречающихся на острове Пасхи. На его взгляд, эти названия служили окончательным и бесповоротным доказательством того, что остров заселяют выходцы из Азии, а не из Америки. И на сим счел дискуссию победоносно завершенной.
Скоттсберг не мог предположить, что он ступил на территорию, где я чувствовал себя, как рыба в воде. Перед отплытием на бальсовом плоту я тщательно изучил этот вопрос и мог призвать себе на помощь авторитет его коллеги с Гавайев ученого-ботаника Ф. Б. Х. Брауна. Два из упомянутых профессором растений размножались с помощью семян, которые могли преодолеть пространство океана без помощи человека. Третье же; Hibiscus tiliaceus, в доисторической Южной Америке встречалось так же часто, как и в Азии.
Только восемь лет спустя мои и Скоттсберга пути вновь пересеклись. К тому времени моя рукопись «Полинезия и Америка» вышла под названием «Американские индейцы на Тихом океане. Теоретические предпосылки экспедиции „Кон-Тики“». Скоттсберг написал положительный отзыв. Теперь он выступил в поддержку моей теории и в качестве основного довода привел следующее соображение: жители острова Пасхи строили свои камышовые суда из пресноводного камыша тотора. Этот вид встречается только в Южной Америке и, следовательно, никак не мог попасть на остров, кроме как с кораблями первопоселенцев.
Тем временем кольцо атакующих сжималось вокруг нас все туже и туже. Схватка на страницах шведских газет бушевала уже несколько недель. Швеция по праву гордилась своими специалистами в области ботаники с тех пор, как Карл Линней присвоил латинские названия всем видам растений и животных. Другой ученый, Эрланд Норденшёлд, в ходе археологических изысканий на границе Перу и Боливии создал школу антропологии Южной Америки и привез в Гетеборг богатую коллекцию образцов. Среди его учеников был археолог Стиг Рюден.
После того как вынужден был замолчать ботаник Скоттсберг, его место занял археолог Рюден. Он перевел дискуссию в совершенно другую плоскость. Рюден специализировался на районе Тиауанако в окрестностях озера Титикака. Именно там, согласно легендам, правил светлокожий и бородатый Кон-Тики, прежде чем исчезнуть вместе со своими спутниками в просторах Тихого океана. Рюден единственный из археологов Скандинавии лично проводил раскопки в Тиауанако, и теперь он утверждал, будто сами эти легенды — не более чем выдумка. Индейцы Тиауанако такие же краснокожие и безбородые, как любые другие. Голова статуи Кон-Тики из Тиауанако, которую мы нарисовали на парусе как символ экспедиции, вовсе не имеет бороды. За бороду у нее приняли изображение кольца в носу.
С помощью скребка и щетки грамотный археолог открывает такие тайны древней истории, которые никогда не были записаны на бумаге, камне или папирусе. Но совсем другое дело — умение читать написанное. Я мог бы с легкостью привести множество цитат из испанских хронистов, в которых упоминаются легенды инков о белокожих и бородатых «виракоча» — именно за них инки поначалу приняли испанских конкистадоров. Затем можно было сослаться на предшественника Рюдена, американца Уэндела Кларка Беннетта. Именно он обнаружил статую Кон-Тики и описал ее как портрет бородатого мужчины. Голова, украсившая наш парус, представляла собой точную копию рисунка Беннетта из его рукописи.
В дискуссии о том, была ли борода у бога древних инков, последнее слово осталось за мной. Я предложил Рюдену зайти в наш этнографический музей и посмотреть на экспонат под номером таким-то. Жаль, что я не видел его лицо, когда он выполнил мою просьбу и увидел кувшин эпохи праинков с побережья Перу с изображением мужчины, обремененного такой бородой, что ему позавидовал бы сам Санта-Клаус.
Нелегко приходилось норвежскому ученому в Швеции, даже несмотря на громкие аплодисменты, которыми разражались переполненные аудитории при появлении участников нашей экспедиции. Но еще труднее приходилось ему в родной Норвегии. Каждый день газеты соседних стран высыпали на меня обвинения в непорядочности и безграмотности. Профессора зоологии, мои бывшие учителя, не упускали случая сказать обо мне что-нибудь хорошее и приглашали меня читать лекции в университете, а географ Вернер Веренсколд даже решительно выступил в прессе в мою защиту, но я все равно оставался в одиночестве. Ни один из моих заступников не мог считаться специалистом по вопросу миграций в Тихом океане.
Я держал пращу наготове и ждал появления очередного Голиафа, когда в Стокгольме произошло чудесное событие. В лекционную аудиторию Шведской академии наук, где я демонстрировал фильм о путешествии «Кон-Тики», неожиданно вошел один из истинно великих ученых, Свен Гедин, и после показа он присоединился к бурным аплодисментам. Насколько непопулярны были политические воззрения Гедина во время войны, настолько знаменит он был — и вполне заслуженно — благодаря своим рискованным экспедициям в малоисследованные районы Центральной Азии. Через несколько дней после той памятной лекции он прислал мне по почте визитную карточку как напоминание о том, что над тем, кто дерзает, всегда кружат вороны, а по пятам за ним крадутся волки. Но таковы уж правила игры.
Поздней осенью 1949 года меня неожиданно навестил секретарь Шведского королевского общества антропологии и географии профессор Карл Мисон Маннерфельт. Носителем звонкого титула оказался элегантный спортивного вида молодой географ примерно моих лет. Он доставил мне послание от Свена Гедина. Мне предлагалось защитить свою теорию на заседании Общества перед лицом светил шведской науки. Выполнив поручение, Маннерфельт уже от себя лично пригласил меня на обед, где мне предстояло познакомиться с самым молодым профессором в Швеции, доктором Улафом Селлингом, только что вернувшимся из Полинезии. Очевидно, перед началом главного события меня хотели проверить на менее искушенном оппоненте. Селлинг был на три года младше, чем я, но уже успел сделать блестящую карьеру. Он получил степень доктора ботаники за то, что впервые применил в Полинезии технику пыльцового анализа. К тому же, единственный из всех ботаников нашего столетия, он открыл новый подкласс растений: его именем были названы пятнадцать особей растительного мира. На недавно состоявшихся выборах директора палеоботанического отделения Национального музея в Стокгольме Селлинг одержал убедительную победу, оставив позади многих убеленных сединами соискателей.
После встречи с Ивонной моя личная жизнь кардинально изменилась. Точно такой же неожиданный поворот произошел в моей жизни как ученого в тот день, когда мы с Ивонной отправились на обед с Калле и Эббой Маннерфельт и их гостем Улафом Селлингом. У несколько отрешенного и чопорного профессора ботаники оказалась завораживающая улыбка, яркое свидетельство отличного чувства юмора. Его мгновенная реакция и проницательный взгляд говорили о необычайной остроте ума. Неудивительно, что с такой памятью и интеллектом он намного опережал свое время.
Вечер в очаровательном доме Маннерфельтов в пригороде Стокгольма начался в довольно натянутой обстановке, но Ивонна и Эбба с первого взгляда понравились друг другу. А когда мы, мужчины, уселись в кресла с бокалами в руках, нам тоже стало ясно, что мы говорим на одном языке, и разведка боем плавно перетекла в дружескую беседу.
Когда же мы сели за стол, последние остатки напряженности растаяли так же быстро, как кусочки льда в ведерке с бутылкой прекрасного белого вина. Следуя шведскому обычаю, хозяин попросил нас забыть о званиях и чинах. Поскольку у меня в то время вообще не было ни званий, ни чинов, я более чем охотно согласился. В тот вечер был заложен фундамент долгой и верной дружбы, которая ничуть не ослабла и теперь, когда дебаты вокруг «Кон-Тики» уже пятьдесят лет как стихли.
Как выяснилось, Улаф близко знаком с двумя из моих самых яростных преследователей, сэром Питером Баком и профессором Карлом Скогтсбергом. Более того, перед тем как приступить к пыльцовому анализу на островах Тихого океана, ассистент Скоттсберга Улаф Селлинг посетил на Гавайях музей, где директорствовал Бак. Там же, на Гавайях, Улаф познакомился и подружился с ботаником Ф. Б. Х. Брауном.
Форест Б. Браун! Человек, благодаря которому я решился выйти в океан на бальсовом плоту! Автор трехтомного фолианта о флоре Маркизских островов, чьи исследования в области генетики натолкнули меня на мысль взять с собой в плавание сладкий картофель, тыквы и кокосы из Перу, оказался личным другом Улафа. Он называл его просто «Форест»! Мой личный друг Теи Тетуа, сын каннибала Ута с острова Фату-Хива, не раз говорил мне, что друг Улафа Форест — хороший человек. Все это начинало мне нравиться.
Географу Калле тоже с каждой минутой становилось все интереснее и интереснее. Для него, знавшего аксиому о том, что Земля круглая, расстояние от Азии до Южной Америки вдоль экватора равнялось расстоянию от экватора на север до Берингова пролива и далее на юг снова до экватора, хотя со стороны такой маршрут мог показаться вдвое длиннее. Калле понимал, что океан пронизан невидимыми реками, которые обязательно донесут любой плавающий объект в южном полушарии от Южной Америки до Полинезии, а в северном полушарии — от Азии мимо островов северо-западного побережья Америки и тоже до Полинезии.
А затем наступил великий день, 23 сентября 1949 года. В зале Шведского королевского общества антропологии и географии не оставалось ни единого свободного места. Выходя на трибуну, я поймал ободряющий взгляд знаменитого Свена Гедина, занимавшего кресло в первом ряду прямо передо мной. Это помогло. Все остальные лица слились для меня в некую многоголовую массу, смотревшую на меня кто с любопытством, кто с сочувствием, а кто и с открытой враждебностью.
Выступление прошло хорошо. Даже, может быть, слишком хорошо. Куда подевались мои противники? Отсутствие критических замечаний не столько успокоило меня, сколько выбило из колеи.
А самым неожиданным результатом стало вручение мне моей первой научной награды — серебряной медали Рециуса за организацию и осуществление научной экспедиции. Ни один из многочисленных призов, полученных мною впоследствии, не радовал меня так сильно, да и, честно говоря, не имел такого большого значения для моей непрекращающейся борьбы, как первое официальное признание от Шведской академии.

Но битва с постоянно прибывающими силами противника была еще отнюдь не закончена. Все последующие месяцы я не имел ни единой свободной минуты. Улаф не только обладал отличной коллекцией литературы о Тихом океане, у него еще были самые современные архивы по любой теме, которая могла иметь отношение к моим изысканиям, связанным с Полинезией.
Мы сняли летний домик под Стокгольмом. Ивонна наносила ежедневные визиты в Королевскую библиотеку с карточками из архивов Улафа и возвращалась нагруженная немыслимым количеством книг. Вместе с сестрой она день-деньской барабанила на пишущей машинке, а я резал и склеивал листы моей нескончаемой рукописи. Некоторые из них уже достигали нескольких метров в длину.
Правда, я едва не потерял своего научного покровителя. Некий высокопоставленный ученый, который посчитал себя обойденным, когда Улафа назначили директором палеоботанического отделения Национального музея, попытался лишить его этого поста и объявил моего друга сумасшедшим. Улафу пришлось сменить все замки на Дверях своего отделения, потому что его соперник повадился приходить туда по ночам и тайком уносить то гербарии, то важные документы. В газеты потоком пошли письма протеста. Как может Шведская королевская академия наук объявлять сумасшедшим совершенно нормального человека?
Шум, поднявшийся вокруг «войны ключей», вынудил Академию оставить Улафа на прежней должности. Взбудораженная общественность изъявила готовность собрать достаточно денег, чтобы оплатить услуги двух ведущих психиатров, которые должны были осмотреть жертву наветов. Популярный шведский писатель Вильхельм Муберг написал пьесу, в основе которой лежали события «войны ключей». Пьесу перевели на многие языки и поставили во многих театрах, в том числе и за «железным занавесом», в Москве.
Селлинга признали абсолютно нормальным, а через несколько лет, по представлению Шведской академии наук, наградили рыцарским орденом Шведской Северной Звезды.
Атаки на меня лично в шведской прессе постепенно сошли на нет, и вскоре в Швеции состоялся мой первый успех в качестве исследователя, писателя и кинооператора. Этот триумф тотчас же отразился эхом у меня на родине, где Норвежское географическое общество пригласило меня прочитать цикл лекций о путешествии на «Кон-Тики». По завершении лекций меня провозгласили почетным членом Общества и пригласили выступить в Норвежской академии наук. В первом ряду, неподалеку от короля Хокона, сидела моя старушка-мама и с ужасом ждала, что на ее сына набросятся недоброжелатели. Два крупных специалиста в области языка пообещали до начала заседания, что камня на камне не оставят от моей теории миграции. Я закончил выступление, но ни один из них так и не встал с места. Король выжидательно смотрел на них до тех пор, пока кто-то не сказал, вполне дружелюбно, что поскольку лектор согласен с тем, что полинезийский язык имеет отдаленные общие корни с языками Юго-Восточной Азии, у них нет возражений против теории миграции.
— Вы согласны со мной, профессор? — поинтересовался он у своего коллеги, эксперта по азиатским языкам.
Тот вскочил на ноги, выпалил: «Согласен» и снова сел.
Мама внесла посильный вклад в прозвучавший затем гром аплодисментов и гордо удалилась. Норвежский издатель Харальд Григ, первым опубликовавший полную версию «Кон-Тики», спешно принялся готовить второе издание. Я был на седьмом небе от счастья и не ведал, что тучи вновь сгущаются над моей головой.
В Париже я оказался из-за фильма о путешествии на «Кон-Тики». Директором ЮНЕСКО тогда был французский этнолог доктор Альфред Метро. Безусловный успех книги породил интерес китов киноиндустрии к нашей любительской кинопленке. Но чем больше нами интересовалась общественность, тем больше негодовали те, у кого в голове не укладывалось: что это за ученый такой, что не опубликовал ни единой серьезной работы, а уже обрел мировую известность? Между тем до издания моей научной рукописи оставалось совсем немного. Она лежала в виде груды листов в кабинете норвежского издателя Адама Хелмса.
Нью-йоркский просмотр неотредактированной версии фильма о путешествии «Кон-Тики» обернулся полным провалом. Президент Трумэн пришел в восторг от нашей экспедиции, что тут же отразилось на страницах американской прессы. «Нью-Йорк Таймс», журнал «Лайф» и прочие крупнейшие издания широко освещали это событие. Кинопродюсеры настояли, чтобы норвежское посольство организовало показ всех 800 футов неотредактированной любительской пленки для аудитории из потенциальных покупателей.
Это был какой-то кошмар. Перед самым отъездом в Перу я купил маленькую заводную кинокамеру с тремя съемными линзами в фотомагазинчике в Осло. Продавец за двадцать минут объяснил мне, как ею пользоваться, и на этом закончилось мое кинематографическое образование. На просмотре выяснилось, что половина пленки безнадежно повреждена водой, а остальное снято в режиме замедленной съемки. Больше всего это напоминало съемку из медленно движущегося поезда, который то и дело ныряет то в один тоннель, то в другой, причем оператор лежит в раскачивающемся гамаке. Редкие связные кадры то и дело перемежались ослепительными вспышками света, когда на экране с трудом различалась то пасть акулы, то бородатая голова, то грязная нога, то извивающаяся рыба.
Один за другим зрители выходили на цыпочках из зала. Время тянулось бесконечно медленно. В конце концов, в зале остались только я и один-единственный покупатель из компании РКО. Он предложил двести долларов за всю пленку в надежде, что из нее наберется достаточно приличных кадров на десятиминутный ролик для новостей. Сделка не состоялась.
Мне ничего не оставалось, как подавить разочарование. Вместе с приятелем, владельцем небольшого монтажного стола, я заперся в номере нью-йоркского отеля и принялся монтировать немой фильм. Мы не имели возможности посмотреть, что у нас получилось, поэтому как только мы склеили последние обрывки пленки, я выбежал на улицу, поймал такси и поехал в известный клуб «Путешественник» — я был самым юным его членом еще со времен возвращения с Фату-Хива. Никогда я не был так удивлен. В переполненном зале стояла гробовая тишина. Я сидел и изнывал от отчаяния — самые лучшие кадры оказались безвозвратно загубленными и отправлены в мусорную корзину. И вдруг раздались аплодисменты. На мне все еще висели долги за экспедицию, и я без размышлений подписал контракт с агентом по организации лекционных туров. Он предложил мне очень высокий процент при условии, что я сам буду оплачивать расходы на жилье и переезды. В течение следующих трех месяцев я исколесил все Соединенные Штаты и прочитал более ста лекций, сопровождавшихся показом фильма. В самолетах и железнодорожных вагонах я провел больше ночей, чем в постели дома. Из Нью-Йорка в Сан-Франциско, затем в Вашингтон, затем снова в Лос-Анджелес. Однажды из канадского города Торонто мне пришлось срочно лететь в Читтанугу, штат Теннесси, и мой заработок за вычетом дорожных расходов составил целых семь долларов — и это при том, что за лекцию платили не меньше двухсот!
Затем наступила очередь Европы. В Стокгольме билеты во все лекционные залы были распроданы задолго до моего приезда, и тогда принц Леннарт Бернадот догадался предложить фильм Голливуду. На него не произвел никакого впечатления мой горестный рассказ о максимальной ставке в двести долларов. Пока мои товарищи по путешествию, сменяя друг друга, читали лекции перед переполненными залами в Швеции, мы с принцем отправились в Копенгаген. Там состоялся показ для королевской семьи. Королева Ингрид, принцессы и другие высокопоставленные особы сидели в первом ряду, практически уткнувшись носом в экран, и некоторым даже стало дурно от вида морских волн и от качающейся в Руках оператора-любителя камеры. В темноте раздался характерный звук, мимо пробежал взволнованный служитель с опилками в тазике, и королева вежливо поинтересовалась, является ли это обязательной частью программы.
Леннарт Бернадот хотел смягчить дьявольскую качку на экране и увеличить скорость пленки (напомню, я снял все в замедленном темпе). Он купил первый в Европе «Прибор оптической печати», который позволял перевести шестнадцатимиллиметровую копию в тридцатипятимиллиметровую путем перефотографирования каждого третьего кадра. Затем кадры-оригиналы заменяли на копии, и скорость пленки подгонялась под скорость стандартного кинопроектора. На следующее утро мы подписали контракт на шведском и норвежском языках, согласно которому каждому из нас полагалась равная доля прибыли от кинопроката, и я отправился в Вену, а Леннарт вернулся в Стокгольм. Тот контракт на одной рукописной страничке куда-то потерялся, но вновь созданная небольшая компания под названием «Артфильм», состоящая из самого Леннарта и его старого друга Уле Нордемара, сумела все-таки переделать фильм в тридцатипятимиллиметровый формат. Полученную в результате их усилий пленку они продали кинопродюсеру голливудской фирмы «Тарзан» Солу Лессеру, а тот в свою очередь — студии кинопроката РКО. Если бы мы с РКО заключили сделку с самого начала, то и они, и я получили бы гораздо большую прибыль, чем после всех этих операций.
За короткий срок мы заключили не меньше контрактов на показ фильма, чем на переиздание книги, и в конце концов завоевали два приза «Оскар» в жанре документального кино, один за работу продюсера, другой — за операторскую работу. Я опять с головой ушел в научные дебаты и отказался ехать в Голливуд на вручение наград. В конечном итоге своего «Оскара» я получил из рук продюсера фирмы «Тарзан» в здании музея «Кон-Тики».
Некоторое время спустя я все же оказался в Голливуде, и Сол Лессер устроил в мою честь вечеринку. Он поинтересовался, с кем из здешних знаменитостей я хотел бы познакомиться. К своему стыду, я не смог припомнить ни одного имени. После долгих размышлений я назвал Уолта Диснея. Великий
мультипликатор пришел на вечеринку и оказался очень застенчивым и интеллигентным человеком, который ничем не выдавал, что обладает чувством юмора. С исключительно серьезным видом он обменялся со мной рукопожатиями и поблагодарил за то, что я рекламировал его имя в своей книге. «Я вас рекламировал?» — недоуменно переспросил я. Я вообще не помнил, чтобы я его хоть раз упомянул. «Да, — подтвердил он. — Вы трижды назвали мое имя. Во всех трех случаях вы описывали фантастических морских существ, настолько фантастических, что даже фантазии Уолта Диснея не хватило бы, чтобы придумать нечто подобное».
Тринадцатого января 1950 года в Стокгольме состоялась мировая премьера нашего фильма. Среди почетных гостей были шведская королевская семья, Свен Гедин и Улаф Селлинг. Я присутствовал только на нескольких самых первых представлениях, но французы проявили к нему неслыханный, интерес. Некая фирма выторговала право торжественно провезти наш плот по дорогам Франции, и через некоторое время он закончил свой триумфальный путь на Елисейских полях. По дороге его тащили через какие-то фруктовые сады, и он приехал в Париж с яблоками, застрявшими между бревен. Тем временем в Осло мы заканчивали строительство музея, в котором почтенному путешественнику предстояло найти вечное пристанище.
Я прибыл в Париж за день до премьеры и, несмотря на торжественную встречу в аэропорту, был не в лучшем расположении духа. Альфред Метро развязал против меня очередную кампанию. Снова на страницах одного Французского научного журнала я предстал в качестве банального авантюриста. Какой-то журналист показал мне газету, в которой Метро обозвал меня лжеученым. Меня попросили прокомментировать заявление французского ученого, на что я ответил, что с удовольствием это сделаю, но только в присутствии самого Метро.
На следующее утро меня привезли в его офис в здании ЮНЕСКО. Он встретил меня в обществе доктора Уолтера Лемана, ведущего специалиста парижского Музея человека в области южноамериканской археологии. Там же сидел газетчик с блокнотом и ручкой наготове.
Как только мы покончили с формальностями, я открыл портфель и извлек на свет божий авторский экземпляр своей научной работы под названием «Американские индейцы на Тихом океане». В книге было восемьсот двадцать одна страница, библиография из более чем тысячи названий и множество иллюстраций. Мои оппоненты явно смутились и растерялись. После того как они задали заранее заготовленные заковыристые вопросы и получили на них ответы, наступила моя очередь. Я достал толстую пачку фотографий, сделанных на Маркизских островах, на острове Пасхи и в Андах на всем протяжении от Сан-Агустина в Колумбии до Тиауанако в Боливии. В свое время Метро неоднократно утверждал, что статуи в этих местах ничем не похожи друг на друга. Я положил фотографии на стол и попросил их отделить полинезийские статуи от южноамериканских.
Доктор Леман начал было их сортировать, но вскоре заколебался и передал всю пачку Метро. В конце концов, это было по его части. Метро взял фотографии с покровительственной ухмылкой.
— Вот эта — из Полинезии, — отложил он одну из фотографий.
— А вот и нет, — злорадно перебил я. — Из Сан-Агустина!
— И эта тоже из Сан-Агустина, — невозмутимо продолжил Метро.
— Нет, — снова вмешался я. — Я сам ее сделал на Маркизских островах.
И добавил, что если два крупнейших специалиста не видят между ними разницы, то, возможно, они согласятся признать наличие некоторого сходства?
Они согласились. Метро взглянул на часы и вежливо предложил пройти в бар. Так мы и сделали, и признаться, никогда еще я не пил ничего вкуснее.
В тот вечер кинотеатр был забит до отказа и дышал атмосферой ожидания. Среди собравшихся оказались самые знаменитые путешественники и альпинисты Франции, в том числе полярный исследователь Поль Эмиль Виктор и покоритель вершины Аннапурна Морис Герцог. Перед началом сеанса с кратким представлением картины выступил Поль Эмиль, и с того вечера в моей жизни стало на два верных друга больше.
Проснувшись утром, я обнаружил у дверей своего номера свежую газету. «Репортаж о поединке Давида с Голиафом», — подумал я, глядя на статью о вчерашней встрече в здании ЮНЕСКО. В верхнем левом углу — большая фотография Метро с большим бокалом в руках. В нижнем правом — моя, поменьше, и с маленьким бокальчиком.
«Хейердал почти убедил Метро», — гласил заголовок. Далее автор статьи рассказал, как два крупнейших специалиста раз за разом ошибались, пытаясь отличить полинезийские статуи от южноамериканских. Более того, Метро официально опроверг свои слова и признал, что я являюсь настоящим ученым.
Когда Адам Хелмс собрался с мужеством и издал мою объемную рукопись, Метро выступил с очень благоприятной рецензией, причем в той же самой шведской газете, со страниц которой он некогда обрушился на меня.
В своей рецензии он отметил, что для постороннего человека может показаться невероятным, как мог такой молодой ученый собрать такое количество важного научного материала, к тому же относящегося к разным областям науки, и затем объединить разрозненные факты в одну стройную теорию.
Его партнер по экспедиции на остров Пасхи, бельгийский археолог доктор Анри Лавашери, никогда не присоединял свой голос к травившему меня хору, а после того как я вернулся из первой поездки на остров Пасхи, он навестил меня в Осло, чтобы ознакомиться с привезенными мной материалами. В 1975 году он написал предисловие к моей работе об искусстве островитян.
Итак, во Франции установился мир, но боевые действия продолжались. Чем большую популярность у широкой аудитории завоевывали мои книга и фильм, тем теснее сплачивали ряды их противники. Многие ученые неверно понимали суть конфликта — будто бы неграмотная публика бешено аплодирует неучу, осмелившемуся вторгнуться в храм науки — и чувствовали, будто их выставили на посмешище. План профессора Биркет-Смита замолчать экспедицию «Кон-Тики» не сработал. И тогда организаторы следующего, тридцатого Международного конгресса американистов предприняли более радикальный шаг. Они послали мне приглашение прочитать на конгрессе лекцию перед аудиторией из самых знаменитых специалистов со всего мира. К тому времени «Американские индейцы на Тихом океане» уже неделю как вышли из печати, но, разумеется, за такой короткий срок никто еще не успел ознакомиться с моей работой.
Приглашение звучало как вызов. По регламенту любой участник конгресса имел право прочитать до трех лекций. Я послал заявку на все три.
Через некоторое время мне по почте пришла программа конгресса. Руководителем секции, на которой мне предстояло выступать, был назначен не кто иной, как профессор Биркет-Смит.
Никогда я так не волновался, как в августе 1952 года по пути в Кембридж на конгресс американистов. Меня ждал важнейший в жизни экзамен, а в роли экзаменаторов будут выступать крупнейшие антропологи мира. На конгресс съехались двести ученых из тридцати стран мира, и в момент нашего с Ивонной появления многие из них уже стояли, разбившись на кучки, и приятельски беседовали. В портфеле у меня лежали тезисы трех лекций. Судя по любопытным взглядам, которые мы ловили на себе, меня узнали, но, кроме нескольких холодных улыбок, я не дождался никаких приветствий.
Ивонну, напротив, никто не знал. Я оставил ее в коридоре и пошел искать, где бы оставить тяжелый портфель. Когда я возвращался, она услышала, как кто-то сказал: «Не поворачивайся. Там идет Хейердал». Через некоторое время Ивонна о чем-то заговорила со шведским антропологом Зигвальдом Линнеем. В разгар беседы к ним подошел какой-то пожилой ученый и сказал Линнею: «Простите, что я раньше с вами не поздоровался. Я принял вас за Хейердала».
Ожидая своей очереди подняться на трибуну, я испытывал какие угодно чувства, кроме чувства уверенности. Я записался на три лекции, в то время как остальные участники редко читали больше одной. Я кожей ощущал атмосферу злорадного ожидания. Журналисты и телевизионщики, как правило, не баловавшие конгресс своим вниманием, толпились в коридорах. Их присутствие не добавило мне популярности в глазах ученых, которые с еще большей страстью желали, чтобы этот авантюрист был унижен и уничтожен у всех на глазах.
Согласно программе, моей лекции предшествовало два других выступления, но они были посвящены столь узкоспециальным темам, что послушать их пришло лишь несколько человек. Остальные ждали в коридоре и явно предвкушали нечто захватывающее. После первой получасовой лекции мы с Ивонной в числе маленькой группы слушателей честно ждали второго лектора, но он по неизвестной причине так и не появился. Обычно в таких случаях объявлялся получасовой перерыв, но на сей раз Биркет-Смит вышел к трибуне и, глядя в практически пустой зал, предложил мне начинать.
Я поднялся на авансцену и произнес первые фразы своего выступления. В зале не было никого, кроме Ивонны и нескольких случайных и совершенно не заинтересованных слушателей. С точно таким же успехом я мог бы читать в пустой комнате. Я тщательно готовился к сегодняшнему дню, а те, для кого предназначался мой труд, гуляли в коридоре.
Так я читал вхолостую минут пять, а затем краем глаза увидел, что Ивонна встала и выскользнула из зала. Мгновением позже массивная дверь широко распахнулась, и в аудиторию буквально хлынул людской поток. Мне пришлось сделать паузу, чтобы переждать топот ног и скрип стульев. Наконец все, кому достались места, уселись, а опоздавшие выстроились вдоль стен, и я продолжил чтение. Но меня тут же перебили и потребовали начать сначала. Биркет-Смит присоединился к просьбе.
Многие в аудитории смотрели на меня с удивлением. Вместо бородатого дикаря перед ними стоял свежевыбритый молодой человек в аккуратном синем костюме. Газетчики потом напишут, что он скорее походил на банковского служащего, чем на отчаянного мореплавателя. Уж не знаю, кто был удивлен больше, слушатели или сам лектор, но меня просто поразило молчание, воцарившееся после первой лекции. Ни одного ехидного замечания, только несколько вполне дружелюбных и достаточно простых вопросов.
На следующий день, после второй и третьей лекций, лед отчуждения между мной и слушателями окончательно растаял. Более того, серьезно обсуждался вопрос о возможной финансовой помощи коренному населению Полинезии со стороны Америки. Никто не выступил со сколько-нибудь серьезной критикой моей теории, а известный канадский специалист профессор Раглс Гейтс даже заявил, что последние анализы образцов крови, взятых в различных уголках тихоокеанского, региона, говорят в пользу гипотезы Хейердала. Полностью опустошенный, но торжествующий, я в сопровождении Ивонны проложил себе дорогу на выход через переполненную аудиторию. Репортер из Осло передал в редакцию норвежской газеты новость о том, что я не только выжил, но даже удостоился слов благодарности от моего главного противника профессора Биркет-Смита. Те же самые финские газеты, которые недавно обвиняли меня в мошенничестве, теперь опубликовали благоприятные отчеты о моих научных достижениях и отметили, что мои критики теперь вынуждены замолчать.
Спустя некоторое время я узнал имя пожилого ученого, который не поздоровался с Линнеем, приняв его за меня, — Поль Риве, знаменитый французский этнограф. Я так с ним и не встретился. Он демонстративно отказался побывать на моих лекциях, а затем выступил с проектом резолюции конгресса, в которой теория Хейердала признавалась несостоятельной. Резолюция не прошла, поскольку конгресс не мог принять точку зрения человека, лично не присутствовавшего на лекциях.
Однако до победы было еще далеко. Сразу за конгрессом в Кембридже следовал IV Международный съезд антропологов и этнологов в Вене.
Как и многие участники кембриджского форума, мы с Ивонной собрались ехать в Вену на поезде прямо из Англии. Но перед самым отправлением один дружелюбно настроенный коллега рассказал мне, что вице-президентом венского съезда назначен один из самых яростных моих противников, профессор Роберт фон Гейне-Гелдерн. Он издал листовку, содержащую резкую критику моей теории, и собирался бесплатно распространить ее среди всех участников конгресса.
Мы тут же сдали железнодорожные билеты и вылетели в Вену самолетом.
В Вене я оставил Ивонну в отеле, а сам помчался на такси в офис фон Гейне-Гелдерна. Меня встретил сутулый, но вполне бодрый пожилой профессор с живым взглядом спрятанных за линзами очков глаз. Он охотно дал мне экземпляр листовки. Когда же я попросил предоставить мне возможность выступить в свою защиту, профессор со злорадством в голосе ответил отказом. На выступления надо было записываться при получении приглашения, а теперь слишком поздно.
Два студента случайно услышали, как мне отказали в праве на защиту, и пришли в яростное негодование. К профессору отправилась делегация от студентов с просьбой провести открытые дебаты в рамках съезда. Им тоже отказали.
В тот же вечер студенты, в условиях строжайшей конспирации, организовали мне встречу с их любимым преподавателем Домиником Вёльфелем. Встреча происходила в заброшенном винном погребе, потому что им небезопасно было появляться в обществе опального профессора. В научных кругах Вёльфель пользовался репутацией ученого старой закалки, обладающего отличной интуицией в вопросах контактов различных культур. Я не раз цитировал его работы о культуре первопоселенцев Канарских островов. Мы сидели в полумраке, при тусклом свете газового фонаря, словно первые христиане, скрывающиеся в катакомбах от римских гонителей веры. Как выяснилось, Венский этнографический музей планировал раздать свой годовой отчет всем участникам конгресса. Ни директор музея, ни редактор-составитель отчета небыли замечены в тесной дружбе с вице-президентом съезда.
На следующее утро я нанес визит директору музея и получил разрешение включить в отчет свою статью. Очевидно, директор не знал, что отчет уже вышел из печати, и направил меня к одному из соредакторов, доктору Этте Беккер-Доннер. Дружелюбная дама, известный специалист по культуре южноамериканских индейцев, продемонстрировала мне груду отпечатанных отчетов, но тем не менее согласилась вложить в них листовку с моим ответом.
Был вечер пятницы, а конгресс открывался в понедельник.
К счастью, мои немецкие издатели, семья Ульштайнов, оказались тоже в Вене, а после огромного успеха книги о «Кон-Тики» наши отношения были безоблачными. Меня заверили, что если к воскресному утру я предоставлю готовый текст, то к вечеру воскресенья листовка будет готова.
В тот вечер я лег рано, чтобы хорошенько выспаться. Гейне-Гелдерн не удосужился прочитать мою недавно вышедшую работу. В субботу я занимался тем, что отыскивал в своем тексте цитаты, напрочь опровергающие аргументы противника — это было легко, поскольку в них не было ничего нового. Единственная свежая мысль заключалась в том, что Гейне-Гелдерн привел множество примеров того, что в определенные дни ветер над Тихим океаном менял направление и дул в сторону, противоположную той, куда плыл «Кон-Тики». На этот новый и, признаться, неожиданный довод я ответил только одно: если уж пользоваться подобным методом, то куда проще составить список пронесшихся там ураганов и на этом основании доказать, что в районе Тихого океана жизнь в принципе невозможна.
Утром в понедельник мы с Ивонной одними из первых вошли в украшенный флагами зал конгресса. Нас тепло поприветствовали слегка смущенные президент и вице-президент съезда и пробормотали нечто комплиментарное относительно моей статьи.
Бледный как смерть Гейне-Гелдерн поднялся на трибуну и объявил конгресс открытым. До самого окончания съезда он так ничего мне и не ответил, потому что он с первого захода израсходовал все свои боеприпасы, а после его попытки доказать, что <тихоокеанские ветра дуют совсем не так, как все думают, аргументов у него не оставалось вовсе.
Следующая возможность отомстить представилась ему восемь лет спустя, в 1960 году. В Вене проходил XXXIV Международный конгресс американистов, и на сей раз Гейне-Гелдерна назначили президентом конгресса. Получив приглашение, я взвесил все за и против и решил не только участвовать, но и прочитать лекцию. На сей раз я выбрал тему из области биологии, где я имел заведомое преимущество над Гейне-Гелдерном и его учениками.
Потом я нередко задавался вопросом, нарочно или случайно Гейне-Гелдерн рассадил всех своих учеников в первом ряду. Когда я вышел на трибуну, я просто физически ощутил волны неприязни и даже ненависти. Если бы взгляды могли убивать, я упал бы замертво прежде, чем произнес первое слово. Я зачитывал свое выступление, словно в тумане, в перекрестье враждебных глаз. Никто из них даже не вслушивался в мои аргументы. Но затем произошло невероятное. Когда я произносил заключительные фразы, то краем глаза увидел, что Гейне-Гелдерн встал со своего места и быстрым шагом направляется к трибуне. Он схватил меня за руку, словно я был его лучшим другом, и рассыпался в таких комплиментах, каких я не слышал ни до того, ни после. Его ученики на первом ряду, наверное, были так же поражены не менее меня. Только потом я понял, в чем дело. Моя лекция содержала доказательства контактов между Полинезией и Южной Америкой и камня на камне не оставляла от изоляционистской теории злейшего врага Гейне-Гелдерна, Е. Д. Меррила. Вне себя от радости, что я припер к стене американского ботаника, он совершенно забыл, что я переплыл Тихий океан в «неправильном» направлении. Ветер дул в мои паруса с такой силой, что мне до сих пор кажется, будто он меня обнимал прямо на трибуне, хотя все свидетели в один голос утверждают, что дальше рукопожатий дело не зашло.
Скоттсберг тоже зачехлил свой меч. Он пересмотрел собственные взгляды на флору острова Пасхи и первым признал, что единственные пресноводные растения, встречающиеся на острове, камыш тотора и лекарственная трава тавари, происходят из Южной Америки и могли быть занесены сюда только на судах древних мореплавателей. Камыш тотора играл очень большое значение на безлесном острове Пасхи. А на побережье Перу из него строили лодки и дома. Все попытки доказать, что семена камыша могли быть занесены на остров Пасхи перелетными птицами, оказались полностью несостоятельными, поскольку ни одна птица не могла долететь до столь удаленного от южноамериканского побережья острова. Более того, без участия человека на остров не могли бы попасть семена сладкого картофеля, маниоки, тыквы и перца чили, а когда европейцы впервые открыли остров, местное население давно выращивало все эти культуры.
Итак, в Европе моя битва с Голиафом пришла к победоносному завершению. Но ее отголоски долго еще бушевали на другом берегу Атлантического океана, за Берлинской стеной и поту сторону «железного занавеса».
В США книга и фильм о путешествии на «Кон-Тики» были встречены с таким же энтузиазмом, как и в Старом свете. Президент Трумэн принял участников экспедиции в Овальном кабинете Белого дома. Он произнес речь, в которой высоко оценил наше мужество, и показал альбом, куда он собственноручно вклеивал газетные вырезки, посвященные этому событию.
Но американские ученые отнюдь не спешили разделить всеобщий восторг, хотя и не нападали на нас столь яростно, как их европейские коллеги. Именно в Соединенных Штатах возникло устойчивое мнение, что плот из южноамериканского бальсового дерева никак не может доплыть до Полинезии. Ведущий специалист по вопросам мореплавания в доисторическом Перу доктор С. К. Лотроп из Гарвардского университета даже написал специальную диссертацию, в которой доказывал, что бальсовый плот не продержится в океане и двух недель. Следовательно, древние перуанцы не могли с его помощью достичь берегов Полинезии. Все ученые, включая сэра Питера Бака, неоднократно цитировали его выводы. К их числу принадлежал и милый пожилой профессор Герберт Спинден, у которого я когда-то останавливался в Нью-Йорке. Безуспешно я пытался уговорить его или кого-нибудь из его коллег прочитать мою неопубликованную рукопись. Я утверждал, что Полинезию заселили выходцы из Южной Америки, а он в ответ лишь улыбнулся и сказал: «Вот сами и попробуйте доплыть из Перу до Полинезии на бальсовом плоту».
Я принял его вызов.
Самым большим удивлением для меня стало, что после завершения нашего путешествия профессор Лотроп пригласил меня с женой к себе в гости. На пианино в его нью-йоркской квартире стояла точная копия нашего «Кон-Тики». Как выяснилось, он сделал ее сам. Не дожидаясь никаких других доказательств, он первым признал правоту моей теории.
В те дни, когда мы еще только строили наш плот на верфи Кальяо, в Перу проводил раскопки знаменитый американский археолог доктор Ричард П. Шедел. Журналисты спросили его, есть ли у нас шансы выжить, и он, как и все остальные, ответил отрицательно. После успешного завершения экспедиции ему задали другой вопрос: что же именно доказали участники экспедиции. «Ничего, — был ответ. — Кроме того, что норвежцы — хорошие моряки».
Через много лет мы с ним встретились в Перу. Теперь он был настолько убежден, что древние жители этой страны являлись опытными мореплавателями, что сам предложил мне провести совместные археологические изыскания на островах вдоль побережья. В девяностых годах его коллега и мой близкий друг доктор Даниэль Сэндвайс обнаружил следы древней культуры, существовавшей в прибрежных районах Перу в IX–X веках до нашей эры. Основным продуктом питания древних перуанцев была рыба, которую они ловили в океане.
— В пылу научных баталий как ты удовлетворял свою вечную любовь к приключениям?
— Приключения добавляют остроты в рассудочный мир научных исследований, особенно если ты изучаешь древние цивилизации. После триумфа на XXX Конгрессе американистов в Кембридже я получил приглашение побывать на XXXI Конгрессе в Бразилии уже в качестве его почетного вице-президента. Конгресс состоялся в 1954 году, и на нем я продемонстрировал результаты моей первой археологической экспедиции на Галапагосские острова, предпринятой двумя годами раньше. Всем участникам конгресса предложили совершить путешествие в центральные районы Бразилии, и мы с Ивонной записались одними из первых. К сожалению, в связи с самоубийством президента Жетулиу Варгаса поездку пришлось отменить.
Тогда я арендовал маленький одномоторный самолетик и вместе с женой и местным гидом полетел в Санта-Изабель, крохотную индейскую деревушку на берегу реки Арагуаи в юго-западной Амазонии. С самого начала поездка пошла не так, как задумывалась.
Всю заранее закупленную провизию и снаряжение пришлось оставить в аэропорту. Из боязни перегрузить самолет пилот согласился взять на борт только удочки и ружье. Сначала полет проходил нормально. Под нами, насколько хватало глаз, тянулась сплошная зеленая крыша сельвы. Внезапно летчик резко развернул самолет в обратном направлении, и в ту же секунду мотор заглох.
— Не бойтесь, — сказал пилот. — Мне уже двадцать раз приходилось делать вынужденную посадку.
В аэропорту он поменял все свечи, и мы снова взлетели. В полете пилот ориентировался по старой школьной карте, на которой деревни были отмечены красными кружками на зеленом фоне. Через несколько часов самолет приземлился на просеке посреди джунглей. Взлетно-посадочная полоса больше напоминала картофельное поле. В непосредственной близости располагался бар, за стойкой которого стояла местная красотка. По каким-то совершенно необъяснимым причинам пилот заявил нам, что дальше лететь нет никакой возможности.
Возле берега стояло длинное каноэ, вырезанное из ствола дерева. Я решил, что другого шанса выбраться из джунглей может и не представиться. Два индейца-карайя согласились довезти нас до Амазонки. Мы взяли удочки и ружье, забрались в каноэ, и быстрое течение подхватило наше суденышко. Несколько следующих дней мы не видели ничего, кроме зеленых джунглей, бурой воды, цветастых попугаев и отчаянно орущих обезьян. Ночевали мы на берегу, либо на песке, либо на матрасе из веток. Опасаясь незваных гостей, мы жались поближе к воде, но на ее поверхности попарно горели маленькие огоньки, внимательно изучавшие нас, и сонливость пропала как-то сама собой. Огоньками были глаза кайманов.
Они бесшумно скользили по воде, не отводя от нас взгляда. Днем стояла невыносимая жара, а единственный источник воды плескался за бортом нашего каноэ. Сперва мы пытались фильтровать мутную воду через носовые платки, но вскоре оставили эти попытки и пили прямо из реки.
Так прошло несколько недель. А потом произошла незабываемая встреча с цивилизацией. Первым мы увидели абсолютно голого мужчину. Он стоял на песчаной косе и смотрел на нас. Когда наши взгляды встретились, он повернулся и скрылся в хижине. Через мгновение он появился снова, по-прежнему голый, но с поясом на животе. В глубине леса стояли другие хижины, и вскоре нас угощали жареной рыбой, печеными черепаховыми яйцами и корнями маниоки. С наступлением темноты мы заснули в гамаках под открытым небом, но посреди ночи проснулись и стали свидетелями странных событий. Через регулярные промежутки времени мимо наших гамаков попарно пробегали обнаженные молодые девушки и исчезали в джунглях. После этого из леса доносилось причудливое заунывное пение. На песчаном берегу танцевали четыре фигуры в высоких головных уборах и длинных соломенных накидках. Мы так никогда и не узнали, что означал этот ритуал.
Зато мы почерпнули много нового об искусстве выживания посреди дикой природы — как искать съедобные коренья и черепашьи яйца, как ночью с помощью топора охотиться на крокодила. Мы видели дельфинов и летучих рыб в озере, которое теряет сообщение с рекой во время засухи.
Блистающие небоскребы Сан-Паулу казались отсюда чем-то совершенно нереальным, а ведь совсем еще недавно мы бродили по улицам шумного города: какой контраст с непроходимыми джунглями и убогими хижинами индейцев!
Не говоря уж о сухом мире науки, куда нам вскоре предстояло вернуться.
Переворот в общественном сознании произошел на X Конгрессе по проблемам Тихоокеанского региона, состоявшемся на Гавайях в 1961 году. Мы отправились туда вместе с Улафом Селлингом — он в качестве официального представителя Академии наук Швеции. Сейчас многие друзья Улафа пополнили собой ряды Академии. Но Форест Браун не дожил до дней триумфа, и Питер Бак тоже. Все члены экипажа «Кон-Тики» давно уже приняли Улафа в почетные члены своей команды, а теперь ему предстояло рассказать о результатах пыльцового анализа, проведенного на острове Пасхи. Я же представил Конгрессу итоги наших совместных с американскими археологами раскопок на этом острове, а также на других островах Полинезии и на Галапагосах.
В завершение Конгресса все три тысячи участников единогласно проголосовали за резолюцию, согласно которой основными источниками информации о народах и культуре тихоокеанских островов являются Южная Америка и Юго-Восточная Азия.
По ту сторону «железного занавеса»
— Наконец-то мы снова делаем хоть что-то разумное.
Снова тот же знакомый голос после нескольких недель молчания.
Разумное?
Я карабкался вверх на четвереньках, пробираясь между валунами застывшей лавы, усеявшими склоны вулкана Тейде на Тенерифе. Следом за мной поднималась Жаклин. Совершенно бестолковое занятие. Сегодня было воскресенье, и мы вполне могли бы отдыхать в гамаках в саду нашего дома в долине пирамид.
У меня есть святой принцип — в воскресенье никакой работы. Тут и уважение к постулатам религии, объявившей седьмой день творения днем отдыха, и холодный расчет. После воскресного безделья я с новой силой чувствую зов природы, ощущаю прилив энергии в душе и теле, с новыми силами встречаю следующую трудовую неделю.
Мне вовсе не хотелось разговаривать. Я тщательно выбирал, куда поставить ногу, чтобы не уронить какой-нибудь камень прямо на голову идущей следом Жаклин, и с трудом наполнял легкие разреженным воздухом высокогорья. Странно, что мой аку-аку именно сейчас подал признаки жизни. Прошло уже много времени с тех пор, как я спустился вниз с кратера вулкана на острове Пасхи, и в круговерти поездок и деловых встреч я совсем забыл о его существовании. Может быть, мы вспомнили друг о Друге именно потому, что вновь оказались на склоне вулкана?
Приближалось Рождество. Скоро закончится юбилейный год, и ему на смену придет следующий, который предстоит заполнить будничной работой.
Какой замечательный вид открывался отсюда! Даже черные куски застывшей лавы многообразием своих форм и размеров привносили жизнь и движение в мрачный на первый взгляд пейзаж. Мир тропического многоцветья остался далеко внизу, в долине Гуимар. Выше по склону его сменил густой сосновый лес, но и он отступил на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, возле самого края гигантского ведьминого котла. Внутренность кратера представляла собой огромную чашу двенадцати километров в диаметре, наполовину заполненную остывшей лавой. Вершина Тейде вздымалась над океаном на три тысячи семьсот метров и считалась самой высокой точкой на территории, подвластной Испании. Мы выбирались из кратера по черной и темно-коричневой породе, похожей на пригорелую кашу, и отдельные камушки блестели, как крупинки сахара или корицы. Из растений здесь встречались только отдельные, абсолютно круглые кусты, торчавшие из каши, словно лохматые головы троллей, которые когда-то давным-давно пытались выбраться из-под земли наружу, да так и застряли в затвердевшей лаве.
Океан, горы, лес или пустыня — все это подарили нам силы созидания ко дню рождения. Природу по-настоящему любит тот, кто разделяет вкусы Творца. Войдите в Божий храм, будь то синагога, церковь или мечеть, и вы услышите одну и ту же историю о том, как Господь создал мир, а затем день отдыхал, преисполненный гордости за творение рук своих.
Мой невидимый двойник пребывал в разговорчивом настроении. Наша беседа текла легко, как и мои собственные мысли, в то время как мое бренное тело задыхалось от разреженного воздуха и молило об отдыхе для уставших мускулов.
— Почему ты все время стремишься все выше и выше?
— Потому что только забравшись высоко в горы можно насладиться такой красотой. И в науке — то же самое. Хотя нельзя не признать, и внизу, в долине, тоже очень красиво. Но есть риск, что со временем твой горизонт сузится до опасных пределов.
Мы добрались до уступа на высоком утесе из застывшей лавы. Куда ни бросишь взгляд, отсюда открывалась завораживающая панорама. Жаклин уселась рядом со мной, и, тяжело дыша, мы принялись осматривать окрестности.
— Сидя на вершине горы посреди острова и глядя на океан, чувствуешь себя в полной безопасности, — заметила Жаклин.
Как обычно, я согласился. Возможно, это просто атавизм — никто неожиданно не выскочит на тебя из темного леса. А может, все дело в генетической памяти, сохранившейся с тех времен, когда наши биологические предки выползли из океана на сушу и впервые вдохнули воздух. В любом случае, одно я знаю точно: океан был источником жизни на земле, и пока в океане остается жизнь, жизнь будет продолжаться и на суше. Но если океан умрет, то высохнет и погибнет планктон, и тогда одни леса не смогут давать в атмосферу необходимое количество кислорода. И тогда нашим потомкам мало поможет тот факт, что у них легкие вместо жабр.
Мы лежали рядом и смотрели на голубое небо и голубой океан. Наши глаза мало-помалу закрывались, и вскоре Жаклин уснула.
— В самый разгар «холодной войны» ты бывал в Советском Союзе. Что ты думаешь о коммунизме?
Мне довелось увидеть коммунизм как изнутри, так и будучи в странах, балансирующих на грани между коммунизмом и капитализмом. Я видел страны, в которых царит ужасающая нищета, где тоненькая прослойка правящего класса отказывается признать, что его народ голодает. И я понял, что общество, в котором люди умирают от голода прямо на улицах, равно как и общество, неспособное обеспечить каждого своего члена пищей и кровом, является больным обществом. Когда человек болен, ему требуется лекарство. По-моему, коммунизм и является сильнодействующим лекарством. Если лекарство принимали достаточно долго и у каждого появилась еда и крыша над головой, можно от него отказаться. Здоровому обществу такое лекарство не требуется.
В остальном у меня нет ярко выраженной политической платформы. Пока я не знаю ни одной партии, которая выступала бы за все то, за что выступаю я, и отрицала бы все то, что я отрицаю. Во всех партиях есть что-то хорошее и что-то плохое. Помню, однажды я разговаривал со своим русским переводчиком Львом Ждановым и его престарелой матерью, маленькой, худенькой, морщинистой женщиной. Она рассказывала о своей молодости, о том, с какой радостью она участвовала в революции, о том, что красный флаг для людей ее поколения был символом новой жизни, жизни в человеческих условиях. Она говорила с таким энтузиазмом, что мне на память пришел образ Жанны д’Арк. Полагаю, окажись я в таких же обстоятельствах, что и эти люди, и я с таким же энтузиазмом встал бы под красные знамена.
При жизни Сталина книга о «Кон-Тики» была запрещена в Советском Союзе, и меня там совершенно не знали. После прихода к власти Хрущев дал согласие на ее перевод, и она тут же завоевала огромную популярность во всех странах Восточного блока. Тираж книги достиг миллиона экземпляров, и мои спокойные дни закончились. В спор вступили ученые мужи из Академии наук.
О, то были ученые в самом глубоком, чистом смысле этого слова — они специализировались в толковании надписей, которые сами не могли прочесть! Ведь до появления европейцев во всем тихоокеанском регионе — а он занимает ровно половину поверхности всего Земного шара — совершенно не имелось никакой письменности. Единственное исключение представлял собой остров Пасхи, где удалось обнаружить двадцать деревянных дощечек, покрытых иероглифами, но даже сами островитяне не могли их расшифровать. Небольшая группа московских языковедов и криптологов предприняла попытку про-читать надписи на «ронго-ронго», но на их труд никто не обращал никакого внимания до тех пор, пока отголоски бушевавших на Западе дебатов не просочились через «железный занавес» и не попали на страницы газет. Мой отважный переводчик, Лев Жданов, регулярно переводил на норвежский критические статьи обо мне и, невзирая на принятую в СССР практику перлюстрации писем, отсылал их мне. Словом, все началось сначала.
В те времена русских ученых практически не выпускали за границу, и уж конечно никто из них не бывал на острове Пасхи. Почта шла медленно, но после того, как я начал выступать в свою защиту, атаки советских ученых стали еще более агрессивными. Мне приходилось неделями ждать ответа на каждую свою реплику, поскольку цензоры выискивали во всем, что я писал, зашифрованные шпионские сообщения.
Но затем произошло неожиданное событие — на сцену вышел президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш, человек, запустивший в космос первый советский спутник. Он пригласил меня в Москву на встречу с академиками.
Я принял приглашение. Шел 1962 год, самый разгар «холодной войны». После завершения финской кампании я ни разу не встречал ни одного русского коммуниста, поэтому было вдвойне интересно предстать перед залом, битком набитым советскими учеными во главе с самим Келдышем.
Келдыш открыл собрание и предоставил слово руководителю отделения антропологии. Из зала поднялся крепко сбитый товарищ с внушительными усами а-ля Сталин, живое воплощение западного представления о коммунистах.
Я не понимал ни слова из того, что он говорил, но, судя по громогласному голосу и угрожающим жестам, он явно не рассыпался в комплиментах в мой адрес. Когда он закончил выступление и вернулся на свое место, наступила гробовая тишина. Переводчик как мог сгладил острые углы, но тем не менее суть аргументации моего нового оппонента оказалась для меня совершенно неожиданной.
Моя теория миграции в тихоокеанском регионе, оказывается, полностью не соответствовала ленинскому учению. Основатель советского государства утверждал, что причина любой миграции — либо перенаселение, либо вражеское нападение.
В зале воцарилось напряженное ожидание. Что я мог ответить? Переводчик смотрел на меня несчастными глазами. Действительно, о какой дискуссии могла тут идти речь?
И тут у меня вырвалось:
— Вот уж не знал, что Ленин был антропологом.
Наверное, я испугался не меньше, чем окружающие. Посреди гробового молчания переводчик дрожащим голосом перевел мое богохульство. Но я заметил, что некоторые пытались скрыть улыбки. Чтобы сгладить неловкость, Келдыш пригласил меня на трибуну. И тут до меня стал доходить смысл происходящего. В зале действительно сидели академики, но выступавший до меня двойник Сталина вовсе не был ученым, просто партия наградила своего верного функционера и поставила его во главе отделения Академии. Любое направление искусства, культуры или науки в СССР возглавлял человек, напоминавший Сталина, если не внешне, то внутренне. Человек с усами выполнил свой долг, напомнив собравшимся про учение Ленина. Больше ему сказать было нечего.
Я честно выдержал свое выступление в духе марксизма-ленинизма. На примере Перу я показал, как с давних пор перенаселение и давление со стороны внешних врагов было главной проблемой рыбаков, населявших узкие речные долины в пустынных прибрежных районах Анд. Одна культура сменяла другую, пока в 1530-х годах империю инков не захватили испанцы. Завоеватели выяснили, что вся история покоренной империи записана на деревянных дощечках, хранящихся в храме Солнца в Куско, и незамедлительно сожгли их. Но некоторые из «амаута», ученых жрецов древних инков, спаслись благодаря частым миграциям. Последняя из них случилась всего за три поколения до прихода испанцев. Тупак Инка Юпанки, дед покоренных европейцами правителей, покинул свою империю и завоевал государство Чиму, а также все поселения на четыре тысячи миль на юг от экватора. Узнав же от покоренного населения, что в Тихом океане находятся обитаемые острова, он построил флот из сотен бальсовых плотов и с половиной своей армии отправился в плавание. Через девять месяцев Тупак Юпанки вернулся и привез с собой темнокожих пленников.
Понятия не имею, знали ли все это мои русские слушатели. Они сидели тихо и слушали меня вполне благожелательно. Я также добавил, что прибрежная часть Перу часто страдала от природных катастроф. Спускающиеся с гор грязевые потоки и приходящие с океана ураганы не раз вынуждали местное население искать спасения на плотах. В годы, когда бушевали ураганы, возникало мощное океанское течение от берегов Перу прямо к острову Пасхи. В заключение я отметил, что у нас нет никаких оснований полагать, будто люди, населявшие далекие страны в давно прошедшие времена, обладали меньшим мужеством, любопытством, алчностью и любовью к приключениям, чем мы сегодня. И когда их охватывала тяга к перемене мест, ничто не могло остановить их.
Возражений не последовало. Келдыш пригласил выступить противников моей теории происхождения полинезийцев. Несколько человек встали со своих мест, но только для того, чтобы задать уточняющие вопросы. Мои ответы, похоже, всех удовлетворили.
Человек, отправивший в глубины Вселенной первого космонавта, спокойно и уверенно вел дискуссию о покорении просторов Тихого океана в древние времена. Он ничем не выдал своего собственного мнения, пока не высказался последний участник дебатов. И только потом совершенно ясно дал понять, на чьей он стороне. В заключительном слове он резко критиковал своих коллег за то, что они плохо подготовились к научному спору и не смогли убедительно обосновать свое критическое отношение к моей теории. С улыбкой повернувшись ко мне, он выразил надежду, что в моей следующей экспедиции обязательно найдется место для русского.
Так благополучно завершилась моя личная маленькая «холодная война» с академиками из Советского Союза. В знак примирения от имени Московского Государственного университета мне вручили медаль М. В. Ломоносова. Несмотря на то, что я уже состоял почетным членом Академии наук Нью-Йорка, мне присвоили почетную докторскую степень АН СССР. В те годы это было неслыханно, и я уверен, что не кто иной, как Келдыш проделал это маленькое отверстие в «железном занавесе».
Через несколько лет, когда я планировал путешествие через Атлантический океан на корабле из папируса в составе многонациональной команды, я вспомнил слова Келдыша. Я написал ему и попросил подобрать для моего экипажа доктора, владеющего английским языком и обладающего чувством юмора. В результате, с трапа самолета в каирском аэропорту сошел Юрий Александрович Сенкевич, распространяя вокруг слабый запах водки и смущенно улыбаясь. Каким-то образом Келдыш победил советскую бюрократическую машину, и Юрий стал первым русским, получившим разрешение самостоятельно покинуть страну и принять участие в путешествии на капиталистической лодке из папируса. Я специально просил человека с чувством юмора, потому что не хотел получить фанатичного партийного функционера, к тому же юмор занимает на борту мало места, а значит очень много. Позже Юрий признался, что специально крепко выпил в самолете, чтобы с первых минут знакомства произвести на меня впечатление рубахи-парня.
Со временем Сенкевич возглавил медицинский центр по подготовке советских космонавтов, а после трех наших экспедиций на лодке из тростника получил приглашение из США принять участие в дискуссии, посвященной теме мирного сосуществования представителей различных национальностей в условиях перенаселенности и повышенного напряжения.
Советские специалисты по «ронго-ронго» также превратились из моих самых ярых оппонентов в самых надежных союзников, когда дело дошло до расшифровки иероглифов на деревянных дощечках с острова Пасхи.
На XXXII Международном конгрессе американистов, состоявшемся в Копенгагене в 1956 году, сенсацию произвел дотоле никому не известный человек. Немецкий специалист-дешифровщик по имени Томас Бартель заявил, что нашел ключ к пониманию надписей на «ронго-ронго». Сенсация достигла апогея, привлекла внимание всей мировой прессы, когда он сообщил, будто в одной из таблиц говорится о предках островитян, пришедших на остров Пасхи с Раиатеа в Полинезии в 1400 году нашей эры. То есть с совершенно противоположной
стороны и гораздо позже, чем утверждал я.
Даже авторитетный Музей человека в Париже выставил бартелевский текст расшифровки на стенде, посвященном острову Пасхи. Однако он провисел там недолго. К делу подключились русские языковеды. Они обработали надписи на «ронго-ронго» с помощью компьютеров и пришли к выводу, что надписи сделаны на неведомом языке, не встречающемся нигде в Полинезии. Не зная этого языка, невозможно прочесть «ронго-ронго».
Тем не менее фантазии Бартеля переполошили весь научный мир. Даже его собственные ученики опровергают результаты бартелевской расшифровки и наперебой предлагают собственные, ничуть не менее фантастичные. А пока иероглифы «ронго-ронго» хранят свою тайну.
Когда мне предложили объехать Советский Союз с моим фильмом о «Кон-Тики», я согласился на одном условии: я сам составлю программу поездки и буду передвигаться совершенно свободно. Сегодня я могу сказать, что и за время войны, и в последующие годы войны «холодной» я хорошо узнал мир по обе стороны «железного занавеса». Главный вывод — вовсе не государственная граница пролегает между друзьями и врагами.
Быстрее других в советской Академии наук я подружился с этнологом Генрихом Анохиным, ветераном войны, специалистом по скандинавским языкам и культуре. Именно благодаря ему во время моего первого визита в Москву я встречался не только и не столько с учеными, сколько с членами писательской и актерской гильдий. В тесных квартирах и маленьких затерянных в подмосковных лесах дачах водка текла рекой, икра лежала горами, и атмосфера была самая что ни на есть дружелюбная. Все знали, что я одновременно являюсь почетным членом Академии наук Нью-Йорка и почетным доктором наук АН СССР, но старательно избегали разговоров и о науке, и о политике.
В поездке по бескрайним русским равнинам и по многочисленным республикам СССР неизменно рядом со мной был переводчик книги о «Кон-Тики». Мы вместе гостили у крестьян в колхозах, заходили в деревенские православные церкви, густо пахнущие благовониями, к моему удивлению, они всегда были полны народа. В свете множества свечей стены сияли чистейшим золотом, а за право обладать иконами, хранившимися в этих скромных храмах, владелец любого музея отдал бы правую руку. За тяжелыми церковными дверьми царила удивительная атмосфера — воспоминания о невозвратно ушедшем прошлом и надежда на лучшие времена в будущем.
Ночным поездом мы приехали на запад от Москвы в Ленинград, чтобы взглянуть на раритеты с тихоокеанских островов, доставленные в прошлом веке в царские музеи. Много дней мы ехали на восток по транссибирской железной дороге, через всю Сибирь, мимо бесконечных лесов и покосившихся заборов, и на остановках закутанные в меха пассажиры уходили в скованные морозом поселки. В конце концов, мы оказались в самом Владивостоке, где у северо-восточной оконечности Тихого океана соседствуют Советский Союз и коммунистический Китай. Далее, в океане, Япония, Курильские и Алеутские острова образовывают мост до притулившейся у берегов Британской Колумбии цепочки островов, где я жил перед войной и где впервые узнал о существовании естественного морского пути из Азии в Америку и Полинезию. Меня поразило, что советские власти, совершенно не думающие об экологии на западе страны, принялись строить здесь, на востоке, Целлюлозно-бумажный комбинат — а ведь вопросы сохранения окружающей среды стоят в восточных регионах гораздо острее.
В Сибири мне было слишком холодно. Я предпочел бы, чтобы меня подхватило теплое японское течение и медленно вынесло к покрытым снегом и льдом берегам Северной Америки.
Самые прекрасные воспоминания остались у меня от Грузии. Актеры и музыканты из Тбилиси отвезли нас со Львом на рыбалку. Мы лежали в траве около кристально чистого ручья в расселине Кавказских гор и ели свежую форель, которую мы ловили с такой быстротой, что едва успевали менять наживку. Словно древние викинги, мы пили грузинское вино из коровьих рогов. Поскольку их невозможно поставить, их всякий раз приходилось осушать до дна, прежде чем отломить кусок хлеба или взять еще одну рыбину. Согласно местному обычаю, надо было произносить тосты за каждого из гостей по отдельности, а также за женщин, за мир, за дружбу, за короля Улафа и за премьера Хрущева, за наших предков и за потомков, за любовь, за земные плоды и за долгую и счастливую жизнь. Словом, рыбалка вылилась в долгий и очаровательный обед на открытом воздухе. Даже мой верный спутник Лев потерял счет времени. В итоге нам пришлось мчаться на машине сломя голову, чтобы успеть на ночной московский поезд. Пока я на бегу благодарил наших хозяев за гостеприимство, Лев вскочил в вагон набиравшего ход поезда. Я с чемоданом в руке побежал за следующим. Назавтра в Москве была запланирована моя лекция. Я зашвырнул чемодан в открытую дверь вагона и ухватился за поручни, но состав ехал уже так быстро, что мои ноги повисли в воздухе, и не было никакой возможности поставить их на ступеньку. Поезд мчался на всех парах, а следом за ним в горизонтальном положении летел я — словно на «Кон-Тики» в сильную бурю. Я уж решил, что пришел мой последний час, но проводник вместе с другими пассажирами втащили меня в тамбур.
Все обошлось несколькими ссадинами, тем не менее ко мне вызвали медсестру. Кровь из глубокой царапины на ноге проступала поверх брючины. Сестра наложила повязку, и, надев поверх нее строгий синий костюм, я на следующий день предстал перед аудиторией. Даже по эту сторону «железного занавеса» в подобных случаях полагалась торжественная форма одежды. Кепку и рабочую спецовку в стране победившего пролетариата не приветствовали бы.
Как героя вечера и его переводчика, нас со Львом усадили в удобные кресла на подиуме. Только я собрался заговорить, как Лев наклонился и протянул руку к моей левой брючине, словно собираясь снять с нее пушинку. Я опустил взгляд и увидел, что именно его смутило — белая нитка на моем черном носке. Беда в том, что она оказалась вовсе не короткой — он тянул и тянул, а она все вытягивалась и вытягивалась. Я уже понял, что это бинт, а Лев продолжал медленно и невозмутимо вытягивать нитку и сматывать ее в клубок. Мы оба сидели с каменными лицами, но я незаметно пытался убрать ногу подальше, пока он не размотает весь бинт. Наконец, до него дошло. Лев нагнулся и засунул клубок мне под брючину. Теперь я уже думал не о предстоящей лекции, а о том, как бы дойти до трибуны, не выронив из-под штанов моток ниток.
Мне казалось, что я снова ощущаю тот бинт у себя на ноге. На сей раз заснул я. Жаклин разбудила меня и сказала, что пора спускаться вниз. Наши мускулы все еще гудели после подъема, а ноги затекли от сна в сидячем положении, и мы едва успели дойти до начала размеченной тропы, когда на дорогу упала тень от кратера. Через мгновение солнце закатилось за вершину вулкана, одарив нас на прощание фантастической симфонией бликов, цветов и огней. Мы попрощались с силуэтами черных, как уголь, троллей, остававшихся незамеченными при свете дня и выползших на поверхность с наступлением сумерек. Но мы знали, что назавтра, когда солнечные лучи вновь заиграют на конусообразных склонах вулкана Тейде, мы уже не потеряем из виду эти удивительные скульптуры, изваянные природой из темно- и светло-коричневой лавы.
На следующий день мы спустились на самое дно кратера — безо всякой цели, просто чтобы насладиться близостью к природе. Разнообразный и яркий мир тропиков вскоре исчез за причудливыми фигурами из застывшей лавы, грудами желтого песка и черными валунами.
Мы с аппетитом съели принесенный с собой ланч. До наступления нового года оставалось всего два дня, но солнце в чистом горном воздухе палило с такой силой, что нам пришлось искать убежище в тени кустарника. Жаклин вскоре заснула на мягком матрасе из веток, так и не заметив, что кроме нас раскидистый кустарник предоставил укрытие еще и паре маленьких веселых птичек. Одна из них чуть было не села на нос спящей Жаклин.
Я познакомился с Никитой Хрущевым в музее «Кон-Тики». Он вместе со своим верным министром иностранных дел Громыко находился в Норвегии с визитом. Хрущев дал разрешение на издание моей книги о «Кон-Тики» в СССР, и теперь он хотел увидеть сам плот, к которому испытывал почти родственные чувства. Громыко всегда следовал за ним безмолвной тенью, но когда мы подошли к скульптурам острова Пасхи, он шепнул, что переводчик из их делегации — тот самый, кто перевел с норвежского на русский мою книгу «Аку-Аку». Сам переводчик был занят по горло, потому что жизнерадостный советский лидер постоянно задавал вопросы, шутил и вообще нарушал все правила этикета, равно как и свой собственный график. Он явно предпочел бы стоять босиком вместе с нами на плоту, чем часами сидеть на скучных совещаниях, где для того, чтобы проветрить ноги, надо разыгрывать приступ ярости и стучать башмаком по пюпитру. Наконец он собрался уходить, задержавшись в музее на тридцать минут дольше запланированного. В дверях он остановился и спросил, возьму ли я его с собой в следующую экспедицию. Журналисты и переводчики разом подались вперед, просунув микрофоны на длинных рукоятках прямо мне под нос. Что я мог ответить на такой вопрос человеку, воплощавшему для всего мира идею коммунизма?
— А что бы вы там делали? — поинтересовался я.
— Я мог бы быть поваром, — раздалось в ответ. Оказывается, Хрущев умеет готовить.
— А как бы вы готовили еду на борту?
— Я бы взял с собой примус.
— Захватите икры побольше, и можно ничего не готовить, — отшутился я.
На том мы и расстались. Первое доказательство того, что он не забыл о нашем соглашении, я получил в тот же день — бочонок икры и ящик отборной водки из советского посольства в Осло. И, словно этого было не достаточно, Хрущев не замедлил продемонстрировать, что отвечает моему главному условию — чтобы русский участник экспедиции обладал чувством юмора.
Через несколько часов после встречи в музее «Кон-Тики» на мое имя из Министерства иностранных дел пришло неожиданное приглашение на неофициальный прием в честь главы советского государства. Прием происходил в особняке, незаметно стоявшем в одном из уголков парка Народного музея. По такому случаю парк на целый день закрыли для туристов. После обеда мы все вышли на свежий воздух, где пара танцоров в национальных костюмах под аккомпанемент скрипки исполнила «халлинг» национальный норвежский танец. Хрущев пребывал в отличном расположении духа и наслаждался вовсю.
У меня не возникло ни малейших сомнений, кому я обязан приглашением. На прием не допустили ни журналистов, ни представителей светских кругов только несколько политиков из обеих стран да ваш покорный слуга. В таком обществе я чувствовал себя довольно неловко, поэтому держался позади и издалека, через головы остальных гостей смотрел на представление.
Когда артисты закончили прыгать и скакать («халлинг» состоит, в основном, из прыжков), глава советского государства вышел на лужайку, знаком велел скрипачу играть и пригласил на танец министра Громыко. Громыко позеленел от отчаяния. Кроме всего прочего, он не производил впечатления спортивного человека. Получив от Громыко отказ, Хрущев невозмутимо подошел к министру иностранных дел Норвегии Харальду Ланге и низко поклонился. Я знал Ланге как опытного дипломата, умевшего находить выход из любой запутанной ситуации, но это было слишком даже для него. Он покраснел как рак и не двинулся с места. Скрипач продолжал, как заведенный, наигрывать веселые народные мелодии.
А затем я увидел картину, которая доставила мне не меньшую радость, чем чаплинские фильмы, которые мы смотрели в детстве, захлебываясь от смеха.
Маленький, кругленький Хрущев не желал сдаваться. Следующим он пригласил нашего высокого, худого премьер-министра Герхардсена. Голова Хрущева находилась где-то на уровне живота Герхардсена. Когда премьер-министр вышел в круг, силы оставили меня. Хозяева-норвежцы пытались выдавить из себя вежливые улыбки, русские стояли с каменными лицами, советский президент прыгал и вертелся, как мячик, в руках длинного премьер-министра Норвегии, а я, потеряв всякий контроль над собой, визжал от смеха и топал ногами от восторга.
Прошло какое-то время, и в очередной свой приезд в Москву я встретился с дочерью и зятем Хрущева. Она возглавляла какой-то экологический журнал, а ее муж был главным редактором газеты «Известия». Единственный из всех моих знакомых он дал мне политическую характеристику. Дело было так. Меня пригласили в редакцию его газеты. Он вывел меня на балкон с видом на дома и практически свободную от машин главную улицу.
— Все это мы построили благодаря революции, — гордо заметил он.
— Вы были в Осло вместе с вашим тестем. Вам понравилась улица Карл-Юхансгате? — спросил я.
Он признался, что очень.
— А ведь мы не устраивали никакой революции.
Он рассмеялся и повернулся к коллегам.
— Хейердал — неисправимый социал-демократ, — пояснил он.
Лед в отношениях между Востоком и Западом еще не растаял в те дни, когда я впервые побывал в Азербайджане и встретился с главой республики Гейдаром Алиевым, одним из членов Верховного Совета СССР, не принадлежащих к русской национальности. До этого я целую неделю ездил по республике в обществе президента местной Академии наук, Хасана Алиева, не подозревая о том, что они родные братья. Хасан Алиев пригласил меня в Азербайджан, чтобы показать мне самые древние датируемые наскальные изображения кораблей в мире. В нескольких километрах к югу от Баку Каспийское море отступило от своих берегов, и остатки старинных приморских поселений оказались на суше. Поскольку развалины поселений находились выше барельефов кораблей, стало возможным определить возраст изображений с помощью метода углеродного анализа. Некоторые были высечены в скалах более пяти тысяч лет назад, и они очень напоминали древнейшие египетские рисунки тростниковых судов, встречающиеся на берегах Красного моря. В довершение сходства, и у тех, и у других на носу красовался символ солнца. Менее древние изображения в точности напоминали старинные корабли викингов. Мореплаватели жили в этих краях с незапамятных времен.
За время поездок с Хасаном Алиевым я узнал и полюбил людей и природу этого замечательного края. Уже тогда, в шестидесятых годах, Хасан считался самым активным защитником окружающей среды во всем Восточном блоке. Единственное, что порой наводило меня на мысль о его высоких связях, было то, что всякий раз, заметив дым заводских труб на горизонте, он доставал блокнот и делал там заметки. «Если не удастся уменьшить ущерб, наносимый природе заводом, — пояснял он, — то придется закрыть завод». Здесь же я узнал, что мы, представители западной цивилизации, не всегда были образцом для подражания. Не кто иной, как Альфред Нобель был одним из пионеров нефтедобычи в Азербайджане, и после него огромные пространства плодородной земли превратились в черную изуродованную пустыню.
В день моего отъезда Хасан осторожно поинтересовался, не возражаю ли я против встречи с его братом. Я почувствовал, что здесь что-то кроется, и мои подозрения получили подтверждение, когда мы оказались в президентском дворце. Встреча носила очень официальный характер, без малейших отклонений от правил этикета. И президент, и я вошли в огромный зал из расположенных в противоположных концах зала дверей и пожали друг другу руки точно посередине. Затем мы одновременно уселись по разные стороны длинного стола. С его стороны сидели политики, с моей — ученые.
После множества речей и тостов, когда количество пустых бутылок на столе многократно возросло, первоначальный порядок нарушился, и скоро уже было невозможно разобрать, где ученый, а где профессиональный коммунист. Для меня, выросшего в консервативной западной семье, где на коммунистов смотрели как на существ с другой планеты, было удивительно и даже страшно обмениваться рукопожатиями с настоящим коммунистическим вождем, сидеть за его столом и разговаривать с ним как с обычным человеком. На самом деле он произвел на меня очень благоприятное впечатление. Он и выглядел, и говорил как настоящий лидер.
После распада Советского Союза Алиева избрали президентом независимого Азербайджана. Он обрел большую популярность на Западе. Англия и Норвегия наперебой искали его благорасположения. Все хотели продолжать добычу нефти там, где ее начал основатель Нобелевской премии мира. В Азербайджан направилась английская делегация под руководством Маргарет Тэтчер, а нашему правительству дали понять, что норвежцы тоже могут приезжать, если я войду в состав делегации. Алиев запомнил нашу давнюю встречу — в годы «холодной войны» я был его единственным гостем с Запада.
Таким образом, я снова оказался в Азербайджане и снова сидел рядом с президентом Алиевым за тем же самым длинным столом. Но на сей раз я говорил не от своего имени, а от лица Норвегии, а рядом была Жаклин. Шел 1994 год, любимый старший брат Алиева уже умер, но наши рассуждения о защите окружающей среды были живы в памяти президента. Мои соотечественники надеялись получить лицензию на разработку богатых нефтяных месторождений в шельфе Каспийского моря, и наша давняя репутация поборников экологически чистой нефтедобычи сослужила нам хорошую службу.
Алиев и его министры настаивали, чтобы я открывал все наши встречи словами «дорогие азербайджанцы».
Я так часто повторял это словосочетание, что оно невольно напомнило мне о «асерах», народе, жившем на древней родине викингов, в стране Асеров. Потом я вспомнил о наскальных изображениях судов, похожих на корабли викингов. И, наконец, в бакинском музее Жаклин обратила внимание на то, что на картинках, воспроизводивших сцены охоты времен каменного века, все азербайджанцы были светловолосыми. Директор музея пояснил, что азербайджанцы — изначально нордическая раса, а свои нынешние черты она приобрела в результате нашествия арабов. В разговорах между собой члены нашей делегации не раз упоминали, что лучший путь транспортировки оборудования из Норвегии в Азербайджан — по древней торговой дороге викингов, начинавшейся от Балтийского моря и далее пролегавшей через Россию по Волге.
Я попросил, чтобы из Норвегии мне прислали по факсу первые шесть страниц «Саги Королей». Исландец Снорри, умерший в 1241 году, написал в своей истории Норвегии, что к востоку от Черного моря и до границ турецкой империи правил вождь Один. От него произошел Харальд Прекрасноволосый и другие норвежские короли. Под ударами римлян он вынужден был покинуть свои владения и отправился на север, через Русь, землю Саксов и Данию, и закончил скитания на Скандинавском полуострове.
Всем интересно, куда ушли викинги, и никто не задается вопросом, откуда они появились. Но не вышли же они, в самом деле, из ледяных глыб в конце ледникового периода! А что, если их прародина находится в районе Каспийского моря? Может быть, именно отсюда начали свой бесконечный путь светловолосые путешественники, останки которых находят и в замерзшей тундре во внутреннем Китае, которых видели под именем берберов на африканском побережье и которые доплыли до Канарских островов?
У меня часто складывалось впечатление, что при контактах с западными политиками и журналистами лидеры коммунистического мира специально скрывали свои истинные лица за каменной официальной маской. Мне довелось встречаться с некоторыми из них в менее формальной обстановке и составить впечатление, какими они были в обычной жизни. После падения коммунизма некоторые, вроде Гейдара Алиева, стали весьма популярны в капиталистическом мире. Другой подобный пример — Михаил Горбачев.
В 1992 году, на конференции экологов в Рио-де-Жанейро, Горбачеву предложили организовать и возглавить структуру, занимающуюся вопросами охраны окружающей среды. Вскоре после этого я получил от него письмо с просьбой выступить в качестве его личного помощника на международном съезде Зеленого Креста в Киото. То была странная встреча. Я столько раз видел его лицо по телевизору и на страницах газет, что меня не покидало ощущение, будто мы давно знакомы. Я едва удержался, чтобы по-приятельски не обнять его. И как выяснилось, зря. Оказывается, он читал все мои книги, смотрел все мои фильмы и тоже воспринимал меня как давнего друга. Так что обняться нам, как говорится, сам Бог велел.
Честные улыбающиеся глаза Горбачева и его добрая душа сразу выделяли его из мира политиков. И он доказал, что это так, когда поставил человеческую жизнь значительно выше искусственно проложенных границ и гонки вооружений. Рядом с ним становилось понятно, что он стоит на стороне всего человечества против наших общих врагов, и национальность, равно как политические убеждения, не имеют никакого значения. Он прекрасно понимал, что с быстрым развитием современных технологий ив условиях демографического взрыва наше поколение ставит под удар самую основу существования рода человеческого.
Я активно участвовал во многих экологических организациях с тех пор, как двадцать пять лет назад принц Голландии Бернхгард назначил меня координатором Всемирного фонда дикой природы. В тот год мы с Нилом Армстронгом приняли участие в торжественной встрече в Лондоне, целью которой было привлечь всех членов королевских семейств Европы к участию в Фонде. Голубой крови собралось столько, что когда Боб Хоуп вышел на трибуну и поглядел в зал, ему показалось, что перед ним — ожившая карточная колода.
Ту встречу организовал принц Филипп. Он всегда оставался главной движущей силой Фонда. И он одним из первых почувствовал, когда пришла пора менять саму концепцию охраны природы, заключавшуюся ранее в защите животных от охотников, переориентировать ее на защиту человека от плодов его же деятельности.
Принц Филипп также сыграл ключевую роль в организации музея «Кон-Тики». Когда наш плот скромно лежал под навесом на задворках Музея мореходства в Осло, принц как-то раз пришел посмотреть на него. Через некоторое время он вернулся вместе с королевой Елизаветой и королем Хоконом. Их визит породил небывалый всплеск интереса. В результате на деньги, вырученные от продажи билетов, Кнут Хогланд построил здание музея «Кон-Тики».
Однако возвратимся в Киото. Здесь мы увидели, что даже бывший коммунист понимает: мир должен объединить усилия для спасения природы. Горбачев согласился с моей главной мыслью — прочие экологические организации уже работают над охраной животных и растений, рек и лесов. Но главная угроза человечеству заключается в том, что ветра и океанские течения не знают границ. Ветер, зародившийся в Азии, через несколько дней пронесется над Европой, и по собственному опыту я знал, как быстро океанское течение, начавшись у берегов Африки, достигает американского побережья. Во время путешествия на «Тигрисе» мы отметили, что произошла смена направления муссонов. А из этого следует, что на Земле может произойти резкая перемена климата, и никто не знает, какими будут ее последствия для островов и прибрежных районов. Отсюда следовал вывод, что сейчас, пока еще далеко до всемирного объединения всех наций и народов. Международный Зеленый Крест должен как можно скорее развернуть работу на уровне государств и правительств.




Михаил Горбачев в детстве искренне верил в необходимость защиты природы. Он рассказывал мне, что он понял это, когда мальчишкой играл в саду возле родительского дома. Однажды в Гааге во время конференции Зеленого Креста мы с ним зашли в синагогу посмотреть на обряды верующих. Потом мы вышли наружу и остановились под раскидистым деревом. Я очень люблю большие деревья. Я указал на крону над нашими головами и признался:
— Вот мой храм.
Он взял меня за руку и прошептал:
— И мой тоже.
Тут я заметил, что рядом стоит раввин, и быстро добавил:
— Но все же следует признать, что существует некая сила, которая воздвигла этот храм.
И мы втроем обменялись рукопожатиями.
Горбачев хотел, чтобы я привлек к участию в Зеленом Кресте знакомых мне государственных деятелей. Я упомянул его бывшего товарища Фиделя Кастро, такого же ярого защитника природы, как и сам Горбачев. Русскому экс-президенту понравилась моя идея, тем более что он сожалел о разрыве между Кубой и Россией. Горбачев сказал, что с радостью готов встретиться с Кастро в любое время и в любом месте. Я пообещал попробовать организовать такую встречу. Когда я в последний раз видел Горбачева, тот выступал с платформы под открытым небом перед большим количеством народа. После окончания речи он, в сопровождении свиты, прошел мимо меня. Приветственно помахав рукой, он бросил на ходу: «Помнишь про свое обещание?»
В первый и последний раз тогда я попытался вмешаться в международные отношения и потерпел неудачу.
Кастро проявил большой интерес к задачам Зеленого Креста, но добавил, что на Кубе Горбачев сейчас очень непопулярен. Он предложил мне рассказать о Зеленом Кресте со страниц главной газеты острова, «Гранма». Когда же я прямо спросил, хочет ли он встретиться с Горбачевым, Фидель вздохнул:
— Человек с такими глазами не может не вызывать симпатию, но он причинил Кубе столько бед.
Редко я встречал двух людей, имевших столько общего — не только любовь к природе и желание оберегать ее. Но мне не удалось свести их вместе.





Красный остров на голубой планете
Мы остановились перевести дыхание на склоне вулкана. Теперь я мог свободно поговорить и с Жаклин, и с моим аку-аку. Облака, похожие на маленькие кусочки ваты, мирно и бесшумно плыли по небу, вызывая в памяти многие страницы моей жизни. Я видел их и на Фату-Хива, и во время плаваний на кораблях древних мореходов. Они вели меня от берегов Африки мимо Канарских островов к Америке и далее через просторы Тихого океана, к островам Пасхи, Таити и Фату-Хива. Далеко внизу волны разбивались о прибрежные скалы, и я знал ту силу, что породила их. Канарское течение несло океанские валы в направлении Барбадоса, куда мы высадились на «Ра». А также в направлении Кубы, где высадился Колумб.
— Куба. Вы могли приплыть туда на «Ра»?
— Вполне могли. Но странным образом, посещением Кубы я обязан путешествию на «Кон-Тики». После победы революции 1959 года первой книгой, которую издал Фидель, была книга об экспедиции «Кон-Тики». «Разумеется, то было пиратское издание», — он сам с улыбкой признался мне в этом при встрече.
Когда я еще жил в Колла Микери, я постоянно получал приглашения на обед от кубинского посольства в Риме. Но я всякий раз отговаривался, ссылаясь на большое расстояние между столицей и моей деревушкой в Северной Италии. Я не понимал причин повышенного внимания посольства к моей скромной персоне и подозревал наличие каких-то политических интриг. Откуда мне было знать, что за приглашениями стояла фигура Фиделя. Он очень интересовался всем, что связано с океаном, и даже распорядился построить отлично оборудованное научное судно.
Однажды в крохотный городок неподалеку от моего дома приехал посол Кубы. Не соглашусь ли я пообедать с ним? На сей раз отказаться было невозможно. Он ждал в ресторане вместе с крупным чиновником из Гаваны, прибывшим в Европу с визитом. Во время аперитива они поставили на столик микрофон и от имени Фиделя Кастро передали мне приглашение побывать на Кубе. Я ответил, что уже был на Кубе во время правления Батисты, за год до плавания на «Кон-Тики». Торговое судно, принадлежавшее моему доброму другу Томасу Ольсену, высадило меня в Сантьяго-де-Куба. Агенты Томаса снабдили меня железнодорожным билетом до Гаваны и забронировали для меня номер в пятизвездном отеле, где я провел некоторое время, дожидаясь места в первом же самолете на Нью-Йорк.
Нигде еще я не видел такой нищеты и страданий, меня поразил контраст, когда я вошел в роскошный отель. Уже в дверях меня атаковал целый сонм мальчишек в униформе. Каждый хотел донести до номера мой единственный чемодан, и все наперебой совали мне в лицо альбомы с фотографиями местных красоток. Когда я не проявил интереса, они шепотом поинтересовались, не хочу ли я маленьких девочек?
Перед включенным микрофоном я принял приглашение в надежде увидеть новую и лучшую Кубу.
Ивонна была типичной горожанкой из Осло, все ее друзья и родные жили там. Наш домик в Италии она воспринимала как дачу за границей. Я же настаивал на том, чтобы жить там постоянно. После «Кон-Тики» я много путешествовал в одиночку, и Ивонна не могла разделять со мной опасности и трудности моих многочисленных морских экспедиций. Ивонна жила одна в Кола Микери вместе с нашими дочерьми Анетт, Мариан и Беттиной, чудесными девчушками, которые еще долго удерживали нас вместе, даже после того, как в нашем браке появилась трещина. Основной причиной крушения нашего брака, скорее всего, послужили мои частые и долгие отлучки. Ивонна являла собой образец терпения, но все же трудно жить с человеком, который появляется дома от случая к случаю и постоянно и охотно рискует жизнью. Различия во взглядах на воспитание детей тоже сыграли свою роль. Я пытался взять на себя функции строгого стража порядка и морали, но слишком редко бывал дома, чтобы хорошо справиться с этой ролью. Мне некого винить в нашем разводе, кроме самого себя.
Я оставил Ивонне дом в Кола Микери и снова налегке отправился в открытый мир.
На сей раз у меня не осталось никаких обязательств перед Ивонной, и я встретил Лилиану. Она вошла в мою жизнь на несколько лет, пока я не покинул Европу и не поселился в Перу. С теплыми южными глазами и волосами цвета воронова крыла, она ничуть не походила ни на одну из моих прежних жен. Ее прадед был индийским торговцем, водившим караваны от Калькутты в Индии до Карфагена в Тунисе. Его сын женился на дочери берберского вождя, и мать Лилианы родилась от этого брака. Она убежала из дома, поскольку ее отец, раввин, не разрешал ей выйти замуж за итальянца католика. Лилиана родилась в Италии и походила на героиню сказки из «Тысячи и одной ночи». Так считал не я один. Каролина, принцесса Монако, приблизив ее ко двору, говорила: «Ты — просто настоящая принцесса из сказки. У меня есть только титул».
В мою первую поездку на Кубу к Фиделю Кастро я взял с собой Лилиану.
По прибытии нас отвезли в дом, расположенный на окраине старой Гаваны, на берегу озера, окруженного роскошным садом. Раньше в этом районе жили богатые кубинцы, бежавшие из страны после прихода Кастро к власти. Теперь в оставленных ими домах селили важных иностранцев. Моя встреча с Фиделем была назначена на следующее утро.
Едва мы вошли в дом, как ветер снаружи усилился и вскоре превратился в сильный шторм. Сильный дождь застучал по крыше, в воздухе проносились обломки веток. Служители бросились заклеивать окна полосками бумаги — ожидался ураган. Лилиана ушла в спальню, легла на кровать и натянула на голову одеяло. Вдруг дверь распахнулась настежь, и на пороге возник огромный человек в плаще с поднятым капюшоном. Он назвал свое имя — Чоми — и передал, что Эль Команданте интересуется, не хотим ли мы посмотреть на ураган из машины. Я не знал, кто такой «Эль Команданте», но конечно предположил, что это сам Кастро. Поэтому я ответил, что если Эль Команданте считает, что это безопасно, иначе он, разумеется, не стал бы делать такое предложение, то я буду только рад. И мы поехали.
На Кубу обрушился страшной силы ураган по имени Кэт. Упавшие деревья перегораживали улицы, и нам постоянно приходилось искать объездные пути. Наконец мы достигли волнореза напротив Малекона, прогулочной набережной в старой части города. Но сегодня невозможно было различить, где кончался океан и начиналась суша: всюду неслись вспененные потоки воды. Машина то и дело застревала в грязи, и тогда мы вылезали под струи дождя и брызг и выталкивали ее. Наконец, Чоми сдался и предложил оставить бесполезные попытки и зайти к нему на чашку кофе. Мне стало интересно посмотреть, как живет кубинский шофер, и я согласился.
Ураган оборвал электрические провода и опрокинул столбы передач, поэтому во всем городе не светилось ни одного окна. Мы остановились перед кирпичным забором, окружавшим низенький дом, и бегом добежали до калитки. На наш стук вышла пожилая дама со свечой в руке. Она проводила нас в просторную комнату. Редко мне доводилось видеть столь странную обстановку. Огромные картины и фотографии Фиделя на стенах, подарки Фиделю из разных стран мира, антикварные гончарные изделия из Перу и Мексики. Все говорило о том, что здесь живет ученый.
— Нет, я не ученый. Я врач, личный врач Эль Команданте. Я сопровождаю его во всех поездках, а он хранит здесь сувениры, которые привозит из-за границы.
Пройдя через несколько темных комнат, мы оказались в небольшой, но уютной гостиной. Дама, оказавшаяся женой Чоми, предложила мне присесть в просторное, уютное кресло.
— Я промочу ваши кресла. Я мокрый с головы до ног, — ответил я.
— Хотите, я дам вам пару сухих брюк?
Меня проводили в тесную туалетную комнату и вручили фонарик и брюки хозяина. Я с наслаждением вылез из своей промокшей одежды и натянул штаны Чоми. Однако он был настолько крупнее меня, что его брюки не держались у меня на поясе. К тому же у меня не было ремня. Придерживая штаны рукой и чувствуя себя довольно нелепо, я вернулся в гостиную. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошел сам Фидель Кастро, в форме, кепке и бороде, в точности как на фотографиях. Мы стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга. Затем Фидель открыл мне объятия. Одной рукой придерживая сползающие брюки, второй я обнял лидера кубинской революции.
Так состоялась моя первая встреча с Фиделем.
Кастро спросил у Чоми, не пострадал ли ботанический сад. Поскольку телефоны не работали, Чоми не знал. Кастро приказал ему поехать и лично все выяснить и добавил, что я, если хочу, могу его сопровождать. Затем Эль Команданте резко повернулся и ушел.
Порывы ветра несколько стихли. Мы с Чоми долго ехали в темноте. Гавана осталась далеко позади. Наконец мы оказались в огромном то ли парке, то ли саду. Ни одно из здешних деревьев не пострадало — ураган прошел стороной.
— Он будет доволен, — заметил Чоми. — После научно-исследовательского корабля ботанический сад — его самое любимое увлечение.
Убедившись, что все в порядке, личный врач Фиделя отвез меня домой, а наутро он снова появился у наших дверей. Прошедшей ночью острову был нанесен значительный ущерб, поэтому утренняя аудиенция отменялась. Эль Команданте собирался лично оценить последствия урагана и интересовался, не захочу ли я составить ему компанию. «Берите зубную щетку и смену белья, и поехали».
Я пообещал Лилиане, что скоро вернусь.
Чоми сел за руль, и мы помчались. Всюду в глаза бросались страшные разрушения. В составе колонны из четырех машин мы отправились в печальную экскурсию. В первой машине сидела охрана, во второй — Фидель, третьими ехали мы, и замыкала колонну еще одна машина охраны. В последующие три дня я практически не разлучался с Фиделем Кастро. Ураган пронесся вдоль всего южного берега Кубы и не оставил неповрежденным ни одного поселка, ни одного завода.
Первую ночь мы провели в каких-то металлических военных ангарах. Наутро Фидель ждал нас у накрытого на улице длинного стола. Когда мы расселись, я обратил внимание, что перед каждым из нас стоит по одному стакану, а перед Фиделем целых пять. На мой недоуменный вопрос Кастро ответил, что сейчас нам подадут козье молоко с близлежащей фермы, и он должен определить, какая порода коз дает более вкусное молоко. Я не мог не припомнить, что в детстве тоже пил исключительно козье молоко.
— Тогда вы мне поможете, — тут же решил он, и мне тоже выдали пять стаканов.
Мы с Фиделем, словно винные дегустаторы, с торжественным выражением отпили из каждого. Разница была трудноуловима, но я все же сделал свой выбор. Как ни странно, наши вкусы совпали. После этого нам оставалось только побыстрее закончить завтрак и ехать дальше.
Никогда не забуду маленькую рыбацкую деревушку, в которой не осталось ни одного дома. Отовсюду к нам бежали люди с криками: «Эль Команданте, Эль Команданте!» Их энтузиазму и восторгу не было границ. Мы вышли из машин и отправились осматривать разрушения. В стороне ото всех стояла старая женщина и прижимала к груди сломанный радиоприемник. Фидель подошел к ней и крепко обнял ее. Лицо старухи озарилось радостью, и она воскликнула:
— Пусть я потеряла все. Зато увидела Эль Команданте!
Спустя некоторое время Фидель собрал в мансарде кирпичного дома все местное руководство. Первый этаж дома был завален обломками, как после взрыва. Мне казалось, что я снова оказался на фронте в Финляндии — здесь царил тот же дух товарищества. Всю ночь при свете свечи Фидель раздавал приказы и решал всевозможные проблемы.
— Сколько грузовиков вы можете доставить сюда? Где находится ближайший склад цемента? Сколько там мешков?
И далее в том же духе. Он обладал несомненным организаторским даром и умением отдавать приказы таким образом, что люди бросались их выполнять с радостью и энтузиазмом.
К концу третьего дня мы прибыли в такое место, где мог приземлиться его маленький личный самолет, и Фидель, Чоми и я вылетели в Гавану.
Во время моего первого приезда на остров я выяснил, что ученые всего мира не поддерживают контактов со своими кубинскими коллегами и поэтому почти ничего не знают о местных археологических открытиях. Я же проводил много времени среди кубинских археологов, а результатом этого общения были многочисленные встречи с Кастро.
Фидель оказался весьма необычным диктатором. Он жил очень просто — никто не знал, где именно, но я подозреваю, что в том же районе, где располагался наш особняк. Несчетное количество раз я обедал с ним и его ближайшими друзьями, но никогда за столом не было ни одного политика или военного. Круг друзей Кастро состоял исключительно из художников, писателей и ученых. Каждый раз мы собирались у Чоми, в той самой комнате, где я впервые встретил Фиделя, путаясь в чужих штанах.
Нам часто приходилось его ждать и до десяти, и до одиннадцати часов вечера, потому что он работал буквально круглые сутки. Порой около полуночи посыльный доставлял записку, чтобы мы начинали без него. Тогда мы с тем же посыльным отправляли еду со стола к нему в кабинет.
Даже самые яростные противника Кастро признают его вклад в развитие образования и медицинского обслуживания на Кубе. Во время одного из моих приездов на остров, задолго до визита Папы Римского, я с удивлением узнал, что этот коммунист позволил католическим монашенкам ухаживать за больными. На мой недоуменный вопрос он спокойно ответил:
— В больницах много стариков, и им легче, когда за ними ухаживают монашки.
Хотя мне и не удалось уговорить Кастро встретиться с его бывшим коллегой Горбачевым, он охотно согласился повидаться с норвежским капиталистом Кнутом Клостером. Незадолго до этой встречи Клостер приобрел огромный корабль «Франция» и теперь собирался построить самое большое на планете судно под названием «Мир». Судно должно было курсировать между Майами и Гаваной и служить мостом между Кубой и США.
Мы знали, что любимое блюдо Кастро — спагетти с томатным соусом и сыром пармезан, и всякий раз, когда мы летели на Кубу из Италии, Лилиана покупала огромное количество этого лакомства. Таким образом, встреча Фиделя и норвежского судовладельца произошла за блюдом спагетти. После еды Клостер достал чертежи будущего корабля. Кастро, как и мы сами, был явно поражен грандиозностью замысла. Когда они пустились в рассуждения, как лучше распределить доходы — направить их на модернизацию гаванских отелей или оставить на счету местного порта — я никак не мог понять, кто же из них коммунист, а кто акула капитализма. Но потом их разговор переключился на тайны религии, и дело дошло до происхождения жизни и теории Большого взрыва, я с улыбкой предложил им вернуться на грешную землю.
Клостер не отступился от планов построить огромный корабль, но мечта о мосте через Флоридский пролив так и осталась мечтой.
Моя скромная попытка навести мосты между учеными по разные берега этого же пролива увенчалась гораздо большим успехом. Невзирая на блокаду, я сумел привезти на Кубу двух американских археологов и организовать им встречу с Эль Команданте. Результатом встречи стал договор сроком на пять лет о научном сотрудничестве между Институтом Карнеги и Гаванским Университетом. Вскоре появился и первый плод сотрудничества — книга «Искусство и археология доколумбовой Кубы», написанная совместно двумя американскими и двумя кубинскими археологами. А я сочинил к ней вступление.
На протяжении восьмидесятых годов я разрывался между исследованиями на Кубе и раскопками на острове Пасхи. Однажды, когда я ждал машину, чтобы отправиться в аэропорт Гаваны, дверь распахнулась, и в комнату вошел хорошо знакомый бородатый человек в форме цвета хаки. Он сел в кресло и попросил чашечку кофе.
— Куда теперь? — поинтересовался он, глядя на чемоданы.
— На остров Пасхи.
— Угу, — погладил он свою бороду. — Только не говори там, что ты приехал с Кубы. Остров Пасхи принадлежит Чили, и тамошний губернатор женат на дочери Пиночета.
— Ничего подобного, — ответил я. — Губернатор острова действительно дружен с дочерью Пиночета, но женат он на американке. Кстати, он сам археолог, и мы с ним работаем вместе. Он прекрасно знает, откуда я приеду.
Фидель казался приятно удивленным и спросил, как я думаю, примет ли губернатор острова Пасхи коробку сигар в подарок от президента Кубы? Я точно не знал, курит ли Серхио.
— А пьет? — настаивал Фидель.
— Совершенно точно пьет.
Фидель тут же послал на кухню за бутылкой «Гавана Клаб». Шофер, отвечавший за то, чтобы я вовремя попал в аэропорт, начинал заметно нервничать. Когда бутылку, наконец, принесли, Кастро достал ручку и написал на этикетке:
«С наилучшими пожеланиями губернатору острова Пасхи от Фиделя Кастро».
Только я засунул бутылку в сумку, как в ту же секунду шофер подхватил меня и с быстротой молнии доставил в аэропорт, откуда я вылетал в Сантьяго-де-Чили с
пересадкой в Панаме.
Ни на одной таможне никто не проявил интереса к моей сумке. Губернатор острова устроил в мою честь прием с местными танцами и вечеринкой в отеле. Я не успел распаковать свои вещи, а губернатор был тут как тут, со стаканом виски в руке. Тут я вспомнил о подарке и попросил его пройти со мной в мой номер. Там я вручил ему бутылку и попросил обратить внимание на надпись на этикетке. В тот же миг я услышал звон разбитого стекла и по комнате распространился запах пролитого спиртного. «Пропал подарок Фиделя», — пронеслось у меня в голове. Но тут я увидел, что упала не бутылка, а стакан с виски. Бутылку же губернатор держал обеими руками.
— Когда ты снова отправишься на Кубу, — рассмеялся он — я дам тебе ящик красного чилийского вина в подарок Кастро от Пиночета.
При отъезде я напомнил ему про обещание, но он только улыбнулся.
— Боюсь, у Пиночета не столь тонкое чувство юмора, как у Фиделя, — только и сказал он.
Райские кущи
С высоты был виден океан, окружавший Тенерифе огромным голубым кольцом без конца и без края. За бесчисленные прошедшие века ни наша планета, ни мы, ее обитатели, ничуть не изменились в размерах. Порой нам кажется, что из-за того, что мы стали быстрее путешествовать, стараясь наверстать упущенное время, Земля стала меньше. На самом деле наши предки были просто богаче нас. Они обладали избытком времени, которого нам теперь катастрофически не хватает.
Около 1200 года нашей эры исландец Снорри Стурлусон гусиным пером на пергаменте написал свою королевскую сагу «Круг земной». До открытия европейцами могущественных империй ацтеков и инков оставалось еще целых три столетия. Но уже тогда горизонты Вселенной Снорри не были ограничены берегами Исландии. Он писал о колонии в Гренландии, об открытии Винланда, лежавшего где-то на северо-западе за Атлантическим океаном, о побережье Африки, о Черном море и о граничащих с Азией Кавказских горах. В то самое время, когда он доверял бумаге свои познания в истории и географии, его отдаленные родственники из Норвегии отправлялись в торговые экспедиции, а ладьи викингов появлялись в самых отдаленных уголках известного ему мира. Перед ними лежал безграничный и свободный океан. Тот самый океан, который точно так же манил в неизведанные края других путешественников, живших за тысячи лет до появления мореходов со Скандинавского полуострова. С того самого дня, как человек научился строить первые примитивные лодки, множество авантюристов покинуло родные места, отправляясь либо в глубь океанских просторов, либо вверх по рекам к их истокам, скрытым среди первобытных джунглей. Люди научились грести веслами и поднимать паруса раньше, чем седлать лошадей и задолго до изобретения колеса.
В 1977 году я снова бросил вызов судьбе, и мое четвертое морское путешествие стало самым продолжительным. Пять месяцев одиннадцать человек плыли на тростниковом судне от Ирака до долины Инда и далее через Индийский океан к берегам Африки.
За семь лет до этого наш международный экипаж, в котором не было ни одного профессионального моряка, преодолел на папирусной лодке «Ра И» расстояние между Африкой и Америкой, не потеряв в пути ни единого пучка папируса. Но к концу путешествия наше судно впитало в себя столько воды, что все обросло ракушками и сидело так глубоко, что акулы могли с легкостью заплывать к нам прямо на палубу. Всю последнюю неделю путешествия мы провели на крыше хижины из бамбука, и единственным нашим утешением было то, что промокшие насквозь связки из папируса по-прежнему сохраняли плавучесть. Вообще-то, мы долго могли еще плыть с палубой, едва возвышающейся над океаном, но на Барбадосе мы высадились на берег и отправили плот на грузовом корабле в Осло, где его ждало место в музее «Кон-Тики».
В чем-то мы допустили ошибку. Древние египтяне не строили бы суда из папируса на протяжении многих сотен лет, если бы груз на них не удавалось сохранять сухим до конца плавания. Изображения богоподобных предков, бороздивших океанские просторы на кораблях из папируса, встречаются на стенах древнейших храмов Месопотамии, Египта и Перу, на металлических печатках, обнаруженных в долине Инда, на бронзовых церемониальных барабанах времен первых китайских династий. На Ближнем Востоке я видел рисунки таких больших кораблей из папируса, что на их палубе хватало места для двух хижин, для груза крупного рогатого скота и для многочисленного экипажа. И в Китае Их рисовали столь же реалистично, как в Египте, в окружении императорской семьи и свиты. Инки в Перу оставили изображения подобных судов, на верхней палубе которых стоят король и его воины, а на нижней пленники и горшки с питьевой водой.
Так что же они делали, чтобы папирус не впитывал воду?
В поисках ответа на этот вопрос я построил свой третий тростниковый корабль, «Тигрис».
Для первых двух кораблей я нашел папирус по берегам Нила на территории Эфиопии, а мастера, умевшие строить лодки из тростника, жили в Африке на озере Чад и в Южной Америке на озере Титикака. Но и там, и там после рыбалки лодки всегда вытаскивали на сушу или на мелководье. Никто понятия не имел, сколько дней подряд продержится на воде такая лодка. Ученые считали, что не больше двух недель, как и плот из бальсового дерева. На собственном опыте мы сумели доказать их неправоту. И бальсовое дерево, и папирус вполне годились для постройки кораблей, способных переплыть через океан. Но по-прежнему никто не мог нам сказать, каким образом древние мастера увеличивали срок службы папируса в воде.
— Но могут ли люди забыть то, что они знали на протяжении тысяч лет?
— За ответом мне пришлось отправиться в Ирак к так называемым «болотным арабам». Племя мадан никогда не покидало земель своих предков, получивших от древних греков имя Месопотамия, «Междуречье». Остальная часть Ирака давно превратилась в пустыню, а этот народ по-прежнему жил на плавучих островках из тростника. Генералы железной рукой правили страной из Багдада, но здесь, в краю бесконечных болот, где Тигр и Евфрат сливаются в одну могучую реку, несущую воды в Персидский залив, ничто не изменилось со времен шумеров. Недаром и Библия, и Коран именно сюда помещали блаженные Райские кущи. Ни одна дорога не вела в глубь тростниковых, болот, ни одна антенна не поднималась в небо, указывая на присутствие цивилизации.
Укрывшись от окружающего мира на пятнадцати тысячах квадратных километрах непроходимой топи, болотные арабы на протяжении пяти тысяч лет хранили в неприкосновенности древнюю культуру своих предков. Исторические бури и смерчи, проносившиеся над нашей планетой, ни разу не заглядывали в эти края.
Два британских исследователя, Тезигер и Янг, недавно вернулись оттуда, полные впечатлений о почти библейском быте местных обитателей. Поскольку на болотах нет ни глины, ни камня, люди племени мадан строят свои прекрасные дома из артистически переплетенных связок тростника, ни на йоту не отступая от образцов, оставшихся им еще со времен шумеров. В древности судоходные и ирригационные каналы покрывали всю территорию современного Ирака. Согласно древним шумерским летописям, их первый царь прибыл со своим войском в эту равнинную страну на больших кораблях из тростника и построил столичный город Ур. Археологи относят это событие к 3100 году до нашей эры. Многое свидетельствует о том, что египетская цивилизация зародилась примерно в то же время.
Хотя человечество живет на Земле уже два или три миллиона лет, цивилизация возникла по обе стороны Аравийского полуострова, на берегах крупнейших рек Египта и Месопотамии, одновременно, внезапно и сразу приняв развитые формы. В ближайшей долине со сходными природными условиями, на берегу реки Инд, в то же самое время появилась древняя индийская цивилизация. Все три старейшие культуры зародились практически синхронно и имеют поразительно много общего. Культ солнца, строительство пирамид, жилые дома из кирпича-сырца, развитое городское планирование, высокотехнологичная металлургия, письменность — все, что свойственно цивилизациям на высокой ступени развития. И в каждой сохранились воспоминания о первом правителе, приплывшем откуда-то из-за океана со своей мифической родины на корабле из тростника.
Сперва все три плодородные долины процветали и наслаждались невиданным могуществом. Но с годами каналы в Месопотамии пропали, словно их и не было, а пригодные для сельского хозяйства земли исчезли под песчаными дюнами во времена шумеров, вавилонян и ассирийцев. Только развалины дворцов и храмов в пустыне, окружающей болота и редкие оазисы, напоминают о безвозвратно ушедшей золотой эпохе, как безмолвные свидетельства недолговечности человеческого величия.
Впервые я оказался в этих краях в начале семидесятых годов. В Ираке только что произошла революция, ознаменовав собой падение шахского режима и конец английского влияния. Во главе страны встали два генерала-диктатора, лидеры партии Баас, и первым делом закрыли границы для туристов. Они еще не определились, кто будет их главным врагом, Сирия или Иран. Словом, далеко не лучшее время, чтобы обращаться за разрешением путешествовать в районе болот. Я получил визу в римском посольстве Ирака только потому, что пользовался определенной известностью как ученый и к тому же ехал в со-провождении некоего капиталиста из Мексики, специализировавшегося на импорте техники из коммунистического Китая. В глазах посла Ирака Китай был истинным раем на земле.
Нас тепло встретили археологи из Багдадского музея. Мы почерпнули много нового как из общения с ними, так и от изучения экспонатов музея. Там были и модели шумерских лодок из тростника, и их изображения на глиняных табличках и цилиндрических шумерских печатях. Мы даже получили приглашение на ланч с генералами-диктаторами, которым очень понравилась наша идея построить большой корабль из тростника и отправиться на нем в плавание из их страны. Они попытались выставить условия, представителей каких национальностей можно, а каких нельзя зачислять в наш экипаж, но быстро пошли на попятную, когда я намекнул, что с таким же успехом могу отправиться и из Ирана. В конце концов, они обещали полное содействие без всяких ограничений, а также разрешили нам ехать в край болот и использовать помощь местного населения при строительстве корабля.
Никогда я не встречал людей, подобных болотным арабам. Другие иракцы тоже мне нравились, но моей дружбе с Саддамом Хусейном, со временем ставшим единоличным правителем страны, вскоре пришел конец. Я был благодарен ему за возможность увидеть народ, на протяжении тысячелетий живший в гармонии с природой и с соседями. Тогда я не знал, что тот же генерал отдаст жестокий приказ осушить болота в Междуречье и тем самым уничтожить саму среду обитания племени мадан. Кроме того, он взбесился, узнав, что я сжег «Тигрис», на который у него, очевидно, имелись свои планы. А когда наш интернациональный экипаж после пребывания в его стране подписал петицию о мире и отправил ее в ООН, ярости его просто не было границ. Мы, прожившие бок о бок в мире и согласии целых пять месяцев, утверждали, что если прекратятся поставки оружия на Ближний Восток, то люди, живущие по берегам Персидского залива и Красного моря, будут вынуждены перейти на дубинки и мечи, как в старые времена. Это очень не понравилось генералу.
При первой встрече с Саддамом Хусейном я не испытывал никаких предубеждений. Я знал, что он обладает огромной властью — вот и все. Признаться, он лично произвел на меня столь незначительное впечатление, что от совместного обеда у меня осталось только одно воспоминание — о вкусной еде. Да еще о том, что он поддержал мой проект.
В качестве базового лагеря для строительства корабля нам позволили использовать заброшенную гостиницу под названием «Райские кущи». Она располагалась чуть выше места слияния Тигра и Евфрата, перед самым началом болот. В нескольких метрах от окружавшего гостиницу забора росли пальмы и лиственные деревья. Между ними находился массивный покрытый мхом пень, обнесенный изгородью и залитый воском оплавившихся свечей. Именно здесь, по мнению евреев, мусульман и христиан, появились на свет Адам и Ева. Табличка с надписью на арабском и английском языках не оставляла сомнений, что пень принадлежит не чему-нибудь, а библейскому Древу познания добра и зла. Сам Авраам, гласила далее табличка, приходил сюда молиться. Все вокруг было пропитано духом Библии и Корана.
От Райского сада до начала болот мы проплыли на лодке по спокойной реке всего за несколько минут. Нам сразу стало ясно, почему люди жили здесь тысячелетиями, не сталкиваясь с агрессией и не испытывая необходимости защищать свою землю. Посторонний человек, не знакомый с лабиринтом практически не различимых на взгляд каналов, и не помышлял о том, чтобы проникнуть сюда. По здешнему мелководью не мог проплыть даже самый легкий плот, а стоило ступить ногой за борт, как болото тут же засасывало свою добычу. Ни конь, ни верблюд, ни танк не прошли бы по этой почве и метра. Именно поэтому воинственные ассирийцы, фаланги Александра Македонского и современные механизированные колонны ни разу не нарушили покой людей из племени мадан. И только генералу из Багдада удастся победить болотных арабов, вытащив у них из-под ног тростниковый ковер, столь долго служивший им надежной защитой.
В болотах Междуречья я перенесся во времена, когда еще не было изобретено колесо, когда над миром царила тишина, телевизор не сбивал людей с толку, а звезды и солнце оставались единственным источником света.
Меня и переводчика из Багдадского музея ждали к югу от городка Курна, где заканчивалась судоходная часть реки. Два «болотных араба» в белых одеяниях до пят плыли к нам на узком каноэ, плавно отталкиваясь от дна длинными шестами.
Обменявшись с ними принятым в здешних краях приветствием — приложив руку к сердцу — мы с переводчиком сели на дно узкой «машуф», чтобы неловким движением не перевернуть ее, и провожатые, похожие в своих белых балахонах на ангелов без крыльев, повезли нас в свой мир, столь отличный от нашего. Стена из высокого, в рост человека, тростника сразу же смыкалась за кормой лодки. Через некоторое время каналы стали шире и глубже, и мы с удивлением отметили, что вода в них чистая и прозрачная, а не желтая от грязи, как в реке. Со дна проток поднимались зеленые водоросли, гирлянды лютиков струились по поверхности, а под ними стремительно проносились стаи рыб. Наша лодка бесшумно скользила вдоль сплошной стены из тростника и рогоза, и с каждым движением шеста мы чувствовали, что все дальше уходим от современности и погружаемся в далекое прошлое. Но не в то прошлое, где царило варварство и право сильного, а в мир не менее цивилизованный, чем наш, но гораздо более естественный и незамысловатый. Не я один испытывал эти ощущения, мой переводчик-араб был столь же тронут и взволнован.
Через некоторое время мы увидели несколько струек дыма, поднимавшихся над тростником, — верный признак того, что до жилья осталось недалеко. Больше ничего не выдавало человеческого присутствия — не было ни возвышающихся над окружающей растительностью строений, ни мусора, верного спутника цивилизации. Гуси, утки и прочие водоплавающие птицы всех цветов и размеров бесстрашно плавали вокруг, словно в природе еще не существовало огнестрельного оружия. Одинокий орел, устав от безжизненной пустыни, парил в вышине. Белоснежные журавли и красноклювые аисты, замерев в ожидании добычи, стояли неподвижно, словно дорожные указатели, а жирные пеликаны жадно набивали бездонные клювы рыбой. Однажды мы заметили, как сквозь заросли с шумом пробирается иссиня-черный кабан. Когда же до поселения оставалось совсем немного, протоку перед нашей лодкой лениво перешло стадо могучих водяных буйволов. Их черные спины блестели на солнце, подобно мокрому тюленьему меху. Они равнодушно проводили нас глазами, ни на миг не переставая жевать свою жвачку из водорослей и отгонять мух размеренными ударами тонких хвостов.
И тут появились первые дома. Они вписывались в окружающую растительность так же естественно, как птичьи гнезда. Единственным доступным здесь строительным материалом был тростник. Твердая земля заканчивалась на окраине болот, где возвышались последние финиковые пальмы, поэтому все дома покоились на фундаменте, сплетенном из толстых пучков тростника. На небольших озерах, то тут, то там встречавшихся посреди болот, дома стояли на искусственных тростниковых островках, плававших по водной поверхности. Со временем нижние слои таких островков начинали гнить от переизбытка влаги, и жителям приходилось периодически их надстраивать. Стены домов смыкались вверху, образовывая изящные арки, открытые с одной или с двух сторон. Основу строений составляли туго перевязанные пучки из тростника, поверх которых привязывали толстые тростниковые же циновки. Ни одного куска дерева, ни одного гвоздя. На связку тоже шли сплетенные из тростника веревки. Все здания, независимо от их размеров, были одной формы, будь то крошечная хижина, построенная для того, чтобы укрыться от дождя, просторный жилой дом или огромные, смахивающие на самолетные ангары, общественные здания, до крыши которых было не дотянуться гребным шестом.
Эта завораживающе прекрасная архитектура сохранилась в неизменности со времен древних шумеров, и я смотрел на каждый дом, как на маленький храм, построенный в честь давно ушедших времен. Удивительно прозрачная вода медленно текла по направлению к Персидскому заливу, и, чтобы дома не сносило течением, каждый был окружен частоколом из похожего на бамбук тростника. В зависимости от времени года уровень воды то повышался, то падал, и островки с домами то поднимались, то опускались вместе с ним. По каналам между домами скользили изящные лодки — «машуф», и на ум невольно приходила ассоциация с Венецией.
Некоторые островки были такие маленькие, что на них едва хватало места для жилого дома и загона для скота, и больше всего они напоминали Ноев ковчег. «Болотному арабу» редко приходится долго идти до своей лодки. Он проводит ночь на платформе из тростника, отделенный лишь тоненькой перегородкой от своих буйволов, уток и кур, а когда утром он открывает ворота загона, вся живность плюхается в воду и плывет на берег, в то время как пастухи скользят за нею следом на своих каноэ.
Ночевал я в доме у местного шейха. Дом стоял в конце гравиевой дороги, ведущей к паромной переправе Мадина. С ним я договорился о дальнейшем путешествии в глубь болот, но сперва он угостил меня таким завтраком, какого я долго не забуду. Кофе, чай, свежее молоко буйволицы, простокваша, яйца, ветчина, баранина, цыплята, финики, арабские лепешки, пирожные и джем. После такого гостеприимства я едва доковылял до лодки, чтобы отправиться в затерянное посреди болот местечко Ом-эль-Шейх. Там жил хаджи, самый старый человек в округе. Шейх утверждал, что если кто и помнит секреты древних корабелов, так это только столетний хаджи.
Я не слишком рассчитывал на память столь старого человека. И оптимизма у меня вовсе не прибавилось, когда после долгого плавания я увидел настоящего белобородого Мафусаила, который сидел перед входом в свою плавучую резиденцию. Мы с переводчиком вышли из лодки. Устоять на тростниковом острове оказалось так же непросто, как на подвешенном гамаке. Пока мы размахивали руками и цеплялись друг за друга, долгожитель поднялся на ноги и быстрым шагом пошел к нам навстречу.
Мы обменялись приветствиями. Я заглянул ему в глаза и увидел в них бездонный свет мудрости и дружелюбия, перед которым отступали понятия времени и места. Старец явно заслуживал то уважение, которое выказывали ему его многочисленные соплеменники, усевшиеся в два ряда на полу вдоль стены просторного дома. Мы сидели, скрестив ноги, и внимали мудрым речам старого хаджи, в то время как его соплеменники раздули костер и приготовили нам чай. Здесь не знали электричества, сквозь просветы в крыше нам подмигивали звезды, а тени от костра плясали на стенах свой замысловатый танец.
Затем арабы разрезали по длине несколько огромных рыбин, развернули их, словно бабочек, и повесили хвостами вверх над огнем. Когда рыбы стали темно-коричневыми снаружи, но белыми и сочными внутри, их сняли и завернули в толстые арабские лепешки. Угощение оказалось необычайно вкусным, и я набросился на него так, словно шейх из Мадины морил меня голодом. От внимания патриарха не ускользала ни одна мелочь, и он проследил, чтобы мои соседи подкладывали мне лучшие куски и кормили, словно наследного принца. По завершении трапезы, в соответствии с обычаем, появился человек с водой, мылом и полотенцем для омовения рук.
Словно не заметив моего аппетита, хаджи извинился, что угощение было таким скромным, и пообещал, что в следующий раз подготовится получше. Я с удовольствием пообещал приходить еще. Ведь вкусная еда — одна из важнейших радостей и в жизни вообще, и в путешествиях в частности.
Но не только из-за еды я с радостью общался с людьми, жившими среди зарослей тростника. Мне довелось близко узнать так называемых «примитивных» обитателей Полинезии, Америки и Азии, это слово нисколько не подходило к «болотным арабам». Просто их цивилизация совершенно не походила на нашу. Физически же и духовно мы нисколько не отличались друг от друга. И мы, и они прошли одинаково длинный путь от наших диких предков. Увы, в последнее время наш образ жизни слишком переменился. Мы зарабатываем наш хлеб насущный в мире компьютеров и транспортных пробок. Никто из нас, в отличие от хаджи и его народа, не живет посреди того, что дает ему ежедневную пищу. Чем дальше мы удаляемся от природы, тем более сложные формы приобретают условия нашего существования. Все дольше становится путь, который проделывает рыба из рек и картофель с полей, чтобы попасть к нам на стол. Мы ухитрились сделать сложным все то, что раньше было простым, а теперь пытаемся исправить положение, придумывая правила автомобильного движения и компьютерные программы, переплачивая докторам, чтобы они спасали нас от последствий неправильной диеты и сидячего образа жизни, а также юристам, чтобы они выводили нас из дебрей придуманных нами же законов. Наша жизнь полна скрипа тормозов и гула отчаянно бьющихся сердец, мы ищем радость в сексе и на экране телевизоров и считаем, будто мы живем полной жизнью, когда наблюдаем за судьбами других людей. Мы верим, что мы богаты, только потому, что у нас есть деньги на банковском счету.
— Мы вовсе не бедные, — говорил хаджи, хотя лично ему принадлежала только циновка, на которой он сидел — Наша гордость — вот наше богатство. И никто не голодает у нас на болотах.
Эти люди были богаты духовно. Они никому не завидовали. Вот почему их цивилизация прошла через века, в то время как ассирийцы, персы, греки и римляне, вознесясь к вершинам, исчезли с лица Земли. Они обладают теми основами, которых нет и у нас: уважением к предкам и уверенностью в будущем. Мы тешим себя уверенностью, будто первыми создали цивилизацию, которая не обречена на гибель, но никак не можем остановить свой бег. Мы постоянно строим что-то новое, но строим безо всякого плана, и поэтому в процессе строительства у нас возникают все новые проблемы. Стрессы, детская преступность, безработица, гонка вооружений, терроризм, перенаселенность, глобальное потепление, истощение природных ресурсов, загрязнение воздуха, воды и земли.
На самом деле мы испытываем счастье только во время отпуска, когда напряжение и повседневная гонка остаются где-то позади. Именно тогда мы приобщаемся к природе: уходим в леса и долины на охоту или рыбалку. При этом нам жалко «примитивные народы» — ведь им постоянно приходится жить такой жизнью.
Столетний хаджи сидел посреди своего дома, величественный и полный уверенности, и перемешивал палкой угли в глиняной жаровне. Никого здесь не мучило желание обладать чем-то им неведомым. Старик развлекал нас историями, пронизанными отменным чувством юмора. Языки пламени отражались на лицах арабов, сидевших вдоль стен и молча внимавших ему. Кто-то разлил чай из элегантного заварного чайника по маленьким, стаканчикам в оправе из серебра, и воздух наполнился тонким ароматом божественного напитка.
Я окинул взглядом просторное и высокое помещение. Основу его составляли семь дуг из тростника, толще человеческого тела. На них, точно на ребрах, держались толстые тростниковые циновки. Я поневоле почувствовал себя как библейский Иона в чреве кита. Но по обе стороны этого чрева открывался захватывающий дух вид ночного неба, усеянного переливающимися звездами. Мне стало интересно, что «болотные арабы» думают о внешнем мире.
Словно прочитав мои мысли, хаджи рассказал, как он однажды был в Багдаде и что там ему безумно не хватало тишины и спокойствия родных краев. Он считал, что города порождают ложь, зависть и алчность.
— На болотах не бывает воров, — сказал он. — Хвала Аллаху, у всех есть все необходимое, и ничего лишнего. Буйволам хватает травы, в протоках кишмя кишит рыба, в изобилии цыплят, уток и дичи, а также арбузов. Здешние циновки и корзины из тростника всегда можно выменять на чай и муку. Чего еще человеку надо?
Кроме того, — тут старец торжественно воздел руки к небесам, — наши женщины добры и красивы.
У него самого — четыре жены. Вдоль стен раздался оживленный шепот и смешки. Белобородый старец знал, о чем он говорил.
Как известно, находясь в Райском саду, следует с опаской относиться к искушениям. Но однажды я в обществе мексиканца, экспедиционного механика, оказался на мосту, стоящем на краю болот. Он разделял мою слабость к красивым лицам и изящным формам, и когда мимо проплывала на каноэ удивительной красоты женщина, он не удержался и схватился за камеру. Он не видел, но я-то видел, что по направлению к нам мчится со всех сил, путаясь в развивающемся белом балахоне, араб с поднятым копьем в руке. Мне пришлось силой выхватить камеру у незадачливого фотографа. Мы убежали с быстротой молнии и оставили красотку на попечении ее стража.
Женщин на болотах охраняли очень тщательно. Им не позволялось ни есть в нашем обществе, ни даже подавать нам чай. Словно для того, чтобы не подвергать опасному искушению слабых потомков Адама, все они кутались в черные балахоны. Однако иногда сквозь щели в тростниковых стенах, да еще когда они кормили кур, пекли лепешки или плыли в каноэ, удавалось мельком увидеть очаровательное лицо или изящную ступню. Лепешки на болотах пекли на внутренних стенках больших глиняных сосудов, похожих на кувшины. Если вы, привлеченный божественным ароматом, незаметно пробирались поближе, то можно было увидеть и блестящие глаза, и бело-снежную улыбку, но только на один короткий миг, пока обладательница этой красоты, заметив вас, не отворачивалась или не закрывала лицо черной накидкой. И женщины, и мужчины обладали тонкими, четко очерченными профилями. Женщины не уступали мужчинам в умении управлять тяжело груженными каноэ, но появляться в мужском обществе, а также смеяться и махать руками, когда мы проплывали мимо, разрешалось только или очень юным, или очень старым.
Развлечения, которым без устали предается окружающий мир, не добрались к ним сквозь заросли тростника, но, судя по смеху и улыбкам, они прекрасно обходились и так. Хаджи знал, что мы, горожане, обязательно должны зарабатывать деньги себе на машины и на электричество.
Но он далеко не был уверен, что планы багдадского правительства провести в болота электричество и завезти кирпич для строительства домов сделают его народ счастливее. «Когда люди счастливы, они улыбаются», — говорил он. Но на улицах Багдада никто не улыбался ему навстречу.
— В городе слишком много народа, — объяснил я. — Всем не наулыбаешься.
Хаджи ходил и по безлюдным улицам. И там ему тоже никто не улыбнулся.
Дугообразные связки тростника, составлявшие основу главного дома во владениях хаджи, в точности напоминали те, из которых состоял корпус «Ра II». Многие здесь могли изготовить отдельные детали, необходимые для строительства корабля, но сами корабли они никогда не строили, только дома на плавучих островах. По каналам они передвигались на каноэ из досок, залитых асфальтом. Если бы они научили нас, как в течение долгого времени удерживать на плаву конструкцию из тростника, то и мы, с помощью индейцев с берегов Титикака, помогли бы им вернуть к жизни забытое искусство их предков-кораблестроителей.
Впервые направляясь в край болот, я не знал, смогут ли хаджи и его соплеменники понять, чего я хочу. Старец слушал меня внимательно и охотно. С его внешностью, его легко можно было принять за богатого нефтяного шейха, отставного дипломата или видного ученого. В своей белой хламиде он походил на библейского пророка, столь же бессмертного, как и тот дом, в котором он жил. Иногда мне казалось, что напротив меня сидит сам Моисей или Авраам. Ну не мог старый патриарх не знать ничего о лодках из тростника!
Он действительно знал. В дни его молодости существовало три вида лодок. Первые два были плоскодонными и держались на воде потому, что их обрабатывали асфальтом изнутри и снаружи. Одна, круглая, звалась «гуффа» и по форме напоминала ирландскую кожаную лодку, вторая, продолговатая — «джиллаби» — была предшественницей современных деревянных каноэ «болотных арабов». Я видел модели этих древнейших судов в Багдадском музее и даже плавал на одной такой по реке в окрестностях Вавилона. Третья называлась «элепурбати», и ее не пропитывали асфальтом. Она состояла из туго перевязанных пучков тростника, между которыми не оставалось пустых мест, благодаря такой конструкции она держалась на плаву.
То самое, ради чего я приехал! Но ведь тростник со временем промокает?
«Он не промокает, если его срезать в августе», ответил хаджи, и все вокруг закивали головами. Это было общеизвестно. Общеизвестно здесь, посреди болот, но не на берегах эфиопского озера Тана, где заготавливали тростник для «Ра» и «Ра II» в декабре. В августе, в месяц полной луны, тростник вырабатывал особый сок, который препятствовал увлажнению. В умных книгах об этом не было написано ни слова, но кто же ищет ответы в умных книгах!
По стопам Ноя
Вместе с десятком товарищей из разных стран мира мы плыли по направлению к океану, и меня не покидало ощущение причастности к описанным в Библии событиям. От места при слиянии Тигра и Евфрата, где появились на свет Адам и Ева, наш путь лежал туда, где праотец Ной открыл новую главу в истории христианской и мусульманской религий. Еще в детстве меня поразил рассказ о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Та же сказочная атмосфера царила на берегах Тигра, когда «болотные арабы» связывали тростник в огромные пучки, чтобы построить судно, названное нами в честь реки, которая понесет нас к океану. Имя «Ной» символизировало зарю кораблестроения. В древнейшие времена корабли не строили из досок; шумерские рисунки изображают людей и животных на борту лодок из тростника.
Из тростника можно сделать корабль любого размера, и на болотах росло неограниченное количество этого материала. Мы пересекли Атлантический океан на двенадцатиметровом «Ра II», и на его палубе стояла одна хижина. «Тигрис» был длиннее на шесть метров и имел две хижины. По сравнению с пирамидами и теми кораблями, которые строили могущественные шумерские владыки, мы отправлялись по стопам Ноя на очень скромном суденышке.
Я всегда буду вспоминать о старом хаджи как о законном наследнике трона шумерских царей и легендарного Райского сада. Подтверждением его достоинства служили его внутреннее величие и вековечная культура, к которой он был причастен всю свою жизнь. Саддам с его импортными танками и бесчисленными арсеналами оружия чувствовал себя в Багдаде завоевателем посреди покоренной империи. Его предки-арабы пришли в Месопотамию под знаменем Корана, захватили старинные шумерские, вавилонские и ассирийские города, чтобы воплотить в жизнь обещание Господа, данное им Аврааму. Когда Авраам привел своих людей в Средиземноморье и в страну Фараонов, он утверждал — об этом говорится и в Библии, и в Коране — что Господь посулил ему и его потомкам все земли между Тигром и Нилом. Много поколений спустя этим предлогом воспользовался пророк Мухаммед, он даже расширил зону своих завоеваний на запад от Нила и на восток от Тигра. Но, возвещая о пророчестве, Авраам не мог себе представить, что на его наследство станут одновременно претендовать и евреи, и арабы.
Во времена Авраама построить тростниковый корабль не составляло никакого труда. Тростник, как и сейчас, рос в изобилии, и к услугам Авраама был тысячелетний опыт местных корабелов, умевших придавать выходившим из-под их рук судам не менее изящную форму, чем у деревянных каравелл более поздних времен. Раскопки показывают, что мастера тех лет вязали отменно крепкие веревки из тростниковых волокон. По берегам реки на всем ее протяжении жили крестьяне, рыбаки и торговцы, и поэтому быстро загрузить корабль и отправиться в долгий путь было легко и просто.
В наше время все гораздо сложнее. В результате нефтяного бума в Ираке покупательский спрос значительно превысил предложение. Граница с враждебным Ираном проходила как раз посередине реки, и ее ни в коем случае нельзя было пересекать, невзирая на любые мели. В дельте реки торговые суда неделями ждали своей очереди, пока им будет позволено подняться с грузом вверх по течению. Товары, которые сгружали с судов в портах по берегам Тигра и Евфрата, расходились среди местных покупателей прежде, чем оказывались на прилавках магазинов. Никто больше не умел плести веревки из волокна растений, строить корабли из тростника, и, кроме горстки ученых, никто и слыхом не слыхивал о «магурах», кораблях шумерских купцов. Если мы и выбирались в Багдад за покупками, то возвращались с пустыми руками.
Искусство строить серповидные корабли, способные сохранить свою форму под ударами океанских волн, пред-определило развитие мореплавания как на Ближнем Востоке, так и в Южной Америке. Но сегодня это искусство сохранилось только на берегах озера Титикака. Когда «Ра II», помещенный в музей «Кон-Тики» в Осло, окончательно высох, то стал плоским, как лепешка, и нам пришлось разыскивать в Южной Америке тех самых мастеров, которые строили его для нас. Только они могли вернуть ему первоначальную форму. Ни современные ученые, ни корабелы не могли решить эту задачу.
— Выходит, древние варвары знали то, что не знаем мы?
— Индейцы аймара с берегов озера Титикака — далеко не варвары. Их предки, жившие на территории современной Боливии, основали замечательную цивилизацию Тиауанако и построили пирамиду Акапана, ничуть не уступающую ни величием, ни размерами как старейшим пирамидам Египта, так и пирамидам Месопотамии.
А еще индейцы аймара построили статую Кон-Тики, которую мы воспроизвели на парусе нашего плота. Инки прозвали этого персонажа Виракоча, что значит «Морская пена», поскольку он был мореплавателем. Завоевав все древние царства на территории Перу и окрест, они стали называть его «Кон-Тики-Веракоча», потому что того же легендарного бога и правителя прибрежные индейцы знали как «Кон», а жившие вокруг озера Титикака — как «Тики» или «Тичи». Испанским завоевателям индейцы Тиауанако рассказали, что этот бог явился их предкам в сопровождении белокожих бородатых людей и что он приплыл из-за океана на кораблях из тростника. Он объявил себя сыном Солнца и построил пирамиду, а затем ушел туда же, откуда пришел. И во всех уголках огромной империи инков испанцы слышали ту же историю, какую четыреста лет спустя на берегах озера Титикака поведали мне индейцы аймара. Совершив свои легендарные завоевания и подвиги, божественный царь и священник со всей своей армией отправился на север, где сейчас расположена республика Эквадор. А потом, достигнув побережья у города Манта, погрузился на суда и уплыл на запад.
Привезти его потомков в Ирак оказалось непростым делом. Август — самый жаркий месяц в болотах, а индейцы аймара живут на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря и дышат ледяным воздухом высокогорных Анд. Сперва предстояло забрать всю четверку с их родного острова посреди озера Титикака и поселить их на две недели в джунглях Боливии, чтобы они освоились с непривычным давлением и температурой. Затем их надо было перевезти в Багдад самолетом, прибывающем ночью, чтобы они оказались в гостинице «Райские кущи» прежде, чем установится обычная для этих мест и убийственная для них дневная жара. Только трое из четырех умели строить лодки из тростника, и говорили они исключительно на своем родном языке. Четвертый был переводчик. В его обязанности входило переводить их слова на испанский. Затем я буду с испанского переводить на английский для моего переводчика из Багдада. Тот, в свою очередь, переведет на арабский одному из «болотных арабов», а он донесет смысл сказанного до своих соплеменников, изъяснявшихся только на языке племени мадан.
Я часто думал, насколько символично, что мне придется преодолевать этот многоступенчатый языковой барьер именно здесь, неподалеку от развалин легендарной Вавилонской башни. Я не преминул посетить знаменитые руины. Они представляли собой невыразительную гору песка, вокруг которой валялось несколько кирпичей из глины, и увенчанную табличкой с надписью: «Вавилонская башня». Табличку поставили иракские археологи. Возможно, раньше это было нечто вроде ступенчатой пирамиды. Итак, под моим началом работали люди, говорящие на одиннадцати языках, причем двадцати «болотным арабам», не знавшим иного языка, кроме наречия племени мадан, предстояло научиться плести тростниковые лодки у трех индейцев, изъяснявшихся исключительно на языке аймара.
В первое утро по прибытии я решил дать индейцам хорошенько выспаться и изрядно напугался, когда заглянул в их комнату и обнаружил, что она пуста.
Я их нашел в окружении группы «болотных арабов» в тени финиковых пальм неподалеку от «пня Адама и Евы». Их теплые шерстяные шляпы и ярко раскрашенные пончо резко контрастировали с белыми одеяниями арабов. Все они отчаянно жестикулировали, и у всех в руках были пучки тростника.
— Эти сеньоры очень умные, — пояснил мне переводчик из Боливии. — Они не понимают ни слова из того, что мы говорим, но отлично понимают, что мы хотим сказать.
— Тотора, — произнес он и протянул облаченному в белое собеседнику стебелек тростника.
— Берди, — ответил тот, принимая дар.
Переводчики нам так и не понадобились. Крупнейшие специалисты по тростнику встретили своих не менее продвинутых коллег. Кто-то становится экспертом в одной области, кто-то — в другой, но голова у всех устроена одинаково.
Беда заключалась в том, что помимо мастеров-кораблестроителей мне требовались и другие специалисты. Во всем Ираке не удалось найти ни одного человека, который умел бы делать паруса!
Парусной ткани здесь тоже не нашлось, и ее пришлось доставлять из Европы. А пока груз находился в пути, я отчаянно разыскивал хотя бы одного человека, который мог бы сшить простейший парус для «дхоу» — типичной для этих мест лодки. Никто даже не слышал о таких мастерах. Парусные суда на реках встречались не чаще, чем верблюды на шоссе. Мы опоздали на одно поколение.
Я объездил весь берег реки до самой дельты и даже забрался на территорию Кувейта в надежде увидеть хоть одну парусную «дхоу». С незапамятных времен «дхоу» бороздили здешние воды. Их паруса были чем-то средним между древним квадратным парусом и современным треугольным и, очевидно, являлись промежуточной ступенью между ними. На вид они больше всего напоминали старинный египетский парус, поникший в отсутствие ветра. К тому времени, когда я впервые попал в Ирак, все до единого владельцы «дхоу» давно спилили мачты у своих суденышек и установили моторы. Бензин в странах Персидского залива стоил дешевле, чем ветер. Однако раньше я видел белые паруса на индийских «дхоу», приплывавших в Басру из Бомбея за грузом фиников. Контрабандисты нанесли большой урон этому бизнесу, и мне пришлось обратиться к индийскому консулу в Басре с просьбой найти в Бомбее трех моряков, которые помогли бы нам сшить парус, а затем провели бы нас через Персидский залив, забитый нефтедобывающими платформами и кишащий кораблями.
Мы приехали в Багдад встречать индийских моряков, но их не оказалось в числе пассажиров. Зато мы получили телеграмму из Индии, в которой говорилось, что моряков последний раз видели в Нью-Дели, когда они собирались в консульство Ирака за визами. Затем их след потерялся.
Две недели спустя мой местный помощник Али появился во время завтрака и сообщил, что нашел пропавших. Они стояли около дверей. Одного из них звали Сулейман.
Мы обращались к ним и по-арабски, и на всех европейских языках. Тору в отчаянии заговорил по-японски, а Юрий — по-русски. Бесполезно. Только Сулейман знал пару английских слов, чего оказалось достаточно, чтобы объяснить им, куда положить их мешки, и усадить завтракать.
После съеденного с завидным аппетитом завтрака вновь прибывшие отправились знакомиться с судном. Их глаза округлились от удивления при виде могучего тростникового корабля, блестевшего золотом в лучах утреннего солнца. Не знаю, что было с нашими глазами, когда Сулейман спросил, куда мы собираемся установить мотор. Оказывается, все, что им сказали в Бомбее, — это то, что им предстоит плавать на какой-то свежепостроенной «дхоу». Никто из них никогда не ходил под парусом, и они никогда не бывали в Персидском заливе.
После долгих лингвистических упражнений выяснилось, что единственное, в чем могут нам помочь наши новые друзья — это убирать со стола после еды. От отчаяния мы поручили штурману экспедиции Норману решить проблему парусов. Оказавшись в безвыходном положении, Норман родил блестящую идею. Он поедет в Басру вместе с тремя индусами. С их помощью он опросит всех встречных индийских моряков и, возможно, узнает что-нибудь о парусах для «дхоу». Юрий одолжил в советском посольстве в Багдаде новенькую сияющую машину русского производства, и Норман в отличном расположении духа отправился вместе с индусами по широкому оживленному шоссе.
Прошло совсем немного времени, и мы снова увидели Нормана. Он возник в дверном проеме, весь обмотанный бинтами. Из-под бинтов торчали только одно ухо и красный исцарапанный нос.
— А где индусы?
— В больнице.
— Что случилось? — в ужасе спросил я.
— Машина перевернулась три раза.
— А где араб-переводчик?
—
В полиции. Он был за рулем.
— А что с новой советской машиной?!
— Лежит колесами кверху. Это уже не машина.
Когда троица индусов, наконец, дохромала до гостиницы, один с покалеченной ногой, другой с покалеченной головой, а третий с покалеченной спиной, есть они не хотели. Они хотели только одного — чтобы я с первым самолетом отправил их назад в Индию.
После этого мы уже были готовы к очередному сюрпризу. Он не замедлил случиться. Растерянный араб прибежал и рассказал, что с тыльной стороны дома стоит человек в европейской одежде и швыряет колбасу в реку.
Я пошел посмотреть и обнаружил докрасна загорелого мужчину. Он действительно кидал в реку колбасу. Я осторожно приблизился, и когда он, размахнувшись подобно метателю молота, зашвырнул в воду очередной батон, вежливо поздоровался. Он повернул ко мне залитое потом лицо. Я не мог не посочувствовать — действительно, изнурительное занятие, в такую-то жару. И тогда он рассказал мне свою печальную историю, которой суждено было оказать огромное влияние на все последующие события. Незнакомец оказался водителем грузовика, прибывшим из Гамбурга с деревом для мачты и прочими не-обходимыми нам вещами.
— Катастрофа, — сообщил он. Я не мог не согласиться, осознав, что он скармливает рыбам не что иное, как предназначавшееся для нас продовольствие. Из недр грузовика раздавалось зловещее потрескивание. Он сказал, чтобы я не пугался, — это трескается на жаре бамбук. А затем я увидел открытый ящик с консервными банками, раздувшимися до размеров пушечного ядра.
— Таможня! — пояснил немец и больше не сказал ни слова, пока Али не принес ему из холодильника бутылку холодного пива.
Грузовик принадлежал самой надежной компании в Гамбурге. Компания послала машину с экспедитором и двумя водителями, чтобы доставить груз быстро и в полной сохранности. Поскольку фургон не имел системы охлаждения, они ехали круглые сутки, меняя друг друга за рулем, и рассчитывали доехать до пункта назначения в положенные четырнадцать дней. Все шло хорошо, пока они не достигли южной части Турции. Тут по ним начали стрелять курдские снайперы. Они прибавили газу.
Отделавшись несколькими пулевыми пробоинами в машине, они догнали большую колонну, тоже на всех парах мчавшуюся по направлению к границе Ирака. От волнения они забыли получить разрешение у иракских таможенников, получивших из Багдада инструкции пропустить их без излишней волокиты. Вместо этого они понеслись дальше на юг. Жара становилась все более невыносимой. Они проехали Багдад, проехали поворот на гостиницу «Райские кущи» и остановились только в забитом машинами порту Басры. Сочувствующий полицейский показал им дорогу, и неожиданно для самих себя они оказались на таможенном терминале, где все места в тени были уже заняты. На солнце было 45 градусов, а в грузовике — все 70, и на третий день стояния у таможни и экспедитор, и два шофера чуть не померли от жары. Какая-то добрая душа, к тому же говорившая по-английски, наконец, помогла им позвонить в Багдад и получить разрешение покинуть таможню. После этого шоферы отправились прямиком в Европу, предоставив экспедитору доставить груз по назначению.
Что он и сделал, правда, в весьма необычной манере.
— Вся еда пропала, — яростно прокричал он и, прежде чем кто-либо успел его остановить, швырнул в реку последний батон колбасы.
С быстротой молнии самый молодой член нашего экипажа перемахнул через перила и бросился в воду. Спустя мгновение он вернулся на сушу, прижимая к груди, словно ребенка, драгоценный батон. Но, увы, последний. Все остальное поглотила река.
Райский сад, где мы строили корабль, находился далеко от океана. И в Перу, и в Марокко мы спускали наши суда на воду, и нам в паруса тут же ударял океанский ветер. Здесь же нам предстояло провести тростниковый корабль по реке, змеящейся между Ираком и Ираном, до самого Персидского залива. Затем проплыть через весь забитый кораблями залив, миновать Хормузский пролив, и только после этого мы оказывались в открытом океане.
Первая проблема, с которой мы столкнулись, спустив корабль на воду, была загрязненная вода, и чем ближе мы приближались к дельте, тем грязнее становилось за бортом. Белые ломти пены, словно куски льда, парили по поверхности реки. Это были сбросы целлюлозно-бумажных комбинатов. На комбинатах тростник под воздействием химикатов превращался в мягкую массу, из которой делали бумагу. Мне, единственному из всей команды, уже доводилось плыть по этой самой реке на тростниковом плоту. Араб, живший в стоявшей на нем хижине, пригласил меня на чашку чая. Все на плоту, за исключением глиняной жаровни, было из тростника. Я измерил огромное сооружение: тридцать четыре метра в длину, пять метров в ширину и три метра в высоту. Плот высоко поднимался над водой, потому что состоял из уложенных крест-накрест пучков тростника, срезанного в августе. Араб жил на борту целых два месяца в ожидании своей очереди пригнать плот на целлюлозный комбинат. Больше всего мы сейчас боялись, что наш ковчег растворится в насыщенной химикалиями воде прежде, чем мы достигнем залива.
То, что плодоносные сады Эдема и Вавилона лежат в наши дни под слоем песка, объясняют по-разному. Некоторые считают это наказанием Божьим, другие видят причину в неумеренной хозяйственной активности шумеров. Но наше поколение пошло еще дальше и измазало черными нефтяными пятнами и золотой песок, и зелень растений. В конце двадцатого века дельта Тигра больше походит на выход канализационного коллектора или на внутреннюю часть заводской трубы. Иран и Ирак глядят друг на друга с противоположных берегов, подобно Каину и Авелю, и ведут бесконечное соревнование, кто больше изуродует нефтяными вышками прекрасную землю. Корабли со всего света стояли на якоре, одни под погрузкой нефти, другие собираясь плыть вверх по реке с товарами на борту. Нам же хотелось только одного — поскорее поймать парусами ветер и выйти в чистый открытый океан, подальше от этого хаоса.
В тропических водах всегда существует взаимосвязь между потоками атмосферного воздуха и океанскими течениями. Круглый год экваториальные течения и торговые ветра в Атлантическом и Тихом океанах имеют одно общее направление — с востока на запад. В Индийском океане, где властвуют муссоны, иная картина. Шесть летних месяцев течения испытывают влияние ветра, дующего с юга на север, а в последующие полгода — с севера на юг. Только здесь течения меняют направление в зависимости от сезона. Арабские и индийские парусники умело пользовались этим обстоятельством в своих плаваниях в Персидский залив и обратно. Смена муссонов происходила с регулярностью часового механизма и не знала сбоев.
Но сейчас, похоже, и Аллах, и боги погоды отвернулись от залива. Они больше не поддерживают вековечных традиций, словно чувствуют, что время парусных судов ушло в прошлое. Сезон дождей наступил на месяц раньше положенного, а местные арабы пожаловались нам, что в последние два года ветра стали совершенно непредсказуемыми. Когда мы оказались в Персидском заливе, наступил штиль, хотя в ноябре северный ветер должен был подхватить нас и вывести в открытый океан.
Нам пришлось обходиться редкими и слабыми порывами ветра. Точно так же, как песок похоронил под собой поля и города шумеров, наносы ила полностью изменили береговую линию. Рядом с портами возникли огромные мели, тянущиеся на многие сотни километров до самого острова Файлака у берегов Кувейта. Там мы и оказались против своей воли, пытаясь избежать столкновения с невероятных размеров супертанкером. Сильные порывы ветра с юга норовили затащить нас обратно к иракскому берегу с его кашей из кораблей, и нам пришлось идти гораздо ближе к острову, чем нам того хотелось. Однажды ночью впередсмотрящий услышал шум прибоя и тут же разбудил нас всех. Шум постоянно нарастал и вскоре превратился в неумолчный рев, раздававшийся откуда-то спереди. Земля. Рифы или скалы. Мы бросили якорь в надежде, что он зацепится за топкое дно, но только потеряли оба якоря и канат. Тогда мы выбросили якорь-тормоз — нечто вроде открытого мешка, предназначенного замедлить скорость судна. Нам повезло — было так мелко, что он зацепился за дно и удерживал нас до рассвета.
Наутро мы смогли обойти риф, возвышавшийся посреди длинной илистой мели. Однако в результате этих маневров мы оказались еще ближе к мелководью, тянущемуся вдоль острова Файлака. Ни одно судно не смогло бы пройти здесь. Вода за бортом доходила всего лишь до колена, но под ней скрывалась предательская трясина.
Мы находились в той части залива, о которой навигационные карты не писали ничего хорошего. До берега острова нельзя добраться из-за мелей и рифов, единственная гавань на острове была на его противоположной стороне. К тому же существовала большая вероятность встречи с пиратами.
И пираты действительно появились, неожиданно, как в сказке. Точно так же они появлялись и во времена Синдбада-морехода, и во времена шумеров. Они не бросились на абордаж. Они вообще ничего не предпринимали, просто ждали.
Сначала мы заметили свет керосиновых ламп на земле между скалами и послали им ответный сигнал в наивной надежде, что нам с берега показывают путь между камнями. Но на рассвете мы увидели сперва одну маленькую лодку, качавшуюся на волнах между рифами, затем другую. Через некоторое время они подошли поближе, но недостаточно близко для ружейного выстрела. Они продолжали держаться на расстоянии и только смотрели, как мы медленно, но верно приближаемся к смертоносным волнам прибоя. Нам стало понятно, что в столь трудный час мы очутились в явно неподходящей компании.
По нашему любительскому радиоприемнику Норман услышал русскую речь. Юрий заменил его у микрофона и на своем родном языке объяснил ситуацию капитану советского корабля, стоявшего на якоре в заливе. Прошло несколько часов, и на горизонте появились очертания «Славска». Он бросил якорь как можно ближе к опасному берегу Файлака и отправил нам на помощь большую спасательную шлюпку под командованием самого капитана.
После нескольких попыток русский матрос освободил наш якорь, застрявший в грязи. Ветер тут же подхватил нас и понес навстречу рифам и нас, и русскую шлюпку, несмотря на то, что она включила мотор и пыталась оттащить нас в противоположном направлении.
Уроженец Ирака Рашид, единственный из нас, кто говорил по-арабски, предложил доплыть на резиновой лодке к ожидающим добычи пиратам и объяснить, что у нас нет мотора и мы можем разбиться о скалы.
Вскоре он вернулся и принес ответ: они требуют в качестве выкупа весьма солидную сумму. В противном случае они могут и подождать.
Я склонялся к тому, чтобы начать переговоры, но капитан «Славска» Игорь взбеленился и взял бразды правления в свои руки. Он предложил им шесть бутылок водки и два ящика вина. Рашид снова отправился в путь и, вернувшись, сообщил: они мусульмане, и Аллах запрещает им пить спиртное. После этого одна лодка отошла подальше и принялась якобы ловить рыбу, а другая отважилась подойти на расстояние человеческого голоса. Рашид перевел: они удвоили цену. Русские продолжали тянуть, но нас обоих неуклонно сносило к рифу. Тут появилось третье судно, побольше, очевидно пришедшее откуда-то с материка. Оно подошло совсем близко и при ближайшем рассмотрении оказалось «дхоу» со спиленной мачтой. Если предыдущие члены команды походили на рыбаков, то эти выглядели как настоящие бандиты.
Толстый гангстер в тюрбане и с более светлой кожей, чем у остальных, сидел на подушках, скрестив ноги, и неприязненно и оценивающе разглядывал нас. Его пухлые руки явно никогда не касались рыболовецкой снасти, в жизни я не видел более отвратительной рожи. Команда представляла собой сброд. Он сразу сообщил, что ждут от нас выкупа и что с наступлением темноты нам суждено разбиться о скалы. Тем, кому удастся спастись, суждено просидеть голым на рифах невесть сколько времени. Мы снова погрузили якорь в грязь, русские тоже бросили свой, но ничего не помогало. Я приказал Рашиду начать торговаться. До захода солнца оставался один час. Никакое сторожевое судно не забредет в эти опасные воды. Нам всем доводилось слышать, что именно здесь высаживаются бандиты, занимающиеся перевозкой нелегальных рабочих из Пакистана в богатый Кувейт. Файлака была частью королевства Кувейт, причем его черным ходом, закрытым для законопослушных путешественников.



Бандиты отказались снизить сумму выкупа. Они явно согласовали ее заранее. У нас не было кувейтских денег, но они согласились на иракские, ходившие в этих краях как твердая валюта. Они потребовали, чтобы Рашид перешел на их «дхоу» в качестве заложника. К нам подошла лодка, и я отсчитал купюры в руку одного из них, а тот передал деньги толстому вожаку. Не вставая с подушек, толстяк махнул рукой, и Рашид перепрыгнул на борт «Тигриса».
Моряки бросили фал на «дхоу», и она, совместными усилиями с советской шлюпкой, медленно отбуксировала нас поближе к «Славску». Попрощаться мы не успели — едва мы вышли на глубину, как «дхоу» на полной скорости ушла в сторону мелководья.
Не дожидаясь приказа из Москвы, Игорь взял курс на Бахрейн и не покидал нас до самых территориальных вод этого острова. Дальше путь русской команде был заказан, несмотря на то, что они спасли нам жизнь.
Мы оказались в тех самых местах, откуда началась письменная история человечества. Никогда еще я не чувствовал такого волнения. Согласно глиняным табличкам шумеров, после Потопа их первый царь высадил людей и скот в земле Дильмун. В эпосе «Гильгамеш» ассирийцы утверждают то же самое. Археологи из Дании, сначала П. В. Глоб, а позже Джоффри Бибби, в ходе раскопок установили, что легендарный Дильмун и современный султанат Бахрейн — одно и то же. Не успели мы бросить якорь, Бибби вылетел первым самолетом из Аартуса, чтобы своими глазами увидеть, как к берегам Дильмуна снова, как тысячи лет назад, подходит тростниковое судно.
В Бахрейне только что построили самый большой в мире сухой док, рассчитанный на танкеры водоизмещением до 450 000 тонн. До официального открытия дока оставалось всего два дня, и тут появились мы, как живой анахронизм. Бибби приземлился в суперсовременном аэропорту, и мы с ним отправились на другую сторону острова, где время словно остановилось пять тысяч лет назад и рыбаки выходили в море на лодках, связанных из охапок пальмовых листьев.
Во время поездки по острову мы были поражены тем, как легко люди порывают со своим прошлым в наивной уверенности, что произошедшие перемены необратимы. Все пальмы были вырублены, и разбросанные повсюду пни придавали острову сходство с небритым лицом. Конечно, ведь финики всегда можно купить в магазине! Товары со всего света можно было купить в магазине, и денег было много, потому что по трубам с материка безостановочно текла нефть. Древний Дильмун превратился в важный перевалочный пункт транспортировки нефти со всего Аравийского полуострова.
В самом центре острова мы застыли в восхищении. Родники чистейшей воды выбивались из-под земли и образовывали ручьи, которые во множестве текли посреди остатков старинной ирригационной системы. «Это вода с высоких гор, расположенных посреди Аравийской пустыни», — пояснил Бибби. Когда там идут дожди, вода уходит сквозь камни и по подземным рекам бежит под пустыней и под Персидским заливом, чтобы выйти на поверхность здесь, посреди острова.
Я попил вкусной прохладной воды, сел на пень и задумался. Чем руководствовались древние шумеры, когда возносили богам хвалу за щедрые дары? Возможно, верой, а возможно, и суеверной боязнью лишиться всего из-за собственной неблагодарности. Мне на память пришел текст на одной из шумерских глиняных табличек, в котором божество Энки, покровитель мореплавателей, просил верховное божество одарить Дильмун пресной водой:
Пусть бог солнца Уту, живущий на небесах,
Даст тебе чистую воду из земли,
Из прозрачных источников.
Пусть он наполнит водой твои бассейны,
Пусть твой город забудет слово «жажда»,
И пусть вода в Дилмуне никогда не закончится.
Пока мы не построили свой собственный мир, мы были благодарны за все божественные подарки, которые нам делала природа. Неважно, каким именем при этом мы называли бога, которому молились. Посреди соленого залива, в царстве безжизненных песков, необъяснимая игра природы и законов гравитации вытолкнула на поверхность непересыхающие источники питьевой воды. Ее пили многие поколения жителей Дильмуна, и до сего дня она, журча и переливаясь на солнце, струится, сбегая к океану.
Посреди величественных развалин здешнего старинного порта я почувствовал, как оживают древние тексты о мореплавании, в изобилии встречающиеся на глиняных табличках шумеров. Бибби рассказал, что во время прилива большие корабли могли становиться на якорь прямо напротив складов, построенных около городских ворот. В отлив же снабженные килями суда вынуждены были в спешке убираться подальше, чтобы не перевернуться на мелководье. Теперь настала наша очередь продемонстрировать, что кораблю из двух прилегающих друг к другу огромных вязанок тростника не страшна мель, смертельная для судна, состоящего из корпуса и киля. А будучи застигнутым отливом, наш корабль всегда может просто лечь на дно вместе со своим грузом и ни за что не перевернется.
Бибби привел нас на развалины складов и показал собранные им свидетельства прочных торговых контактов островитян с шумерами и с обитателями долины Инда, цели нашего маршрута на «Тигрис». Не требовалось большой фантазии, чтобы мысленно нарисовать себе картину существовавшего здесь когда-то оживленного порта. Я стоял на краю причала около городских ворот и смотрел на волны, не разделявшие, а объединявшие самые древние цивилизации планеты. И я чувствовал себя органичной частью этой сложной связи. Перед тем, как покинуть Ирак, я тщательно изучал переводы древних текстов, собранных в багдадской библиотеке, и еще яснее понял следующее.
Наши современники настолько подвержены влиянию теории эволюции Дарвина, что искренне считают, будто пять тысяч лет назад люди были на пять тысяч лет ближе к обезьянам, нежели сейчас. В интересах истины это заблуждение следует самым решительным образом развеять. Если уж пользоваться временной шкалой для измерения развития человечества, нам придется отправиться в гораздо более далекое прошлое, нежели эпоха написания самых старинных текстов. А если мы говорим о культуре, то хронологическая шкала нам не понадобится вовсе. Некоторые районы Азии, Африки и Америки уже в глубокой древности находились на гораздо более высокой ступени развития, нежели Европа в сравнительно недалекие от нас средние века. И произошло это благодаря мореплаванию.
В текстах, написанных древними шумерами, больше всего меня поразило то, что психологически они от нас почти не отличались. В своем эссе «Морская торговля Ура» специалист по шумерской культуре Оппенгеймер пишет, что самое интересное в надписях на глиняных табличках — это описание той роли, которую сыграло развитие мореходства в жизни города, превратившегося в важный торговый порт. Были очищены каналы, как в самом городе, так и за его пределами, и в дальнейшем за их состояние отвечали специальные чиновники, отчитывавшиеся перед самим царем. Портовые власти собирали налоги с приходящих кораблей, а капитаны обзавелись заверенными печатями документами с информацией об их судах и о перевозимом грузе.
Грузоподъемность самых больших тростниковых кораблей шумеров измерялась в «гурах», что составляет от 30–40 тони и выше. Рядом с такими гигантами наш «Тигрис» показался бы малюткой. Согласно финскому языковеду Салонену, такие корабли назывались «магур». Еще их называли «корабли богов», «корабли, плавающие по океану» и «корабли с высокими мачта-ми». Мы дали нашему судну имя реки, послужившей отправным пунктом нашего путешествия. Но шумеры тоже дарили своим кораблям романтичные имена, например, «Хранительница жизни», «Утро», «Услада сердца». В древних текстах говорится о пассажирских кораблях, паромах, рыбацких баркасах, боевых судах, транспортах для перевозки войск, частных и рейсовых торговых кораблях. Грузом могло быть все, от дерева, меди, слоновой кости, кирпича, шкур и тканей до кукурузы, муки, хлеба, рыбы, молочных продуктов, вина и домашнего скота.
После впечатляющей картины старинного порта мы отправились в другое место, также поразившее меня и существенно повлиявшее на мои представления о взаимосвязи прошлого и будущего. То было самое большое из известных науке древних кладбищ. Бескрайнее песчаное поле лежало перед нами, усеянное множеством могильных холмов. Археологи насчитали здесь более ста тысяч захоронений. Большинство представляло собой просто горки плотной земли, но некоторые имели весьма впечатляющие размеры. Самые большие располагались ближе к морю и, очевидно, были сделаны в самом отдаленном прошлом, пока места на кладбище имелось в избытке. Остальные были разбросаны безо всякого плана и походили на гигантские черепашьи яйца. Гробокопатели не пощадили ни одной могилы.
Я знал, что в древности Дильмун являлся такой же святыней для шумеров, как Иерусалим для христиан и Мекка для мусульман. Даже ассирийцы совершали сюда паломничества, что засвидетельствовано в их клинописных табличках. Возможно, они хотели быть похороненными на родине первых богоподобных правителей. Ибо именно здесь первый царь ступил на землю после Потопа.
В наши дни никто не питает уважения к этим разграбленным могилам. Те, кто разбогател на нефти, улетает в Мекку. Мое внимание приковали к себе несколько самых больших захоронений, лежавших в непосредственной близости от современного арабского поселения. Бибби провел меня вокруг могильного холма и показал результаты деятельности местного населения. Они выламывают для своих нужд известняковые плиты, из которых были сооружены пирамидальные конструкции, лежащие в основе могильных холмов. Известняк такого типа не встречается нигде на территории Бахрейна, его привозили на остров на борту величественных «магуров». Я узнал эти тщательно подогнанные известняковые плиты — точно из таких же, только скрытых под слоем высохшей глины, состояла знаменитая пирамида Ниппур в Ираке.
В один из дней я в одиночестве вернулся на заброшенное кладбище, забрался на купол одного из самых больших захоронений, откуда мне открывался вид на долину мертвых и на белые дома их ныне здравствующих потомков, и предался размышлениям.
— Ты помнишь, о чем ты тогда думал?
— Я думал о том, что пять тысяч лет назад на этом самом острове зародилась письменная история человечества, и я пытался угадать, что напишут о нем еще через пять тысяч лет, когда иссякнет нефть, струящаяся сейчас по трубам, проложенным с материка.
Я думал о том, что мы, европейцы, скептически относимся к устным преданиям и считаем, что достоверная история начинается с изобретением письменности. Но если исторические события записаны не нами самими, с помощью букв, унаследованных от финикийцев, мы все равно не воспринимаем их всерьез. В моей памяти были еще свежи воспоминания о багдадской библиотеке и о хранящихся там древних шумерских летописях. И тогда, лежа на высоком могильном холме и глядя на сто тысяч забытых захоронений, я поклялся себе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы записи старинной шумерской цивилизации никогда не канули в Лету.
Еще я думал, что и иудеи, и христиане, и мусульмане восприняли легенду о Ноевом ковчеге и о Великом потопе. Эту легенду принес из Месопотамии Авраам. В детстве на меня произвел огромное впечатление рассказ о том, как Ной спас всех зверей на земле. Но тогда я не думал, что настанет день, когда я задамся вопросом — каким образом эта история стала частью религиозных мифов? Библия помещает ее сразу за рассказом о сотворении мира, а в Коране она упоминается неоднократно.
Если мы мысленно вернемся в Ур, где на протяжении более чем двух тысяч лет клинописные глиняные таблички шумеров хранили первоначальную версию легенды о Потопе, мы поймем, что там произошло нечто, важное, для всех нас.
Никто и не подозревал о существовании шумеров до тех пор, пока археологическая экспедиция из Пенсильванского университета при раскопках пирамиды Ниппур не обнаружила библиотеку из тридцати пяти глиняных табличек с надписями. Многие из них содержали рассказ о Потопе.
Для шумеров это была не легенда, а их собственная история. Из Библии мы знаем о Потопе, но версия шумеров гораздо более реалистична. По их версии, любимый богами царь, спасший человечество от потопа, зовется Зиусудра. У него на борту не было ни слонов, ни жирафов — только обычный домашний скот. И его ковчег пристал не к вершине горы, а к благословенному богами острову Дильмун в Персидском заливе. Оттуда спустя много лет потомки царя перебрались в Ур, бывший тогда портовым городом в дельте впадающей в залив реки.
Рассказ шумеров скуп на детали, но из него тем не менее следует, что бог солнца Уту посоветовал царю построить большое судно из тростника. Потоп свирепствовал семь дней и семь ночей. «И корабль носился по волнам, как щепка». Когда же Потоп закончился и бог солнца осветил небеса и землю, царь простерся перед ним ниц и принес в жертву быка и овцу.
Когда шумеры исчезли с лица земли, наступил черед ассирийцев писать историю человечества. Они продолжили начатое шумерами. Древнейший известный эпос, «Гильгамеш», рассказывает о том же самом ужасном потопе, уничтожившем на земле все живое. По представлениям ассирийцев, его наслало божество Энки, а ковчег построил царь Утнапишти.
Ассирийцы, чья столица находилась посреди суши, позволили себе некоторые исторические фальсификации. По их версии, потоп продолжался шесть дней и семь ночей, а на седьмой день корабль причалил к вершине горы в верхнем Курдистане. Покидая Ур, Авраам запомнил именно ассирийский вариант легенды, поэтому в Библии ковчег находит спасение на горе Арарат, а в Коране на горе Эль Джуди. Обе вершины хорошо известны жителям верхнего Курдистана. Но автор эпоса выдает себя признанием, что слышал историю о потопе из уст самого Утнапишти, жившего в ту пору на Дильмуне!
Авраам дополнил историю о потопе некоторыми интересными деталями. Согласно ассирийскому тексту, в надежде обнаружить землю царь выпустил голубя и ласточку, но обе птицы вернулись на корабль. Позже он выпустил ворона, и когда тот не вернулся, царь понял, что вода пошла на убыль и можно искать сушу. Он сошел с корабля вместе с остальными спасенными, принес щедрое жертвоприношение, и бог пообещал никогда больше не наказывать всех за грехи немногих.
По версии иудеев сперва выпустили ворона, но он вернулся. То же произошло с голубем. Но на седьмой день Ной снова выпустил голубя, и тот вернулся с оливковой ветвью в клюве. Еще через семь дней другой голубь отправился на поиски земли и не вернулся. После этого Ной покинул свой ковчег вместе со всеми животными и принес благодарственную жертву богу, а тот пообещал в дальнейшем быть милостивее к людям.
— Мог ли Ноев ковчег быть сделан из тростника?
Во времена шумеров не было других больших судов, кроме тростниковых «магуров». И в изложении ассирийцев, Утнапишти получил приказ разобрать свой тростниковый дом, чтобы построить большой корабль. Вот как гласит текст:
«Тростниковый дом, тростниковый дом. Стена, стена Слушай, тростниковый дом! Слушай, стена! Человек из Шуруппака, сын Убара-Туту. Сломай свой дом, построй корабль!»
Тростник, из которого был сделан «Тигрис», не был ничем пропитан, но он прекрасно держался на плаву все пять месяцев нашего путешествия. А затем мы сожгли его в знак протеста против войны в Красном море. Но мы испытывали большое искушение воспользоваться советами, тем более что все упомянутые им составляющие можно было легко достать в современном Ираке.
«Шесть саров смолы вылил я в кипящий котел, и три сара асфальта добавил я туда. Три сара масла дал я ремесленникам и оставил один cap на грузовой палубе и два сара — 6 каюте капитана».
В современной выверенной англоязычной Библии Бог советует Ною построить более современный ковчег:
«Построй ковчег из кипарисовых досок, застели палубу тростником и пропитай его изнутри и снаружи смолой».
— А что наука говорит о Потопе?
Когда в конце двадцатых годов нашего столетия британцы приступили к раскопкам Ура, Леонард Вули обнаружил, что под священным городом шумеров находится трехметровый слой совершенно однородного речного ила. А ниже этого ила британцы нашли остатки гораздо более древнего поселения, уничтоженного гигантской волной. Эта волна затопила всю нижнюю часть Месопотамии восьмиметровым слоем воды и, отступив, оставила после себя илистые отложения. В точно таком же иле мы застряли во время нашей встречи с пиратами, и произошло это у тех же берегов.
Датский археолог Глоб, пятнадцать лет проведший в раскопках на Дилмуне, первым изо всех ученых всерьез воспринял шумерские легенды о потопе. Он сопоставил их с трехметровым слоем ила, поверх которого шумеры построили город пять тысяч лет назад.
— В тот далекий год много странных вещей произошло на нашей планете.
— Примерно пять тысяч лет назад, или в 3000–3100 годах до нашей эры, древнейшие мировые цивилизации переживали эпоху интенсивного развития. Не только одни шумеры, покинув Бахрейн, основали свое государство в устье месопотамских рек. Предки фараонов приплыли на берега Нила и положили начало государству Египет. На какое-то время они обложили данью могущественные государства, внезапно возникшие на Крите и на Кипре. Вскоре, если не одновременно, другие мореплаватели высадились в низовьях Инда и дали жизнь третьей древнейшей мировой цивилизации. Все они пришли неизвестно откуда, были носителями высокоразвитой культуры, владели письменностью, и в их религиях значительное место занимали богоподобные правители на тростниковых кораблях.
Наверное, ничто не занимало меня в жизни больше, чем вопрос: что же случилось в те годы с нашей планетой? А ведь что-то определенно случилось.
Именно тогда огромная трещина расколола Исландию пополам и пролегла дальше, по морскому дну, через подводный Срединно-Атлантический хребет. Когда через несколько тысячелетий на остров приплыли викинги, они созвали первый в Европе парламент как раз в этой расселине. Исландские ученые обнаружили ствол дерева в застывшей лаве, вырвавшейся на поверхность при этой катастрофе, и углеродный анализ позволил установить дату возникновения трещины — около 3000 года до нашей эры.
В климате тогда тоже произошли значительные изменения. Исследуя отложения пыльцы, ботаники выяснили, что именно в то время начали высыхать реки и озера в Северной Африке, а Сахара и Месопотамия превратились в пустыни.
Изменения произошли и в тихоокеанском регионе. В наши дни все знают о течении Эль-Ниньо, зарождающемся через регулярные промежутки времени у побережья Южной Америки и вызывающем штормы, наводнения и засухи во всем мире. За несколько лет до того, как я начал раскопки вокруг пирамид в Тукумане, Эль-Ниньо полностью разрушил находившуюся там деревню. Следом за нами раскопки в прибрежных районах Перу продолжил Даниэль Сандвейс. Он и его американские коллеги обнаружили следы дотоле неизвестных рыбацких поселений, в течение десяти тысяч лет живших рыбалкой и сбором моллюсков. На основании изучения раковин тропических моллюсков в древних выгребных ямах им удалось точно установить, в какие годы на протяжении последних пяти тысяч лет Эль-Ниньо обрушивался на побережье. И самое интересное — впервые это произошло за 3000 лет до нашей эры. До этого никакого Эль-Ниньо не было и в помине! Под воздействием совершенно не известных причин именно 5000 лет назад у берегов Перу возникло это тропическое течение, оказавшее значительное влияние на климат всей планеты.
Современные ученые могут только приблизительно определять даты событий, на тысячу и более лет предшествовавших Рождеству Христову. Ведь наше собственное летосчисление не проникает настолько глубоко в глубь времен. Мы принимаем за точку отсчета год рождения Христа, мусульмане — год, когда Мухаммед пришел в Мекку (по нашему календарю это 622 год н. э.). Буддисты ведут летосчисление от смерти Будды — по-нашему от 544 года до н. э. Но в противоположных уголках планеты предки индусов и индейцев майя имели основанный на астрономических наблюдениях календарь, настолько точный, что нам впору задуматься и пересмотреть свои представления об истории. Оба календаря возникли независимо друг от друга в одном и том же столетии, за три тысячи сто лет до Рождества Христова по нашему летосчислению.
— Но что же случилось?
Больше других наук индейцев майя интересовали астрономия и история. Европейцы сожгли все их написанные на бумаге книги, но на стенах своих храмов майя оставили вырезанные в камне результаты астрономических наблюдений и математических расчетов. Они вычислили, что в году 365,2329 дня. Эта цифра на 8,64 секунды точнее нашего современного календаря и дает ошибку всего в один день раз в 5000 лет. Интересно отметить, что исходной точкой своего календаря майя считают 4 ахау 2 чумху, по-нашему 12 августа 3113 года до н. э.
Не только шумеры ведут свою историю от природного катаклизма. С потопа начинают экскурс в прошлое и ацтеки, и инки. О нем же вам расскажут на любом острове Полинезии. Единственный в Америке письменный источник доколумбовой эпохи, избежавший гибели в костре инквизиции, — это священная книга майя-киче «Пополь Вух» («Книга Народа»). Оригинал бесследно исчез, но с него успели сделать копию, которая хранится в Гватемале. Для меня это часть всемирной истории, рассказанная в форме сказки. Бог Хуракан создал первых людей, но они ему не понравились, поскольку у них не было сердец и они походили на деревянных кукол. Он вознегодовал и наслал на них ужасное наводнение:
«Сердце Неба позвал воду, и она обрушилась на головы деревянных фигур… Таково было наказание за то, что они не думали о своем отце и о своей матери, Сердце Неба, Хуракане. И лицо земли потемнело, и пошел черный дождь, и шел он и днем, и ночью».
Согласно легенде, гватемальские правители происходят от вождя, первым ступившего на берег после Потопа, когда темнота отступила в глубь континента в поисках нового убежища.
— Вернемся на берега Атлантического океана. Тебе не избежать разговора об Атлантиде.
— О ней столько говорили, что ученые стали пугаться этой темы, как огня. Но глупо отбрасывать ее, не попытавшись проанализировать, как возникла эта легенда, и проследить, какие формы она принимала. В 400 году до нашей эры Платон якобы разговаривает со своими соотечественниками, Солоном и Сократом, — прием, типичный для эллинской культуры. Солон вспоминает о своем посещении Египта и о том, как местные священники смеялись над исторической безграмотностью греков. Но затем они признали, что у греков имелось оправдание: их ученые погибли, когда огромная волна обрушилась на средиземноморские страны, причем греки и их соседи оказались в числе наиболее пострадавших народов. Спаслись только пастухи высоко в горах, поэтому грекам пришлось восстанавливать свою культуру практически с нуля. А потом Солону рассказали об острове, некогда возвышавшемся у входа в Средиземное море. Папирусы говорили о том, как давным-давно жители острова отрядили огромную армию, чтобы покорить города Европы, но афиняне отразили нападение. А затем Солон пересказывает египетский вариант легенды о потопе:
«Потом начали случаться землетрясения и наводнения невиданной силы, и в один ужасный день и последовавшую за тем ужасную ночь земля поглотила всех воинов, а океан поглотил весь остров Атлантиду, и больше его никто не видел. Вот почему там до сих пор нельзя плавать кораблям, они цепляются днищем за то, что когда-то было островом».
Никто не может точно сказать, что же случилось пять тысяч лет назад, но неведомое событие стало точкой отсчета событий и времени для цивилизаций всего мира. Чтобы попытаться пролить свет на эту тайну, фонд ФРИ в качестве одного из первых шагов своей деятельности собирается организовать в университете штата Мэн международную конференцию на тему: «Климатические и культурные перемены в третьем тысячелетии до нашей эры».
Возможно, наука будущего больше узнает о нашем прошлом, и мы перестанем суетиться, как деревянные куклы, а посвятим свои мысли нашим матерям и отцам, которые воистину являются Сердцем Неба.
Водная гладь и небесная твердь
Я сидел на берегу Тихого океана в северо-западной Америке и смотрел вдаль. Где-то там, на севере, Азия и Америка склонялись друг к другу настолько близко, что между Сибирью и Аляской оставался только узкий пролив. Невысокие волны Японского течения ласково набегали на широкий песчаный берег и останавливались у самых моих ботинок. Я размышлял о жизни.
Итак, круг замкнулся.
Второй круг. Первый раз это случилось в Перу, на праздновании 50-й годовщины плавания на «Кон-Тики». Минул год, и судьба забросила меня в Британскую Колумбию, к индейцам американского северо-запада. Именно здесь я начал поиски ближайших родственников туземцев из Полинезии, поиски, столь внезапно и жестоко оборванные войной.
Я до сих пор уверен, что именно здесь будущие полинезийцы рубили деревья для своих катамаранов и именно отсюда ветра и течения подхватили их и понесли в сторону Таити. Добравшись же до Таити, они начали один за другим завоевывать острова Тихого океана, на которых уже жили люди, приплывшие из Перу на бальсовых плотах.
Пятьдесят лет назад все утверждали, что я устраиваю бурю в стакане воды. Волны по-прежнему ласкали песок у меня под ногами. Они зародились на просторах Тихого океана, занимающего половину Земного шара — ровно столько же, сколько все остальные океаны и континенты, вместе взятые. Ничего не зная ни о каких научных теориях, океан жил своей жизнью. По его безграничным просторам вращались, едва не сталкиваясь в районе экватора, два могучих течения. Одно, южное, закручивалось против часовой стрелки и помогало судам, плывущим из Перу в Полинезию. К северу от экватора океан вращался по часовой стрелке и нес свои волны к тем же островам. В доме одного из здешних индейцев висело два стеклянных шара поплавки от японских сетей, выброшенные волнами на здешний берег. Вместе с Жаклин и моим американским коллегой археологом Дональдом Райаном я приехал в Британскую Колумбию, чтобы доделать то, что не успел в свой первый визит много лет назад. Научные круги в Виктории и университетском городе Ванкувере встретили нас так же тепло, как и в прошлый раз. В Королевском музее Британской Колумбии нам тоже очень обрадовались. Директор, антрополог, а не зоолог, устроил нам экскурсию по обновленному зданию, а затем пригласил на обед. Странно было снова увидеть те экспонаты, которые много лет назад пылились в картонных коробках в подвале старого музея. Здесь не забыли, как в 1939 году я сидел в кабинете директора, окруженный книгами и каменными топорами, и убеждал всех и каждого, что полинезийцы бывали на этих берегах.

Позже мы отправились на остров Ванкувер, в самое сердце страны индейцев квакиютль. Нас сопровождали два крупнейших в Канаде специалиста по культуре прибрежных индейцев, антрополог Джером Кибульски и археолог Бьёрн Симонсен. Кроме них, с нами ехал индеец племени квакиютль по имени Стэн Уоллес. Джером работал в Национальном музее в Квебеке и был настолько дружен с индейцами — в наши дни они называют себя «Первый народ», что те даже разрешили ему исследовать скелеты своих предков. Археолог Бьёрн представлял в этом районе и власти, и музей, потому что никто лучше него не знал все местные племена, острова, бухты и бухточки. Стэн был восторженный археолог-любитель и незаменимый помощник Джерома.
Мы с Жаклин так устали во время долгой автомобильной поездки на остров Ванкувер, что нас не интересовали ни вышедший на дорогу медведь, ни высеченные на скалах индейские рисунки, ни восхитительные пейзажи. Позади осталась совершенно сумасшедшая неделя, за которую я сразу после приезда из Европы ухитрился побывать в четырех американских университетах. Сперва, облачившись в мантию и академическую шапочку почетного доктора наук, я выступал перед шестью тысячами первокурсников университета штата Мэн. Затем, уже в другой мантии и шапочке, под проливным дождем, я принял еще один почетный диплом от Хартфордского университета. А на следующий день читал лекцию о роли океана в развитии цивилизаций в аудитории музея Пибоди при Йельском университете.
Менее чем через двадцать четыре часа Дон Райан поджидал нас в аэропорту Сиэтла, чтобы отвезти к индейцам квакиютль. Он работал в Лютеранском университете Тихого океана, что в городе Такома. На обратном пути мне предстояло выступать там тоже. Нам хотелось только одного — поскорее добраться до индейцев, которые и были истинной целью нашего путешествия.
Дремучий лес окружал со всех сторон крошечную гостиницу «Приют пионера» на северной оконечности острова Ванкувер, где мы остановились на ночлег. Здесь начинались исконные земли квакиютль, и отныне роль провожатого переходила к Стэну. Сам он поселился неподалеку, у своих родственников в новой индейской резервации Кватсино. Наутро, еще до восхода солнца, он заехал за нами, и мы отправились в Старый Кватсино, где он родился. Мы все сели в просторный и быстрый катер и отправились в путь.
Трудно представить, но даже в Норвегии меньше фьордов и островов, чем в Британской Колумбии. На карте пролив Кватсино напоминает вырезанного из камня человека с длинными распростертыми руками. Головой исполин прижимается к возвышенности на побережье, а длинное узкое тело тянется на запад до самого Тихого океана. Сперва мы причалили в районе головы и позавтракали в Угольном заливе, небольшом городке при заброшенной угольной шахте. После этого на протяжении всего плавания мы больше не встретили никаких признаков присутствия человека, кроме кучек раковин моллюсков возле заброшенных стоянок да нескольких покинутых домов.
Одно из таких зданий оказалось бывшей школой — единственное,
что напоминало о старом индейском поселении Кватсино, в котором вырос сын вождя Стэн. От других домов не осталось ни следа. У меня комок встал в горле, когда, пробравшись через кусты, мы оказались на кладбище у кромки леса. Все вокруг было усеяно полусгнившими кусками дерева и испещрено следами медведей. Но посреди этого запустения возвышались хорошо сохранившиеся могильные памятники в форме огромных рыб и плывущих китов. Вырезанные из дерева и раскрашенные, как индейские тотемы, они были закреплены на воткнутых в землю шестах. Только один изображал волка с задранной головой, словно бы воющего на луну. На материке тотемы обычно изображали лесных зверей и птиц — медведей, бобров, а также орлов. Тут преобладали морские твари. На каждом шесте висели гирлянды из почти свежих цветов.
Я не стал задавать никаких вопросов. Здесь нашли покой родные люди, память о которых еще жила.
— Это не идолы, — тихо произнес Стэн. — Чужаки думают, что тотемы предназначались для поклонения или для того, чтобы отпугивать врагов. Но мы, подобно вам, верим в незримого бога. Животные — символы наших родов. По высокому тотему можно узнать историю целого рода.
Мы перекусили на берегу и отправились дальше. Под навесом из сгнивших досок мы обнаружили хорошо сохранившийся череп. Мы не стали ничего трогать — прежде чем взять образец для анализа на ДНК Джером должен был получить разрешение от совета старейшин племени. Позже мы добрались до очаровательного маленького островка. Вдалеке Бьёрн заметил, как что-то белое блестело под солнцем в груде раковин моллюсков, оставшейся после древнего стойбища. Даже Стэн никогда не бывал здесь раньше. Островок покрывала густая растительность, и когда мы пробирались сквозь кустарник, Бьёрн вдруг криком подозвал нас к себе. Под уступом на склоне небольшого холма он обнаружил открытую могилу, в которой под сгнившими бревнами лежало три скелета. Один из черепов, ослепительно белый и прекрасно сохранившийся, отличался очень странной формой. Прибрежные индейцы владели многими видами искусства и обладали совершенным вкусом, вполне в духе современности. Они часто искусственно удлиняли черепа своих новорожденных детей, как это делали представители многих древних цивилизаций. Но ни в одном музее я не видел такого длинного и узкого черепа. Я решил, что нельзя оставлять подобную редкость в заброшенном месте, где за ней не следят ни родственники усопшей красавицы, ни смотрители музея.
Позже Стэн привел нас к себе в гости, в просторный дом на территории новой резервации. При виде красавиц-индианок мои мысли перенеслись от суровых здешних лесов к поросшим пальмами южным островам, омываемым водами этого же океана. На стенах висели фотографии представителей старших поколений. Дедушка Джимми Джамбо и его жена были индейцами из Кватсино, а двоюродный дед в меховой шапке по виду ничем не отличался от вождя племени маори.
Маленький частный самолет доставил нас в северную часть архипелага, и при расставании Стэн достал из кармана небольшую книжку, расписался на ней и протянул ее мне. Подарок назывался «Легенды индейцев квакиютль». В свое время автор книги П. Уитакер записал их со слов отца Стэна, вождя Джеймса Уоллеса. А я-то думал, что мне больше не придется возвращаться к рассказу о Всемирном потопе.
Здесь, вдали от империи шумеров, о приближающемся наводнении узнал не один-единственный правитель, а целый народ. Индейцы соединили шестами все свои каноэ и загрузили их сушеным мясом, рыбой, моллюсками, ягодами и деревянными бочонками с водой. Когда дозорный увидел гигантскую волну и криком оповестил соплеменников об опасности, они в спешке уселись в лодки. Поток поднял их выше уровня гор, и в наступившем хаосе им долго пришлось уворачиваться от стволов вырванных с корнем деревьев и от обломков их собственных домов. Когда вода отступила, индейцы обошли все горы в поисках случайно уцелевших. Некоторые каноэ унесло в открытый океан на верную смерть. Но несколько лодок выбросило на незнакомые берега, и индейцы поселились там и дали начало новым племенам.
Возможно, я потому неизменно внимательно слушаю рассказы так называемых «примитивных народов», что никогда за всю свою жизнь не встретил никого, кто был бы значительно «примитивнее» нас самих. После того, как старец на Фату-Хива поведал мне историю о появлении божественного Кон-Тики, и я сопоставил этот рассказ с легендами индейцев аймара с берегов озера Титикака, я без малейших предубеждений отношусь к преданиям народов, никогда не знавших письменности.
С того самого дня, как я впервые предположил, что архипелаг у берегов Британской Колумбии служил перевалочным пунктом на миграционном пути из Азии в Полинезию, я допускал, что индейцы со здешнего побережья могли помнить нечто важное. Поэтому, как только Стэн передал мне сборник легенд его предков, я сразу почувствовал, что мне в руки попало сокровище.
Я предполагал, что бог-путешественник, сыгравший столь важную роль в культурах Мексики, Перу и всего тихоокеанского бассейна, мог посетить и индейцев квакиютль. Оказывается, они помнили его как «Кане-акелу» или «Кане-аквеа». Стэн произносил его имя: «Кане-келак». Книга содержала множество историй о нем и его деяниях, о том, как удивились индейцы, когда он и его брат пристали к берегу в бухте Сэнд Нек около двух тысяч лет назад. Он совершал удивительные чудеса с помощью двухглавого змея которого он носил вместо пояса и иногда использовал в качестве пращи.
Сказки? Мифы? Разумеется. Но праща применялась только в некоторых уголках Земного шара, а перуанские и мексиканские легенды всегда рисуют прародителя своих культур с пращой в руках. На изображениях доинкского периода, распространенных на побережье Перу, Кон-Тики всегда предстает опоясанным двухглавой змеей.
К тому же, Кане-аквеа индейцев квакиютль, чьим знаком было солнце, слишком уж походил на полинезийского бога света Кане-акеа. Слова «акеа» и «атеа» во всей Полинезии обозначали и свет, и высшее божество. К тому же, полинезийцы чтили могущественного богочеловека по имени Кане. Особенно развит был его культ на Таити, где даже солнце называли «Место, где отдыхает Кане». А солнце, обозначаемое во всей Полинезии словом «ра», на Таити называлось «ла» — сравните с «нала» индейцев квакиютль.
Все эти мысли не давали мне покоя, когда мы с Жаклин, Доном и двумя канадскими археологами попрощались со Стэном и забрались в крохотный самолет.
Мы летели, едва не задевая верхушки деревьев. Внизу проплывали необитаемые берега пролива Хакай, долина Белла Кула, где я жил, когда в Европе разразилась война, затем холодные волны океана. Наконец мы приземлились в Белла Белла, главном поселке индейцев квакиютль.
Нас ждали. Старейшины проводили нас в длинный дом посреди деревни, где за угощением состоялась долгая беседа с патриархами племени. Стены дома украшали тотемы и рисунки животных — покровителей племени, но посреди комнаты стояли компьютеры и факсы.
То была незабываемая встреча. Седая древность и дух современности слились воедино. По крайней мере, половина внимательно изучавших меня лиц живо напоминала мне о Полинезии. Они тоже знали то, что я впервые заметил в 1940 году и на что сразу же обратили внимание капитаны Кук и Ванкувер, очутившись здесь после плавания среди полинезийских островов: здешний «Первый народ» удивительно напоминал чертами лица тех, кто приветствовал европейцев в южной части Тихого океана. Теперь все отмечали это сходство. Представители местного населения уже побывали на Гавайях и не раз принимали гостей с Гавайских островов, Самоа и Новой Зеландии. Индейцы с севера и туземцы с юга общались между собой, как родственники, и чувствовали себя частью одного народа.
Выяснилось, что индейцы квакиютль по-прежнему обладали высоким ораторским мастерством. Их предки не знали письменности, но умели говорить поэтичными образами, далеко превосходившими лучшие образцы красноречия многих других народов. Умение красиво выразить свои мысли высоко ценилось в их обществе. Участники встречи со вниманием и достоинством выслушали мой рассказ о причинах, приведших меня к ним. Время от времени то один, то другой делали абсолютно уместные и продуманные замечания, причем в разговоре участвовали в равной степени как мужчины, так и женщины. Готовясь к нашей встрече, каждый из них расспросил своих старых родственников и теперь мог сообщить нечто интересное. Я не мог не обратить внимание на то, что прибрежные индейцы, после долгих лет прозябания, вступили в новую стадию развития. Когда в 1940 году я жил среди индейцев долины Белла Кула, только один охотник на медведей Клейтон Мак имел свое собственное каноэ, купленное в магазине. Теперь во всех поселках старики учили молодежь, как сделать лодку из ствола кедра и как украсить ее резьбой в традиционном стиле их предков.
Фрэнк, молоденький парнишка, которого на год изгнали из племени на маленький необитаемый островок за то, что он воровал и принимал наркотики, превратился в замечательного мужчину. Именно он возродил традиционные гонки на каноэ вдоль всего побережья, в которых с незапамятных времен участвовали все молодые представители «Первого народа». Позже мы познакомились с кинопродюсером с Полинезии по имени Карен Уильямс, приехавшим снимать гонки. Его отец был маори, а мать родилась на острове Тонга, и она настолько прониклась уверенностью, что именно здесь находится земля ее предков, что после окончания соревнований осталась, чтобы снять другой фильм о сходстве культур.
Много лет назад я вместе со своим двухлетним первенцем Туром сидел на пристани в долине Белла Кула и мечтал когда-нибудь добраться до берегов залива Хакай. С тех пор минуло шестьдесят лет, и я, наконец, оказался близок к осуществлению давнишней мечты, правда, средством передвижения должна была послужить не лодка, а самолет-амфибия. Когда встреча подошла к концу, трое из старейшин так просились присоединиться к экспедиции, что нам пришлось оставить в поселке Дона и Джерома, а вместо них два пожилых индейца и одна их соплеменница столь же почтенных лет заняли места в креслах и пристегнули ремни.
Под серым небом, шарахаясь из стороны в сторону под порывами ветра, мы летели над макушками холмов к долине Белла Кула. Наконец между большими островами заблестела вода пролива Хакай. Мы снизились, на уровне поросших лесом берегов пролетели вдоль всего пролива и, наконец, оказались в открытом океане. Я подумал про себя, что, если кто задумал бы бежать из зажатой меж гор Белла Кула, он не нашел бы лучшего пути в море, нежели через пролив.
Именно в этом я и хотел убедиться. Долина Белла Кула тянулась вдоль длинного узкого залива, окруженного крутыми горами, и уходила далеко в глубь континента. Это была самая большая и цветущая долина на всем побережье. Некогда индейцы племени салиш пришли с юга и захватили ее, тем самым расколов земли квакиютль надвое. Этнологи терялись в догадках, как такое могло произойти. Скорее всего, они незамеченными прокрались со стороны материка. Но я задавался другим вопросом: что случилось с теми, кто вынужден был бежать из долины?
Я надеялся найти остатки старинных поселений на необитаемых берегах пролива. Мы летели над самой водой. Справа возвышался остров Калверт, слева — острова Налау и Хекате.
Пилот посадил самолет в тихом заливчике, защищенном от ветра высоким мысом неподалеку от того места, где залив переходил в открытый океан.
Нас ждал забавный сюрприз. После Белла Белла мы не видели с высоты ни единого дома. Позади остались разбросанные, как в причудливой мозаике, поросшие сплошным лесом бесчисленные острова и островки. Но здесь, где я надеялся найти остатки старинного поселения, стоял недавно построенный дом! Живший в нем в одиночестве человек был удивлен не меньше нашего. Сам он оказался с острова Питкерн в Полинезии, все жители которого являются потомками мятежников с «Баунти». После завершения экспедиции на остров Пасхи я заходил туда на своем исследовательском судне. В тот раз я собрал все мужское население острова и отвез их на поросший лесом необитаемый островок под названием Хендерсон. Им срочно требовалось дерево для поделок, которые они продавали туристам, и только тем и жили. Наш же новый знакомец, оказывается, охранял дом, построенный для туристов, но временно пустовавший до начала летнего сезона.
Я не мог избавиться от чувства разочарования. И тут мой взгляд упал на огромное дерево, рухнувшее неподалеку от стены дома. Между вырванными из земли корнями что-то белело: гора ракушек, отбросы, оставшиеся после древней стоянки! Новый дом оказался построен поверх фундаментов старинного поселения, не замеченного археологами. Вместе с нашими тремя пожилыми спутниками мы отправились в гущу леса и, пробравшись мимо гигантских деревьев, через кусты и беспорядочно разбросанные валуны, наконец, увидели просвет, открывающийся к океану. Еще миг — и мы стояли на широком песчаном пляже, самом красивом пляже, который мне доводилось видеть в Америке. Это была внешняя сторона пролива Хакай.
Мы сели на огромное бревно, выброшенное волнами на берег. Мы наслаждались красотой вида и величием момента. Именно здесь, согласно древним преданиям, в давно ушедшие времена ежегодно устраивали ритуальные собрания индейцы племени квакиютль со всего побережья. Старики рассказали нам, что сюда приплывало на каноэ столько людей, что грохот барабанов разносился далеко над океаном. Они знали такие подробности, будто сами некогда принимали участие в древних таинствах. Еще они рассказали, что в устье пролива ветер и течение достигали порой такой силы, что даже современные рыболовецкие суда сбивались с курса, и им на помощь приходилось высылать спасательные корабли из Виктории.
Мы слушали, как завороженные. Затем, чтобы продемонстрировать бесконечное богатство океана, старые рыбаки подвели нас к отполированному ветром вертикальному камню, стоявшему на краю пляжа, словно гигантская ширма. В испещрявших его поверхность вертикальных трещинах прятались живые морские звезды, разноцветные анемоны и прочая морская живность. Их всех выбросило сюда приливом, и теперь они ждали начала следующего прилива, чтобы вернуться в свои родные океанские глубины. Я чувствовал себя, словно в огромном театре, где лес играл роль задника, песчаный пляж — освещенной огнями рампы сцены, а колышущиеся грохочущие волны были зрителями. Но потом что-то изменилось. Волны снова стали просто волнами, а мы — не более чем маленькой группой людей, сидящих на бревне и думающих, что представление играется для нас. Но мы, дети цивилизации, пришли слишком поздно. Спектакль уже закончился.
И тут я услышал шепот суфлера.
— Тебе больше нравится сидеть здесь и слушать рассказы индейцев, чем самому стоять на кафедре в профессорской мантии и четырехугольной шапочке с кисточкой…
«Слушающий узнает больше, чем говорящий», — ответил я про себя. А ветер и люди, живущие одной жизнью с природой, знают еще много такого, чего не услышишь в университетских аудиториях.
Ученый должен уметь отличать легенды от мифов и использовать и те, и другие. До самого недавнего времени все на здешнем побережье знали легенду об учителе Кане Акеа. Когда же он под тем же самым именем появляется в качестве основателя королевских домов на островах Полинезии, эта легенда наполняет жизнью побелевшие от времени находки археологов и этнологов. И она не становится мифом от того, что современники наделяли настоящего Кане божественными свойствами. То же самое происходило с фараонами, с правителями инков, с японскими императорами и странствующим богом викингов, Одиным.
Настоящий Кане умер, а его мифический образ слился с образом солнца. Но когда и индейцы квакиютль и туземцы на Таити передают из поколения в поколение один и тот же миф, науке стоит призадуматься и признать этот миф культурной параллелью и частью великой головоломки, связанной с миграциями тихоокеанских народов.
Аку-аку настолько освоился в моем старом доме на Тенерифе, что стоило мне прилечь, дабы собраться с мыслями после дневных трудов, как он смело вошел в гостиную и уселся рядом. Жаклин включила телевизор, но вместо интересных новостей о столкновениях на Ближнем Востоке и испытании ядерной бомбы в Пакистане там показывали чемпионат мира по футболу. Я демонстративно закрыл глаза, но тут Жаклин подпрыгнула в кресле и закричала:
— Подумать только, Норвегия выиграла у Бразилии 2:1!
К концу двадцатого века люди окончательно сошли с ума. Во всем мире только и говорят, что о футболе. Десятки тысяч «болельщиков» усаживаются рядами с раскрашенными лицами и орут что есть мочи, глядя на то, как кто-то гоняет мячик по зеленой траве.
— Тебе не нравится футбол?
— Я всегда оставался к нему равнодушен, но сейчас во мне просыпается интерес: что же в нем видят остальные?
Тоненький голосок не унимался. Неужели я, который всегда поддерживал усилия ООН и всех других организаций, ставивших своей целью мирное сосуществование народов, не вижу — наконец-то люди получили нечто вне политики? Представители разных национальностей и рас собираются вместе и просто играют, не думая ни об оружии, ни о политике. Здесь, в здоровом спортивном соревновании, маленькая африканская страна может бросить вызов сверхдержаве и победить, не потратив ни копейки на пушки и ракеты.
Мне нельзя терять связь с происходящим на земле. Я начал это понимать, когда выступал с приветствием на церемонии открытия Олимпиады в Лиллехаммере. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что пинг-понг или футбол доступны большему количеству людей и могут сделать больше для дела мира, нежели любые политические лозунги или пятилетнее соглашение между США и Кубой о совместном проведении археологических работ.
— Но тебя же больше интересует прошлое, чем настоящее.
— Нет, меня интересует будущее. Но его еще рано изучать. Нельзя путать будущее с настоящим. Настоящее не реально. К нему только потянешься, а его уже нет. Оно не более чем вечно длящийся шаг от того, что было, к тому, что будет. На этом фундаменте ничего не построишь. Мы все идем в неведомое «завтра», и только оглядываясь назад и изучая свои собственные следы, можно понять, куда мы идем и прям ли наш путь.
Самый главный урок, который нам преподает прошлое, — это то, что все предыдущие цивилизации канули в Лету. И чем выше пирамиды, замки и статуи, которые они возводят в честь своих богов и самих себя, тем тяжелее падение. Некоторые из них исчезли практически без следа, и только усилиями археологов потомки узнали о самом факте их существования. Огромные дома и могущественные армии не производят ни малейшего впечатления ни на божественное солнце, ни на неведомую созидательную силу, стоящую за Большим взрывом. Им гораздо ближе те цивилизации, которые уважают своих создателей и испытывают к ним непреходящую благодарность.
Люди, строившие большие здания, вели и большие войны. Когда археологи раскапывают руины, оставшиеся от великих цивилизаций, как правило, под ними они находят следы еще более древних культур. И уместно будет отметить, что самая передовая цивилизация не всегда находится сверху.
— Цивилизации приходят и уходят, а примитивные народы как жили, так и живут посреди дикой природы.
— Да, и убивают друг друга из луков. Они существуют на этой планете столько же, сколько и мы, и по существу мы изменились так же мало, как и они. Мы считаем, что ушли далеко вперед, но наш так называемый «прогресс» если и имел место, то в промежутках между мировыми войнами, и меняли мы окружающую среду, а не себя. Мы, строители цивилизации сегодняшнего дня, с помощью металлического шеста получаем изображение сквозь стены и крыши домов, мы можем изменить все — от озонового слоя, погоды и ветра до жизни, которая существовала в лесах и океанах задолго до нашего появления. Еще мы пытаемся поменять наш внешний вид с помощью спортивных упражнений и правильного питания, но лучшее, чего нам удается добиться, — это сохранить свои мускулы и здоровье такими же, какими их получили от природы наши предки.
Как обычно, я остался лежать, погрузившись в размышления, после того, как Жаклин выключила телевизор и взяла с полки книгу. Всю свою жизнь я пытался понять тайну тех людей, которые больше всего улыбаются. Улыбка — это дар богов, который живет в каждом человеке. Все-таки есть внутри нас нечто такое, чего не могут обнаружить врачи, поскольку оно исчезает прежде, чем за дело берется патологоанатом. Какой-то приемник и передатчик, настроенный на иную с телевизором волну, но для которого стены и крыши тоже не являются преградой и который заведует такими понятиями, как инстинкт, интуиция и совесть.
Частично мы унаследовали его у животного мира. Пока тумблер жизни находится в положении «включено», каждое живое существо знает, как пользоваться своими органами чувств, крыльями, ногами и гениталиями. Мы называем это инстинктом или интуицией. Но человек рождается с чувством ответственности за свои поступки — это называется «совесть». И со времен Адама мы обладали способностью поддерживать обратную связь с себе подобными. Те, кто не утерял этот дар, посылают беззвучные просьбы о совете и помощи. Цивилизованные люди полагают, что Создатель лучше их услышит и станет к ним ближе, если они построят церковь или храм. Но мой жизненный опыт говорит, что встроенные в каждого из нас приемник и передатчик прекрасно справлялись со своими обязанностями задолго до того, как мы убедили себя и окружающих, будто Бог предпочитает замкнутое пространство.
Когда мы покидали длинный дом в деревне индейцев квакиютль, один из них сунул мне в руки листовку. Вот что писал о местных тотемах Вождь Мум-Хоу, крещенный под именем Джеймса Сьюида:
«Наши предки обладали глубокой жизненной философией, и мы, их потомки, выросли именно на основе их философии и их законов. Они видели красоту окружавшей их природы во всем ее многообразии и пытались отобразить часть этой красоты в своей ежедневной жизни, в своих легендах, танцах и искусстве. Мой народ верил во всемогущую силу, создавшую этот мир, и его переполняло чувство благодарности и благоговения перед величием Создателя».
Свои любимые книги и коллекцию индейского искусства Жаклин хранит отдельно и очень бережно. Кстати, ее сокровищница многое говорит о схожести наших вкусов. Я попросил Жаклин достать одну из ее книг, которая в значительной мере отражает нашу общую жизненную философию. Книга называется «Прикоснись к земле. Автопортрет индейского философа».
Один из авторов, индеец Татанга Мани из «примитивного» североамериканского племени, пишет:
«Да, я ходил в школу белых, я научился читать учебники, газеты и Библию. Но со временем я понял, что этого мачо. Цивилизованные люди попадают в зависимость от печатного слова. И тогда я обратился к книге Великого Духа. Он писал эту книгу на скалах, на деревьях, на воде. Эта книга может дать действительно многое. Если вы бросите книги на землю, через какое-то время солнце, дожди и насекомые уничтожат их без остатка. Но Великий Дух подарил нам всем возможность бесконечно учиться в его университете природы, рек, лесов, гор, животных и людей».
«Бог существовал задолго до Большого взрыва, а также до Будды, Иисуса и Мухаммеда, — думал я. — Но цивилизованные люди не видят ничего, кроме крыш, стен, телевизионных экранов и транспортных пробок. Как мы можем поверить, что нас кто-то создал, когда вокруг себя мы видим только то, что создали мы сами?»
Индеец племени сиу по имени Охийеса попытался раскрыть нам внутренний мир своего народа.
— В жизни индейца есть только один неизменный долг — долг вознести молитву в знак благодарности Невидимому и Вечному. Ежедневная молитва важнее для него, чем ежедневная еда. Вот он проснулся на рассвете, надел мокасины и пошел к реке. Он искупался в чистой прозрачной воде или омыл ею свое лицо. Потом он поворачивается лицом на восток и смотрит, как встает над горизонтом солнце. Его губы не шевелятся, но в душе он возносит молитву. Его жена тоже может молиться, но ни в коем случае не рядом с ним. Каждый должен в одиночестве встретить утреннее солнце, запах пробуждающейся земли и Великую Тишину.
В любое время в течение дня стоит краснокожему охотнику увидеть нечто поражающее своей красотой и величием — черное грозовое облако, рассеченное многоцветной радугой на фоне горы, вспененный водопад в зеленом каньоне, бескрайнюю прерию, порозовевшую в лучах заката, — он остановится на мгновение и замрет в молчаливой молитве. Он не видит смысла считать святым седьмой день недели, ибо для него все дни принадлежат Богу.
Я тоже считаю, что ничто не может символизировать нашего невидимого Создателя лучше, чем солнце. И это относится не только к тем, кто не знал или не понимал, почему христиане поклоняются кресту. Инки, например, возносили молитвы великому незримому Виракоча, воплощенному на небе в виде «инти» — солнечного диска, а на земле в облике царя-жреца. На меня произвело особое впечатление то, что инки считали солнце отцом всего сущего на земле, а океан они звали «Мама-Окльо», то есть «Мать-океан».
Самое интересное заключается в том, что современная наука пришла к такому же выводу Солнце оплодотворило океан своими лучами, и на океанских просторах возникла первая жизнь — частицы соли и минералов, еще бесконечно далекие от генов И хромосом, но уже испытавшие на себе несущие жизнь ласковые лучи. И от этих качавшихся на волнах частиц произошло все живое на планете Земля. Впервые мысль о родстве людей и животных высказал святой Франциск Ассизский в глубоком средневековье, но только после исследований Дарвина наука признала нашего общего предка, до сих пор совершающего ежедневное путешествие в бескрайних небесах. Нимб, сияющий вокруг головы святого, есть не более чем знак преемственности.
— Следует ли из сказанного, что предки человека спустились на землю с деревьев?
— Лично я так не думаю. По мне, так они скорее обитали на границе воды и суши. Тог, кто обрел безопасность в ветвях деревьев, ни за что добровольно не вернется на землю. Там уже было множество зверей. Как говорят биологи, «все ниши в экосистеме были заняты». Если бы уж мы оказались на деревьях, там бы мы и оставались, холя и лелея свои хвосты и цепкие лапы. Какой смысл искать общества всех этих бегающих и прыгающих внизу тварей с рогами, когтями и острыми клыками? Мы не прожили бы там и минуты и тут же бросились бы назад на спасительные ветки. К тому же, по опыту собственных лет, проведенных в джунглях, я знаю, что орехи и фрукты растут как раз на верхушках деревьев, а на земле нет ничего, потому что туда не доходят солнечные лучи.
Мы появились на свет нагие и безволосые — за исключением волос на голове и бороды — чтобы ходить по дну, держа голову над поверхностью воды. Мы получили прямостоящую походку и свободные при ходьбе руки, чтобы в случае вражеского нападения броситься с берега в воду и быстро уплыть. Мы оставили джунгли древесным обезьянам, гориллам и четвероногим зверям, а себе взяли берега рек и морей, где всегда было куда убежать и где никогда не было недостатка в пище для последних детей природы. У кромки воды для наших предков всегда был накрыт стол — разнообразные и многочисленные моллюски.
— Ты веришь в сотворение мира?
— От этого никуда не уйдешь. Нельзя не прийти к выводу, что нечто неведомое и непознаваемое стояло за Большим Взрывом, создавшим все из ничего. Должно было быть нечто сверхъестественное, что подарило Вселенную нам, появившимся на пустой планете под воздействием солнечных лучей.
Даже в своем труде «Происхождение видов» Дарвин признавал, что нелепо представить, будто такой сложный инструмент, как глаз, мог появиться естественным путем.
— Ты веришь в Бога?
— Я верю в того же Бога, в которого верили Авраам, Иисус и Мухаммед. В Великого Духа американских индейцев. Я полагаю, если бы вдруг разом закрылись все церкви, синагоги и мечети, это стало бы величайшей трагедией для всего цивилизованного мира. Не каждый может установить обратную связь со своим внутренним «я» в реве транспортных пробок и развлекательных программ современного урбанистического общества. Нам нужно, чтобы что-то напоминало нам о другой стороне нашего существования.
— Ты христианин?
— Я христианин, если христианство началось с рождением Иисуса из Назарета и не включает тех, кто пришел за ним следом. Я христианин, если для этого достаточно считать Христа великим мыслителем и важнейшей фигурой в истории человечества. Я полагаю, что ни у кого из живших на земле до и после него не были столь развиты совесть, интуиция и разум.
— Но веришь ли ты в Триединого Господа?
— Не думаю, что Бога можно и следует считать. Считать надо материальное — апостолов, Римских пап, Библии. Авраам не считал Своего Бога, равно как и Мухаммед, и уж тем более Иисус, который протестовал даже, если его почтительно называли «отцом». Есть только один Отец, — отвечал он. — Наш Отец небесный. А мы все — братья.
— Ты веришь в Библию?
— Я считаю ее чрезвычайно интересным собранием отлично сохранившихся древних сказаний, имеющих в наши дни неравнозначную ценность. Я очень внимательно читал первые главы как Ветхого, так и Нового Заветов. История сотворения мира начинается со света и океана, и процесс создания описан хронологически верно — от рыб и птиц к сухопутным животным и, наконец, к человеку. Это не может быть случайностью, тут поработали либо могучий ум, либо чуткая интуиция.
— Ты веришь в Духа Святого?
— Я полагаю, Церковь воспользовалась этим словосочетанием для обозначения того, что я называю «совестью». На мой взгляд, это обратная связь с внутренним «я» человека. У науки нет более точного термина для такого странного и важного феномена — чего-то такого, что есть у каждого, но чего никто не видел.
— Ты веришь в будущее?
— Мы сами создаем будущее, прямо сейчас, пока у нас еще есть для этого время. Наука достигла такой степени развития, что в состоянии расщепить природу на атомы, а атомы — на элементарные частицы. Было бы разумно выяснить, как потом все это снова собрать вместе, пока природа еще не предприняла решительных шагов для своего и нашего спасения. Если бы мне было позволено загадать одно-единственное желание на будущее, я попросил бы, чтобы все разногласия из-за веры побыстрее закончились и чтобы все, кто верит в неведомую созидательную силу, воспользовались интеллектом, совестью, интуицией, Святым Духом и всем, что есть в нашем распоряжении, чтобы сохранить природу, пока не поздно и пока длится седьмой день отдохновения.
— Ты веришь в меня?
— Тот, кто не верит в самого себя, никогда ничего не добьется.
Красная нить
— Какая жизнь! В ней трудно разобраться. Ты хоть сам понимаешь, что вело тебя все эти годы?
— Вообще-то, я часто слышал этот вопрос. В качестве единственного ответа могу перечислить все мои экспедиции. Они были лейтмотивом моей бурной и неустроенной жизни.
Все началось с поездки на Маркизские острова в 1937–1938 годах. Я ставил перед собою двоякую цель. Как философ-экспериментатор — попробовать вернуться к естественной жизни и к тому же взглянуть на цивилизацию со стороны. Как ученый — понять, как зародилась биологическая жизнь на островах, грудами безжизненного камня поднявшихся когда-то из морской пучины. Ответ на первый вопрос был таков: человек не может вернуться назад во времени, но с другой стороны, невозможно идти вперед, не планируя последующих шагов. Что же касается второго вопроса, то разгадку появления жизни, на островах Полинезии следовало искать прежде всего в ветре и океанских течениях.
В 1939 году я отправился в Британскую Колумбию, чтобы отыскать следы тех древних мореплавателей, которые в раннем Каменном веке покинули Юго-Восточную Азию, но достигли Полинезии только в начале нашего тысячелетия. В итоге я выяснил, что индейцы, населяющие северо-западное побережье Америки, вполне могут быть тем самым недостающим звеном между азиатами и полинезийцами.
Экспедиция «Кон-Тики» началась в 1947 году. Ее целью было опровергнуть догму, будто бы плоты из южноамериканского бальсового дерева не могли переправить людей и культурные растения через океан от берегов Перу до Полинезии. Я доказал, что бальсовый плот вполне может справиться с таким путешествием и на самом деле обладает лучшими мореходными качествами, чем любое судно доевропейской эпохи. Так что когда предки современных полинезийцев впервые ступили на эти острова, они вполне могли оказаться уже обитаемыми.
Я организовал экспедицию на Галапагосские острова в 1952–1953 годах, чтобы произвести профессиональные археологические раскопки там, куда, как считалось, до прихода европейцев не ступала нога человека. Мы обнаружили обломки кувшинов и отдали их на экспертизу. Специалисты из Американского музея естественной истории определили, что это — осколки по меньшей мере 131 горшка, изготовленных в Эквадоре и Перу еще до возникновения культуры инков.
Следующую группу археологов я привез на остров Пасхи в 1955–1956 годах. Мы искали следы путешественников, которые могли приплыть сюда из Перу на плотах из бальзового дерева задолго до предков нынешних полинезийцев. Мы обнаружили остатки доселе неизвестной цивилизации, предположительно с южноамериканскими корнями. Результаты раскопок, равно как услышанные легенды, пробудили во мне интерес к кораблям из тростника как к возможному инструменту распространения древних цивилизаций.
В 1961 году я отплыл от берегов Марокко на тростниковом корабле «Ра I» с целью опровергнуть догму, будто тростниковые суда могли использоваться исключительно на реках, поскольку тростник-де не выдержит в воде более двух недель. Мы выяснили, что суда из папируса могут месяцами держаться на плаву при условии, что пучки тростника связаны надлежащим образом.
В 1970 году на борту «Ра II» я проплыл от Марокко до Барбадоса и доказал, что правильно построенному тростниковому кораблю вполне по силам пересечь Атлантический океан. Мы также продемонстрировали, что папирусные суда древнейшего населения Северной Африки и Средиземноморья могли добраться до Америки не хуже ладей викингов или европейских каравелл.
Во время экспедиции 1977–1978 годов на «Тигрисе» я снова ставил эксперимент как над кораблем, так и над командой. Я хотел доказать, что даже в условиях ограниченного пространства и сильного стресса люди различного цвета кожи, национальности и вероисповедания вполне могут мирно сосуществовать и вместе работать. Также я доказал, что месопотамский тростник «берди» ничуть не хуже подходит для строительства кораблей, чем папирус. Если срезать «берди» в правильное время года, то он держится на плаву достаточно долго, чтобы построенные из него суда шумеров могли в одно плавание достичь и берегов долины Инда, и побережья Красного моря.
Экспедиции на Мальдивы в 1983 и 1984 годах имели своей целью подтвердить предположение, будто древние мореплаватели посещали затерянные посреди Индийского океана коралловые рифы задолго до Васко да Гама и арабов. Раскопки показали, что еще до открытия Мальдив арабами в 1153 году буддисты построили там свои алтари на развалинах индуистских храмов. Кроме того, мы обнаружили следы еще более древних обитателей островов — каменные скульптуры неизвестных мореплавателей с элегантными усами и удлиненными ушами, похожие на истуканов с острова Пасхи.





В 1986, 1987 и 1988 годах мы предприняли экспедиции на остров Пасхи, чтобы продолжить раскопки и поэкспериментировать с перемещением статуй, установленных в вертикальное положение — ведь недаром местные жители утверждали, будто бы каменные великаны «ходили», переваливаясь с боку на бок. Раскопки под фундаментом храма, построенного легендарным правителем в заливе Анакена, показали, что элегантные стены были сложены в первые годы островной цивилизации и, следовательно, строительная техника была завезена сюда извне. Опыты чехословацкого инженера Павела Павела подтвердили, что если привязать канаты к голове и основанию статуи, то даже небольшое число местных жителей могло передвигать исполина, наклоняя его из стороны в сторону и подталкивая вперед основание.
Археологический проект в Тукумане был организован в 1988–1993 годах совместно с правительством Перу и музеем «Кон-Тики» с целью найти доказательства того, что мореплавание в этом регионе существовало задолго до испанского завоевания. Мы выяснили, что население прибрежной полосы существовало исключительно за счет рыболовства и морской торговли начиная с незапамятных времен и вплоть до вторжения индейцев с гор под предводительством Тупак Инка Юпанки, случившегося за три поколения до прихода испанцев. Мы также обнаружили отчетливую связь между материковой культурой и культурой острова Пасхи в виде изображений тростниковых кораблей и управляющих ими людей с птичьими головами, а также символических рисунков, не встречающихся больше нигде, кроме острова Пасхи.
В 1990 году я перебрался на Канарские острова и остался там навсегда. Первоначальной моей целью было исследование ступенчатых пирамид в Гуимаре на Тенерифе — раньше их принимали просто за груды валунов, оставшихся после того, как первые испанские поселенцы расчистили от камней землю под поля. Мне удалось установить, что на самом деле это — астрономически ориентированные храмовые пирамиды, сложенные из блоков вулканического происхождения. Ступени вели с запада на восток и заканчивались на вершине, на усеянной мелкими камнями платформе. В той самой долине, где стоят пирамиды, последний король гуанчей сложил оружие к ногам испанцев. Это случилось вскоре после первого плавания Колумба к берегам Америки. Колумб и стал последним из череды белых бородатых мореходов, из века в век живших в легендах индейцев Мексики и Перу.

Тур Хейердал
Приключения одной теории
РЕЧЬ В КОРОЛЕВСКОМ
ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
От имени награжденных медалью Общества – доктора Лики и мистера Бейкера, а также от своего позвольте выразить самую искреннюю благодарность сэру Майклу Райту за чрезвычайно любезное и дружеское приветствие, сделанное по поручению членов Королевского географического общества, и всему Правлению Общества за высокую честь, которой мы сегодня удостоены.
Нужно ли говорить, что интерес к нашей деятельности и понимание того, что мы делаем (приглашение Королевского географического общества
– памятное для нас событие), еще больше воодушевит нас. Мы видим в этом поддержку нашего стремления вникнуть глубже в вопросы исторической географии, а также географического происхождения и миграции человека на суше и на море.
В такой памятный день хочется не только смотреть в будущее, но и оглянуться на прошлое, чтобы осмыслить, какие внешние причины побуждали нас идти вперед по путям, которые сегодня свели нас здесь. Вероятно, внешние стимулы были очень различными, и, конечно, это были не одни награды и признания. Сочетание одобрения и противодействия – вот главный двигатель научного поиска. Одобрение – желанная награда, противодействие – вызов, не позволяющий успокаиваться.
Уверен, среди присутствующих не только я убедился, что одного успеха мало. Противодействие, возражения, а иногда и поражения необходимы, чтобы идти к научной истине, расширять пределы человеческого познания. Конечно, не так-то легко воздать должное этому, особенно когда в лицо дует свирепый штормовой ветер. Но когда ветер попутный, как сегодня, мы вполне можем это признать, и пусть сознание этого помогает и другим исследователям в минуты испытаний и при встречных ветрах.
Каждый исследователь, вероятно, сталкивался с этим, но разрешите привести несколько примеров из моего личного опыта. Когда мне в первый раз представилась приятная возможность выступить в Королевском географическом обществе, я докладывал об экспедиции, которая родилась в борьбе с противодействием. Ответом на вызов явился эксперимент. Сперва я несколько поспешно заявил, что мореплаватели древнего Перу вышли в Тихий океан и заселили острова Полинезии до того, как туда прибыли нынешние полинезийцы. Такое заявление было встречено в штыки и как будто опровергнуто ссылками на авторитетные труды, в которых утверждалось, что южноамериканские суда не пригодны для мореходства и не дошли бы даже до островов Галапагос. Таким образом, противодействие, а не признание вызвало к жизни экспедицию «Кон-Тики», и она показала, что древние перуанские мореплаватели располагали замечательным мореходным судном – бальсовым плотом, который отличался большей плавучестью, надежностью и грузоподъемностью, чем полинезийские лодки и корабли викингов, хотя уступал им в скорости и изяществе.
Новое противодействие побудило меня впервые привезти на Галапагос опытных археологов. Скептики признали мореходные качества бальсового плота, признали, что аборигены Перу в принципе могли дойти до Полинезии. И тут же заявили, что южноамериканские аборигены ходили только вдоль берегов материка, иначе острова Галапагос – ближайший к континенту океанический архипелаг – были бы открыты и освоены инками или их предшественниками до прибытия испанцев, то есть до 1535 года. В ответ на противодействие были начаты первые раскопки на негостеприимных засушливых островах Галапагос.
На трех островах архипелага были обнаружены четыре доисторические стоянки, собрано около двух тысяч черепков по меньшей мере ста тридцати одного сосуда аборигенов, найдены образцы керамики чиму, инкская глиняная свистулька, кремневые, обсидиановые предметы и др. Сотрудники Национального музея США, исследовал материал, установили, что на островах Галапагос много раз бывали приморские жители Эквадора доинкского периода и Северного Перу, во всяком случае времен культуры приморская тиауанако. Археология Южной Америки продвинулась на 600 миль в просторы Тихого океана.
Но как могли совершаться многократные плавания на Галапагос, если экспедиция «Кон-Тики» как будто показала, что бальсовый плот не
способен маневрировать и идти против ветра? Был поставлен новый эксперимент – построен и спущен на воду у берегов Эквадора еще один плот с гуарами, хитроумной системой выдвижных досок-килей, которые попеременно опускают и поднимают между бревнами перед двуногой мачтой и позади нее. Оказалось, что на таком плоту перуанцы могли идти к ветру под более острым углом, чем старинные европейские парусники, и достигать любой точки в океане.
Итак, Тихий океан был доступен для древних мореплавателей из Южной Америки в такой же мере, как и для выходцев из Азии. Тогда противники нашей теории выдвинули новое возражение. Остров Пасхи лежит посредине между Южной Америкой и остальной Полинезией. Почему же он был заселен в последнюю очередь, а не в первую, если мигранты шли из Южной Америки? Почему на острове нет никаких следов культуры, предшествующей нынешней, полинезийской? Почему первооткрыватели Полинезии не знали гончарства? Чтобы ответить на эти вопросы, требовались новые полевые исследования. Раскопки и пробы пыльцы из болот острова Пасхи показали, что первые поселенцы, привезшие с собой полезные южноамериканские растения, достигли острова по меньшей мере на тысячу лет раньше, чем считала наука, и что нынешней полинезийской культуре на острове предшествовал неполинезийский субстрат, во многом перекликающийся с культурой древнего Перу. В это же время разные научные учреждения впервые направили в Полинезию археологические экспедиции; выяснилось, что гончарство было знакомо древнейшему населению Полинезии.
Таким образом, наши познания о прошлом Полинезии постоянно развиваются в споре с оппонентами. Лишь когда противодействие кончится, когда все полинезианисты придут к полному согласию, в этой области воцарится штиль, наше движение к истине в этом вопросе прекратится.
Так давайте же сегодня, когда мы вместе празднуем, смело признаемся себе в том, что мы многим обязаны, как бы парадоксально это ни звучало, тем, кто бросает нам вызов. А тост я предлагаю за тех, кто нас поддерживает: ведь это ободряет нас и позволяет нам принять вызов.
ЛОНДОН
8 июня 1964 года
ЗАСЕЛЕНИЕ ПОЛИНЕЗИИ
На протяжении двух десятков лет после экспедиции «Кон-Тики» Хейердал продолжал собирать новые доказательства своей основной концепции.
Удивительное плавание бальсового плота из Южной Америки в Полинезию, естественно, привлекло внимание и ученых, и широкой публики, однако узнали они об этом плавании из популярной книги и из фильма. Газеты поспешили изобразить Хейердала викингом XX века, который не только отважился на единоборство с океанской стихией, но и бросил вызов ведущим кабинетным ученым, заявив, что полинезийцы вышли из Южной Америки, а не из Юго-Восточной Азии. Мало кто читал его первую научную статью, напечатанную за шесть лет до экспедиции «Кон-Тики» в сборнике «Интернейшнл Сайенс» в Нью-Йорке. В ней автор ясно говорил, что первопоселенцами в Полинезии были люди, приплывшие на плотах из Южной Америки, потом их поглотила вторая миграционная волна – выходцы из Азии, плывшие через северную часть Тихого океана.
В обширной монографии «Американские индейцы в Тихом океане» Хейердал снова и еще более уверенно утверждает, что хотя корни полинезийского расового и культурного комплекса надо искать в Азии, путь миграции проходил скорее через северную часть Тихого океана, чем через Меланезию и Микронезию.
Изложение этих взглядов составило содержание доклада, прочитанного автором в Пенсильванском университете (Филадельфия). Доклад был опубликован в Вестнике музея Пенсильванского университета (т. 4, Э 1, стр. 22-29. 1961).* (*1 Вступления ко всем статьям принадлежат составителю австрийского (оригинального) издания профессору Гейдельбергского университета Карлу Еттмару (Прим. перев.).)
Еще двести лет тому назад широко распространилось мнение, что полинезийские племена уединенных островов восточной части Тихого океана – американские индейцы, которых, как и первых европейцев, занесли туда господствующие восточные ветры и течения. (Вспомним, что на востоке Тихого океана находится американский берег, на западе – азиатский.) Начиная с плаваний Магеллана и вплоть до путешествий капитана Кука во второй половине XVIII века ни одно европейское судно не могло пробиться из европейских колоний в Индонезии в какую-либо часть Полинезии. Все без исключения плавания в Южных морях начинались в течении Гумбольдта и совершались по направлению пассатов, то есть от Южной Америки на запад, в Полинезию. Чтобы оттуда вернуться в Америку, приходилось идти сперва на запад до индонезийских вод, а затем по длинной дуге на север, вдоль берегов Азии; только севернее Гавайских островов корабль вновь встречал американские берега.
Но вот во времена капитана Кука было обнаружено, что в языке островитян-полинезийцев и малайских племен есть общие слова и корни. С той поры стало общепризнанным, что полинезийские неолитические племена совершили то, что было недоступно европейцам с их парусниками, – путешествие на восток, из Малайской области в Полинезию.
Веский лингвистический аргумент подкрепляли следующие факты: полинезийцы разводили кур, свиней, выращивали хлебное дерево, бананы, сахарный тростник, ямс, таро, они пользовались лодками с балансирами. Все это бесспорные элементы азиатской культуры, неизвестные в Америке.
Таким образом, этнографически проблема происхождения полинезийцев решалась как будто просто. Однако в XIX и XX веках, когда антропологи, археологи и этнологи стали углубляться в изучение полинезийской проблемы, возникли неодолимые препятствия и глубокие противоречия. Такие антропологи, как Уоллес (1870 год), Деникер (1900 год), Салливэн (1923 год), подметили коренные различия между полинезийскими и малайскими племенами. Оказалось, что полинезийцы резко отличаются от малайцев ростом, телосложением, формой черепа, носа, у них различная волосатость лица и тела, иное строение волоса, несхожи глаза, цвет кожи. А современные исследования состава крови, выполненные Мельбурнской лабораторией, показывают, что полинезийцы не могут быть прямыми потомками малайских племен или племен из Юго-Восточной Азии – слишком велико различие в наследуемых факторах крови.
В декабре 1955 года «Американский журнал физической антропологии» опубликовал совместный отчет виднейших английских серологов (Симмонса, Грейдона, Семпла и Фрая), которые пришли к заключению: «Существует тесное кровное генетическое родство между американскими индейцами и полинезийцами; такое родство не отмечается при сравнении крови полинезийцев с кровью меланезийцев, микронезийцев и индонезийцев, исключая пограничные зоны, где они непосредственно соприкасаются». (I) Следов протополинезийской культуры и физического типа в Малайской области, как ни искали археологи и этнологи, найти не удалось. Зато они независимо друг от друга обнаружили важные факторы, опровергающие возможность распространения полинезийской культуры из малайского центра. Сравнительную однородность своеобразной полинезийской культуры от Гавайских островов на севере до Новой Зеландии на юге, от Самоа до острова Пасхи можно объяснить только тем, что она развилась в этом районе еще до распространения в восточной части Тихого океана. Это же свидетельствует о сравнительно недавнем переселении и распространении полинезийских племен на обширной площади. Специалисты полагают, что последняя крупная волна переселенцев достигла Полинезии в XII веке.
Однако ни в Индонезии, ни на Микронезийско-Меланезнйских островах, отделяющих ее от Полинезии, не найдено ни одного из характерных полинезийских орудий. Исключение составляет, пожалуй, определенный тип каменных тесел на севере Филиппинских островов, да и то они вышли там из употребления и уступили место другим орудиям за две с лишним тысячи лет до последней миграции полинезийцев. Железо с полуострова Малакка распространилось через Борнео и Яву около 200 года до нашей эры; между тем в Полинезии металлы были совсем неизвестны.
Не менее важен тот факт, что ни одно полинезийское племя не знало ни ткацкого, ни гончарного ремесла. А это два очень существенных признака распространения культуры, с которыми поневоле нужно считаться. Ведь керамика и ткацкий станок были широко распространенными культурными элементами почти во всех прилегающих к Тихому океану областях и прочно утвердились в Индонезии задолго до нашей эры. О колесе, издревле известном и имевшем столь огромное значение в Старом Свете, также не знали в Полинезии, несмотря на существование мощеных дорог. Жевание бетеля (точнее, орехов бетеля с известью) – характерная черта индонезийской культуры, распространившаяся на восток до Меланезии включительно, – исчезает на границе Полинезии; зато здесь начинается ритуальное потребление напитка кава, которого в Индонезии не знают. (Кава – напиток из корней дикого перца Piper methysticum; корни разжевывали, полученную кашицу разбавляли водой и процеживали.) Пальмового вина, издавна широко распространенного в Индонезии, у полинезийцев не было, как, впрочем, и других алкогольных напитков, пока их не завезли европейцы. Струнные музыкальные инструменты, всемирным центром эволюции которых были Азия и Индонезия, у полинезийцев отсутствовали, хотя музыку они любили. Лук и стрелы как боевое оружие внезапно исчезают на границе Меланезии и Полинезии.
В 1955 году шведский этнограф Анелл пытался, сопоставляя рыболовные принадлежности, найти в Малайском архипелаге истоки миграции полинезийцев, но и он по обнаружил общих черт. Анелл делает вывод, что рыболовные навыки полинезийцев связаны не с Малайей, а с более северной культурой, которая развилась в Северо-Восточной Азии (включая Японию), откуда ее влияние распространилось на Северную и Южную Америку, а также на острова Полинезии и Микронезии.
Недаром в 1923 году виднейший американский полинезианист Салливэн в критическом обзоре господствовавших теорий происхождения полинезийцев, а в 1939 году и английский этнограф Вильямсон заключили, что нет и двух совпадающих теорий и что исследователи находятся в полном недоумении относительно центра происхождения полинезийского народа и путей его миграции. Когда автор настоящего обзора довел его до 1952 года, оказалось, что более тридцати ученых, пытаясь доказать недавний исход полинезийских племен из Старого Света, опубликовали тридцать с лишним различных и взаимоисключающих теорий.
Большинство ученых предполагали, что в Полинезию в разное время прибыли независимо друг от друга две (некоторые говорили – три) народности с различной культурой. При этом все опирались на малайско-полинезийское лингвистическое родство. Но так как физическое родство полинезийцев и малайцев исключалось, а лингвистическое сходство было неопределенным и случайным (различные корни обнаруживались в языках разных малайских племен, живущих далеко друг от друга), то для догадок открывался неограниченный простор. Поэтому позднейшие исследователи вместо Индонезии обратились к Азиатскому материку. Языковые признаки, бесспорно, говорят о том, что некогда существовал какой-то контакт между праполинезийцами и прамалайцами, однако сомнительно, что предки полинезийцев когда-либо обитали в Малайской области. И ведь малайцы, как и полинезийцы, не исконные жители населяемых ими ныне островов. Они, безусловно, прибыли на архипелаг с материка, находящегося поблизости, и первичная связь между малайцами и полинезийцами, наверно, предшествовала этому географическому перемещению.
Вследствие явной зыбкости и противоречивости малайско-полинезийской теории необходимо было проверить ценность аргументов, доказывающих исход полинезийцев из Индонезии, таких, как балансир (балансир сочетался с приспособлениями, которые придавали лодкам устойчивость на бурных реках Юго-Восточной Азии) и столь часто упоминаемые домашние животные и культурные растения. Результат был по меньшей мере неожиданным.
Выдающийся полинезианист сэр Питер Бак (Те Ранги Хироа), сторонник малайско-полинезийской теории, еще в 1938 году показал, что ранние поселенцы в Полинезии не знали ни одного из интересующих нас индонезийских растений, когда достигли своих нынешних мест обитания в восточной части Тихого океана. Он выяснил, что такие важные пищевые культуры Старого Света, как хлебное дерево, банан, ямс и таро (лучшие сорта), не были завезены с запада полинезийцами. Их доставили в Полинезию из Индонезии и с Новой Гвинеи давние обитатели промежуточной области – меланезийцы. А уже на островах Фиджи, являющихся их крайним восточным форпостом, приплывавшие с востока полинезийцы обнаружили растения индонезийского происхождения. Бак считал, что гости из Полинезии прибывали через атоллы Микронезии, где названные растения тоже не были известны.
 Кроме показанных здесь двух основных экспедиций, Хейердал побывал в 1937 году на Маркизских островах, в 1953 году на островах Галапагос, много путешествовал вдоль побережья Центральной и Южной Америки.
Кроме показанных здесь двух основных экспедиций, Хейердал побывал в 1937 году на Маркизских островах, в 1953 году на островах Галапагос, много путешествовал вдоль побережья Центральной и Южной Америки.
Мы знаем, что свинья и курица также не были известны первым обитателям Полинезии, пока, как указывает Бак, их не ввезли с островов Фиджи, и это отражено в устных преданиях. Этим можно объяснить также неожиданное отсутствие таких животных у многочисленных племен маори. Они приплывали в Новую Зеландию из собственно Полинезии, но оказались изолированными от населения остальных островов после XIV века, то есть до того, как там стали известны свинья и курица. Племена маори (а также мориори на островах Чатем), рано оторвавшиеся от своего ствола в собственно Полинезии, оказались единственными хранителями чисто полинезийской культуры, существовавшей до XIV века, в то время как между остальными полинезийскими племенами сохранились межостровные контакты и между ними продолжалась торговля вплоть до появления европейцев. Примечательно, что ко времени прибытия европейцев ни одно племя маори или мориори еще не знало балансира – этого гениального изобретения, придающего устойчивость дощатым лодкам.
В остальной части Полинезии уже распространились с соседних островов Фиджи свинья, курица и меланезийские культурные растения; повсеместно был освоен и балансир. Отметим, что полинезийцы знали именно о меланезийском типе одинарного балансира. Двойной балансир, применяемый в Индонезии, до Полинезии не дошел.
Словом, критическое рассмотрение немногочисленных аргументов из области материальной культуры, которые призваны были подкрепить лингвистические свидетельства происхождения полинезийцев из Индонезии, показывает их неосновательность и обманчивость. Их, наоборот, приходится отнести к числу негативных свидетельств, когда задаешься вопросом, как полинезийские иммигранты могли прибыть из Индонезии, пересечь «буферную» меланезийскую территорию и осесть в восточной части Тихого океана, ничего не узнав об одинарном или двойном балансире, но узнав о свинье и курице.
Лингвистами и археологами ныне установлено, что все следы полинезийского поселения в Меланезии и Микронезии связаны с прибытием полинезийцев с востока – из собственно Полинезии, а не с запада – из Индонезии. Поневоле возникает вопрос: могли ли открытые индонезийские лодки неолитического типа вплоть до XVIII века конкурировать с европейскими кораблями, против ветра и течений пройти 6000 километров по враждебной территории Микронезии или Австрало-Меланезии, не оставив при этом там никаких следов?!
Выдающийся мореплаватель Бишоп три года подряд пытался провести азиатскую джонку в восточном направлении, чтобы повторить предполагаемые ранние индонезийские плавания в Полинезию. Еще до Микронезии его всякий раз отгоняло назад. В конце концов он сдался и в 1939 году справедливо заявил, что такая миграции была неосуществима.
Что же в действительности могло произойти с примитивным суденышком, которое без карты выходило на просторы Филиппинского моря в поисках новых земель? Его подхватывало течение Куросио и увлекало к Северо-Западной Америке. У берегов Аляски – Канады ветвь течения сворачивает прямо к Гавайским островам. Мы знаем немало случаев, когда уже в более поздние времена течение Куросио приносило людей к Северо-Западной Америке. Кроме того, известно, что в период первых европейских открытий в Тихом океане жители Гавайских островов делали свои самые большие лодки из плавника с северо-западного побережья Америки.
Плавание на простейших судах из Индонезии в Полинезию было возможно только по начертанной стихиями естественной дуге – через северную часть Тихого океана с дальнейшим поворотом к Гавайским островам. Стоит принять этот простой факт, как исчезают все проблемы. Отпадают навигационные препятствия. Суда идут в обход простершейся на 6000 километров враждебной области Микронезии и Меланезии и попадают в нее лишь с противоположной стороны. Если считать острова Северо-Западной Америки (например, острова Ванкувер и Королевы Шарлотты, архипелаг Александра) трамплином, то становится вполне понятным, почему полинезийским племенам не было известно гончарное искусство. Вдоль всего северо-западного побережья (оно стало конкретным понятием в американской этнографии) гончарства не знали вплоть до прихода европейцев, в отличие почти от всех других областей, окаймляющих Тихий океан.
Приморские племена этого уединенного района (например, квакиутли на острове Ванкувер, хайда на островах Королевы Шарлотты) пользовались выложенной камнями земляной печью; точно такую же печь мы видим у всех полинезийских племен. Отсутствие у полинезийцев ткацкого станка тоже можно понять: острова Северо-Запада – одна из немногочисленных областей вокруг Тихого океана, где его не знали до исторических времен. Незнакомые с ткачеством приморские жители Северо-Запада вырезали из дерева и кости кита грубые колотушки, такие же, какими пользовались во всей Полинезии, и делали одежду из размягченного этими колотушками вымоченного луба определенных деревьев. Плащи новозеландских маори, не знавших тропических деревьев, из которых обычно изготовляли тапу, так сильно напоминают лубяные плащи индейцев северо-западного побережья, что даже опытные исследователи не сразу их различают. (Тапа – полинезийская материя, делалась из луба бумажной шелковицы Broussonetia papyrifera.) Огромный разрыв в хронологии между концом неолита Индонезии и заселением Полинезии тоже легко перекрывается трамплином на Северо-Западе, где культура оставалась неолитической вплоть до прихода европейцев и где основным орудием труда, как и во всей Полинезии, был не топор, а тесло, насаженное на одинаковую для обеих областей коленчатую рукоятку. Одно из наиболее типичных для Полинезии тесел археологи обнаружили на побережье Северо-Западной Америки. Здесь находят варианты и других полинезийских изделий, которых нет в Юго-Восточной Азии, – своеобразные каменные колотушки в форме колокола, латинских букв D и Т, развившиеся на месте из пестов, а также характерные палицы типа пату и мере из полированного камня или китовой кости (по классификации полинезийских боевых палиц, разработанной несколькими исследователями, в том числе Баком, мере – короткая, плоская палица с утолщенной рукояткой).
Как и в Полинезии, здесь отсутствовал боевой лук со стрелами. Не было струнных инструментов; в обеих областях их заменяли барабаны, погремушки и духовые инструменты. Некоторые резные антропоморфные флейты настолько схожи у маори и северо-западных племен, что могут показаться сделанными одной рукой. Большие деревянные каноэ (основа чисто морской культуры племен северо-западного побережья Америки) перевозили до ста человек, и ранние путешественники отмечали поразительное сходство их с маорийскими военными каноэ. Как и в Полинезии, на Северо-Западе для плавания в открытом море иногда связывали вместе две лодки и накрывали общей дощатой палубой.
Кроме того, что суда в этих двух областях схожи по форме, размерам, способу соединения бортовых досок, отдельному изготовлению носа и кормы, увенчанных головами на лебединых шеях, совпадали даже обычаи их владельцев. Так, у некоторых племен маори и племен, живущих на Северо-Западе, было принято при подходе к берегу разворачивать боевые суда кормой вперед, ибо только богам полагалось причаливать носом.
Все эти, казалось бы, неожиданные и, однако, несомненные параллели и совпадения в культуре племен, населяющих прибрежные архипелаги Северо-Западной Америки и далекую Полинезию, неоднократно отмечались ранними путешественниками и современными этнографами. Отмечались и многие другие поразительные аналогии: от составного деревянного рыболовного крючка до резных деревянных столбов и дощатых домов с двухскатной крышей, в которые входили между расставленными ногами тотемного столба.
Этнограф Диксон подчеркивал в 1933 году, что Кук, Ванкувер и другие ранние путешественники, знакомясь с указанными областями Тихого океана, были поражены сходством культуры в этих районах. Те самые мореплаватели, которые обнаружили лингвистическое родство Полинезии и Индонезии, установили, что аналоги материальной культуры полинезийцев сосредоточены на побережье Северо-Западной Америки. Столь же примечательно сходство социального строя, обычаев и верований, также многократно отмеченное в литературе.
Привлекая внимание к архипелагу в северной части Тихого океана (севернее Гавайских островов) как к логическому трамплину на пути из Восточной Азии в Полинезию, мы не оспариваем прежних предположений о родине последних полинезийских иммигрантов, а лишь предлагаем новый вариант пути иммигрантов. Лингвистическое родство остается в неприкосновенности. До сих пор не выдвинуто никаких лингвистических аргументов, привязывающих полинезийских переселенцев к меланезийскому или микронезийскому маршруту. С точки зрения языкознания возможен любой географический трамплин. Правда, пока нет прямых указаний на то, что через архипелаг у северо-западного побережья Америки прошел какой-либо протомалайский язык. Но нельзя забывать, что (в отличие от изолированных в Океании полинезийских племен) язык жителей прибрежных островов Северо-Западной Америки, после того как они прибыли сюда из Азии, развивался.
Это можно подтвердить тем, что все здешние племена – квакиутли, хайда, сэлиши, цимшиены, тлинкиты и нутка, несмотря на тесное расовое и культурное родство, говорят на разных наречиях. Возможно, именно это расхождение – причина того, что современные исследователи не предпринимают серьезных попыток отыскать древнее родство языков Северо-Запада, с одной стороны, и малайских или полинезийских племен – с другой. Правда, в конце девяностых годов прошлого века кое-что было сделано.
Английский лингвист Кемпбелл в 1897-1898 годах высказывал мнение, что язык хайда на островах Королевы Шарлотты с таким же основанием, как полинезийский, следует отнести к океанийской семье. Он считал, что язык хайда развился на основе языка иммигрантов из области Южных морей. На рубеже XX века канадский профессор Хилл-Тут опубликовал лингвистическое исследование, озаглавленное «Океанийское происхождение квакиутлей. нутка и сэлишей Британской Колумбии…». Он доказывал, что языки этих племен Северо-Запада производят впечатление остатков некогда единого языка, который был родствен языку современных полинезийцев. Его труды заслуживают внимания; вообще всю эту проблему нужно снова основательно изучить.
На следующий, возможно главный, вопрос: не позволяет ли нам физическая антропология считать племена Северо-Запада недостающим звеном в цепи между физически отличающимися друг от друга индонезийцами и полинезийцами? – можно ответить утвердительно. Все признаки, резко отличающие полинезийцев от индонезийских народов, – рост, телосложение, форма головы, носа, строение волоса, волосатость лица и тела, пигментация – удивительно совпадают с типичными чертами хайда и квакиутлей, населяющих южно-центральный архипелаг у северо-западного побережья. И уже в последние годы к числу наиболее веских аргументов в пользу генетического родства жителей Полинезии и Северо-Западной Америки присоединились факторы крови.
В обеих областях почти отсутствует преобладающий в Индонезии фактор В, высок фактор О и поразительно высок фактор А. Отсутствие фактора В можно истолковать как признак того, что общий центр, из которого распространились малайцы, индейцы американского Северо-Запада и полинезийцы, находился где-то на северном побережье Восточной Азии и что малайцы приобрели доминирующий ген В уже после того, как обосновались в своей нынешней области.
В статье «Группы крови у полинезийцев» (1952 год) доктор Грейдон, видный австралийский авторитет в этой области, проверил наше предположение о родстве полинезийцев с индейцами Северо-Запада, исследуя для этого и другие факторы крови. Он обнаружил, что кровь полинезийцев и северо-западных индейцев и по другим признакам «поразительно схожа». И она же «явно отличается» от крови индонезийцев и микронезийцев. Он заключил: «Серологические данные, представленные в настоящей статье, говорят в пользу полинезийско-амернканского родства, и возможно, что заселение островов Полинезии в большой мере происходило волнами из континентальной Америки».
Позднее (1954 год) видный британский серолог Муран в своей монографии «Распределение групп крови человека» сделал следующий вывод: «Таким образом, наблюдения над факторами групп крови – ABO, MNS и Rh – согласуются с теорией Хейердала». Могу добавить, что после года, проведенного в Юго-Восточной Полинезии, я несколько месяцев жил среди сэлишей и квакиутлей Северо-Запада и наблюдал удивительное физическое сходство индейцев с полинезийцами. В долине Белла-Кула (центральное приморье Британской Колумбии) со мной происходили курьезные случаи: я на каждом шагу «встречал» лиц, с которыми был знаком на островах Южных морей.
Подводя итог, высказываю предположение, что восточноазиатский элемент в полинезийской расе и культуре проник в Полинезийскую область через Гавайские острова, причем северо-западное побережье Америки следует рассматривать как наиболее логичный, возможный и даже необходимый трамплин.
Однако ни в Индонезии, ни в Северо-Западной Америке, ни отдельно, ни вместе, не удалось найти достаточно убедительного объяснения всей полинезийской островной культуры. Большинство этнографов полагают, что полинезийская раса и культура состоят из двух (некоторые говорят – из трех) компонентов. В большей части Полинезии, особенно на Пасхе, на этом уединенном, ближе всех расположенном к Перу острове, обнаруживаются многочисленные признаки иного расового и культурного субстрата. Поэтому, согласно второму пункту моей гипотезы, предки нынешнего населения Полинезии, прибывшие туда в начале второго тысячелетия, не были первооткрывателями этих островов – их опередили мореплаватели андского происхождения. С ними связывают особую мегалитическую кладку и антропоморфные каменные изваяния на ближайших к Америке окраинных островах, появление маорийско-полинезийской собаки, распространение в Полинезии 26-хромосомного культурного американского хлопчатника, а также батата, бутылочной тыквы и ряда других американских элементов в полинезийской флоре, в том числе пресноводного камыша тотора на острове Пасхи и чилийского перца, который встречали в Полинезии европейские мореплаватели.
Многочисленные элементы полинезийской культуры восходят к этому южноамериканскому субстрату, который повлиял даже на окраину Меланезии. Ярким примером служит неизвестное в Южной и Восточной Азии искусство трепанации черепа, а также типично ритуальное потребление напитка кава с ферментом слюнных желез, распространившееся из Центральной и Южной Америки по всей Полинезии вплоть до ее западной окраины; здесь наряду с этим обычаем существует азиатский обычай жевать бетель.
Праща как боевое оружие неизвестна в Индонезии, зато прототипами трех специализированных типов пращи – ленточной, клапанной и щелевой – в области Южных морей являются перуанские образцы. Не знали в Индонезии и мумификации, однако в Полинезии, несмотря на неблагоприятный климат, ее применяли, причем метод сходен с перуанским. Плащи и мантии из перьев – одежда знати, характерная для Полинезии, – в Старом Свете не были известны, зато они присущи культурам Нового Света, в том числе культуре древнего Перу. Своеобразные простые и составные рыболовные крючки полинезийцев, не обнаруженные нигде в Индонезии, попадаются при раскопках мусорных куч на территории от Эквадора до Северного Чили. Сложную полинезийскую кипону – хитроумную мнемоническую систему узелков – не сравнить с простой веревочкой с узелками для счета, которая была распространена во всем мире; зато она в точности повторяет перуанские кипу.
Можно привести еще много примеров, касающихся материальной культуры, социальных особенностей и мифологии этих двух областей. Однако здесь достаточно указать, что на полинезийских островах явно знали керамику и ткацкий станок, несмотря на то, что последняя волна поселенцев пришла в Полинезию из области, где не было ни гончарного искусства, ни ткачества и где известны были лишь земляная печь и лубяная колотушка.
Теперь известно, что в Полинезии некогда в самом деле была культура, знакомая с керамикой. Как на восточной, так и на западной окраине Полинезии археологи нашли черепки различной красной посуды, причем находки на Маркизских островах оказались пока наиболее старыми. На этом же архипелаге и вообще во всей Полинезии до островов Фиджи на западе 26-хромосомный американский хлопок одичал; нынешним полинезийцам он ни к чему, но первые поселенцы, конечно, привезли его на острова неспроста.
ВОЗМОЖНЫЕ ОКЕАНСКИЕ ПУТИ В АМЕРИКУ И ИЗ АМЕРИКИ ДО КОЛУМБА
При знакомстве с теорией Хейердала, в том виде, какой она имела в 1961 году, становится ясно, что он подходит к вопросу о миграциях с известными оговорками. Хейердал учитывает огромные трудности, с которыми приходилось сталкиваться человеку прошлого.
Такая сдержанность необходима, потому что теперь повсеместно изменился взгляд на миграции через необозримые просторы океанов. Очень долго считалось (особенно в США), что заселение Нового Света происходило только через Берингов пролив и в определенный отрезок времени в далеком прошлом. И совпадения с теми или иными чертами высокоразвитых культур Старого Света всецело объясняли параллельным развитием.
Ныне эта культурно-историческая доктрина Мунро пересмотрена. Все больше склоняются к тому, чтобы признать, что азиатские народы совершили целый ряд далеких плаваний и открытий. Если говорить об Атлантическом океане, то полагают, что его первыми пересекли не норманны. В пору бурного расцвета миграционных теорий очень полезно прочесть анализ Хейердала, в котором кроме дезориентирующей подчас географической карты, учитываются также ветры и течения.
Нижеследующий текст был опубликован в 1964 году в записках XXXV Международного конгресса американистов, состоявшегося в Мексике в 1962 году. Небольшие сокращения произведены для того, чтобы не повторять материал других глав.
Настоящий доклад представляет собой краткий обзор возможных океанских путей, практически доступных человеку в далекие времена при плаваниях в Америку и из Америки. Я отнюдь не утверждаю, что по всем рассматриваемым ниже маршрутам в самом деле плавали предшественники Колумба, хотя очевидно, что на этих путях древнего человека не подстерегали неодолимые препятствия. И цель обзора не в том, чтобы углубиться в проблемы древнего взаимопроникновения культур, – я анализирую лишь чисто практические вопросы, возникающие у тех, кто допускает возможность трансокеанских сообщений между отдельными областями Старого и Нового Света.
Спору нет, океан куда более серьезно препятствовал географическому распространению первобытного человека, чем пустыня, болото, джунгли или тундра. Но в океане, в отличие от других географических препятствий, есть «тропы», которые вполне можно сравнить с реками. Вот почему утверждение, будто у человека было очень мало надежд перенести долгое трансокеанское плавание, выглядит скороспелым. Для определенных областей необходимы существенные поправки.
Современные этнологи, как правило, проходят мимо двух важных обстоятельств. Они не учитывают, во-первых, что расстояние между двумя полярными точками, лежащими в противоположных концах земного шара (наподобие Северного и Южного полюсов), по экватору ничуть не короче расстояния между ними по дуге большой окружности в любом полушарии и, во-вторых, что путевое расстояние, проходимое судном из одной географической точки в другую, практически не равно расстоянию, измеренному по карте, больше того – путь в одну сторону не равен пути в обратную сторону.
Первое обстоятельство можно проиллюстрировать следующим характерным примером. Разбирая интересное открытие (некоторые общие черты в керамике Японии и Эквадора), (II) редакция журнала «Ньюсуик» (19 февраля 1962 года, стр. 49) заявляет, что Экваториальное противотечение «идет прямо к Эквадору», тогда как «Японское течение делает крюк через северную часть Тихого океана». Обычный, широкоупотребительный оборот речи только вводит в заблуждение. Ведь на самом деле Куросио (Японское течение), якобы делающее крюк, – наиболее короткий и прямой из двух названных путей. В этом можно убедиться, если вместо обманчивой меркаторской проекции (она часто применяется для карт мира; в этой проекции поверхность земного шара приводится к поверхности цилиндра, поэтому приполярные области сильно искажены) обратиться к глобусу, который несравненно вернее передает реальную картину.
Похоже, мало кто из этнологов отдает себе отчет в том, что, если плыть от полуострова Малакка до Эквадора через Алеутские острова, получится прямая линия между этими двумя точками (прямее пути не придумаешь). Бессмысленно искать кратчайший путь по линии экватора: ведь он повторяет кривизну земного шара точно так же, как любая другая дуга большой окружности, только этого не видно на плоской карте Тихого океана.
Китай и Перу – тоже полярные. Расстояние по прямой между тихоокеанским побережьем Южного Китая и Перу через экватор ничуть не короче, чем через Северный или Южный полюс. Между этими двумя противолежащими берегами Тихого океана нельзя провести линию прямее или короче той, которая на меркаторской проекции описывает мнимую дугу через крайний север Тихого океана. Соедините на глобусе проволокой побережье Южного Китая с Перу вдоль экватора и смещайте проволоку вверх, закрепив оба конца, она уляжется даже на маршруте, проходящем через Берингово море.
Называть экватор кратчайшим путем между Юго-Восточной Азией и Южной Америкой так же неверно, как утверждать, что кратчайший путь от Северною до Южного полюса проходит по Гринвичскому меридиану.
Следует помнить, что громадный Тихий океан – не гладкая равнина, а правильное полушарие, одинаково покатое во все стороны. Тогда совсем в другом свете выглядят предпосылки для путешествий аборигенных судов в неизведанном океане. Первобытный мореплаватель в какую бы сторону ни шел, видел себя в центре плоского круга, у него не было карты, которая могла бы сбить его с толку.
Второе обстоятельство, решительно требующее большой осторожности при изучении древних океанских плаваний, связано с неверным определением путевого расстояния между фиксированными точками в море. Абсолютное расстояние между двумя точками можно выразить в милях, обычно оно расходится с действительным, которое нужно проплыть. Просто мы ничего не знаем о путевом расстоянии, пройденном древним мореходом, так как нам неизвестно соотношение между скоростью течения в этой области и технически возможной собственной скоростью судна. Чем меньше собственная скорость судна, тем больше несоответствие между измеренным и действительно пройденным путем.
Вот почему путевое расстояние для современного океанского лайнера может быть совсем иным, чем для примитивного судна, хотя бы они шли по одной и той же прямой, над одним и тем же участком неподвижного океанского дна. Насколько велика эта разница, можно показать на примере трансокеанского плавания на аборигенном судне, в котором участвовал автор.
Абсолютное расстояние от Перу до островов Туамоту приблизительно 4000 миль. А на самом деле плот «Кон-Тики», пройдя от Перу до Туамоту, пересек всего около 1000 миль океанской поверхности. Если представить себе первобытное судно, способное идти с той же собственной скоростью и тоже по прямой, но в противоположном направлении, ему, чтобы попасть с Туамоту в Перу, пришлось бы пройти 7000 миль по океанской поверхности. Дело в том, что за время плавания сама поверхность океана сместилась примерно на 3000 миль (около 50 градусов окружности земного шара). Итак, если говорить о путевом расстоянии, острова Туамоту находятся всего лишь в 1000 миль от Перу, тогда как от Туамоту до Перу для того, кто идет через океан со скоростью плота «Кон-Тики», 7000 миль.
Точно так же абсолютное расстояние между Перу и Маркизскими островами составляет примерно 4000 миль. Но средняя скорость течения в этой области приблизительно 40 миль в день, а это означает, что если аборигенное судно идет на запад с собственной скоростью 60 миль в день, оно на самом деле проходит в день 60 плюс 40, то есть 100 миль, и одолевает весь путь за 40 дней. В обратном направлении при той же собственной скорости оно будет делать 60 минус 40 миль, то есть 20 миль в день, и на путь от Маркизских островов до Перу уйдет 200 дней.
 К – маршрут Колумба от Африки до Мексиканского залива; Э – маршрут Лейва Эйрикссона из Северо-Западной Европы до северо-восточной части Северной Америки; У – маршрут Урданеты из Индонезии в Северо-Западную Америку и Мексику; С – маршрут Сааведры из Мексики в Микронезию и Индонезию; М – маршрут Менданьц от Андского побережья в Полинезию и Папуа-Меланезию.
К – маршрут Колумба от Африки до Мексиканского залива; Э – маршрут Лейва Эйрикссона из Северо-Западной Европы до северо-восточной части Северной Америки; У – маршрут Урданеты из Индонезии в Северо-Западную Америку и Мексику; С – маршрут Сааведры из Мексики в Микронезию и Индонезию; М – маршрут Менданьц от Андского побережья в Полинезию и Папуа-Меланезию.
Пусть собственная скорость судна только 40 миль в день, оно все равно будет идти на запад со скоростью 40 плюс 40, или 80 миль, и уже через 50 дней достигнет Маркизских островов. А в обратную сторону при скорости 40 минус 40, то есть ноль миль в день, оно вообще не оторвется от архипелага.
Эти примеры приложимы не только к району, о котором мы говорили, они в той или иной мере распространяются на любые трансокеанские плавания первобытных судов. Наряду с кривизной поверхности великих океанов такой расчет путевого расстояния играет решающую роль, в последующих рассуждениях автора. Расчеты и кривизны, и путевого расстояния составляют ныне основу современной морской навигации, да и прежде, когда еще не было карт, с этими факторами считались все, кто прокладывал путь в Америку и из Америки. И наверно, они были не менее важны для тех, кто выходил в неизведанный океан, когда еще не было никаких описаний, если мы, конечно, допустим мысль, что доисторический человек отваживался пересекать огромную водную пустыню, это вечно движущееся полушарие.
Существует три основных океанских маршрута в Новый Свет (два через Атлантический океан и один через Тихий) и два основных маршрута из Нового Света (оба через Тихий океан). Эти маршруты настолько четко определены, что им можно присвоить названия в честь их исторически известных открывателей.
МАРШРУТ ЛЕЙВА ЭЙРИКССОНА
Преимущество маршрута Лейва Эйрикссона (по имени норманна, который около 1000 года достиг полуострова Лабрадор) – краткие расстояния и сильное попутное течение, идущее вдоль восточного и южного побережий Гренландии и дальше, к Лабрадору и Ньюфаундленду. В период с 986 года и примерно до 1500 года норманны основали на юго-западном побережье Гренландии поселения, в которых было 280 дворов, епископская усадьба и 17 церквей.
Поддерживая на открытых судах постоянную связь с Исландией и Норвегией, эти доколумбовы европейские поселенцы пять столетий жили всего в 200 милях от побережья Америки. Письменные источники XI-XIV веков показывают, что они не менее пяти раз ходили в Новый Свет. В записях 1516 года в числе товаров, доставленных из-за моря, перечисляются шкуры черного медведя и соболя, а это свидетельствует (если эти записи достоверны) о торговле через Девисов пролив.
Американский археолог Гринмен («Каррент Антрополоджи», февраль, 1963) предполагает, что человек верхнего палеолита мог еще попасть в северо-восточную часть Северной Америки вдоль кромки ледника, который перекрывал океан на широте Ирландии. Несомненно, в ту пору миграция из Северной Европы в Америку представляется возможной. Происходила ли она на самом деле – еще предстоит доказать.
МАРШРУТ КОЛУМБА
Маршрут Колумба намного длиннее, зато здесь мягкий климат, чрезвычайно благоприятные океанские течения и господствуют попутные ветры. Маршрут начинается у северо-западного побережья Африки, откуда с Канарским течением идет прямо к Вест-Индии и Мексиканскому заливу. К Канарскому течению примыкает мощная ветвь течения с юга, которая начинается у Мадагаскара, огибает Южную Африку и тоже выходит к Вест-Индии, но мимо бразильского побережья.
Хотя эти два трансокеанских течения берут начало у разных, удаленных друг от друга точек Африки, их вполне можно рассматривать как два варианта одного морского пути, как бы приближающего тропическую Америку к Африке, но в то же время «отдаляющего» Африку от Нового Света. Путевое расстояние здесь намного короче того, которое одолел плот «Кон-Тики», а условия плавания очень сходны. Мы еще не знаем, пересекал ли человек до Колумба среднюю часть Атлантики, но этот маршрут вполне мог быть преодолен теми, кого бурей относило от берегов Африки.
Некоторые ботаники (например, Меррилл – американский ботаник, горячо отстаивавший теорию полной изоляции Америки вплоть до прибытия Колумба и лишь под конец жизни пересмотревший этот взгляд) предполагали, что именно этим путем попали в земледельческие области Америки некоторые африканские культурные растения.
Путей, которые были бы благоприятны для аборигенных плаваний в Атлантическом океане из Нового Света в Старый, нет. В умеренной зоне у берегов Северной Америки мы видим холодное Лабрадорское течение, идущее на юг, а теплое течение Гольфстрим начинается в области
обитания аборигенов, привыкших к условиям тропиков и потому плохо приспособленных для долгого дрейфа в холодной Северной Атлантике на север.
На тихоокеанской стороне все наоборот. Хотя европейцы сперва достигли азиатских берегов Тихого океана, никто даже не пытался из Азии углубиться в просторы Тихого океана и не ходил в Америку. Лишь после того как Колумб проложил европейцам путь в Новый Свет, в Тихий океан вышел Фердинанд Магеллан, а затем и другие мореплаватели. Но все они начинали плавание от Америки.
МАРШРУТ МЕНДАНЬИ
Основной морской путь в южной части Тихого океана можно назвать маршрутом Менданьи, по имени первого европейца, который, выйдя в плавание из Нового Света, открыл Меланезию, а затем и Полинезию. Впрочем, если учесть, что первая экспедиция Альваро Менданьи была организована для поисков обитаемых тихоокеанских островов, о которых испанцы узнали от купцов-инков и на которых как будто побывал сам Инка Тупак Юпанки, маршрут с таким же правом можно назвать маршрутом Инки.
Плавание «Кон-Тики» доказало, что путь этот был доступен для аборигенных судов. Затем это подтвердили еще три экспедиции на плотах из Перу (теперь уже пять). Два плота (Бишоп в 1958 году, Ингрис в 1959 году) пристали к берегу в центральной части Полинезии, третий (Виллис в 1954 году) направлялся в Меланезию, но местные власти «перехватили» плот на Самоа. (В 1963 году Виллис повторил плавание из Перу в Полинезию. А в 1965 году Конгора и еще два перуанца за 115 дней прошли на плоту из Кальяо до Факарава в архипелаге Туамоту.) Течения на маршруте Инки позволяли аборигенным мореплавателям из большей части Чили, со всего перуанского побережья и из южной части Эквадора попадать в разные части Полинезии и даже дальше. Данные ботаников показывают, что такие плавания совершались и до Менданьи. Пройти тот же путь в обратную сторону испанцы не могли, и они возвращались в Перу севернее Гавайских островов. Ниже мы рассмотрим два возможных пути для возвращения, здесь же достаточно сказать, что в южном полушарии нет естественного тихоокеанского маршрута, ведущего в Новый Свет.
МАРШРУТ СААВЕДРЫ
Еще до открытия Меланезии и Полинезии экспедицией Менданьи испанец Альваро Сааведра в 1527 году отплыл из Закатулы на тихоокеанском побережье Мексики и пересек пустынные просторы Великого океана между экватором и Гавайскими островами, не обнаружив до самых Филиппин ни одного островка. На Филиппинах он ждал перемены ветра, чтобы вернуться в Мексику. В следующем году он сделал первую попытку, но юго-западный ветер подвел и пришлось возвратиться на Филиппины. Еще через год он прошел вдоль побережья Новой Гвинеи и повернул на север. На 27
o северной широты Сааведра умер. Выполняя приказ, его преемники дошли до 31
o северной широты, но встречные ветры вынудили их отступить назад, в Индонезию. Так неудачно кончилась первая попытка вернуться в Новый Свет через Тихий океан.
Маршрут Сааведры из Мексики в Индонезию кажется очень длинным, но он намного сокращается благодаря мощному Северному экваториальному течению. К тому же здесь дуют сильные попутные пассаты и климат очень мягкий. Испанцы регулярно ходили маршрутом Сааведры из Мексики в свои филиппинские колонии, но только в 1565 году они открыли единственный природный путь из Индонезии обратно в Мексику, пролегающий севернее Гавайских островов.
МАРШРУТ УРДАНЕТЫ
Этот важный маршрут в Новый Свет, единственный природный подход к Америке со стороны Тихого океана, можно назвать маршрутом Урданеты, по имени испанского морепроходца Андреса де Урданеты, чьи записи открыли этот путь для последующих путешественников. Правда, в том же 1565 году, за три месяца до него такое плавание совершил Арельяно, однако он не оставил никаких записей о своем курсе. А Урданета вел путевой журнал и делал научные наблюдения, которыми затем много лет пользовались во время плаваний с Филиппин в Мексику.
Маршрут Урданеты сильно сокращается идущим на восток течением Куросио; оно несет теплые воды и мягкий климат от Филиппинского моря к берегам Северо-Западной Америки, откуда устремляется вдоль побережья к Мексике. Встречные пассатные ветры оказываются обойденными, а крюк при плавании севернее Гавайских островов, как уже говорилось, воображаемый, даже если измерять расстояние в абсолютных милях.
Восточный маршрут Урданеты и западный маршрут Сааведры сливаются в единую трассу севернее экватора, своего рода движущееся кольцо между Старым и Новым Светом. Теории транстихоокеанских контактов, предложенные американским этнологом Экхольмом, его австрийским коллегой Хейне-Гельдерном и другими, теряют смысл, если пренебречь географическими и историческими факторами и сопутствующими обстоятельствами; зато они возможны, во всяком случае с мореходной точки зрения, если мы учтем эти факторы.
Других природных путей для возврата в Америку через Тихий океан нет. На многих картах отчетливо показано Экваториальное противотечение, идущее на восток между мощными, направленными на запад Северным и Южным экваториальными течениями. Но это так называемое противотечение – не что иное, как цепь, не связанных между собой завихрений, от которых транстихоокеанскому путешественнику мало толку.
Сааведра и последующие мореплаватели вплоть до наших времен не сумели найти и использовать какой-либо экваториальный маршрут. Два опыта с аборигенными судами, проведенные в наши дни, лишний раз подчеркивают его ограниченное значение.
Перед второй мировой войной француз Эрик де Бишоп три года проводил наблюдения на китайской джонке в Экваториальном противотечении, чтобы установить, в какой мере аборигены могли его использовать при миграции из Индонезии в Полинезию. Бишопу все время мешал встречный пассат и вездесущие экваториальные течения, которые перебивали предполагаемое противотечение, не позволяли двигаться вперед. И он заключил: «Как моряк я прежде всего старался определить мореходные трудности такой миграции: они… слишком многочисленны!» И еще: «…очень трудно говорить о скорости и направлении этого течения, и даже о том, существует ли оно вообще».
Перуанец Эдуарде Ингрис (чех по национальности) дважды пытался пройти на бальсовом плоту из Южной Америки в Полинезию. Вторая попытка удалась, но при первой он отошел слишком далеко к северу, попал в штилевые полосы и надолго застрял. Несколько недель ушло на тщетные попытки вернуться с Экваториальным противотечением, в конце концов плот отбуксировали в Панаму. Конечно, отдельные струи и частые штили в узкой полосе, именуемой Экваториальным противотечением, на определенных участках облегчают продвижение на восток по сравнению с плаванием против быстрых западных течений южнее и севернее этой полосы, и при известных усилиях полинезийцы, бесспорно, могли пройти этими широтами в Южную Америку. И все же здесь нет маршрута, которому благоприятствовали бы географические факторы. Транстихоокеанское плавание между полярными точками по этой линии просто бессмысленно и неоправдано. Аборигены могли плавать из Восточной Полинезии в Америку, но это было сопряжено с большими трудностями.
Другой возможный путь для мореплавателей, сознательно пробивающихся в Америку, – идущее на восток течение в южной части Тихого океана, южнее «ревущих сороковых» широт. Однако близость дрейфующих льдов и частые штормы делают этот суровый район опасным для малых судов, он вряд ли мог привлечь первобытного человека, выходящего в плавание из теплой Полинезии. Бишоп проверил и этот маршрут. Через семь месяцев тяжелых испытаний его бамбуковый плот распался примерно в 1000 миль от Чили, когда вошел в область, где восточное течение поворачивает на север и устремляется обратно в Полинезию. Команда вызвала по радио спасательное судно и покинула плот. Подтвердилось, что южный маршрут чрезвычайно труден. Чтобы идти этим маршрутом, мореплаватель должен был точно знать, что впереди его ждет Южная Америка. Пройти этим путем, наверно, можно, но это еще нужно доказать.
После того как Бишопа спасли, он отправился в Кальяо, чтобы довести опыт до конца, и на другом плоту пошел маршрутом Менданьи из Перу в Полинезию. Новый плот был сделан небрежно, его связали из кипарисовых бревен, которые интенсивно впитывали влагу. Тем не менее через 75 дней он миновал Маркизские острова, после чего прошел на запад еще 1000 миль и затонул. Команда связала из обломков и пустых канистр подобие плота и продолжала плыть с течением. Участникам плавания удалось подойти к Манихики (острова Кука) и высадиться на берег; к сожалению, при этом трагически погиб сам Бишоп. Своими четырьмя плаваниями на первобытных судах этот выдающийся мореплаватель наглядно показал, как трудно найти в Тихом океане природные морские пути, кроме тех, которые мы назвали маршрутами Инки, Сааведры п Урданеты, и сколь надежно Америка ограждена от азиатских влияний через южную часть Тихого океана. (III) Подведем итог. Возможности трансокеанского контакта с аборигенной Америкой были очень ограничены, но не исключены совсем. С атлантической стороны нет природных путей из Америки, зато есть доступная трасса для плаваний в Северо-Восточную Америку; в ледниковый период эта трасса, вероятно, была еще важнее. Вторая трасса вполне могла привести мореплавателей, отнесенных бурей от берегов Африки, к берегам Мексиканского залива. С тихоокеанской стороны один естественный путь ведет из Мексики и Центральной Америки в Индонезию, второй – из Перу в Полинезию и дальше. Главный природный путь в Америку проходит от Индонезии и Японии к Северо-Западной Америке и Мексике; к нему в Арктике примыкает, по существу, материковый мост, включающий Алеутские острова и Берингов пролив. Чтобы форсировать океан вне этих природных путей, требовалось высокое навигационное искусство и скорее всего полная уверенность, что впереди ждет земля.
КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОКОЛУМБОВЫХ КОНТАКТОВ С АМЕРИКОЙ
Мы познакомились с произведенным Хейердалом систематическим обзором путей, ведущих в Новый Свет и из Нового Света. На материале разных наук можно попытаться показать, были ли на самом деле использованы возможные трассы, кем и когда.
Естественно искать языковое сходство, но это не всегда сулит успех. Часто разбирают также явные совпадения отдельных элементов культуры, однако тут трудно что-либо утверждать уверенно, так как эти элементы могли развиться параллельно, и чтобы не ошибиться, совпадения принимают как доказательство, если они уж очень разительны. Материал, поставляемый естественными науками, обычно надежнее. Правда, зоология в этом случае мало что дает, зато исследования ботаников за последние десятилетия приобретают все больший вес.
Хейердал основательно изучил этот материал и сделал четкий обзор с учетом новейших данных. Этот обзор позволяет убедиться, что и естествоведы не застрахованы от ошибок, а исследователи из других областей вправе их судить.
Эта статья появилась первоначально в «Антиквити» (т. XXXVIII, стр. 120-133, Кембридж, 1964).
Начиная с эпохи великих географических открытий и вплоть до конца прошлого века в ходу было немало теорий о плаваниях аборигенов в Новый Свет и из Новою Света (до Колумба). В первые десятилетия XX века все они были отвергнуты компетентными учеными; исключение составляют документально подтвержденные походы норманнов в северо-восточную часть Северной Америки в начале нашего тысячелетия.
Что же явилось главной причиной столь резкого перехода от крайнего диффузионизма (его сторонники придают большое значение заимствованию и распространению новых элементов культуры) к крайнему изоляционизму (противоположный взгляд, который предполагает множество географически обособленных линий развития) среди исследователей американской древности?
Можно назвать несколько причин такой тенденции среди американистов. Одна из них – все более настоятельные требования научных доказательств и фактов вместо догадок и предположений; другая
– открытие, что этнографические параллели в искусстве и утвари двух разных областей могут объясняться независимым сходным развитием. Бесспорно, однако, что толчком, который способствовал широкому распространению изоляционистских взглядов, был материал, появившийся в связи с возникновением американской этноботаники (раздел ботаники, занимающийся изучением изменений флоры, выведением и распространением растений в результате деятельности человека). Здесь нужно прежде всего назвать двух видных ботаников: француза Альфонса де Кандоля и его последователя, американца Элмера Меррилла.
В своем основополагающем труде «Происхождение культурных растений» (1884 год) де Кандоль сделал интересный и чрезвычайно важный вывод: «В истории культурных растений я не нашел ни одного указания на связи между народами Старого и Нового Света до открытия Америки Колумбом».(1) Эти слова оказались решающим аргументом в дискуссии между этнографами и специалистами по древней истории – современниками де Кандоля. Если между доколумбовой Америкой и Старым Светом были регулярные связи, почему ни одна из зерновых культур Старого Света не проникла в древнюю Мексику или Перу? И почему остальные континенты не знали американской кукурузы?
Меррилл – верный последователь де Кандоля, на учении которого он основывал свои взгляды, воспринял и развил тезис о том, что до норманнов и Колумба не было никаких контактов между Старым и Новым Светом. Убежденность и энергичная борьба Меррилла за свои взгляды сделали его одним из ведущих поборников новой гипотезы, по которой великие океаны, омывающие тропическую и умеренную зоны Нового Света, были неодолимым и непроницаемым барьером для первобытных мореходов. Однако если французский ученый ограничился выводом, что ботанический материал не подтверждает возможность контактов между Старым Светом и аборигенами Америки, то, по словам Меррилла, негативные свидетельства ботаников доказывали, что таких контактов не могло быть.
В 1937 году Меррилл писал: «Поскольку земледелие в Америке было автохтонным, мы вправе предположить, что автохтонными были и культуры, на которых оно основывалось».(2) А так как Меррилл был видным ботаником, к тому же одним из немногих пионеров этноботаники, чьи выводы непосредственно влияли на вопрос об этнических передвижениях, его категорическое, вновь и вновь повторяемое утверждение не могло не повлиять на современных ему этнологов, тем более что они сами заметили отсутствие в культуре Нового Света важных изобретений Старого Света, таких, как гончарный круг и колесо. В первые десятилетия XX века этноботаника утвердилась как наука, в которой господствующие течения американской этнологии черпали убедительные генетические свидетельства.
Однако выводы Меррилла были подвергнуты сомнению ботаниками и специалистами по географии растений, придерживающимися других взглядов. Наиболее видные среди них – Кук, Зауэр, Картер, Хатчинсон, Силоу, Стефенс, Стонор и Андерсон. Все они представили исторические или генетические свидетельства того, что первобытный человек переносил культурные растения через тропические океаны, окружающие Новый Свет. Благодаря успехам современной археологии была получена важная ботаническая информация, которой не было во времена де Кандоля, и Мерриллу становилось все труднее отстаивать взгляды, за которые он так цепко держался в двадцатые и тридцатые годы.
Сила и убедительность суждений Меррилла покоились на тезисе о полном и безусловном отсутствии общих для двух полушарий культурных растений. Это негативное доказательство было хотя и не окончательным, но достаточно веским аргументом против трансокеанских плаваний. Зато стоило бы найти хоть одно растение, представляющее собой исключение из этого правила, как рухнула бы вся его аргументация. Так что Мерриллу надо было следить за тем, чтобы его бочка нигде не протекала. Потеря даже одной клепки сделала бы всю бочку непригодной; негативное доказательство, превратившись в позитивное, обратилось бы против него с удвоенной силой.
БАТАТ
В 1946 году Меррилл собственноручно выбил первую клепку из своей, казалось бы водонепроницаемой бочки. Изучение географии растений и таксономии (раздел природоведения, занимающийся принципами классификации), а также знакомство с историческими исследованиями, проведенными его соотечественником, знаменитым этнологом Диксоном и другими, заставили Меррилла признать, что аборигенные мореплаватели во всяком случае пересекли океан между Новым Светом и Полинезией. Он писал: «Они ввезли в Полинезию одно важное пищевое растение американского происхождения – батат – и распространили его от Гавайских островов до Новой Зеландии… задолго до появления европейцев в Тихом океане».(3) Дальнейшее изучение происхождения и распространения американского батата, а также практический показ в 1947 году мореходных качеств южноамериканского бальсового плота вынудили в конце концов Меррилла в корне пересмотреть свой взгляд, и в 1954 году он написал: «Было бы глупо утверждать, что до Магеллана не было никаких сообщений через Тихий океан». Теперь он заявлял, что самый факт возделывания американского батата во всей Полинезии до первого плавания Кука есть позитивное свидетельство доевропейских контактов.(4) Он подчеркивал также, что за бататом требовался тщательный уход во время плавания и что мореплаватели должны были взять с собой из Америки живое растение вместе с землей, ибо никакой клубень не сохранил бы всхожесть, находясь во влажной атмосфере на уровне моря сверх одного-полутора месяцев. Меррилл ссылался на плот «Кон-Тики», которому понадобилось больше трех месяцев, чтобы пересечь океан.
КОКОСОВЫЙ ОРЕХ
Тем временем в новом освещении предстал также вопрос о доевропейском распространении кокосового ореха. Сам де Кандоль был неуверен, откуда он произошел и как распространялся. Многочисленные виды подсемейства Cocoinae, к которому принадлежит кокосовый орех, типичны для тропической Америки, ни одного из них нет в Азии. Только многосторонне используемую культурную кокосовую пальму Cocos nucifera можно проследить от аборигенных поселений Центральной Америки, на всех островах Тихого океана до Индонезии и приморья Азии.
Таким образом, ботанические свидетельства склонили де Кандоля к тому, чтобы считать тропическую Америку подлинной родиной кокосовой пальмы. Позднее он изменил свой взгляд: «Обитатели азиатских островов были куда более отважными мореходами, чем американские индейцы. Очень может быть, что лодки с азиатских островов, на борту которых в качестве провианта были кокосовые орехи, по воле шторма или из-за неверного маневра попали на западное побережье Америки или на острова на пути к Америке. Обратное в высшей степени невероятно».(5) Однако другие авторы отмечали, что было бы очень странно, если бы мореплаватели из Индонезии распространили кокосовую пальму в Полинезии и Америке и не завезли бы туда алкогольные напитки. С давних времен в Индонезии из сока кокосовой пальмы приготовляют пальмовое вино. В Полинезии же и Америке этот способ до прихода европейцев был неизвестен.
В начале XIX века многие ботаники считали возможным естественное проникновение кокосового ореха через Тихий океан. Англичанин Геппи писал в 1906 году: «Остается… заключить, что он первоначально вышел из Америки – родины этого рода, возможно, в виде дара, принесенного Экваториальным течением из Нового Света в Азию».(6) В 1941 году на Гавайских островах были проведены опыты с плавающими кокосовыми орехами. Они опровергли представление о том, что кокосовый орех, пройдя любое расстояние в океане, может прорасти, когда его вынесет на берег. Было установлено, что глазки плывущего в море ореха заражаются гнилостными бактериями, поэтому при длительном плавании от Нового Света до Полинезии он утрачивает всхожесть.
Тщательные исследования ученых позволили документально доказать, что кокосовый орех произрастал в Центральной Америке ко времени прибытия Колумба и первых испанцев. Винер и немецкие ботаники Андре и Хармс установили также, что кокосовый орех входит в число одиннадцати аборигенных растений, изображенных на древнеперуанских сосудах. Пришлось Мерриллу поневоле расстаться со второй клепкой: «…добавим еще одно утверждение, каким бы ошеломляющим оно ни показалось: вряд ли подлежит сомнению, что полинезийцы ввезли кокосовый орех на западное побережье Америки между Панамой и Эквадором незадолго до прихода испанцев». И еще: «Мы не знаем окончательно, откуда происходит вид… Одно несомненно: кокосовая пальма прочно утвердилась на влажном тихоокеанском побережье Панамы и в сопредельной Колумбии до появления испанцев».(7)
БУТЫЛОЧНАЯ ТЫКВА
Не успел Меррилл заявить, что он вынужден пересмотреть свое мнение о перевозках человеком батата и кокосового ореха через океан между доколумбовой Америкой и Полинезией, как его бочка лишилась еще одной клепки.
В противоположность Линнею де Кандоль, а за ним и Меррилл полагали, что до Колумба коренное население Америки совсем не знало тыквы. Но вот археологи стали находить в древних могилах Перу и Чили тыквенные семена и изделия из высушенных бутылочных тыкв. В 1931 году Норденшельд указал на большое сходство таких изделий Океании и доиспанской Южной Америки и назвал бутылочную тыкву «главным доказательством доколумбовых связей между Океанией и Америкой».(8) Сэр Питер Бак (он же Те Ранги.Хироа, сын ирландца и полинезийки, прославившийся блестящими этнографическими исследованиями; занимал должность директора муаея Бишопа в Гонолулу, умер в 1950 году) в 1938 году сослался на бутылочную тыкву как на доказательство того, что полинезийские мореходы во время дальних плаваний в начале нынешнего тысячелетия несомненно достигали Южной Америки.(9) В 1945 году, за два года до плавания «Кон-Тики», он повторил это утверждение и добавил: «Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками».(10) Этот распространенный среди этнологов взгляд повлиял в свою очередь и на ботаников. Двое из них, а именно Имз и Сен-Джон, писали в 1943 году: «Ныне полагают, что до XIII века полинезийские мореплаватели с Мангаревы или Маркизских островов ходили на восток до Перу, потом возвращались. Такое плавание может объяснить появление батата… в Полинезии и бутылочной тыквы… в Южной Америке».(11) В 1950 году даже Меррилл признал, что распространение тыквы не может подтверждать его прежних взглядов, «ибо очевидно, что это культурное растение существовало в обоих полушариях до Магеллана». И еще: «Возможно, оно попало в доколумбову Америку благодаря полинезийским мореплавателям».(12) Однако и это предположение было поколеблено постепенно накапливающимися свидетельствами. Одновременно с экспедицией «Кон-Тики», которая доказала возможность плаваний на плотах из Перу, американский археолог Джуниус Берд раскопал на перуанском побережье мусорную кучу Хуака-Приета и обнаружил, что представители одной южноамериканской рыбачьей культуры выращивали и использовали для изготовления утвари бутылочную тыкву больше трех тысяч лет назад, то есть задолго до того, как полинезийцы достигли своей нынешней области обитания и, следовательно, могли доплыть до Нового Света.
Таким образом, в Перу тыква появилась раньше, чем в Полинезии. Но тогда она должна была прибыть из Перу в Полинезию, а не наоборот. В 1954 году Меррилл предложил считать родиной бутылочной тыквы Африку, откуда она через Атлантический океан, очевидно, попала к аборигенам Америки. Он заявил, что распространению в Америке и Полинезии тыква также обязана человеку.(13)
БАНАН
Отстаивать изоляционизм, продолжая цепляться за оставшиеся от бочки кленки, было бы нелепо. Под напором все более убедительных свидетельств Меррилл уступает и признает, что банан тихоокеанских островов не ввозился в Перу и Бразилию португальцами, как он ранее полагал, а возделывался там еще до Колумба. Английский путешественник Стивенсон, а также немецкие ботаники Виттмак и Хармс заметили, что листья банана многократно обнаруживались в древнеперуанских могилах(14), а французский этноботаннк Рошбрюн нашел плод культурного Musa paradisiaca (пищевого банана) в древней могиле в Анконе на побережье Центрального Перу.(15) Хронисты Гарсилассо де ла Вега, Патер Акоста, Патер Монтесинос и Гуаман Пома, пытавшиеся провести грань между аборигенными и привозными культурами, единодушно утверждали, что банан разводили в Перу до конкисты (то есть до завоевания страны испанцами). Меррилл то ли не знал об этой информации, то ли пренебрегал ею, но он не отрицал достоверных данных о существовании обширных банановых плантаций, которые были обнаружены первыми европейцами во внутренних областях Южной Америки. Растение, в плодах которого не развиваются семена, вряд ли может распространяться без помощи человека. Нужно выкопать корневище созревшего растения, разделить его на части и высадить. Когда представишь, сколь медленно идет такое размножение, особенный вес приобретают наблюдения испанского путешественника Орельяны. Спустившись в андские леса, чтобы первым из европейцев в 1540-1541 годах пересечь Южную Америку, он обнаружил банан повсюду в верховьях Амазонки. По теории самого Меррилла, банан в лучшем случае мог попасть на остров Сан-Доминго в Вест-Индии только 24 годами раньше. Столь обширное и стремительное географическое распространение именно банана (неизвестного аборигенам до тех пор), а не других значительно быстрее распространяющихся культурных элементов, должно было бы показаться чудом даже самому закоренелому изоляционисту.
Начав с уступок в вопросе о контактах между аборигенами Южной Америки и Полинезии, Меррилл отказался от теории, по которой культуру банана в Перу и Бразилию ввезли португальцы. В 1954 году он писал: «С полным основанием можно признать, что одна или несколько из многочисленных полинезийских разновидностей банана были доставлены самими полинезийцами в Южную Америку, потому что побеги легко перевозить на большие расстояния, и они даже при минимальном уходе сохраняют всхожесть. Возможно, одна из разновидностей, попавших в приморье Перу, пересекла Анды и достигла верховий Амазонки».(16)
ХЛОПЧАТНИК
Примерно в это же время в орбиту дискуссии было вовлечено еще одно полинезийское растение, которое раньше все упускали из виду. Когда европейцы впервые пришли на Маркизские и Гавайские острова, острова Общества и подверженные полинезийскому влиянию острова Фиджи, они нашли там дикорастущий хлопчатник. Много лет это растение оставалось вне поля зрения этноботаников: ведь полинезийцы поры европейских открытий, как и другие народы по обе стороны Тихого океана, не знали ткачества. Материю для своей скудной одежды они изготовляли, отбивая колотушками луб. Никто и не подозревал, что мог существовать четко определяемый культурный субстрат (предшествующая культура иного происхождения) с гончарством и ткацким станком. Хотя, европейцы установили, что из хлопчатника островов Общества и Маркизских можно получить пряжу, островитяне равнодушно отнеслись к попыткам наладить возделывание хлопчатника и трудоемкое прядение и ткачество. И много лет единственной примечательной особенностью линтерного полинезийского хлопчатника было то, что он не произрастал нигде в прилегающей к Азии части Тихого океана, включая Австралию, однако рос на Галапагосс, как бы перебрасывая мост к диким и культурным видам Нового Света.
В 1947 году Хатчинсон, Силоу и Стефенс – специалисты по хлопчатнику – опубликовали генетическое исследование о диких и культурных видах хлопчатника всею мира. Они обнаружили, к своему удивлению, что полинезийский хлопчатник относится к 20-хромосомным культурным видам Америки, которые были выведены в Мексике и Перу индейскими селекционерами. Дикие виды хлопчатника везде насчитывают 13 хромосом, и столько же хромосом у всех культурных видов Азии и Африки. А древним селекционерам Америки удалось вывести тетраплоидный линтерный хлопчатник, то есть насчитывающий 26 хромосом. Вместе с полинезийскими видами и подвидами – это единственные тетраплоиды во всем роде хлопчатника. Таким образом, по чисто ботаническим соображениям три названных ботаника вынуждены были предположить, что линтерный хлопчатник достиг Полинезии «после того, как его начали культивировать аборигены тропической Америки».(17) Американский специалист по географии растений Зауэр показал в 1950 году, что распространение культурного хлопчатника из Америки в Полинезию (кстати, сравнительно позднее, однако до прихода европейцев) нельзя приписать ни птицам, которые не едят семян Gossipium, ни океанским течениям – хлопчатник отнюдь не приспособлен для дальних плаваний. Он показал также, что и отдаленные геологические периоды, когда география этой части света была иной, дикий 13-хромосомный хлопчатник мог попасть в Америку естественным путем, но такое объяснение для того времени, когда появилась тетраплоидпая группа, неприложимо. «И эта гипотеза никак не позволяет объяснить появление хлопчатника явно американского происхождения в районе от Галапагоса до островов Фиджи. Волей-неволей мы должны допустить посредничество человека в географическом распространении рода Gossipium. Это касается только линтерных форм, используемых человеком».(18) Его соотечественник и коллега Картер спрашивал в 1950 году: «Может быть, хлопчатник первоначально использовался как источник масличных семян, как полагают Хатчинсон, Силоу и Стефенс? Или, быть может, в тихоокеанской области было ткачество, от которого затем отказались в пользу лубяных материй?».(19) Таким образом, линтерный полинезийский хлопчатник вторгся в сферу этноботаники. Даже Меррилл, касаясь опознания в полинезийском хлопчатнике 26-хромосомного американского гибрида, сказал в 1954 году: «Этот гибрид вполне мог достичь Таити с помощью человека до того, как прекратились плавания полинезийцев».(20) Огромное число свидетельств прямого американо-полинезийского контакта в доколумбову пору заставило Меррилла отказаться от своей прежней точки зрения; он признает: «Приходится согласиться, что случайные контакты время от времени возникали между народами Полинезии и Америки и даже между американскими индейцами и жителями островов Восточной Полинезии…». Он больше не считает полинезийцев единственными мореходами Тихого океана, а говорит: «Мы должны признать…, что аборигены Южной Америки могли достичь некоторых тихоокеанских островов на бальсовых плотах».(21)
РАСТЕНИЯ ОСТРОВА ПАСХИ
Признание Меррилла в его предсмертной публикации явилось вехой в американской и полинезийской этноботанике. Никто не отстаивал доктрину полной изоляции Америки до Колумба с такой страстной убежденностью, как он. Меррилл и его сподвижники любой океан, несмотря ни на какие течения, считали барьером для перемещения человека, а не средой, способствующей путешествиям и дрейфам. Причем критическая позиция сторонников этой точки зрения несомненно сыграла ценнейшую роль плотины, без которой американская этнология в наши дни была бы затоплена диффузионистскими теориями.
Справедливость требует подчеркнуть, что накопленные свидетельства позволяют признать плавания аборигенов лишь на сравнительно короткое расстояние между Южной Америкой и Полинезией. Ботанический материал, доказывающий прямую связь с более отдаленными Азией или Африкой, еще нуждается в подтверждении.
Ареал кумары объединяет Южную Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Полинезию и подверженную полинезийскому влиянию Меланезию. Мало того, что во всей этой области разводили батат, его везде называли «кумара» или каким-нибудь сходным словом. Количество убедительных свидетельств взаимосвязи в пределах области распространения кумары продолжает увеличиваться. Мы узнаем о все новых американских видах, которые культивировались полинезийскими аборигенами и были найдены в Полинезии первыми европейскими исследователями.
Остров Пасхи, ставший ныне предметом новой проверки на наличие американских растений, можно назвать связующим звеном между остальной Полинезией и Новым Светом. Когда на этот уединенный остров прибыли европейцы, они увидели немало американских растений. Большие площади были заняты многочисленными разновидностями батата; все первые исследователи острова в одни голос называют его основной пищей пасхальцев. Высушенные тыквы были единственным видом сосудов для воды; в числе даров, преподносимых европейцам при встрече, был чилийский перец (Capsicum) – американское растение, пока не обнаруженное на островах, лежащих дальше на запад.
Ко времени прибытия европейцев дикая (или предположительно дикая) растительность Пасхи была чрезвычайно бедна. В 1934 году шведский ботаник Скоттсберг насчитал на Пасхе тридцать одно цветковое растение: из них одиннадцать пантропических или широко распространенных в тропической зоне. Эти одиннадцать видов могли попасть на остров с любой стороны, причем, подобно папоротникам и мхам, чисто естественным путем. Но географические области распространения остальных двадцати видов были ограничены и находились либо к востоку, либо к западу от острова, причем некоторые из этих видов без помощи человека не смогли бы попасть на океанический остров.
Только семь из двадцати видов играли непосредственную роль в экономике пасхальцев; из этих семи полезных, но, видимо, одичавших растений пять вышли из Южной Америки и два из Полинезии. Пять южноамериканских видов – это камыш тотора (главный строительный материал пасхальцев и сырье для плетеных изделий), дерево торомиро (единственное на острове дикорастущее дерево, его древесина идет на резные изделия), Lycium caroliniamim (единственный на острове дикорастущий кустарник, ягоды съедобны), Cyperus vegetus (съедобные корни) и Polygonum acuminatnm (пресноводное растение, используемое как лекарственное в Перу и на острове Пасхи).
Присутствие двух полинезийских видов (Chenopodium ambiquurn и Solanum insulae paschalis) легко объяснить: предки нынешних пасхальцев приплыли на остров в доевропейские времена из Полинезии. Скоттсберг писал: «С ботанической точки зрения эти растения, исключая американские виды, не представляют большой проблемы, если признать, \что в самом деле была трансокеанская миграция… однако наличие американского элемента вызывает недоумение».(22) Наиболее примечательной ботанической проблемой являются водные растения в кратерных озерах Пасхи; если не считать эндемического торфообразующего мха, все растения относятся к чисто американским пресноводным видам, которые не способны преодолеть такой путь ни по морю, ни по воздуху. В 1934 году Скоттсберг оставил открытым этот затруднительный ботанический вопрос.
После того как было доказано, что Полинезия была достижима для древнеперуанских судов, Скоттсберг (в 1956 и 1957 годах) вернулся к этой проблеме.(23) Он еще раз изучил пасхальский камыш тотора и установил его тождественность камышу Scirpus riparius (по позднейшим данным, Scirpus tatora), который произрастает в андских озерах и который аборигены разводили на тихоокеанском побережье Перу для тех же целей, что и пасхальцы. Ученый отверг возможность непосредственного перемещения камыша через океан без помощи человека, а мысль о сухопутном мосте назвал несерьезной.
Точно такая же проблема возникла и в связи с единственным спутником тоторы на кратерных озерах Пасхи – американским полигонумом. Скоттсберг признал, что аборигены, видимо, были причастны к появлению на Пасхе этих двух южноамериканских пресноводных видов и что такое допущение значительно упрощает сложный ботанический вопрос о трансплантации в доевропейское время.
Впоследствии археологи подтвердили, что камыш тотора был привезен на Пасху до появления европейцев. А пробы пыльцы, изученные шведским палеоботаником Селлингом, показывают, что Polygonum начал произрастать на кратерных озерах внезапно в ранний период заселения острова. Люди, расчищая участки, намеренно сжигали лес и истребляли при этом первичную растительность, которая состояла из нескольких (впоследствии вымерших) видов деревьев и кустарников, включая широко распространенную на острове пальму. Лесные пожары, учиненные людьми,– причина скудости современного пасхальского ландшафта. Однако ввезенные в то время пресноводные растения не были истреблены, они разрослись и покрывают теперь большую часть поверхности трех обширных, некогда совсем чистых кратерных озер.
Поскольку появляется все больше доказательств того, что до прихода европейцев на острове Пасхи произрастали такие древнеамериканские полезные растения, как батат, бутылочная тыква, чилийский перец, камыш тотора, Polygonum acuminatum, Cyperus vegetus, Lycium carolinianum и торомиро, мы вправе предположить, что одновременно с ними были ввезены и другие американские виды: низкорослая перувианская вишня, полуодичавший ананас, маранта, маниок и табак. Когда европейцы составляли первые описания острова, эти растения росли преимущественно в заброшенных островитянами районах Пасхи.
Согласно пасхальским преданиям, записанным американским флотским офицером Томсоном в 1889 году,(24) табак был доставлен на остров самыми первыми поселенцами. Его местное название (аваава) позволяет предположить, что табак первоначально жевали, как в Андах, до прихода европейцев, а не курили (одмоодмо), как это стало обычным впоследствии. Но утверждать, откуда эти растения попали на Пасху, еще нельзя, и время их появления на острове пока неизвестно. Заметим только, что ботаники считают некоторые из них доевропейскими и в других частях Полинезии.
АНАНАС
Ботаник Бортони в 1919 году предположил, что американский ананас, видимо, распространился в тихоокеанской области в доколумбовы времена.(25) Его коллега Браун показал в 1931 году, что есть серьезные основания считать культуру ананаса на Маркизских островах доевропейской.(26) А ботаник Дегенер заявил в 1930 году, что гавайцы разводили менее ценную, полудикую разновидность ананаса задолго до того, как его, согласно письменным источникам, ввезли европейцы.(27) Пятью годами позже американский гавайист Брайен писал: «Произрастание ананаса и некоторых других растений, плоды которых идут в пищу, в Полинезии может означать, что полинезийцы ходили к берегам Южной и Центральной Америки».(28)
ПЕРУВИАНСКАЯ ВИШНЯ И ARGEMONE
Перувианская вишня Physalis peruviana прежде была широко распространена в Восточной Полинезии. На острове Пасхи и на Маркизском архипелаг она почти исчезла, но кое-где, например на восточном побережье Фату-Хивы, ее еще можно найти в дикорастущем виде на месте старых поселений. В 1888 году ботаник Хиллебранд(29) указывал на произрастание перувианской вишни на Гавайских островах с давних пор; он считал ее «важным американским элементом из Андской области в гавайской флоре».
Мы видим здесь примечательную параллель острову Пасхи; на это обратил внимание в свое время Скоттсберг. В 1950 году Картер(30) выделяет в «гавайской флоре» Хиллебранда девять андских растений, он считает, что все они «заслуживают этноботанического изучения». О гавайско-перувианской вишне Картер писал: «Physalis – съедобное растение, родственное американскому томату. Дженкинс в недавно изданном «Происхождении культурного томата» считает Physalis предшественником культурного томата и полагает, что томат потому и стали разводить, что он в общем схож с Physalis. Подобно хлопчатнику, батату и гибискусу, Physalis тоже указывает на Перу».
Изучая чисто американский род Argemone, ботаники Прейн(31) в 1895 году и Федде(32) в 1909 году независимо друг от друга отметили, что присутствие его на Гавайских островах ко времени открытия архипелага капитаном Куком трудно объяснить. В 1932 году американский этнолог Стоукс(33) отмечал, что нет ничего удивительного в том, что американский Argemone попал на Гавайские острова до прихода европейцев. Его вполне могло доставить то самое судно, которое привезло американский батат.
Через три года Яковлев и Эррера(34) сообщили, что Argemone использовался в древнем Перу в силу своих наркотических и анестетических свойств.
Картер(35) писал в 1950 году: «Судя по Argemone, обмен знаниями распространялся не только на съедобные растения, но и на лечебные растения и сопряженные с ними магические действия и ритуалы». И еще: «Все это позволяет предположить, что речь идет не о сорняке, а о растении с совершенно определенным применением в рамках данной культуры. Так как растение стало известно здесь вместе с рецептами его использования, то можно полагать, что оно скорее всего было доставлено сюда намеренно, а не случайно.
Таким образом, проблема Argemone alba (var. glauca) на Гавайских островах встает перед нами в новом свете… Данные исследований позволяют сделать вывод, что на Гавайские острова он привезен человеком». И еще: «В самом деле, было бы крайне странно, если бы оказалось, что природными путями на Гавайские острова попали только «космополитические травы», используемые человеком в Америке, и что американские рецепты их применения путешествовали вместе с ними, как это мы видим в случае с Argemone».
ПАПАЙЯ, ПАВАХИНА, МЕИ-РОРО И HELICONIA BIHAI
Папайя – тропическое плодовое дерево (дынное) из Нового Света. Более крупный вид папайи произрастал от Мексики до Перу, а малоизвестные мелкие южноамериканские виды разводили во всей Андской области до Северного Чили.
В своем труде о флоре Маркизского архипелага Браун(36) сообщал в 1935 году: «…на Маркизских островах произрастают по меньшей мере две разновидности Carica papaya. Ви инана (ви ината), которую маркизцы считают одним из своих древнейших растений, дающих съедобные плоды, несомненно, попала сюда очень давно. Плоды мелкие и не такие вкусные, как у ви оаху, привезенной, по словам островитян, с Гавайских островов первыми миссионерами… Сок папайи, желательно мужского дерева (мамее),
применяется для припарок. Происхождение – тропическая Америка. В Полинезию привезена аборигенами».
На основании различных ботанических данных Браун в том же исследовании сделал вывод, что «между аборигенами Американского континента и Маркизских островов, несомненно, происходило какое-то общение».
Этот материал включал траву павахина (Aristida subspicata), названную так же, как назывался важный традиционный головной убор в виде привязанного ко лбу султана, который островитяне прежде часто носили. Браун отмечал: «Интересно присутствие этой американской травы в качестве преобладающего элемента в степных районах Нуку-Хивы (крупнейший остров северной части Маркизского архипелага). Возможно, что ее непреднамеренно привезли с собой ранние поселенцы, примерно в то же время, когда здесь появился дикий ананас».
О маркизском меи-роро (Agoratum conyzoides) Браун писал: «…на Маркизских островах благоухающие цветы и листья охотно использовали для гирлянд, их добавляли как душистое вещество в кокосовое масло, применяли как лекарство. Роберт Эйткен отмечает, что и на Тубуаи ими сдабривали кокосовое масло. Распространение – пантропическое, происхождение – Америка. Вероятно, первобытный человек непреднамеренно доставил это растение в Юго-Восточную Полинезию».
Heliconia bihai – еще одно чисто американское растение, которое некогда применялось в хозяйстве и проникло в глубь островной области. От Вест-Индии до Южной Америки коренные жители употребляли в пищу его богатые крахмалом клубни, а листья шли на кровлю, стены жилищ, из них делали шляпы, циновки, корзины. Английский ботаник Бейкер(37) первым показал в 1893 году, что родина этого растения – тропическая Америка. Геликонию тихоокеанских островов он считал культурной разновидностью, родственной мексиканским и перуанским видам.
Десять лет спустя американский ботаник Кук подтвердил мнение своего коллеги Шуманна о доисторическом появлении этого полезного американского растения на тихоокеанских островах и добавил: «Хотя это растение больше не возделывается полинезийцами, оно прочно обосновалось в горах Самоа и на многих архипелагах к западу. В Новой Каледонии и в наши дни из крепких листьев Heliconia плетут шляпы; однако панданус – уроженец малайской области больше подходит для всяких хозяйственных нужд и на полях полинезийцев он вытеснил Heliconia».(38)
ЯМСОВЫЕ БОБЫ
Нечто сходное произошло с американскими ямсовымп бобами (Pachyrrhizus). В 1944 году ботаник Клаусен(39) указывал, что Pachyrrhizus tuberosus, «видимо, абориген верховий Амазонки и ее притоков в Бразилии, Перу, Эквадоре и Боливии». Он сообщал, что обычные ямсовые бобы являются культурным растением в некоторых частях Вест-Индии и в Южной Америке, притом их разведение облегчается тем, что растение обладает инсектицидными свойствами. Pachyrrhizus, известный среди индейцев кечуа в Перу под названием айпиа, почти не возделывается в современном Перу, хотя первые хронисты еще застали его. Яковлев и Эррера писали в 1934 году о находках бобов Pachyrrhizus в доинкских могилах и указали, что это растение использовалось как декоративный элемент в искусстве наска (североперуанская культура) на тихоокеанском побережье.(40) Кук первым среди ботаников пришел к мысли, что тихоокеанские острова были более достижимы для высокоразвитых культур Перу, чем многие лесные континентальные области, завоеванные Куско.(41) Он считал, что появление съедобных клубней этого вьющегося бобового растения на островах можно объяснить лишь плаваниями аборигенов. Кук рассказывает, что «аборигены островов Тонга больше не выращивают Pachyrrhizus для питания, но позволяют ему расти на парах, так как считается, что оно помогает получать высокие урожаи собственно ямса… жители Фиджи используют волокно Pachyrrhizus для изготовления лесы… растение почему-то фигурирует в их религиозных ритуалах; видно, в древности оно играло более важную роль».
Геоботаник Геппи(42) тоже недоумевал, откуда появился этот элемент в островном земледелии: «…родина Pachyrrhizus – Америка. Спрашивается, как растение такого происхождения могло попасть на запад Тихого океана? Оно здесь довольно широко распространено и встречается в Новой Каледонии, на Новых Гебридах, на островах Фиджи, Тонга и Самоа. Хотя его съедобные корни идут в пищу только при недороде, в диком виде оно произрастает на всех островах Фиджи… На островах Тонга, как сообщает Грэффе, его часто сажают, чтобы улучшить почву для собственно ямса…». Американские исследователи Стюард(43) и Зауэр(44) позднее считали что это древнее американское полезное растение свидетельствует о давних трансокеанских плаваниях.
ЯМС
Собственно ямс (Dioscorea sp.) получил в доколумбово время подлинно транстихоокеанское распространение, съедобные сорта разводили от древней Америки до Индонезии. Принято считать, что ямс попал в Полинезию из Меланезии, но если обычай чередовать его с Pachyrrhizus распространился вместе с самим ямсом, можно допустить появление на островах американских видов.
В тропическом поясе Нового Света произрастает немало диких видов Dioscorea, и, как сообщил в 1950 году Зауэр, клубни некоторых съедобны, однако неизвестно, происходят ли культурные американские сорта от этих диких американских родителей.
Как показал в 1950 году Картер вместе со своими коллегами Грэем и Трамбэллом, когда испанцы впервые пришли в область карибов, они застали там не меньше трех клубневых культур – батат, ямс и маниок. В записях испанского хрониста Овьедо за 1535 год есть абзац с описанием формы, жилкования, черенка и положения листьев ямса – признаков, отличающих его от батата, приведено местное название – аес. Аес описан также в рассказе Наварретте о плавании Колумба. Картер заключает: «Итак, вот еще одно растение, которое, подобно батату, размножается вегетативно, а потому вряд ли способно пересечь морские просторы с ветром, течением, птицами, вообще без помощи человека, и тем не менее оно пересекло океан в доколумбово время».(45) Браун собирал аборигенный ямс на Маркизских островах, где он называется пу-ахи, и писал в 1931 году(46): «Материала для точного определения недостаточно, но он как будто близок, если не тождествен, Dioscorea cayenensis Lamarck, уроженцу Африки, который издавна возделывался в тропической Америке… Его подземные клубни охотно применяются в пищу аборигенами… На Маркизских островах очень редок. Всего один экземпляр найден на Фату-Хиве, самом южном острове архипелага. Несомненно завезен в давние времена аборигенами. Если это и в самом деле Dioscorea cayenensis, на который он очень похож, – перед нами еще одно указание на контакт с Америкой».
Джейкмен (на Международном конгрессе американистов в 1949 году) отнес ямс к группе избранных растений, которые, вероятно, перекочевали из аборигенной Америки в Полинезию, и добавил: «Большинство этих растений попало на острова не случайно – с течениями, их сознательно доставили туда переселенцы из древней Америки, это видно из того, что лишь немногие из них… могли бы пересечь океан без помощи человека…».(47)
ГИБИСКУС
В отличие от названных раньше, Hibiscus tiliaceus – транстихоокеанское растение, способное расселиться через мировые океаны без посредничества человека. Его семена, не в пример семенам упомянутых выше видов, приспособлены для естественного распространения по воде и вполне могли попасть в Полинезию до появления там человека. Тем не менее планомерное культивирование гибискуса в Полинезии и некоторые связанные с этим лингвистические наблюдения послужили причиной того, что он также был включен в этноботаническую дискуссию. Браун справедливо называет гибискус «одним из самых полезных деревьев, возделывавшихся первыми полинезийцами» (48).
О. Кук и Р. Кук первыми рассмотрели гибискус, или махо, в 1918 году с этноботанической стороны: «Хотя многие ботаники называют махо космополитическим приморским растением, возможно, что своим широчайшим распространением он, как и кокосовая пальма, в большой мере обязан посредничеству человека».(49) Они показали, что это дерево в диком состоянии встречается в изобилии даже как господствующий вид во многих районах Центральной Америки, вплоть до берегов реки Гуаякиль на тихоокеанском побережье Южной Америки. Здесь аборигены изготовляли из луба этих деревьев материю, не боящиеся воды веревки, а при помощи палочек добывали огонь.
По словам Куков, у полинезийцев это дерево нашло, в общем, то же самое применение и называлось похоже. Если в тропической Америке гибискус был известен как махо, или махагуа (с некоторыми вариантами), то в полинезийских диалектах мы видим названия: мао, мау, вау, фау, хау и ау. И авторы заключают: «Махо, махагуа, пли липа гибискус – одно из важных в хозяйстве растений, о котором нужно помнить, когда изучаешь проблему доисторических контактов между обитателями тропической Америки, оно распространилось на островах и берегах Тихого и Индийского океанов явно до прихода европейцев. Размножение и семенами и черенками облегчило его культивирование и распространение первобытными народами. Хотя для расселения махо необходимо не столь большое участие человека, как для батата и других растений-саженцев, его названия тем не менее являют собой почти такое же убедительное доказательство посредничества человека, как и в случае с кумарой…
Название «махо», или «махагуа» (с многочисленными местными вариантами), широко распространено в тропической Америке; и на многих тихоокеанских островах мы встречаем сходные названия либо самого растения, либо важнейших способов его применения. Очевидно, первобытные полинезийцы знали махо до того, как познакомились с аналогичными азиатскими растениями; это вытекает из того, что полинезийские названия других важных культурных растений – бумажной шелковицы Broussonetia (или Papyrius), китайской розы (Hibiscus rosasinensis) и пандануса (Pandanus) – суть производные от махо. Добывание огня трением, изготовление материи путем обработки луба желобчатыми колотушками – специальные приемы, которые, возможно, распространились вместе с махо из Америки в тропические области Старого Света».
Меррилл, оспаривая этот взгляд(50), утверждал, что названный вид никогда не культивировался за пределами Полинезии: «Это дерево, несомненно, сажали на некоторых полинезийских островах потому, что оно было лучшим или одним из лучших волокнистых растений, доступных первобытным полинезийцам… На основе чисто ботанического материала я заключаю, что Hibiscus tiliaceus – вид, получивший естественное пантропическое распространение… и что его в далеком прошлом разнесли морские течения».
И дальше: «Вполне вероятно, что в доисторические времена происходило ограниченное общение между Полинезией и тропической Америкой, но эта вероятность нисколько не возрастет, если считать, будто нынешнее распространение Hibiscus tiliaceus подтверждает такую теорию. Большинство этнологов поддерживает теорию, по которой культура распространялась через Тихий океан скорее на восток, чем на запад. Если описанный Куком комплекс махо родствен полинезийскому комплексу мао, разумнее полагать, что растение попало из тихоокеанской области в Америку, чем говорить о миграции из Америки в Тихий океан».
В 1950 году Картер еще раз рассмотрел(51) взаимно исключающие теории двух ботаников: «Эти аргументы кажутся мне типичными примерами того, к чему приводят навязчивые идеи. Кук так старался доказать американское происхождение земледелия, что неосторожно, чтобы не сказать – неразумно, привел в качестве примера один галофит, семена которого хорошо приспособлены для переноса водой.
В свою очередь, Меррилл, то ли был очень возмущен тенденциозностью Кука, то ли вообще не переносил мысль о транстихоокеанских контактах (а может быть, и то и другое), но так или иначе, ослепленный собственным отрицательным отношением, не видел достоинств аргументации Кука… Ведь, судя по ветрам и течениям, если растение в самом деле было перенесено естественным путем через Тихий океан, то именно в направлении из Америки в Полинезию. Но если согласиться с естественным переносом, остается нерешенным вопрос о применении и названии…
Совпадающие в Полинезии и в Америке приемы использования и названия дерева, а также свидетельства, которые дает батат, позволяют утверждать, что независимо от того, естественным путем или нет пересекло растение океан, название его и, очевидно, способы применения были перенесены через этот самый океан человеком. И вероятно даже, что человек привез с собой само растение». И дальше: «Трудно назвать более ясное свидетельство контактов между народами Тихого океана и Центральной Америки, чем то, которое дает нам батат и гибискус, известный под названием махо».
ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Предвзятое мнение об отсутствии развитого мореходства в доиспанской Америке наложило свою печать также и на ботаническую дискуссию о происхождении фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris). В прошлом веке немецкий ученый Кернике(52) в статье о родине фасоли указывал, что раньше об этом полезном растении писали, будто оно культивировалось древними греками и римлянами под названиями долихос, фасеолос и т. д. Поэтому разведение этой же фасоли аборигенами Америки объяснялось тем, что испанцы ввезли ее туда из Старого Света после открытия Колумба.
Эта теория господствовала до тех пор, пока другой немецкий ученый Виттмак в 1880 году(53) не обнаружил фасоль обыкновенную среди материала раскопок, произведенных Рейссом и Штюбелем на месте древних захоронений в Анконе (Перу). Фасоль находилась вместе с другой пищей рядом с мумиями, преданными земле задолго до открытия Америки европейцами. Так неожиданно появилось убедительное доказательство доевропейского культивирования Phaseolus в Америке.
Позже семена фасоли были найдены в доинкских поселениях во всем перуанском приморье. Но европейской фасоли доколумбовой поры к этому времени уже нельзя было найти. Поэтому сделали вывод, что родиной фасоли Старого Света является древняя Америка, откуда испанцы привезли ее в Европу. Сравнительно недавно ботаники Хатчинсон, Силоу и Стефенс, опираясь на убедительные ботанические данные, указали, что фасоль Phaseolus – еще одно подтверждение доколумбовых связей между Старым и Новым Светом.
ФАСОЛЬ ЛИМСКАЯ
Такой же вопрос возник в связи с разновидностями лимской фасоли (Phaseolus lunatus), которая произрастает в диком виде в Гватемале и обнаруживается в ранних погребениях культур чиму и наска на побережье Северного и Южного Перу.
В 1950 году Зауэр(54) описал генетические особенности одного примитивного сорта лимской фасоли, издавна возделываемого в некоторых областях Индонезии и Индокитая, и заметил: «Но если Юго-Восточная Азия окажется реликтовой областью примитивного сорта лимской фасоли, давно исчезнувшего в Перу и Мексике, перед нами встанет новая проблема, а именно – датировка и определение характера транстихоокеанских сообщений, благодаря которым аборигены получили американскую фасоль через океан».
КАНАВАЛИЯ
Аналогичную проблему являет собой родственное фасоли растение Canavalia sp. Американские ботаники Стонор и Андерсон указывали: «Canavalia – широко культивируемое в Тихом океане растение, всегда считавшееся уроженцем Старого Света, – теперь обнаружено в доисторических поселениях на побережье как Южной Америки, так и Мексики».(55) Семена канавалии, раскопанные в четко определяемых слоях в Хуака-Приета на тихоокеанском побережье Перу, датируются III – I тысячелетиями до нашей эры.(56) Зауэр(57) считает, что археологическое распространение канавалии и ее связь с дикими сортами дают право считать ее родиной Новый Свет.
На основании нашего короткого обзора можно заключить, что этнологическая мысль почти сто лот развивалась под влиянием этноботанических аргументов; в свою очередь, этнологические предрассудки заражали ботаников, изучавших Америку.
По литературе о происхождении и распространении ряда американских и тихоокеанских культурных видов можно судить о том, как много ботанических гипотез основывалось на убеждении, что до Колумба Новый Свет был изолирован от всего остального мира. Считалось также доказанным, что только индонезийские суда могли ходить через Тихий океан на восток, что культуры южноамериканских народов не распространялись дальше прибрежных вод, так как полагали, что у них не было настоящих морских судов.
Однако мы располагаем надежными свидетельствами вывоза аборигенных растений из Америки на соседние острова Тихого океана. Основная часть ботанических индикаторов сосредоточена на окраине Восточной Полинезии, но есть веские доказательства контакта со всей областью кумары, вплоть до окраины Меланезии. Подавляющее большинство общих для Полинезии и Америки полезных растений, очевидно, распространилось из Южной Америки на острова; банан, возможно, составляет исключение и служит примером переноса в противоположном направлении.
В отличие от многочисленных признаков южноамериканских плаваний в Полинезию, ботаническая основа, на которой строились предположения о контактах аборигенной Америки с Азией и Африкой, весьма неопределенна и пока что даже сомнительна.
Меррилл(58) отдавал предпочтение Африке как прародине бутылочной тыквы и предполагал, что эта тыква попала в Америку через Атлантический океан. Если в гибридизации 26-хромосомного американского культурного хлопка в самом деле наряду с диким сортом Нового Света участвовал 13-хромосомный культурный хлопок Старого Света (это все еще спорный вопрос), то путь по западному течению через Атлантический океан был куда короче и легче, чем против стихий через Тихий океан, протяженность которого в шесть раз больше Атлантического, причем на островах нет никаких следов 13-хромосомного хлопка.
Область распространения кокосового ореха простирается через весь Тихий океан. Если его родина – тропическая Америка, где находят все близкие роды, то его вывезли оттуда первые покорители Тихого океана, ибо он рос в Индонезии в начале нашей эры.
Ареал Pachyrrhizus тоже простирается через весь Тихий океан. Практически мексиканский Pachyrrhizns вполне мог достичь прилегающих к Азии островов на судах аборигенов, которые шли с Северным экваториальным течением, минуя Полинезию через широкие ворота между Маркизскими и Гавайскими островами. Если жаркая дискуссия о давнем разведении американской кукурузы в Юго-Восточной Азии закончится в пользу тех, кто утверждает, что кукуруза там появилась в доколумбовы времена, а не с приходом португальцев, то опять-таки придется принять во внимание мощное океанское течение, которое устремляется от берегов Мексики к Филиппинам.
Подведем итог. С начала возделывания хлопчатника, бутылочной тыквы и батата в Новом Свете эти и многие другие полезные растения доставлялись древними мореплавателями из Южной Америки в Полинезию. Некоторые специалисты по географии растений подозревают ныне возможность аборигенных плаваний из Африки в Центральную Америку или из Центральной Америки в Юго-Восточную Азию (если не то и другое одновременно), но у них еще нет убедительных оснований, чтобы утверждать это.
Однако было бы ошибкой вовсе пренебрегать, как это делали в прошлом, очевидным отсутствием географических барьеров, которые мешали бы судам аборигенов плыть из Северной или Южной Африки в Центральную Америку, из Перу в Полинезию, из Мексики в Индонезию, даже из Индонезии в Мексику – по старой трассе галеонов к северу от Гавайских островов. Для дрейфа на маленьком, но надежном судне по любому из этих путей от команды требовалась только воля к жизни. Однако пока ботаника может лишь доказать, что плавания из Южной Америки в Полинезию совершались и культурные растения распространялись в обоих направлениях. (IV)
РОЛЬ ИНКСКИХ ПРЕДАНИЙ ДЛЯ ИСПАНЦЕВ, ОТКРЫВШИХ ПОЛИНЕЗИЮ И МЕЛАНЕЗИЮ
Были рассмотрены возможные пути и на основе распространения культурных растений определены действительно использовавшиеся маршруты в океане.
Маршрут из Южной Америки в Полинезию, очевидно, имеет давнюю историю. Еще инки пользовались этой трассой, и предания об их плаваниях способствовали выходу испанцев в Тихий океан. Древние свидетельства оказались поразительно точными, значит, речь шла отнюдь не о туманных догадках или сказках.
Доклад, который лег в основу этой главы, был прочитан на XXXVI Международном конгрессе американистов в Барселоне в 1964 году. Небольшие сокращения сделаны лишь для того, чтобы не повторять материал, изложенный в следующих главах.
Девятнадцатого ноября 1567 года из гавани Кальяо в Перу вышла испанская экспедиция – сто пятьдесят человек на двух каравеллах. Король Испании Филипп II повелел мореплавателям отыскать в Тихом океане определенные острова и обратить в христианскую веру их обитателей, хотя европейцы совсем не знали этих островитян. Начальником экспедиции был назначен племянник вице-короля, Альваро Менданья; ему был подчинен знаменитый мореплаватель и историк Сармьенто де Гамбоа, по инициативе которого было затеяно все дело. Проведя два года в Мексике и Гватемале, Сармьенто де Гамбоа в 1559 году прибыл в Перу. Семь лет он изучал здесь индейскую культуру и составил для Филиппа II важные записки по истории инков. Сармьенто настолько увлекся преданиями инков, что вице-король Перу назвал его «наиболее сведущим человеком в этой области"(1), хотя именно он буквально подвел черту под историей инков, собственноручно выследив и схватив Инку Тупака Амару. Сармьенто обратил внимание на многочисленные утверждения инков, что далеко в Тихом океане лежат обитаемые острова. Он настолько верил в истинность этого сообщения перуанцев, что в конце концов убедил правителя снарядить экспедицию, чтобы проверить древние навигационные сведения индейцев.
Известно, что обе экспедиции Менданьи прошли успешно, однако мало кто задумывался над тем, что открытия испанцев опирались на указания инков. Правда, Соломоновы острова, найденные испанцами, лежали не там. И кроме того, нынешние исследователи считали, что суда древних инков вообще не годились для океанских плаваний.
А между тем в 1722 году, через полтораста лет после попытки Сармьеито последовать указаниям инков, голландский адмирал Роггевен нечаянно обнаружил обитаемую землю как раз там, где ее надлежало искать испанцам. Правда, к тому времени, когда Роггевен открыл остров Пасхи, его современники давно забыли сообщения инков, сохранившиеся для будущих поколений в записках Сармьенто и его спутников.
Открытие Роггевена и сделанное в наше время открытие, что бальсовый плот с инкскими гуарами может ходить в любую часть Тихого океана и возвращаться обратно, заставляют нас по-новому взглянуть на подоплеку экспедиций Менданьи.
Обратимся еще раз к исконным инкским преданиям и выясним, почему Сармьенто с таким доверием относился к перуанским рассказам о дальних плаваниях в Тихом океане.
Испанцы успели прожить бок о бок с перуанскими аборигенами почти сорок лет, когда Сармьенто убедил свое правительство в реальности утверждений инков. В эти десятилетия, предшествовавшие полному крушению местной культуры, конкистадоры единодушно поражались масштабам древнего перуанского мореходства. Естественно, что внимание всех хронистов в основном привлекали центры в высокогорных районах, где хранились несметные богатства господствующей верхушки. Тем не менее осталось немало исторических источников, которые подтверждают данные археологии о жизни многочисленного населения; отважные рыбаки и купцы жили в больших поселениях вдоль побережья и почти всецело зависели от даров моря.
Сармьенто и его современники знали, что их соотечественники почти за год до высадки на перуанском побережье встречали в море суда с инкскими командами. Когда испанцы, продвигаясь на юг, вышли в район Северного Эквадора, их передовая каравелла водоизмещением 40 тонн встретилась с шедшим на север бальсовым плотом. Тяжело нагруженное и легко управляемое инкское судно везло 36 тонн груза из расположенного в 300 милях южнее порта Тумбес. Вероятно, плот направлялся в Панаму. Там испанцы еще в 1512 году слышали рассказы про южную страну с многочисленным населением и про огромные плоты, управляемые с помощью парусов и весел.(2) Когда в 1559 году Сармьенто сам попал в эти области, бальсовые плоты еще использовали в торговле и мореходстве вплоть до Центрального и Южного Перу, за две тысячи миль от всех бальсовых лесов. Его современник Лисаррага(3) писал об аборигенах долины Чикама: «Эти индейцы – искусные мореплаватели, у них большие плоты из легкой древесины, на которых они покоряют океан…». Он указывал, что плоты аборигенов, груженные провиантом и разными товарами, ходили за пятьсот миль на север до Гуаякиля.
Современники Сармьенто восхищались навигационными познаниями древних перуанцев и мореходными качествами их своеобразных плотов, с похвалой отзывались о стройных мачтах и реях и превозносили перуанские паруса, считая, что они не уступают испанским.(4) Хлопчатобумажную парусину называли «превосходной», о снастях говорили, что они «прочнее испанских"(5). Вплоть до времен Сармьенто испанцы охотно использовали бальсовые плоты с инкской командой, потому что на плотах можно было пройти над отмелями и форсировать зону прибоя, которую не прошло бы ни одно европейское судно.
Овьедо(6) рассказывает, как индейцы на парусных плотах перебросили через море на остров Пуна конный отряд Франсиско Писарро. Инка Гарсилассо де ла Вега (видный хронист, черпавший сведения непосредственно у представителей инкского рода, из которого происходила его мать) сообщает, что индейцы приморья много раз перевозили на плотах горцев. Приморские жители каждый день выходили в море на плотах, а подчас отправлялись в плавание на целые недели со всей семьей и скарбом. Плотогоны и многочисленные владельцы маленьких камышовых судов добывали в коварном течении в 20– 50 милях от побережья столько рыбы, что часть улова даже уделяли горным инкам; за два дня каски (гонцы, которые передавали известия по эстафете) доставляли ее в горы.(7) Рыбная ловля в открытом море, развитая торговля и мореходство были существенной составной частью хозяйства инков, когда испанцы завоевали Перу.(8) Об этом, хотя бы вскользь, говорят все хронисты, писавшие преимущественно о богатстве и могуществе владык высокогорных областей. По сообщениям Сармьенто и его современников, мореплаватели на бальсовых плотах выходили в неведомые дали так же смело, как моряки на европейских судах. Это объясняет, почему испанцы охотно верили рассказам инков.
Слухи, сказания и исторические предания, которые в XVI веке были в ходу в Перу, вполне могли раздразнить воображение такого моряка, как Сармьенто, и побудить его к действию. Он был ведущим историком той поры и в устных преданиях находил пищу для размышления. Во многих сказаниях говорилось о плаваниях плотов. Встречались полные описания далеких морских походов на многих плотах, которые благополучно возвращались домой.
Важную роль в рассказах инков о морских путешествиях играл район порта Манты на крайнем севере государства инков (нынешний Эквадор). Отсюда будто бы ушел в Тихий океан герой индейского эпоса Виракоча. И отсюда же впоследствии вышел со своим флотом искать острова в океане Инка Тупак Юпанки (пли Тупак Инка). Однако Сармьенто и его спутники избрали не этот северный район, они выходили из Центрального Перу, направляясь к югу.
Тупак Инка был дедом братьев-правителей, которых застали испанцы; Сармьенто созвал сорок два виднейших инкских историка, чтобы услышать от них наиболее точную версию рассказа о его походе. Таким образом, Сармьенто знал, что Тупак Инка начал плавание на севере. О захвате Тупаком северного побережья Сармьенто писал(9): «Он воевал на суше и сражался на море на бальсовых плотах от Тумбеса до Хуанапи, Хумао, Манты, Туруки и Кисина. Продвигаясь вперед, Инка захватил в приморье район Манты и острова Пуна и Тумбес, и в это время в Тумбес пришли с запада на парусных плотах купцы».
Сармьенто передает известную историю о том, как эти купцы рассказывали о виденных ими обитаемых островах и как этот рассказ соблазнил горного Инку попытать счастья также и на море. «Он велел построить огромное количество бальсовых плотов, на которых разместилось больше 20 тысяч избранных людей. Капитанами он взял с собой Хуамана Ачачи, Кунти Юпанки, Кихуала Тупака (Хананские куско), Янкана Майту, Кису Майту, Качима-паку Макуса Юпанки, Лышпиту Уску Майту (Хуринские куско); его брат Тилька Юпанки был командиром всего флота. Апу Юпанки назначили командовать войском, оставшимся на берегу. Тупак Юпанки плавал до тех. пор, пока не открыл острова Авачумби и Ниначумби…»
По одним данным, этот морской поход длился девять месяцев, по другим – год. Тупак привез с собой «чернокожих людей» и иные трофеи, которые хранились в крепости Куско до прихода испанцев. Сармьенто опрашивал даже сторожа, охранявшего эти самые сокровища.
О том, что Инка вышел в море на севере, упоминал также патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа, прибывший в Перу за год до того, как Сармьенто отправился искать острова Инки. Бальбоа (10) писал о Тупаке Инке, называя его королем Топой: «…и обсудив свои планы и замыслы со своими офицерами, он вышел в поход с несметным войском и разместился в Манте, и в Чарапуку, и в Пикуаре, ибо было невозможно разместить и прокормить на меньшей площади такое огромное количество людей, какое было с ним.
Здесь король Топа Инка впервые увидел океан. После этого открытия он повелел надлежащим образом поклоняться океану и дал ему имя Мамакоча, что означает «мать морей». Он приказал снарядить несчетное количество судов, которыми пользовались местные жители, а делались такие суда из сотен бревен особенно легкого дерева. Бревна связывали вместе одно за другим и настилали на них сотни сплетенных вместе камышовых циновок. Так получались очень надежные и удобные суда, которые мы называем «бальсас».
Он повелел также приготовить запасы для многочисленною войска, которое должно было его сопровождать, и отобрал среди жителей приморья самых опытных кормчих, после чего вышел в океан с тем же мужеством и отвагой, которые всю жизнь вели его от победы к победе. О его плавании я не хочу говорить больше того, что представляется вполне достоверным, но всякий, кто рассказывает о подвигах храброго Инки, уверяет, что он провел в этом плавании год, а по словам некоторых – и больше, и что он открыл острова, которые были названы Хагуа Чумби и Нина Чумби, и лежат эти острова в Южном море, и Инка приставал к их берегам».
Бальбоа тоже(11) сообщает, что на плотах Инки были привезены в Южную Америку «многочисленные пленники с черной кожей».
Бетансос (12), попавший в Перу с первыми испанцами еще до прибытия Сармьенто, записал гораздо более старинную легенду о выходе в океан из того же самого района Манты народа виракочей; это предание занимало воображение жителей инкского государства куда сильнее, чем недавнее возвращение Тупака Инки. Люди считали, что легендарный герой Виракоча вместе со всем своим доинкским народом отправился из Тиауанако на север и через Куско достиг эквадорского побережья. Здесь они собрались у Пуэрто-Вьехо вблизи Манты и отплыли в Тихий океан.
В связи с этим широко распространенным инкским преданном Сармьенто (13) подчеркивал известный всем конкистадорам факт, что первых испанцев здесь приняли за вернувшихся из Тихого океана белых бородатых виракочей. Эга ошибка помогла Писарро с горсткой моряков захватить без боя все обширное инкское государство с его огромной армией и мощными укреплениями.
Конечно, Инка Тупак не случайно избрал северный порт, откуда вышел в море его легендарный предшественник. Манта лежит почти точно на экваторе, а Тупак, подобно Виракоче, поклонялся солнцу, считая его своим предком и покровителем; к тому же Эквадор был единственным источником бальсы, которая шла на строительство плотов в приморской части государства инков. Чтобы добыть нужное количество бальсы и бамбука для целого флота плотов, Инке пришлось отправиться со своими людьми в глубь леса. Однако из тех же инкских преданий следует, что флот пошел в южную часть океана; это и побудило Сармьенто идти из Кальяо на запад-юго-запад.
В 700 милях к югу от Манты, на засушливом побережье Северного Перу испанцы услышали не менее яркие рассказы о древних плаваниях представителей культуры мочика на бальсовых плотах. Патер Мигуэль Кабельо де Бальбоа (14) записал: «Люди из Ламбайеке говорят – и все обитающие по соседству с их долиной подтверждают это, – что в незапамятные времена пришел с большим флотом бальсовых плотов из Северною Перу основоположник одного могущественного рода, человек великой отваги и незаурядного ума, по имени Наймлап; и он привез с собой много наложниц, но его главной женой будто бы была Сетерни. Его сопровождало много людей, которые называли его капитаном и своим предводителем». По преданиям аборигенов, прибытие этих мореплавателей привело к основанию североперуанской династии и культуры чиму.
Сходные версии об инкской династии рассказывались индейцами побережья Центрального Перу еще в прошлом столетии.(15) Согласно преданиям племен, обитающих в области Лимы, первые королевские Инки обманом пришли к власти, внушив горным народам, будто происходят от солнца. Это обвинение было записано иезуитом Анельо Оливой (16), который в XVI веке поселился среди равнинных племен. Ему рассказали, что первые королевские Инки на самом деле были потомками обыкновенного морского народа, приплывшего из Эквадора: «Многие ходили по морю вдоль побережья и некоторые терпели крушение. В конце концов одна ветвь поселилась на острове под названием Гуаяу, у берегов Эквадора. На этом острове родился Манко Капак. После смерти своего отца он решил оставить родной остров, чтобы найти более благодатный край. Он вышел на судах, которые у него имелись, взяв с собой двести человек, и разделил их на три отряда. Два первых отряда пропали без вести, сам же Манко Капак и его спутники высадились около Ики на побережье Перу и оттуда пробились в горы, и достигли берегов озера Титикака».
Конечно, версия о высадке первого Инки около Ики может быть от начала до конца вымышленной, но об этом говорилось в преданиях. Еще в доинкские времена Ика могла соперничать с лесной областью на севере как центр плавания на плотах.
Патер Иосеф де Акоста сообщал (17), что индейцы Ики, а также Арики, лежащей на 750 миль южнее, рассказывали испанцам, будто в старые времена моряки выходили в Южное море и далеко на западе посещали какие-то острова. Акоста полагал, что эти доиспанские экспедиции совершались на плотах из наполненных воздухом тюленьих шкур. Однако многочисленные древние гуары из твердой древесины и модели бальсовых плотов, найденные при раскопках как в Ике, так и в Арике, подтверждают, что эти две области были старейшими доинкскими центрами мореходства на бревенчатых плотах.(18) Капитан де Кадр узнал от одного престарелого мудрого индейца по имени Чепо (ему будто бы было 115 – 120 лет), что Арика и Ика, две важнейшие гавани на побережье ниже Тиауанако, считались особенно удобными исходными пунктами для плаваний к обитаемым тихоокеанским островам. По словам Чепо, индейцы заходили в Арику и Ику, затем шли на запад в Тихий океан и через два месяца достигали необитаемого острова Коату с тремя высокими горами, кишащего птицами. Чтобы попасть на лежащую за ним обитаемую землю, следовало оставить Коату слева и продолжать путь до уединенного острова, называемого Кюэн. Здесь было многочисленное население; главного вождя звали Кюэнтике; кроме него, было еще два вождя – Укинике и Каманике. В десяти днях пути на запад от Кюэна лежал другой обитаемый остров, Акабана. Когда Чепо пригрозили смертью, если он не скажет правду об островах, он стал расписывать капитану великие богатства их. Под конец он по собственной воле добавил, что для плавания использовали дереянные плоты.
Хотя испанцы решили, что Чепо подразумевал Соломоновы острова (так они называли все легендарные острова Южного моря), Амхерст и Томсон(19), издавшие в 1901 году английскую версию старой рукописи, полагали, что индеец пересказал искаженную историю о действительно состоявшемся плавании. В сноске они указали, что Пасха и предшествующий ему голый островок Сала-и-Гомес удивительно похожи на острова, о которых слышал капитан де Кадр.
 Курс на ближайший тихоокеанский остров, по данным инков. Когда испанцы впервые одолели этот путь, они определили, что его протяженность примерно 600 лиг.
Курс на ближайший тихоокеанский остров, по данным инков. Когда испанцы впервые одолели этот путь, они определили, что его протяженность примерно 600 лиг.
Действительно, задолго до плавания Роггевена старик Чепо сообщил испанцам точное навигационное описание пути до острова Пасхи из самой удобной гавани на побережье Южного Перу. Теперь нам известно: чтобы достичь на плоту ближайшего обитаемого острова, надо из Ило или Арики идти сперва на скалистый птичий базар Сала-и-Гомес. Оттуда прямой путь к острову Пасхи. Плавание с попутным пассатом вдоль южной внешней части Перуанского течения в самом деле, как утверждал старик-индеец, займет около трех месяцев.
В описании Чепо названы все основные приметы безлюдного Сала-и-Гомеса, над которым издалека видны стаи птиц. Когда идешь с востока, кажется, что из воды торчаn три горы. Уже у первых европейских мореплавателей они считались характерными ориентирами; они настолько бросаются в глаза, что даже на современных картах Сала-и-Гомес подчас обозначают ошибочно в виде трех раздельных островков. В шторм почти весь этот клочок суши исчезает под волнами, и лишь три скалы по-прежнему остаются надежным убежищем для многочисленных птиц. Если из Ило и Арики строго идти на первый обитаемый остров – Пасху, Сала-и-Гомес действительно останется слева. А следующий обитаемый остров за Пасхой – Мангарева.
Не менее интересно имя Кюэнтике, которым Чепо называет главного вождя острова Кюэн: первые испанцы, посетившие Пасху в 1770 году, записали, что вождь у пасхальцев называется теке-теке.(20) Итак, в Южном Пору индейцы точно знали направление и расстояние до острова Пасхи, помнили характерный вид единственного ориентира на этом пути. Такие же сведения Сармьенто услышал в 1000 миль к северу, в Кальяо. Отсюда видно, что древние перуанцы вполне могли определить позицию острова Пасхи с разных точек побережья.
Как известно, внутренние разногласия привели к тому, что экспедиция Менданьи изменила курс, рассчитанный Сармьенто по советам индейцев. Разберемся вкратце, что же произошло. В своем превосходном труде об этой экспедиции Амхерст и Томсон(21) сообщают, что, когда в Перу наладилось организованное управление, томящиеся от безделья испанские авантюристы стали особенно жадно прислушиваться к ходившим среди индейцев и моряков Кальяо рассказам о неведомых островах и даже целом континенте на западе. Кабацкие сплетни превратились в излюбленную тему дворцовых бесед, и Педро Сармъенто де Гамбоа «объявил во всеуслышание, что может определить местоположение островов, о которых местные ученые говорили, что они суть аванпосты южного материка, простирающегося от Огненной Земли на север до широты 15 градусов 5 минут, примерно в 600 лигах от Перу».
Эта последняя цифра верна с небольшой поправкой. Действительно, все считали, что надо идти примерно 600 лиг от Перу. И авторы справедливо напоминают, что провиант экспедиции Менданьи был взят с учетом пути от Кальяо до первого острова. Примечательно, что испанцы, которые двести лет спустя достигли острова Пасхи из Перу, так определяли его положение: «около 600 лиг от Кальяо и примерно столько же от чилийского побережья».(22) Шестьсот лиг – это немногим больше 2 тысяч морских миль, что как раз соответствует расстоянию до острова Пасхи.
Члены экспедиции Менданьи соглашались друг с другом еще в том, что ближайший остров должен лежать точно на западо-юго-западе от порта Кальяо. Достаточно сопоставить отчет Сармьенто с дневниками его противников (официального летописца экспедиции Катойры, руководителя экспедиции Менданьи, первого штурмана Гальего), а также с анонимной рукописью еще одного члена команды, чтобы убедиться – все явно считали, что искомая земля находилась к западо-юго-западу от Кальяо, ибо десять дней (у Гальего – двенадцать) корабли неуклонно следовали курсом(23), который должен был привести их к острову Пасхи. Однако в конце ноября, когда они достигли широты 15 градусов 45 минут, начались раздоры.
Сармьенто, хоть и слыл человеком вздорным, по праву считал себя компетентным в вопросе об островах. Он подчеркивает (Сармьенто пишет о себе в третьем лице), что это он представил правителю Перу «сведения о многочисленных островах и о континенте, находящихся на юге океана, и лично вызвался открыть их именем Его Величества. С этой целью он собрал сведения и изготовил карту… Предполагалось, что они будут следовать курсом запад-юго-запад до 23-го градуса, то есть до широты, определенной Педро Сармьенто…». Если бы намерение Сармьенто искать землю в 600 лигах, или в 2 тысячах морских миль, на западо-юго-западе от Кальяо осуществилось, они пришли бы почти к самому острову Пасхи. Правда, рассчитывая широту острова, он промахнулся на четыре градуса – простительная ошибка, если вспомнить, что первый штурман определил координаты хорошо знакомой гавани Кальяо в 12 градусов 30 минут, а на самом деле они равны 11 градусам 56 минутам.
Так или иначе, дойдя до 15 градуса 45 минуты южной широты, штурман внезапно свернул с прямого курса на остров Пасхи и повел корабли на запад. Сармьенто гневно пишет в своем отчете: «Педро Сармьенто со всей решительностью обратился к генералу (Менданье) по поводу этой перемены курса и при всех сказал ему, что с этим нельзя соглашаться, это нужно отменить, иначе он не совершит открытия и собьется с пути…».
Но молодой Менданья поддержал кормчего, и экспедиция двадцать дней шла примерно вдоль пятнадцатой параллели на запад. Всем было ясно, что штурман свернул с намеченного курса задолго до установленной Сармьенто отметки в 600 лиг, и, однако, никто не возражал. Причина заключалась в том, что Гальего, долго ходивший штурманом у берегов Перу и Чили, получил другую информацию в Кансильерии в Лиме.
Вот как Гальего обосновывал свои действия: «Я следовал вдоль этой широты, так как сеньор Президент сказал, что на пятнадцатом градусе южной широты в 600
лигах от Перу находится множество богатых островов». В итоге штурман повел суда в сердце Полинезии – ведь большая часть архипелага Туамоту, острова Общества, Самоа, Фиджи и другие обитаемые острова группируются в полосе между 10 и 20 градусами южной широты. Вместо того чтобы плыть на уединенный остров Пасхи, экспедиция шла теперь в самую гущу островов Туамоту.
Однако буквально на пороге архипелага, когда оставалось совсем немного до островов Пукапука и Рароиа, штурман опять внезапно повернул и лег на северо-западный курс. В итоге оба корабля прошли через «ворота» между Маркизами и Туамоту. Спустя три недели был замечен остров Нукуфетау в архипелаге Эллис, а на восьмидесятый день плавания экспедиция причалила к одному из Соломоновых островов в Меланезии. Испанцы потратили почти четыреста дней на то, чтобы пробиться обратно в Перу. Встречные ветры и характерные для Полинезии восточные течения вынудили их плыть севернее Гавайских островов.
Двадцать шесть лет спустя вторая экспедиция Менданьи снова вышла из Кальяо и достигла Маркизского архипелага. Так европейцы впервые открыли Полинезию.
Если бы штурман выполнил инструкции Сармьенто, у первой экспедиции Менданьи были бы все шансы открыть остров Пасхи; будь он более последовательным в своих решениях, они попали бы на Туамоту. Из-за колебаний кормчего суда экспедиции прошли мимо ближайших островов и попали в далекую Меланезию.
В принципе и Тупак Юпанки вполне мог дойти до Меланезии; это объяснило бы, откуда взялись чернокожие пленники, доставленные им в Перу. Но скорее можно полагать, что он шел на многочисленных плотах веерообразным строем и обнаружил ближайшие острова. Мы уже видели, что потомки подданных Тупака знали направление и расстояние до Пасхи от Ило и Арики так же хорошо, как от Кальяо; вряд ли можно сомневаться, что кормчие Тупака за два-три поколения до прихода испанцев были осведомлены не хуже.
Следующий за Пасхой обитаемый остров – Мангарева в южной оконечности архипелага Туамоту. Его жители подтверждают, что Тупак со своим флотом доходил сюда. Главные предания островитян посвящены приезду чужеземного короля Тупы. Первым эти рассказы опубликовал английский путешественник Крисчен,(24) который не знал истории инков: »…у мангаревцев есть предание о рыжеволосом вожде по имени Тупа, который пришел с востока на судах неполинезийского типа, напоминающих плот, – очевидно, тут отразилось воспоминание о каких-то перуанских бальсовых плотах».
Известный французский этнолог Риве,(25) цитирующий Крисчена, предположил, что мангаревцы сохранили память о визите Тупака Инки. Питер Бак(26) опубликовал затем дополнительные подробности из древней, так называемой Тирипонской рукописи.
Лет через двадцать после прибытия на остров европейцев Тирипоне, сын мангаревского вождя, сообщал: «Одним из видных посетителей Мангаревы был Тупа. Согласно основным историческим преданиям, он прибыл, когда правили братья короли Тавере и Тарой… Тупа прошел к Мангареве через юго-восточный пролив, названный потом Те-Ава-нуи-о-Тупа (большой пролив Тупы)». И дальше: «…мореплаватель Тупа… подошел к самой Мангареве и бросил якорь в большом проливе Тупы. Он ступил на берег маленького островка Те Кава».
В той же рукописи говорится, что Тупа, прежде чем возвращаться на родину, «поведал мангаревцам про обширную страну… где живет большой народ, управляемый могущественными королями».
Кава, островок в восточной части барьерного рифа, где сошел на берег Тупа, и большой пролив Тупы, где была стоянка его плотов, невольно заставляют вспомнить слова инков про Ава, или Ава-чумби, – один из двух островов, на которых побывал флот Тупака. Второй назывался Ни-на-чумби, то есть Огненный остров – меткое название для острова Пасхи, о котором все первые путешественники, от Роггевена и Гонсалеса до Бичи и других мореплавателей XIX века, писали, что обитатели острова, завидев корабль, разжигали но всему побережью множество костров, и к небу поднимались столбы дыма.(27) Некоторые исследователи предполагали, что название «Огненный остров» относится к островам Галапагос с их дремлющими вулканами. Но инки еще раньше знали Галапагос28, к тому же этот архипелаг был необитаем. «Чернокожих» вполне можно было найти среди мангаревцев; ведь открывший остров Бичи(29) обнаружил среди чрезвычайно пестрого по составу населения людей с такой же темной кожей, как у меланезийцев.
Кстати, темнокожие пленники – единственная примечательная добыча, которую могущественный Инка привез на родину с тихоокеанского острова. Наверно, он вернулся в Перу не менее разочарованный, чем жадный до золота Менданья. Возможно, он возвращался тоже северным маршрутом и там добыл металлический трон и другие сувениры, которые испанцы видели во времена внуков Тупака.
Отсутствие золота и других сокровищ на открытых островах плюс чрезвычайно трудный обратный путь в Перу – вот вероятные причины, из-за которых открытия Менданьи почти двести лет пребывали в забвении, пока во второй половине XVIII века их не повторили другие европейцы. Даже в этом испанские владыки Перу пошли по стопам своих предшественников – инков.
БАЛЬСОВЫЙ ПЛОТ И РОЛЬ ГУАР В АБОРИГЕННОМ МОРЕХОДСТВЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Главным аргументом против установленных Хейердалом в предыдущих главах связей Южной Америки с Полинезией (причем, что самое важное, в этих связях Южная Америка играла активную роль) было отсутствие у аборигенов таких мореходных судов, к каким привыкли в Старом Свете. Хейердалу пришлось организовать экспедицию «Кон-Тики», чтобы доказать, что бальсовый плот пригоден для преодоления больших расстояний в открытом море ничуть не меньше европейских судов.
Впоследствии оказалось, что этот отважный эксперимент произвел огромное впечатление на широкую публику, но не на ученых специалистов. Они укрылись за утверждением, что бальса недолго сохраняет плавучесть, но главное – из самой экспедиции они сделали на первый взгляд справедливый вывод, что с таким судном высадка на полинезийский остров всякий раз сопряжена с риском для жизни.
В этой главе Хейердал не только делает обзор всех известных преданий о бальсовом плоте, но и старается показать, что свежесрубленные бальсовые бревна долго сохраняют плавучесть. А в заключение он описывает эксперимент, доказавший, что бальсовый плот обладает превосходной маневренностью, если верно применять парус и изобретенные древними перуанцами гуары. «Кон-Тики» сел на риф лишь потому, что участники экспедиции не знали секрета инкских и доинкских мореплавателей.
Здесь вместе объединены статья Хейердала в «Саутвестерн джорнэл оф антрополоджи» (т. 11, Э 3, стр. 251-264, Университет Нью-Мексико, Альбукерке, 1955) и доклад, вошедший в «Записки XXXIII конгресса американистов» (Коста-Рика, 1958). При этом сделаны сокращения, которые не отразились на полноте материала.
Современные судостроители и этнологи мало знают и неверно судят о судоходстве аборигенов Перу и прилегающих областей северо-западной части Южной Америки. Причина ясна: местное судостроение основывалось на совсем иных принципах, чем те, которые мы унаследовали от наших предков.
В представлении европейца единственный тип мореходного судна – это наполненный воздухом водонепроницаемый корпус, достаточно высокий и большой, чтобы его не могли захлестнуть волны.
Для древних перуанцев размеры не играли такой роли; с их точки зрения, мореходным было судно, которое вообще не могло быть заполнено водой, ибо открытая конструкция не создавала вместилища, способного удержать воду. Они строили суда типа плотов, обладающие высокой, плавучестью, либо из бальсы и другой легкой древесины, либо из снопов камыша и тростника, связанных в виде лодки. Иногда делали понтоны из наполненных воздухом тюленьих шкур, на которые настилали своего рода палубу.
Человеку, не знакомому с мореходными качествами такого судна, оно может показаться примитивным, громоздким и ненадежным. Вероятно, поэтому широко распространилось ошибочное мнение, что у народов древнего Перу – страны с морским побережьем протяженностью в две тысячи миль и с поразительно высокой культурой – не было мореходных судов и умелых моряков.
Когда я в 1941 году(1) впервые попытался привлечь внимание ученых к возможностям древнеперуанского мореходства, те немногие этнологи, которые знали, что бальсовый плот составлял один из элементов доевропейской культуры, не придавали ему никакого значения; некоторые даже упускали из виду, что эти плоты ходили под парусами. В других частях древней Америки употребление парусов не отмечено. Общий взгляд выразился в приговоре, вынесенном в труде «Антропология доисторического Перу» (1875 год) английским антропологом Хатчинсоном(2), который назвал бальсовый плот «плавучей связкой пробкового дерева». Трое известных современных ученых – американский археолог Лотроп(3), английский историк Минз(4) и английский этнолог, специалист по первобытному мореходству, Хорнелл(5) – опубликовали интересные статьи о древнеперуанских судах и мореходстве, в которых превосходно описали конструкцию бальсового плота. Однако они чисто умозрительно (как мы это увидим дальше) заключили, что бальса впитывает воду, а потому не годится для плаваний в открытом море.
Все эти скороспелые суждения побудили меня получше изучить перуанское судоходство и реабилитировать его, ибо на основании ряда данных я предположил, что перуанские бальсовые плоты доходили до островов Полинезии, до которых от Перу четыре тысячи миль.
Первые записи о перуанском бальсовом плоте сделаны еще до настоящего открытия Инкской империи. Когда Франсиско Писарро в 1526 году вышел с Панамского перешейка во второе плавание на юг вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, его экспедиция встретила в море перуанских купцов далеко от их страны. Главный кормчий Писарро – Бартоломео Руне – пошел вперед, чтобы исследовать берега у экватора, и когда его корабль поравнялся с северными областями Эквадора, испанцы увидели плывущее навстречу им парусное судно, почти не уступавшее по величине их собственному. Судно шло на север; оно оказалось большим плотом, а команду составляли перуанцы – первые перуанцы, увиденные европейцами. Хуан де Сааманос(6) сразу же послал донесение Карлу V; таким образом, этот случай был описан еще до того, как испанцы дошли до Перу. В 1534 году об этом же писал Франсиско де Херес, личный секретарь Писарро. Оба источника сообщают, что бальсовый плот вместе с командой, состоявшей из двадцати индейцев – мужчин и женщин, был захвачен испанцами. Одиннадцать человек бросили за борт, четверых оставили на плоту, а двух мужчин и трех женщин взяли на каравеллу, чтобы сделать из них переводчиков.
Плот оказался торговым, на нем был большой груз. Испанцы определили, что его грузоподъемность 30 тонелес, то есть около тридцати шести тонн; водоизмещение их собственного судна составляло сорок тонн, а команда каравеллы была наполовину меньше команды плота. Испанцы сделали подробную опись груза и обнаружили такие товары, которые могли происходить только из Перу.
По словам Сааманоса, судно представляло собой плоский плот, бревенчатая основа была покрыта тростниковой палубой, поднятой настолько, что груз и команда не смачивались водой.
Бревна и тростник были крепко связаны веревкой из генекенового волокна. О парусах и такелаже Сааманос писал:
«Он был оснащен мачтами и реями из очень хорошего дерева и нес хлопчатобумажные паруса такого же рода, как наш корабль. Отличные снасти сделаны из упомянутого генекена, который напоминает пеньку; два камня, подобных мельничным жерновам, служили якорями».(7)
 Изображения судов на сосуде (культура чиму). Суда камышовые, с двойной палубой, на которой стоят мифические рыбаки и герои. Под палубой видна команда и груз. Ноги внизу символизируют движение судов.
Изображения судов на сосуде (культура чиму). Суда камышовые, с двойной палубой, на которой стоят мифические рыбаки и герои. Под палубой видна команда и груз. Ноги внизу символизируют движение судов.
Руис вернулся с пленниками и добычей к Писарро, и через несколько месяцев новый отряд во главе с Писарро вышел на юго-запад, к северным берегам Инкской империи. По пути к острову Санта-Клара, лежащему в открытом Гуаякильском заливе, Писарро за два дня перехватил пять плотов. Переговоры с командами плотов прошли успешно. Затем он пересек залив и взял курс на перуанский порт Тумбес, откуда были родом некоторые из пленников. Недалеко от берега испанцы увидели идущую им навстречу флотилию бальсовых плотов с вооруженными инками на борту. Поравнявшись с флотилией, Писарро пригласил к себе на корабль нескольких инкских капитанов. С помощью переводчиков (пленников с первого встреченного им плота) он узнал, что эти плоты направлялись к подчиненному перуанцам острову Пуна.
Из бухты вышли другие бальсовые плоты с подарками и провиантом для испанцев. Двоюродный брат Франсиско Писарро, Педро, сообщает, что, продолжая идти на юг вдоль перуанского побережья, экспедиция догнала бальсовые плоты, на которых были драгоценные металлы и одежда местного производства, и все это испанцы забрали, чтобы доставить в Испанию и показать королю.(8)
 Чертеж бальсового плота аборигенов северо-западного побережья Южной Америки.
a – 9 бревен основы, бальса; b – 7 поперечин из бальсы. c – палубный настил, d – бамбуковая хижина с камышовой крышей; e – 9 гуар; g, g' – двуногая мачта из мангровой древесины, на мачте рея с прямоугольным хлопчатобумажным парусом. Длина плота до 24-27 метров, ширина до 7,5 – 9 метров. Грузоподъемность 20-25 тонн.
Чертеж бальсового плота аборигенов северо-западного побережья Южной Америки.
a – 9 бревен основы, бальса; b – 7 поперечин из бальсы. c – палубный настил, d – бамбуковая хижина с камышовой крышей; e – 9 гуар; g, g' – двуногая мачта из мангровой древесины, на мачте рея с прямоугольным хлопчатобумажным парусом. Длина плота до 24-27 метров, ширина до 7,5 – 9 метров. Грузоподъемность 20-25 тонн.
Но еще до того, как Руис у берегов Эквадора захватил первый торговый плот, испанцы слышали от аборигенов Панамы рассказы о перуанском мореходстве. Хронист Лас Касас,(9) сын одного из спутников Колумба, записал, что аборигены Перу располагали бальсовыми плотами, которыми управляли с помощью парусов и весел. Об этом еще до прихода испанцев знал старший сын Комогре, видного панамского вождя, поведавший Бальбоа о могущественном приморском государстве на юге, жители которого выходили в Тихий океан на судах под парусами и с веслами, немногим уступавших по величине испанским.
Подробное описание плотов, принадлежавших жителям приморья Эквадора и Северного Перу, оставили современники Писарро – Овьедо (1535 год), Андагоя (1541 год) и прибывший в Перу в 1543 году в качестве королевского казначея Сарате (1555 год).(10) Все они сообщают, что для плотов брали нечетное количество – пять, семь, девять или одиннадцать – «длинных легких бревен» и связывали их вместе поперечинами, на которые настилали палубу; они также указывают, что плоты передвигались с помощью парусов и весел; отмечают способность самых больших плотов перевозить до пятидесяти человек и трех лошадей; упоминают про особое место на плоту для приготовления пищи.
Андагоя, участник первых плаваний на север и на юг вдоль тихоокеанского побережья, особенно высоко оценил качество генекеновых снастей («крепче испанских») и превосходной хлопчатобумажной парусины.
Рассказывая, как искусно аборигены маневрировали нормальными парусами, Сарате подчеркивает, что плотоводы из Тумбеса в Северном Перу – замечательные моряки (грандес маринерос) и что они причиняли серьезные неприятности испанцам, которых перевозили на своих плотах. Перуанцы развязывали веревки, скреплявшие бревна, и испанцы падали в воду и тонули, а хитрые хозяева плотов – отличные пловцы – спасались.
Педро Писарро, сопровождавший своего двоюродного брата в перуанское приморье, рассказывает, как он сам, Алонсо де Меса, капитан Сото и многие другие конкистадоры, заставив аборигенов везти себя на парусных бальсовых плотах, оказались в воде и еле выбрались на берег.
Другие хронисты той поры, в том числе Сьеза де Леон (1553 год), сообщают, что еще до прихода испанцев перуанцы приморья, «плававшие, как рыбы», заманивали горных инков в море на бальсовых плотах, развязывали бревна и топили своих незадачливых пассажиров. А сами весело перекликались друг с другом, держась за бревна, – вода была их стихией.(11) Итальянский путешественник Джироламо Бенсони(12), приехавший в Перу около 1540 года, опубликовал очень примитивную зарисовку небольшого перуанского бальсового плота из семи бревен, с восьмью пассажирами индейцами. В тексте он сообщает, что мореходные плоты делали из девяти и одиннадцати бревен, с парусами, соответствующими размерам судна.
Гарсилассо де ла Вега(13), который выехал из Перу (он был из рода инков) в Испанию в 1560 году, в своих записях уделяет основное внимание рыбачьему судну из тростника или камыша, пропускавшего воду насквозь. Таких судов было много, они, несомненно, преобладали вдоль побережья Перу. Он сообщает, что на них обычно выходили в море на четыре – шесть лиг (пятнадцать – двадцать четыре английских мили), но, если нужно, и дальше. Гарсилассо добавляет, что для перевозки тяжелых грузов применяли деревянные плоты с парусами.
Испанский хронист Реджинальдо де Лисаррага (14), прибывший в Перу в тот год, когда оттуда уехал Инка Гарсилассо, рассказывает о жителях долины Чикама: «Эти индейцы замечательные мореплаватели; у них есть длинные и широкие плоты из легкого дерева, на которых они выходят в океан. Во время рыбной ловли они удаляются от берега на много лиг». Он пишет также, что купцы из долины Чикама поддерживали сношения с расположенным в 500 милях к северу Гуаякилем; на плотах перевозили продукты моря и другой груз.
О том, как далеко ходили на бальсовых плотах, в частности, во времена Тупака Юпанки, мы рассказали выше; они, во всяком случае, достигали Полинезии.
Один из виднейших первых историков Перу, Бернабе Кобо(15), очень подробно описывает достоинства бальсовых бревен, применяемых для мореходных плотов, и называет аборигенов искусными навигаторами и пловцами. Он добавляет:
«Самые большие плоты перуанских индейцев, живущих вблизи лесов, скажем в портах Паита, Манта и Гуаякиль, состоят из семи, девяти и даже большего числа бревен. Вот как их делают: лежащие рядом бревна связывают лианами или веревками, которые захватывают также другие бревна, положенные поперек. Среднее бревно в носовой части длиннее остальных, дальше в обе стороны от него укладывают более короткие бревна, так что видом и соотношением они придают носу плота сходство с пальцами кисти руки, а корма ровная. Поверх бревен кладут настил, чтобы вода, которая проникает снизу в щели между бревнами, не намочила людей и одежду. Этими плотами индейцы управляют в море с помощью парусов и весел; и есть такие большие плоты, что без труда перевозят пятьдесят человек».
Грубая зарисовка бальсового плота под парусами была сделана голландским адмиралом Шпильбергеном(16) во время его кругосветного плавания в 1614-1617 годах. Шпильберген сообщает, что на этом плоту команда из пяти аборигенов выходила на два месяца ловить рыбу. Улова, доставленного в Паиту, что лежит в 120 милях южнее перуанского порта Тумбеса, хватило, чтобы снабдить провиантом все голландские корабли, стоявшие в бухте. Рисунок Шпильбергена интересен тем, что команда показана в работе. Два индейца заняты парусом, остальные трое маневрируют гуарами – широкими досками, просунутыми в щели между бревнами; не видно ни весел, ни какого-либо руля. Такие выдвижные шверты были освоены европейскими судостроителями только в 1870 году, то есть через двести пятьдесят лет.
В тексте Шпильберген ничего не говорит о гуарах, он лишь заключает, что плот оказался превосходным судном.
Прошло сто тридцать лет, прежде чем навигационные приемы индейцев настолько заинтересовали двух испанских морских офицеров, Хуана и Ульоа, что они решили проникнуть в тайну аборигенных гуар. Они опубликовали превосходный рисунок бальсового плота в море, передав такие детали, как устройство двуногой мачты с парусами и такелажем, расположение рубки в средней части судна, «камбуза» с открытым очагом и запасом воды в кувшинах на корме, размещение выдвижных швертов в носовой и кормовой частях. Хуан и Ульоа решительно утверждали, что индейская команда, хорошо усвоившая искусство маневрирования выдвижными швертами, при любом ветре могла вести бальсовый плот, как обычный корабль.
Они писали: «До сих пор мы говорили только о конструкции и применении плотов, но главная особенность этих судов заключается в том, что они ходят, лавируют и приводятся к ветру ничуть не хуже килевых судов и почти не подвержены сносу. Достигается это с помощью не руля, а другого приспособления, а именно досок длиной три-четыре метра и шириной около полуметра, которые устанавливают вертикально между бревнами основания как на носу, так и на корме.
Погружая глубоко в воду одни доски и поднимая другие, они ходят в бакштаг, приводятся к ветру, меняют галс, ложатся в дрейф – короче, выполняют все маневры, доступные обычным судам. Изобретение, до сих пор неизвестное самым просвещенным нациям Европы… Если погрузить в воду гуару на носу, судно приводится к ветру, если ее поднять, оно пойдет в бакштаг или спустится под ветер. И если погрузить в воду гуару на корме, плот пойдет в бакштаг, а если поднять, он приводится и идет круче к ветру.
Таков способ, с помощью которого индейцы управляют бальсовыми плотами; порой они ставят пять или шесть гуар, чтобы воспрепятствовать сносу, и ясно, что чем глубже в воду погружены гуары, тем больше сопротивление судна с этой стороны, так как гуары выполняют функцию выдвижных килей (подобно позднейшим швертам), применяемых на небольших парусных судах. Способ управления гуарами настолько легок и прост, что, когда плот ложится на нужный курс, дальше пользуются лишь одной из них, погружая или поднимая ее по мере надобности"(17).
Эти древнеперуанские приемы управления судном произвели такое сильное впечатление на обоих авторов, что они настоятельно предлагали перенять их в Европе.
Французский специалист по морским судам Лекалье(18) и его английский коллега Чарнок(19) в своих трудах по истории мореходства (соответственно в 1791 и 1801 годах) еще раз напомнили о наблюдениях, сделанных Хуаном и Ульоа в Эквадоре, и сообщили, что до сих пор только индейцы северо-западных областей Южной Америки управляют своими судами с помощью выдвижных швертов, в Европе же этот способ по-прежнему неизвестен. В своем наставлении французским кадетам Лекалье горячо, но без успеха советовал снабдить гуарами европейские спасательные плоты.
Затем рассказы о перуанской технике мореходства опубликовали знаменитый ученый и путешественник Александр фон Гумбольдт (1810 год) и его английский коллега Стивенсон (1825 год).(20) Стивенсон оставил превосходное описание бальсовых плотов, которые все еще использовали вдоль побережья бывшего государства Чиму вплоть до Хуанчако, южнее Чикамы. На самых больших плотах стояли бамбуковые хижины с четырьмя-пятью помещениями; такие плоты ходили против ветра и течения на сотни миль с грузом 25-30 тонн, не считая команду и ее провиант.
Стивенсон тоже описывает гуары, он говорит о них: «Поднимая или погружая эти доски в разных частях плота, аборигены могут на своем плоту выполнить все маневры, которые выполняют на обычном судне с совершенным такелажем…».
В неизданной рукописи 1840 года английского путешественника Джорджа Блексленда, хранящейся в библиотеке Митчелла в Сиднее, воспроизведена зарисовка бальсового плота из девяти бревен, который управляется только парусами и выдвижными швертами. Блексленд приводит рапорт офицера одного из кораблей Его Величества, встретившего целое перуанское семейство на бальсовом плоту около острова Лобос де Афуэра, примерно в 60 милях от побережья Перу. Индейцы как раз собирались идти против ветра к скрытому за горизонтом материку.
«Они три недели не были в родной деревне и теперь возвращались с грузом сушеной рыбы; семья состояла из девяти человек, с ними были еще собаки и весь скарб… Судно, на борту которого я находился, – шхуна водоизмещением 40 тонн – направилось вместе с ними в тот же пункт, и нас поразило, как круто шел плот против ветра, развивая скорость до четырех-пяти узлов. Некоторое время мы шли рядом и прибыли на следующий день с разрывом в несколько часов… На отдельных участках побережья все морские перевозки осуществляются такими бальсовыми плотами, а в Ламбайеке из-за сильного прибоя только на них можно подойти к берегу. Они перевозят также соль из порта в порт на расстояние 200-300 миль, что еще раз доказывает их надежность».
Французский исследователь мореходства Пари отправился в северо-западную часть Южной Америки, чтобы изучить там бальсовый плот. Он описал этот плот в своем капитальном труде о неевропейских судах, вышедшем в 1841-1843 годах. Сто с небольшим лет назад Пари писал: «В Перу по-прежнему применяют такие же плоты, какие в древности строили аборигены; они настолько приспособлены к местным условиям, что их предпочитают всем другим судам…».(21) Он опубликовал также важный технический чертеж большого бальсового плота с гуарами, однако ему не довелось увидеть плот, маневрирующий в море, поэтому он не совсем разобрался в применении и действии гуар. Пари недоверчиво отнесся к свидетельству Хуана и Ульоа о том, что гуары позволяют плотам делать любые маневры.
Он писал: «Нам не пришлось достаточно наблюдать эти замечательные плоты, чтобы удостовериться, что они в самом деле могут выполнять все эти маневры…». Однако он признавал: «На плотах нет никаких других приспособлений для управления в океане…».
Через несколько лет шведский капитан Скугман(22) видел бальсовые плоты с гуарами далеко в океане на широте Северного Перу и сообщил, что такие плоты заходили на острова Галапагос, лежащие в 600 милях от материка.
Очевидно, гуара, в отличие от гребка или рулевого весла, может применяться только вместе с парусом. Без паруса в гуаре нет смысла.
Американский археолог Лотроп(23) и другие исследователи установили этот факт, который очень важен, если учесть, как много гуар найдено при раскопках погребений в засушливых районах на севере и юге Перу. Изумительно орнаментированные гуары из многочисленных погребений Паракаса и Ики в Южном Перу показывают, что парусные плоты были существенным элементом культуры и в этих южных широтах задолго до появления письменных источников, даже до инков.
Беннет(24) – специалист по археологии Перу – приводит иллюстрацию, на которой изображена доинкская гуара с южного побережья Перу, украшенная замечательной резьбой и росписью. Археологи позволили нам также узнать мелкие, но достаточно существенные детали, не отмеченные ранними хронистами и исследователями, а именно, как крепились найтовы к скользким бревнам и какую форму придавали отдельным бревнам на носу и на корме, чтобы уменьшить сопротивление.
Эту информацию дают крохотные модели плотов – так сказать, «духи» плотов, найденные в большом количестве еще южнее, в погребениях Арики. Речь идет о доисторических изделиях, захороненных за тысячу с лишним лет до прибытия Писарро и первых европейцев; на них видно, что найтовы из пенькового каната или ремней (из тюленьей шкуры) входили в вырезанные по окружности бревен желобки. Видно также, что расположение бревен на носу и на корме приближало обводы к форме лодки, чтобы сопротивление было меньше.
Маленький плот, найденный при раскопках погребений Арики известным археологом, специалистом по Перу, Максом Уле(25), был оснащен квадратным парусом из камыша. Аналогичным парусом до сего дня пользуются горные индейцы на озере Титикака. Эта находка, сделанная на месте примитивного рыбачьего селения и датируемая первым веком нашей эры, побудила Норденшельда(26) заключить, что «на побережье Перу парус, вероятно, был известен до появления гончарного ремесла и ткачества…».
Как мы уже видели у Инки Гарсилассо, на засушливом побережье древнего Перу самым распространенным судном был камышовый плот одиночного рыбака. Парусные деревянные плоты использовались только для перевозки тяжелых грузов и для выхода в океан. В инкские времена главными перуанскими гаванями, в которых сосредоточивались такие плоты, были Паита, Тумбес и другие поселения вблизи больших бальсовых лесов на северном побережье Эквадора. Но вплоть до 1900 года важные порты находились также в Сехуре, Ламбайеке, Пакасмайо и Хуанчако, в 500 милях к югу от Гуаякиля.
Во времена инков на бальсовых плотах плавали еще в 500 милях южнее. На них перевозили в разные области Перу гуано для удобрения с островов Чинча в районе Писко. Инки даже транспортировали по суше в разные концы своей империи бальсовые бревна для плотов. Когда первый испанский отряд под предводительством Эрнандо Писарро, выйдя из Куско, продолжал движение через Анды, он нашел в нынешней Боливии множество длинных бревен, доставленных туда местными носильщиками. На озере Титикака предполагалось построить бальсовые плоты для Инки Хуайна Капака и его придворных.(27) Таким образом, сочетание исторической и археологической информации дает нам достаточно полное представление о принципах конструкции и о значении примечательного плота, который обеспечил возможность аборигенного судоходства в Перу и в прилегающих областях Тихого океана. Известный американист Лотроп в своем интересном труде «Мореходство аборигенов у западных берегов Южной Америки» хорошо описал бальсовый плот.
Правда, оценивая его ходовые качества, Лотроп утверждал, что бревна «быстро впитывают воду и через несколько недель совершенно теряют плавучесть. Поэтому приходилось время от времени разбирать жангаду (то есть бальсовый плот) и вытаскивать бревна на берег, чтобы как следует их просушить».(28) Лотроп считал, что бальсовый плот был непригоден для заморских плаваний и не мог дойти не только до полинезийских островов, но даже до островов Галапагос, лежащих в нескольких сотнях миль от материка.
При этом Лотроп ссылался на Байема – английского путешественника XIX века, совсем не знавшего бальсовых плотов.(29) В книге Байема, изданной в 1850 году, читаем, что парусник, на котором он шел, встретил бальсовый плот в районе Кабо Бланке (Северное Перу). Плот шел вдалеке, курсом на юг, борясь с встречным ветром. Капитан парусника рассказал Байему, что такие плоты лавируют лучше, чем европейские китобойцы, но через несколько недель утрачивают плавучесть, их приходится вытаскивать на берег и сушить.
На основании этих сведений Лотроп и сделал вывод, что бальсовый плот неспособен находиться в море достаточно долго и, следовательно, совершать большие плавания. И он предположил, что Тупак Инка со своей армией не ходил дальше района, лежащего к северу от Гуаякиля.
Но в целом труд Лотропа был настолько основательным, что после него мало кто из этнологов углублялся в этот вопрос. Дополнительный материал представил Минз – крупный английский авторитет по инкской истории – в опубликованной в 1942 году интересной статье «Доиспанское мореходство у Андского побережья».(30) Однако он отчасти опирается на Лотропа и в своей умозрительной оценке бальсового плота разделяет его негативную точку зрения: «несомненно, этот тип судна мог вызвать только презрение у судостроителей едва ли не любой другой мореходной нации мира». Минз заключает: «Итак, мы вправе сделать вывод, что в перуанском аборигенном мореходстве до завоевания страны испанцами плот из бальсовых бревен с парусами, рубкой и грузовым помещением был наименее презираемым и наименее несовершенным среди известных судов. Что и говорить, невелика похвала, но таковы факты, а лучшего отзыва не заслуживает судостроительное искусство древних жителей Андской области, совершенно чуждое морю».
Хорнелл – известный специалист по древним судам и мореходству аборигенов – в 1945 и 1946 годах тоже обращается к этой теме в статьях «Были ли контакты между народами Океании и Южной Америки до Колумба?» и «Как попал батат в Океанию?». Хорнелл не сомневается в том, что древние перуанцы оказывали влияние на земледелие полинезийских островов, но избегает поспешно судить о бальсовом плоте. И, однако, все-таки он считает: «Обыкновенный, ничем не обработанный бальсовый плот не мог совершить дальнего океанского плавания, разве что инкские моряки знали способ пропитки гигроскопичных бревен каким-то водоотталкивающим составом…». Хорнелл допускал, что древние перуанцы растворенным каучуком, смолой или воском смазывали бревна и благодаря этому могли плавать до Восточной Полинезии.
Такая убежденность американистов, которые теоретически изучили основные принципы перуанского судостроения, повлияла двояко на современных этнологов. Этнологи, заклеймив мореходные качества бальсового плота и считая его «немореходным», тем самым лишили аборигенов Перу важнейшего навигационного средства и составили представление о них как о чуждом мореходству, сугубо сухопутном народе. Это однобокое представление о ранних высокоразвитых культурах тихоокеанского побережья Южной Америки внедрилось как в специальную, так и в общую литературу и повлияло на изучение узловых проблем полинезийской этнологии.
В 1932 году видному знатоку Тихоокеанской области Диксону удалось показать, что батат вместе с его кечуа-перуанским названием «кумара» был доставлен человеком из Перу в Полинезию до прихода испанцев в Южную Америку. Указывая на бальсовый плот, он предположил, что переносчиками батата были перуанские или иные американские индейцы. В том же году Лотрон опубликовал свой упомянутый выше обзор перуанского судоходства, а двумя годами позже Диксон в новой статье вернулся к этому вопросу. Теперь он писал:
«Так как у нас нет никаких свидетельств, что у индейцев тихоокеанского побережья Южной Америки, где возделывался батат, когда-либо были суда или навыки дальних морских плаваний, приходится заключить, что переносчиками растения были полинезийцы».(31) Известный американский специалист по археологии Полинезии Эмори(32) писал в 1933 году по поводу древних мегалитических сооружений на острове Пасхи, островах Общества, Маркизских, Гавайских, Тубуаи и Тонга: «Вполне правомерно предположить американское происхождение такого специализированного элемента культуры, как эта каменная кладка. Это очень характерный элемент, и сосредоточен он в той части Америки, которая находится ближе всего к Полинезии и откуда течения устремляются по направлению к острову Пасхи и архипелагу Туамоту… Разве не мог какой-нибудь мореходный плот ранних инков, подхваченный этим течением, доставить уцелевших за 2 тысячи миль на остров Пасхи на западе?».
Но в 1942 году в одной из своих последующих статей Эмори(33) отказался от этого взгляда, ибо, как он говорил, Диксон смог убедить его, что бальсовый плот тихоокеанского приморья Южной Америки быстро пропитывается водой. В свою очередь Морган(34) в 1946 году ссылается уже на Эмори, который сообщил ему, что «бальсовые плоты в несколько дней пропитываются водой, если их не вытаскивать на берег для просушки».
К этому времени негативное суждение о бальсовом плоте стало аксиомой, и Питер Бак(35) в 1945 году в своем «Введении в полинезийскую этнологию» сбросил со счетов половину прилегающих к Тихому океану областей, заявив: «Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов, их никак нельзя считать переносчиками элементов культуры».
Столь же убежденно американский этнолог Уэклер(36) писал в 1943 году в монографии «Полинезийские первооткрыватели Тихого океана»: »…у американских индейцев не было морских судов, способных на такие переходы, как плавание в Полинезию».
Этот взгляд так утвердился среди американистов и тихоокеанистов, что, когда я попытался оспорить его в 1941 году, моя статья, как и следовало ожидать, не вызвала отклика. Стало очевидно, что есть лишь один способ решить вопрос: построить такое же судно и проверить его на деле.
В 1947 году я организовал и возглавил экспедицию «Кон-Тики».
Плот, названный «Кон-Тики», был сделан из девяти бальсовых бревен двухфутокой толщины, длиной от 30 до 45 футов; среднее бревно было самым длинным. Основа была связана с поперечинами, на которых лежал бамбуковый настил и стояла открытая надстройка. Конструкцию довершали двуногая мачта с прямым парусом, пять гуар и рулевое весло. 28 апреля 1947 года плот вышел из Кальяо с командой, состоящей из шести человек; спустя девяносто три дня он миновал первые обитаемые полинезийские острова. Пройдя за 101 день 4300 миль, «Кон-Тики» сел на риф атолла Рароиа в архипелаге Туамоту; при этом команда не пострадала, а груз был спасен почти полностью.
Цель экспедиции заключалась в том, чтобы практически изучить и проверить качества и возможности бальсового плота, а также получить ответ на старый спорный вопрос: были ли острова Полинезии досягаемы для плотоводов древнего Перу?
Судно продемонстрировало замечательные мореходные качества и отлично доказало свою способность перевозить тяжелые грузы в открытом океане. Из всех его ценных свойств нас больше всего удивила и поразила исключительная надежность и остойчивость при любой погоде. Кроме способности справляться с волнами, стоит, пожалуй, назвать грузоподъемность. Впрочем, тут нечему удивляться, ведь еще первые испанцы описывали бальсовые плоты, перевозившие больше тридцати тонн.
Теоретики отрицательно отозвались о плавучести бальсового плота, ссылаясь на то, что из-за гигроскопичности бальсы он-де без регулярной просушки затонет. Кроме того, считали, что найтовы, соединяющие бревна и всю остальную конструкцию, будут истерты при качании бревен на волнах. О легкой пористой древесине говорили, что она не выдержит сосредоточенной в центре нагрузки (команда и груз), если нос и корму одновременно поднимет двумя волнами. Наконец, при высоте надводного борта всего полтора фута команда и груз на открытом плоском плоту окажутся не защищенными от океанских волн.
Наш опыт дал ответ на эти вопросы и показал, что у представителей древних культур Перу и Эквадора были все основания создать именно такой тип мореходного судна.
Поступающая в продажу сухая бальса чрезвычайно гигроскопична и не подходит для строительства плотов, но древесина только что срубленных стволов еще насыщена соком и почти не впитывает морской воды. Правда, вода постепенно проникает в просушиваемые солнцем внешние слои, но внутрь ее не пускает сок. Когда «Кон-Тики» через год после экспедиции вытащили на берег для консервации, он еще мог поднять не одну тонну груза.
Бальсовые бревна не истирали найтовы по той простой причине, что их поверхность стала мягкой, губчатой, и веревки оказались словно утопленными в пробке. Двухфутовой толщины было достаточно, чтобы бревна устояли против двух штормов, во время которых волны вздымались выше плота; они выдержали даже столкновение с рифом в Полинезии.
Секрет надежности и остойчивости открытого бальсового плота, несмотря на незначительную высоту надводного борта, объясняется его исключительной способностью прилаживаться к волне. Плот переваливал через грозные горы воды, которые подмяли бы почти любое другое малое судно. Вторая причина – гениальная конструкция, благодаря которой вода тотчас уходила, как сквозь сито. Ни могучие валы, ни разбивающиеся ветровые волны не могли застичь плот врасплох; результатом было чувство безопасности, какого не дает никакое другое открытое или малое судно. Больше того, низкий борт и обеспечиваемая независимыми креплениями гибкость конструкции позволили посадить плот прямо на риф с подветренной стороны коварного архипелага Туамоту.
Во время плавания было проведено несколько опытов с упоминавшимися выше выдвижными швертами, которые индейцы называют гуарами. Выяснилось, что пяти надежно укрепленных гуар шириной в два фута и длиной в шесть футов достаточно, чтобы плот мог идти почти под прямым углом к ветру. Подтвердилось также, что править плотом можно без рулевого весла, если поднимать или опускать гуару на носу или на корме.
Однако попытка идти галсами против ветра кончилась полной неудачей, и команда склонилась к общепринятому взгляду, что перуанский бальсовый плот, подобно любому другому плоскодонному плоту, может ходить только в общем направлении попутного ветра.
Но последующие исследования, проведенные после экспедиции, убедили меня, что наша неудача объясняется скорее незнанием забытых приемов, чем несовершенством системы, которую так долго с успехом применяли инки. Это подтвердилось во время второго эксперимента с плотом, проведенного в 1953 году у берегов Эквадора.
Гуары бальсовых плотов заметно отличаются друг от друга размерами (в зависимости от величины и типа судна) и материалом, из которого они сделаны. Обычная длина гуары 1,25-2 метра, ширина 10-25 сантиметров; правда, в районах, прилегающих к лесным массивам Эквадора, известны гуары длиной до 3,5 метра и шириной 0,5 метра. Гуары представляют собой прямоугольные доски с выступом или вырезом в верхнем конце.
Если для изучения древнеперуанских судов мы располагали только записками хронистов, схематическими изображениями в аборигенном искусстве и «духами плотов», то для знакомства с гуарами к нашим услугам есть подлинные экземпляры, которыми пользовались древние мореплаватели.
Такие гуары, чаще всего вырезанные из твердой и прочной древесины перуанского альгарробо, принадлежат к наиболее многочисленным находкам в доиспанских погребениях на побережье Перу. Есть мастерски выполненные гуары, которые представляют художественную ценность, и многие из них являются гордостью перуанских разделов музеев всего мира. Но большинство гуар сделано просто, без всяких украшений, а так как представляющие чисто прикладной интерес изделия не привлекали кладоискателей, они часто бесследно исчезали.
Пожалуй, можно сказать так: соотношение между профессиональной археологией и простым кладоискательством на перуанском побережье прямо пропорционально соотношению примитивных и богато украшенных гуар или соотношению между гладкой перуанской керамикой и красующимися в музеях декорированными фигурными сосудами.
Наиболее искусно обработаны гуары из районов Писко, Паракас и Ика в южной части побережья Среднего Перу. Но и здесь при раскопках находят примитивные, грубо сделанные гуары из альгарробо. Если на резных гуарах из района Чиму на севере Перу мы обычно видим только изображение одной птицы или одного животного на нерабочей части рукоятки (как и на местных веслах), то на лучших образцах из Паракаса резные или рисованные изображения птиц, рыб, людей или символические орнаменты расположены в два-три ряда. Часто верхний ряд составляют
фигуры шести – восьми мужчин, которые стоят бок о бок, держась за руки так, что получается волнообразная линия.
Высказывались предположения, что некоторые гуары с особенно тщательно вырезанными украшениями были ритуальными эмблемами ранга; вероятно, это так и есть. Однако я не видел еще ни одного образца, который нельзя было бы использовать по прямому назначению: в каждом случае взята достаточно твердая древесина, а резные изображения размещены так, что они не мешают пользованию гуарой. Резьба, как правило, ограничивается рукояткой; в редких случаях орнамент спускается ниже, тогда он нанесен на боковую грань, и доска все равно может свободно ходить в прорези или щели между мягкими бальсовыми бревнами.
Характерно, что резьбой в основном покрывали только ту часть гуар, которая оставалась на виду над палубой, а погруженную часть, скрытую от глаз команды и пассажиров, не украшали.
Естественно было ожидать, что чисто ритуальный предмет будет украшен во всю длину, подобно рукояткам обрядовых топоров или жезлам. Учитывая функции гуары, верхняя часть которой, а также рукоятка остаются на виду и не изнашиваются (к ним лишь изредка прикасается рука), можно уверенно предположить, что подавляющее большинство даже наиболее богато орнаментированных образцов использовалось по прямому назначению – вероятно, более высокопоставленными членами общины.
Когда в конце прошлого столетия в музеи и частные коллекции впервые поступили полученные при раскопках искусно обработанные доски из Писко, их считали просто замечательными образцами доинкской резьбы по дереву. И хотя Гретцер – специалист по Перу – в 1914 году заключил, что речь идет о морских гуарах, до недавнего времени мало кто задумывался над подлинным назначением этих досок.
Гретцер, проживший не один десяток лет в приморье Перу, имел полную возможность наблюдать уже уходящие в прошлое бальсовые плоты с гуарами, которые, как и в далекие времена, по-прежнему перевозили тонны сушеной рыбы на север, в Эквадор, а там забирали строительный лес и другие грузы. При раскопках в долинах Писко и Ики он сразу же определил назначение обнаруженных гуар, которые хранятся теперь в Берлинском музее этнографии. Гретцер видел в этой находке убедительное доказательство того, что жители приморья уже и доинкские времена регулярно выходили в океан и совершали плавания, подобные тем, которые засвидетельствовали испанцы.
Тому, кто незнаком с замечательными мореходными качествами инкских камышовых и бальсовых плотов, может показаться, что жители побережья делали только первые шаги в судоходстве. На самом деле древние перуанцы хорошо знали однодеревки и лодки с нормальным корпусом, и все-таки они предпочитали пользоваться своими судами, изумительно приспособленными к местным географическим условиям.
Широко распространившееся мнение, которое недооценивало якобы примитивные лодки из камыша тотора и бальсовые плоты, возможно, было одной из причин того, что поразительно мало внимания уделялось источникам, которые трактуют вопрос о мореходстве аборигенов. Даже после публикации Гретцера нередко можно было увидеть в музеях перуанские гуары с бирками «ритуальные лопаты» или что-нибудь в этом роде, хотя каждый мог убедиться, что гуары не подходят для земляных работ. По мере роста количества находок в раскопах становилось все более ясно, что эти своеобразные доски – какая-то часть морской оснастки, ибо в погребениях они обычно лежали вместе с рыболовными снастями или иными предметами, указывающими скорее на морской промысел, чем на земледелие. Бросалось также в глаза, что узоры на рукоятках гуар и местных веслах повторяют друг друга. Поэтому в последнее время гуары чаще всего экспонировали с бирками: «весло особого рода» или даже «руль».
Между тем достаточно взглянуть на рукоятку, чтобы сразу понять, что это своеобразное изделие не могло быть ни тем, ни другим. Главное свойство весла – безупречный баланс; рукоятка должна венчать вертикальную ось, чтобы лопасть не поворачивалась во время гребка. А рукоятка гуары совсем не сбалансирована, она расположена с самого края, поэтому грести такой доской невозможно. И нигде не ухватишься для баланса второй рукой. На большинстве гуар южного побережья есть прорезь для пальцев – что-то вроде ручки обычной сумки.
Очевидно, что специализированная рукоятка гуары рассчитана только на вертикальный подъем и опускание широкой доски одной рукой, а не на сбалансированные гребки двумя руками. Столь же мало рукоятка гуары годится на роль румпеля. Совершенно ясно, что гуары по своему назначению не могут быть сравнимы ни с какими частями оснастки европейских плавучих средств.
Однако эти археологические свидетельства, а также описания и зарисовки европейских путешественников, которые сами видели гуары на плотах аборигенов, так и не стали всеобщим достоянием к тому времени, когда в Европе – кстати, довольно поздно! – начали оснащать суда швертами.
Лотроп сообщает, что в 1710 году в Англии провели опыты с выдвижными швертами на некоторых типах малых судов. По-настоящему они стали применяться в Англии и США с 1870 года. До тех пор европейские моряки использовали только выдвижные кили, единственное назначение которых было препятствовать сносу.
Когда мы в 1947 году оснастили «Кон-Тики» гуарами, все этнологи и знатоки морского дела единодушно утверждали, что они не помогут управлению плотом. И хотя члены экспедиции установили, что с пятью действующими гуарами можно изменять курс и идти почти под прямым углом к ветру, все наши попытки развернуться и плыть против ветра оказались безуспешными.
В 1953 году благодаря любезной помощи эквадорского археолога Эмилио Эстрады оказалось возможным продолжить опыты с бальсовым плотом нормальных размеров в районе залива Плаияс в Эквадоре, где местные рыбаки и поныне используют маленькие, связанные из трех бревен плоты типа бразильской жангады.
На этот раз удалось до конца раскрыть секрет инков, ходивших на своих плотах против ветра.
Это оказалось очень просто. Команда, в которую входили Эстрада, американский археолог Рид, его норвежский коллега Шельсволд и я, установила, что, если в момент поворота, когда ветер дует перпендикулярно продольной оси плота, быстро развернуть парус и так же быстро изменить соотношение погруженной площади гуар на носу и на корме, плот послушно развернется и пойдет против ветра.
Самое главное заключается в том, чтобы согласовать движения при повороте реи и подъеме или погружении гуар. Чтобы рею можно было свободно повернуть, она должна быть закреплена в точке соединения мачты-бипода. После того как был открыт способ разворота плота, оставалось лишь регулировать гуары, и плот без труда шел против ветра, лавируя под таким же углом, как обычные парусные суда. При новом курсе опять-таки только соотношение между погруженными гуарами на носу и на корме определяло направление хода.
Итак, теперь нам известно, что технически нет никаких пределов дальности плаваний древнеперуанских судов в Тихом океане. Следовательно, нет ничего неожиданного в том, что передовой отряд Писарро встретил бальсовый плот, направлявшийся в Панаму. И мы вправе строить самые смелые предположения о развитии мореходства у жителей перуанского побережья после появления, еще в доинкские времена, гениального изобретения – гуар. (V)
РАСКОПКИ НА ОСТРОВАХ ГАЛАПАГОС
Хейердал показал, что индейцы располагали и судами, и навигационными навыками, позволяющими им достичь островов Южного моря. Надо было найти след их присутствия там, будь то в виде элементов культуры или археологического субстрата. С самого начала Хейердал ищет объяснение определенным элементам культуры и уже на протяжении многих лет привлекает в помощь археологию. Он организовал две археологические экспедиции, первую – на острова Галапагос, лежащие всего в 600 милях от побережья Перу и Эквадора.
Читатель уже знает, что архипелагу придавалось большое значение при толковании инкских преданий. Засушливая природа этих вулканических островов обусловила их необитаемость.
В разных местах Галапагоса археологи экспедиции раскопали много черепков аборигенной керамики и некоторые другие предметы индейского происхождения. Находки были отправлены в Национальный музей США в Вашингтоне. Там определили, что они представляют разные индейские культуры приморья древнего Перу и Эквадора. Многие предметы явно были изготовлены не только до прихода испанцев, по и до возникновения инкского государства.
Позднее Хейердалу пришлось спорить со своими противниками, которые утверждали, что найденные изделия были доставлены на Галапагос пиратами, ограбившими перуанские погребения. Но, во-первых, никто не слышал о том, чтобы пираты грабили перуанские погребения, во-вторых, среди находок преобладали черепки гладкой, лишенной украшений посуды. Такая посуда представляла для флибустьеров столь же малый интерес, как обнаруженные наряду с черепками пряслице, свистулька из обожженной глины и примитивные орудия из кремня и обсидиана.
К тому же многие черепки относились к типам керамики, характерным исключительно для обитателей приморских лесов Эквадора, куда пираты вообще не забирались. И наконец, черепки перуанской и эквадорской посуды найдены в разных точках нескольких островов Галапагоса. Все это подтверждает вывод, к которому пришли специалисты из Национального музея в Вашингтоне: археологические находки на Галапагосе доказывают, что индейцы Южной Америки на протяжении долгого времени до прихода европейцев часто посещали архипелаг.
В основу этой статьи лег доклад, прочитанный на X Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу, проходившем с 21 августа по 6 сентября 1961 года. Сокращено только то, о чем подробно говорилось в предыдущих главах.
До недавнего времени считалось, что острова Галапагос были недосягаемы для судов аборигенов как Южной Америки, так и Полинезии, поэтому здесь не велось никаких археологических работ. Правда, в XVI – XIX веках: немало европейцев, лично видевших управляемые гуарами бальсовые плоты, считали, что аборигенные суда из Перу и Эквадора могли дойти до Галапагосов, но на рубеже XX века, когда бальсовые плоты исчезли совсем, забыли и о замечательных свойствах этих местных судов.
Все дискуссии о возможности доиспанских посещений Галапагосов определялись предвзятым отношением авторов к плотам. В специальной литературе распространились ошибочные взгляды, и у археологов уже не было стимула изучать необитаемые засушливые острова Галапагосы.
Так, известный путешественник В. фон Хаген утверждал: «Инка (Тупак) плыл куда угодно, только не на Галапагосы».
Опираясь на якобы авторитетные заявления о том, что обитатели Андского приморья были «совершенными невеждами» в вопросах мореходства, он считал высадку Инки на острова Галапагосы «явно невозможной».
Дальнейшие события показали, что современное суждение о бальсовых плотах было в корне ошибочным. Начиная с 1947 года мимо Галапагосов прошло пять парусных плотов из Перу. Один из них с командой из трех мужчин и одной женщины, во главе с перуанским композитором чешского происхождения Ингрисом, сперва пристал к острову Исабела в архипелаге Галапагос, а затем попал в полосу штилей, где его и подобрали. Остальные четыре дошли до Восточной, Центральной и Западной Полинезии.
Еще важнее оказались новые эксперименты с гуарами, проведенные Эстрадой, Ридом, Шельсволдом и мной в 1953 году на бальсовом плоту у побережья Эквадора. В результате было выяснено, как действует это чрезвычайно остроумное навигационное приспособление, и ранее дискредитированные источники были реабилитированы. При правильном соотношении действующей площади гуар на носу и на корме плот разворачивается кругом и ложится на любой нужный курс независимо от направления ветра.
Другие опыты показали, что плоты из свежей бальсы полностью сохраняют плавучесть до двух лет, а то и больше. Короче говоря, острова Галапагос были вполне достижимы для аборигенов Перу и Эквадора.
Учитывая все это, автор в 1953 году организовал экспедицию на Галапагосы с целью археологических исследований. В экспедиции участвовали археологи Рид (главный археолог Национальных парков США) и Шельсволд (ныне хранитель собрания древностей университета Осло). Мы не собирались досконально изучать архипелаг, даже отдельные его острова, а сосредоточили свое внимание на местах, пригодных для стоянок и доступных для аборигенных судов.

Острова Галапагоские.
На трех островах было найдено четыре зоны доиспанских стоянок, наиболее крупная – на острове Сантьяго, где на плато выше залива Джемса мы обследовали восемь стоянок. Горный гребень отделяет их от зоны у бухты Пиратов. Две другие зоны обнаружены на острове Санта-Крус, у Китовой бухты, и на Черном берегу острова Флореана. Еще одну доисторическую стоянку открыли уже в 1954 году на острове Санта-Крус, возле Кабо Колорадо, американские участники Диснеевской экспедиции на Галапагосы – Куффер и Холл.
На этих стоянках был собран 1961 черепок минимум 131 сосуда аборигенной керамики. Ученые считают, что сорок четыре сосуда несомненно и еще тринадцать сосудов предположительно представляют собой известную посуду приморья Эквадора и Северного Перу. Из остальных семидесяти четырех сосудов шестьдесят семь не опознаны только потому, что материал недостаточно характерен, а семь сосудов не удалось точно определить, даже несмотря на вполне отчетливые приметы.
Они относятся к типам керамики, которых не находили больше нигде в мире. Американские специалисты разделяют типы южноамериканской керамики по составу и качеству глины, степени обжига, форме и обработке поверхности сосудов. Каждый тип керамики получил название, как правило, по месту первой находки; эти сосуды производились исключительно в пределах распространения данной индейской культуры, то есть в определенной географической области и на протяжении определенного времени, пока не появлялся новый тип изделия, который полностью вытеснял предшествующий. Поэтому черепки сосудов исключительно важны для определения перуанских и эквадорских культур, особенно в таких областях, как Галапагос, где почва и климат не благоприятствуют сохранению органического материала – скелетов, дерева и тканей. Керамика принадлежит к немногим доисторическим материалам, которые остаются неизменными, если не считать, что она может разбиться на мелкие куски. «Ла-Плата фигурная», «Сан-Хуан фигурная» и так далее
– названия типов доисторической керамики с побережья Перу. Керамика, именуемая «Тиауанакоидная», относится к тому времени, когда влияние доинкской культуры тиауанако распространилось от горных областей до побережья Тихого океана.
Образцы керамики, добытые при раскопках на Галапагосах, исследованы и определены Эвансом и Меггерс, крупнейшими знатоками бытовой керамики индейцев эквадорского и североперуанского приморья, сотрудниками Смитсонова института в Вашингтоне.
На некоторых стоянках были собраны черепки только перуанских изделий, на других получен и перуанский, и эквадорский материал.
Керамика «Ла-Плата фигурная» представлена тремя сосудами с двух стоянок на берегу залива Джемса; «Сан-Хуан фигурная» – одним сосудом с третьей стоянки на том же берегу; «Кенето лощеная гладкая» – двумя кувшинами из двух раскопов в районе залива Джемса; «Тиауанакоидная» – тремя изделиями из двух мест на берегу залива Джемса. В этом же районе найден один сосуд «Сан-Николас фигурный».
К типу «Томавал гладкая» принадлежат минимум пятнадцать сосудов из районов залива Джемса, бухты Пиратов, Китовой бухты и Черного берега; еще пять сосудов с трех стоянок предположительно отнесены к этому же типу. Керамика «Кастильо гладкая» представлена по меньшей мере десятью кувшинами из районов залива Джемса, Китовой бухты и Черного берега. На Черном берегу найдена также глиняная свистулька типа «Мочика». Еще шесть сосудов предположительно определены как «Кастильо гладкая».
Остальные поддающиеся определению кувшины представляют собой характерную доиспанскую бытовую керамику района Гуаяс (Эквадор). Весь материал подробно описан Шельсволдом и мной в «Записках Общества американской археологии», Э 12.
Если не считать трех сосудов сложной формы ранее неизвестного неевропейского вида, представленных 377 черепками (край, ручка, тулово) очень тонкой керамики с толстой красной глазурью, явно новых типов не обнаружено. Иначе говоря, с научной точки зрения собранный материал не представляет собой типологической ценности. Его значение заключается всецело в том, что он найден на островах Галапагосы, в 600-1000 миль от материка.
Естественно, возникает вопрос: не могла ли часть этих изделий попасть на Галапагос после Колумба? Остановимся вкратце на истории архипелага.
Острова Галапагос были открыты европейцами случайно в 1535 году, когда испанский епископ Томас де Берланга, плывя из Панамы в Перу, был подхвачен мощной струей комбинированного течения Эль Ниньо и Гумбольдта. Мореплаватели провели день на одном острове, еще два на другом, тщетно разыскивая пресную воду, после чего ушли. С большим трудом испанцам удалось пробиться в Эквадор, идя против устремленного на запад сильного течения. Поскольку епископ шел из Панамы, он и его спутники вряд ли могли доставить на Галапагосы керамику аборигенов Перу или Эквадора.
Второе посещение архипелага состоялось в 1546 году, когда капитан Диего де Риваденейра украл в Арике (Чили) корабль и направился в Гватемалу. Он вновь открыл Галапагосы. безуспешно пытался в поисках питьевой воды подойти к одному из меньших островов и пошел дальше. Таким образом, и эти гости непричастны к черепкам, о которых идет речь.
Мы знаем, что во второй половине XVI века в водах архипелага Галапагосы появлялись отдельные испанские каравеллы, но известно также, что моряки не задерживались на этих необитаемых островах, где не было ни фруктов, ни воды. Возможно, на борту некоторых каравелл были индейцы и они сходили на берег, захватив с собой кувшины, и, возможно, они уронили несколько штук, но маловероятно, что они доставили на берег 131 кувшин и все до одного разбили. Да и не могли они привезти столь разную посуду, представляющую совсем различные географические районы и культурные периоды древнего Перу и Эквадора.
Хотя эти острова уже в 1570 году появились на карте (Орбис Террарум) фламандского картографа Ортелиуса под названием Галапагосских, для испанцев уединенный архипелаг в коварном Перуанском течении долго оставался «Лас Ислас Энкантадас» (Заколдованными островами).
Ортелиус нанес архипелаг Галапагосы на карту на основании соответствующей информации, полученной от своих коллег в Севилье. Кроме того, был известен отчет штурмана корабля, на котором плыл епископ Берланга. Название «Заколдованные острова» дал архипелагу капитан Диего де Риваденейра, так и не сумевший высадиться на них. Спасаясь от гнева короля, Диего направился вдоль экватора на запад, чтобы найти землю, о которой сообщал Берланга.
Он достиг архипелага, но из-за сильнейших течений корабль то сбивался с курса, то попадал в опасные места. Несколько дней испанцы тщетно пытались пристать к берегу и в конце концов решили, что острова перемещаются по поверхности моря. Отчаявшись покорить эти «непостоянные и нереальные острова», Диего сдался и окрестил их «Заколдованными».
В 1680 году в этих водах ходил английский пират Шарп. Коварные течения и ему не дали высадиться на берег. Он вел корабль сперва вдоль побережья курсом на Перу, но на широте Пунта Паринья свернул в открытое море, чтобы избежать встречи с испанцами. Там, где течение Гумбольдта устремляется в сторону Галапагосов, во время сильного шторма пираты встретили идущий под парусами бальсовый плот с товарами. Лоцман посоветовал Шарпу не состязаться с аборигенами, «так как еще не известно, удастся ли нам их догнать…».
Шарп рассказывал, что у бальсовых плотов «отличный ход», причем некоторые из них так велики, что из приморских долин Перу доставляют в Панаму по двести пятьдесят тюков муки, не замочив ни одного. (Это свидетельствует о том, что индейцы, во всяком случае до конца XVII века, продолжали перевозить грузы из Перу в далекую Панаму на больших морских плотах, о которых писали уже первые испанские путешественники. Капитан шведского фрегата «Евгения» Скугман также сообщает, что аборигены плавали на бальсовых плотах не только в прибрежных водах. Скугман встретил индейцев в океане в районе Северного Перу; они вели плот с помощью гуар. Шведский капитан прямо говорил, что бальсовые плоты того времени ходили на Галапагосы.) В 1684 году, через четыре года после тщетной попытки Шарпа, европейцам впервые удалось на некоторое время утвердиться на Галапагосах. Группа английских пиратов – Каули, Дампир, Девис, Уофер, Рингроуз и Джон Кук – на двенадцать дней остановилась в бухте Джемса (на острове Сантьяго), чтобы разделить добычу. В Британском музее хранятся записки Каули, где подчеркивается, как трудно было добраться до архипелага: «…мы пошли на запад, чтобы попытаться найти острова, известные под названием Галиполус, а испанцы подняли нас на смех, они называли их заколдованными островами и говорили, что никто, кроме капитана Пориальто, их не видел, да и то он не мог подойти к ним вплотную и бросить якорь – ведь это призраки, а не настоящие острова».
Любопытно, что в 1684 году пираты оставили на берегу бухты Джемса не совсем обычную добычу – восемь тонн конфитюра из айвы. Вице-король Перу обнаружил пиратское гнездо, и огромные кувшины были разбиты. На плато до сих пор встречаются черепки толстых формованных на гончарном круге «испанских кувшинов». Впервые их обнаружил там английский капитан Коулнетт в 1798 году.
Интересно, что и мы видели некоторые из этих черепков. Они торчат в застывшем потоке черной лавы, край которого затопил большую часть долины. Таким образом, стало точно известно, что на острове Сантьяго после 1684 года произошло сильное вулканическое извержение.
В 1700 году на архипелаг прибыла французская экспедиция под руководством Бошан-Гуэна. Она провела там месяц. В 1789 году на островах вновь появились испанцы. Отряд Алонсо де Торреса прибыл на Галапагосы, чтобы исследовать острова и нанести их на карту.
Таким образом, нет никаких оснований полагать, что черепки аборигенной керамики составляли сосуды, которые попали на Галапагосы после прихода европейцев в Южную Америку. Изучая перуанскую керамику, Эванс и Меггере установили, что найденный нами материал восходит к доинкским периодам «Эстеро», «Ла-Плата» и «Томавал» на материке. Это значит, что черепки, по крайней мере с двух стоянок, датируются временем культуры приморская тиауанако.
Черепки 131 аборигенного сосуда, найденные на Галапагосах, свидетельствуют о немалой активности людей в этом районе задолго до появления здесь колонизаторов. Само собой разумеется, наше беглое обследование не могло выявить всех стоянок и вскрыло лишь незначительную долю материала. Причем из-за скудости почвенного слоя на прибрежных скалах значительная часть следов былых посещении, конечно, смыта в море.
Не менее очевидно, что это были кратковременные посещения островов, а не постоянные поселения, от которых остались бы более мощные слои и более однородная посуда. Вряд ли здесь могло независимо от родины развиться гончарство, точно повторяющее материковую керамику
– от «Кастильо гладкая» и «Томавал гладкая» до «Тиауанакоидная полихромная», «Сан-Николас фигурная» и трех характерных образцов черной керамики чиму, а именно: «Кенето лощеная гладкая», «Сан-Хуан фигурная» и «Ла-Плата фигурная». Собранный экспедицией материал – типы керамики, которые были распространены от района Гуаяс в Эквадоре до отделенной от него на 1000 миль долины Касма, лежащей вблизи побережья Центрального Перу.
На основании всех этих данных можно с уверенностью сказать, что европейцы не первыми начали использовать острова Галапагос как рыболовную базу. Этот обычай зародился у аборигенов, по меньшей мере, во времена культуры приморская тиауанако в археологической периодизации Перу. (VI)
ОСТРОВ КОКОС – БАЗА ДОИСПАНСКОГО ИНДЕЙСКОГО СУДОХОДСТВА?
Остров Кокос, лежащий всего в 300 милях к юго-западу от Коста-Рики, первооткрыватели описали как приветливый клочок земли, правда, необитаемый, изобилующий зарослями кокосовой пальмы. Они и дали название этому вулканическому островку, опоясанному крутыми скалами. Вторая археологическая экспедиция Хейердала обнаружила, что остров зарос дождевым лесом; от многочисленных пальмовых рощ остались только одиночные деревья. Такое изменение растительности является отправной точкой для умозаключений, подводящих нас к новому свидетельству древнеамериканского судоходства. Этноботанический анализ приводится здесь на конкретном примере.
Однодневного пребывания на острове оказалось достаточно, чтобы сделать вывод, что в будущем имеет смысл провести здесь археологические раскопки.
В основу этой главы положена статья «Заметки о доевропейских рощах кокосовой пальмы на острове Кокос», вошедшая в «Отчеты Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана» (т. II, Стокгольм, 1965).
Норвежская археологическая экспедиция на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана высадилась на этом маленьком необитаемом океаническом острове 25 июля 1956 года, по пути с Маркизских островов в Панаму. Он лежит на 5
o 35' северной широты и 87
o 2' западной долготы, приблизительно в 450 милях к северо-востоку от островов Галапагос и в 300 милях к юго-западу от Коста-Рики; его площадь примерно 45 квадратных километров. Внутренняя, возвышенная часть острова достигает 911 метров; берег скалистый, обрывистый. Геология Кокоса описана англичанином Чаббом.(1) Лишь в северной части острова сплошные скалы прорезаны двумя непересыхающими потоками, устья которых образуют заливы Чатем и Уэфера. От каждой бухты в глубь острова уходит зажатая кручами долина. Сильные дожди питают многочисленные водопады. Они срываются с висячих долин или просто с гребней в выбитые в береговой кромке водоемы. Крутые склоны обеих долин, а также внутренние нагорья и гребни поросли густым, непроходимым тропическим лесом; зеленые мхи и кустарники покрывают большую часть отвесных береговых скал. Только вдоль долин можно проникнуть внутрь острова, да и то надо расчищать себе путь.
Общий характер растительности сильно изменился с тех пор, как первые европейцы, побывавшие здесь, описали остров и дали ему имя. Кокосовых пальм осталось так мало, что название «остров Кокос» кажется искусственным, особенно при сравнении с другими островами, лежащими ближе к Панамскому перешейку или в океане. Но раньше остров соответствовал своему названию; это видно из рассказов открывших его испанцев английскому капитану Уильяму Дампиру. Он пишет: «Остров Кокос назван так испанцами потому, что там в изобилии растут кокосовые пальмы, и не в одном, не в двух местах, а большие рощи… во всяком случае, так говорят испанцы, и я слышал то же самое от капитана Итона, побывавшего там впоследствии».(2) Одним из первых, в 1685 году, на острове побывал английский капитан Лайонел Уэфер(3), именем которого назван залив. Он писал: «Как только наши люди более или менее отдохнули, мы пошли на юг и достигли острова Кокос на 5 градусе 15 минуте северной широты. Он так назван из-за кокосовых орехов, которых на нем великий запас. Остров небольшой, но приятный; середина острова представляет собой крутую гору, а ее окружает плато, обрывающееся в море. Это плато (особенно же долина, где мореплаватели сходят на берег) густо поросло кокосовыми пальмами. Пальмы здесь отлично прижились, так как почва тучная и плодородная. Очень красиво они произрастают также вдоль подножия возвышенности в центре острова и местами на склонах.
Но особую приятность сему месту придают многочисленные источники чистой пресной воды, собирающейся на вершине в большом глубоком водоеме или пруду; стока в виде ручья или реки для этой воды нет, посему она во многих местах переливается через край и сбегает вниз множеством красивых струй. А кое где скалистый склон нависает над плато, и там срываются водопады, будто льют воду из ведра, и под струей остается сухое место, как под водяным сводом. Все это вместе с красивым видом, с произрастающими вблизи кокосовыми пальмами и освежающей воздух падающей водой делает это место весьма чудесным и услаждающим одновременно многие чувства.
Наши люди были премного довольны развлечением, каким для них явилось посещение острова, они наполнили здесь водой все бочки, ибо в речушке, образуемой водопадами, превосходная чистая вода, и корабль стоял в море как раз напротив устья, где отличная якорная стоянка. Трудно найти лучшее место для пополнения запасов воды.
Мы не экономили кокосовые орехи – ели, сколько могли, пили кокосовое молоко и доставили на корабль несколько сот штук. Некоторые из числа команды сходили на берег каждый день. А однажды, желая доставить себе удовольствие, они сошли на берег и срубили множество кокосовых пальм, собрали с них орехи и набрали около двадцати галлонов молока. Потом все сели и стали пить за здоровье короля, королевы и прочих. Выпили изрядное количество, но никто не захмелел. И все же жидкость эта до того охладила и притупила их чувства, что они не могли ни ходить, ни стоять. И не могли вернуться на корабль без помощи тех, кто не принимал участия в увеселении. Прошло четыре или пять дней, прежде чем они пришли в себя».
Присутствие столь обширных пальмовых рощ на острове Кокос в доевропейское время можно объяснить тем, что их посадили люди, которые могли прибыть либо из Америки, либо из Полинезии, или же тем, что морские течения прибили к острову орехи. Все эти три гипотезы рассмотрены исследователями. Выводы ботаников, играющие важную роль для этнографических реконструкций, в значительной мере основываются на господствующих представлениях о миграции человека. Вопрос о происхождении Cocos nucifera окончательно еще не выяснен учеными.
Задолго до открытия Америки европейцы познакомились с кокосовой пальмой в Индии и Индонезии. Аполлоний Тинийский видел эту пальму в Индостане в начале нашей эры; тогда ее считали типично индийским растением. На Азиатский континент она попала с Малайского архипелага, очевидно, незадолго до упомянутого сообщения. Самые ранние китайские описания относятся к IX веку; на Цейлон кокосовая пальма попала на заре истории.(4) Когда Колумб во время первого плавания в Америку открыл Кубу, в его судовом журнале появилась запись о том, что мореплаватели увидели берег с множеством очень высоких пальм «и крупным орехом того рода, который известен в Индии». А когда испанцы достигли Панамского перешейка, Овьедо записал в 1526 году: «…как на материке, так и на островах есть дерево, именуемое Кокус…». И он чрезвычайно подробно описывает кокосовый орех и его применение.(5) В XVII веке многие ботаники считали кокосовую пальму азиатским видом, однако в XIX веке Марциус (1823-1850 годы) и Гризебах (1872 год) по ботаническим признакам заключили, что это растение происходит из Нового Света.
Французский ботаник де Кандоль сперва разделял их взгляд, но потом, изменив свою точку зрения6, заявил, что происхождение кокосовой пальмы остается неясным. Ею аргументы определили дальнейший ход дискуссии. Он показал, что чисто ботанические признаки говорят в пользу американского происхождения, ведь одиннадцать представителей рода Cocos – американские и нет среди них ни одного азиатского. Аргументы де Кандоля в пользу азиатского происхождения всецело относятся к области этнографии и истории: раннее, доколумбово, распространение, многообразие способов местного применения, множество форм и названий.
Он признает, что в самом деле с пассатами предметы из тропической Америки попадают в тропическую Азию, но: «Обитатели азиатских островов были куда более отважными мореходами, чем американские индейцы. Очень может быть, что лодки с азиатских островов, на борту которых в качестве провианта были кокосовые орехи, по воле шторма или из-за неверного маневра попали на западное побережье Америки или острова на пути к Америке. Обратное в высшей степени невероятно». По его мнению, кокосовую пальму на остров Кокос доставили полинезийские мореплаватели.
Впоследствии аргументация до Кандоля ничем существенным не пополнилась. Мелкоплодный ископаемый вид Cocos zeylandica, открытый в позднечетвертичных отложениях на севере Новой Зеландии, не давал настоящих кокосовых орехов, в отличие от Cocos nucifera. Может быть, это открытие важно для каталога видов (в нем по-прежнему преобладают американские представители), но оно никак не влияет на вопрос о миграции человека(7).
Многие исследователи присоединились к теории де Кандоля о распространении кокосового ореха, опирающейся на этнографические доводы, другие не менее настойчиво вслед за Марциусом и Гризебахом указывают на отсутствие родственных видов в Индонезии и континентальной Азии.(8) Пожалуй, наиболее горячо отстаивал американское происхождение этого рода американский ботаник Кук, который первым упомянул в этой связи остров Кокос. Он писал: «Если бы кокосовый орех впервые попал в руки специалисту, знакомому со всеми остальными известными пальмами, он без колебаний отнес бы его к флоре Америки, ибо все близкие роды, включающие около трехсот видов, – американские. Не менее уверенно специалист приписал бы кокосовый орех к Южной Америке, потому что все остальные виды рода Cocos сосредоточены именно там, причем он указал бы на северо-западную часть Южной Америки, так как здешние дикие виды Cocos гораздо ближе к кокосовому ореху, чем виды из бассейна Амазонки и из Восточной Бразилии. Таким образом, с чисто биологической точки зрения правомерно предположить, что жизнеспособные и плодоносные кокосовые пальмы, отмеченные Гумбольдтом во внутренних областях Венесуэлы и Колумбии, росли поблизости от древней родины этих видов».
И еще: «Наиболее разнообразно применение кокосового ореха на островах Тихого океана, потому что скудный выбор растений делал островитян все более зависимыми от кокоса. Нужда породила многообразное применение пальмы, но сама она, несомненно, доставлена из Южной Америки – единственной части света, где дико произрастают ей подобные.
Большое количество кокосовых пальм на острове Кокос во времена Уэфера (1685 год) и исчезновение их следует считать доказательством того, что на острове ранее обитали или, во всяком случае, его посещали аборигенные мореплаватели с ближайшего материка… Пусть на острове не было постоянного населения, все равно обитатели материка могли посадить кокосовые пальмы и следить за ними, чтобы пользоваться их плодами во время рыболовных экспедиций, как это принято в некоторых районах Малайской области. Серьезные нарушения уклада в связи с приходом испанцев в область Панамы, естественно, должны были помешать таким посещениям.
Для этнологов эта ранее неизвестная доисторическая колонизация острова Кокос может стать еще одним свидетельством мореходного искусства индейцев тихоокеанского побережья тропической Америки, и они более положительно станут относиться к возможности доисторических связей между берегами Американского континента и островами Тихого океана».(9) Английский ботаник Хилл замечает по этому поводу: «Кук тоже придает значение присутствию кокосовой пальмы на острове Кокос… Однако предположения, сделанные Куком, вряд ли опровергают мнение де Кандоля о том, что кокосовую пальму могли привезти на остров ранние полинезийские мореплаватели. С этого острова или, что еще вероятнее, благодаря высадке кого-нибудь из упомянутых мореплавателей на тихоокеанском побережье Центральной Америки кокосовая пальма попала на материк и со временем широко распространилась».(10) Видный специалист по географии растений Зауэр говорит: «Вероятно, до прихода европейцев в Новом Свете по-настоящему возделывались только две пальмы: кокосовая и пехибайе. Остальные производят впечатление неизменившихся диких видов…».(11) Указав, что ученые располагают «компетентными и точными» рассказами очевидцев о том, что кокосовая пальма уже росла «в больших рощах в Панаме, Коста-Рике и на острове Кокос», когда туда пришли испанцы, он добавляет: «Возможно, такие рощи кокосовой пальмы достигали на севере побережья Ялиско (Мексика)». И еще: «Самые первые известные рощи в Новом Свете стояли отчасти вдоль побережья, отчасти вдали от моря, но тогда, как и теперь, это явно были именно рощи, а не отдельные пальмы среди девственного леса или кустарника».
Зауэр не определяет своего отношения к различным взглядам на исконную родину и доисторическое распространение кокосовой пальмы, однако говорит о предположениях Кука: «Это исследование по-прежнему остается наиболее значительным вкладом по данному вопросу, хотя его выводы не получили полного признания… Гипотеза Кука в целом натолкнулась на сопротивление, прежде всего потому, что она предполагает высокий уровень мореходства древних, и потому, что кокосовый орех играл менее значительную роль в хозяйстве индейцев, чем индонезийцев».
Самым ярым оппонентом Кука по вопросу распространения американских культурных растений в области Тихого океана много лет был его соотечественник Меррилл.(12) (О подоплеке этого спора рассказано выше.) Однако потом Меррилл сам назвал кокосовую пальму в числе растений, которые с помощью человека пересекли Тихий океан до прихода европейцев.
Он писал: «Приходится согласиться, что время от времени происходили случайные контакты между народами Полинезии и Америки, были даже отдельные контакты между американскими индейцами и жителями островов Восточной Полинезии, однако никаких «тихоокеанских гонок», конечно, не происходило ни в том, ни в другом направлении». И еще: »…вряд ли подлежит сомнению, что полинезийцы ввезли кокосовый орех на западное побережье Америки между Панамой и Эквадором незадолго до прихода испанцев.
Мы не знаем окончательно, откуда происходит вид, не знаем также, когда и как он столь широко распространился. Одно несомненно: кокосовая пальма прочно утвердилась на влажном тихоокеанском побережье Панамы и в сопредельной Колумбии до появления испанцев».
Хотя общего согласия по вопросу о первичном центре возделывания Cocos nucifera нет, это не имеет значения для рассматриваемой проблемы, так же как тот факт, что в последнее время ботаники все больше склонны считать Америку родиной вида. Несмотря на разные мнения о происхождении кокосовой пальмы и начале ее культивирования, никто не оспаривает, что она была широко распространена как на материке к востоку от острова Кокос, так и на островах к западу от него до прихода европейцев.
Никто не сомневался в том, что кокосовый орех способен перенести дальние плавания в океане. Всхожесть ореха всецело определяется сопротивляемостью его глазков морской воде и гнилостным бактериям; примется ли он на новом месте, зависит от рельефа, почвы и растительности. Предположение, что эта полезная пальма могла распространиться через широкие океанские просторы лишь с помощью человека, подтвердилось.
Эдмондсон, занимавшийся в 1941 году опытами на Гавайских островах, и я во время экспедиции «Кон-Тики» в 1947 году независимо друг от друга убедились, что через несколько месяцев пребывания плодов в море в результате действия микроорганизмов их всхожесть понижается или даже вовсе уничтожается, даже если на новом месте они попадут в идеальные условия, например: их высадят на расчищенном участке, в песке, смешанном с землей. Поэтому самостоятельное распространение кокосовой пальмы через обширные водные пространства крайне маловероятно. Если кокосовая пальма попала на остров Кокос прямо из Полинезии, то только с помощью человека.
Ближайшая полинезийская область, откуда кокосовый орех мог быть доставлен на остров Кокос, – это Маркизские острова. Логично спросить, не упоминается ли в полинезийских преданиях о существовании какого-нибудь острова к востоку от Маркизских островов. На поразительно точной карте, которую сделал для капитана Кука полинезиец Тупиа с острова Улитеа, восточнее Маркизского архипелага показан некий остров Уту.
Кроме того, маркизцы рассказали американскому капитану Портеру,(13) что к востоку от их архипелага есть остров под названием Утупу.
Портер пишет: «До сих пор ни один из наших мореплавателей не находил в этом месте острова с таким названием, но если обратиться к карте Тупиа… вблизи того места, куда жители Нуахивы (то есть Нуку-Хивы) помещают Утупу, есть остров Уту… Эта карта, хотя и не выполнена с такой точностью, какой мы требуем от наших специалистов, начерчена сэром Джозефом Бенксом по указаниям Тупиа и очень помогла Куку и другим мореплавателям открыть поименованные на ней острова…
Что Уту, или Утупу, существует, в этом нет никакого сомнения: Тупиа около пятидесяти лет назад получил от других мореплавателей эту информацию и на основе ее указал положение острова на своей карте, а положение, сообщенное теперь Гаттаневой (с острова Нуку-Хивы), мало отличается от сведений Тупиа».
Но что особенно примечательно, маркпзцы, по словам Портера, помнили об этом восточном острове лишь то, что оттуда их предки привезли кокосовый орех: «Рассказывают, что кокосовая пальма, как я уже говорил, доставлена с Утупу, острова, который здешние люди помещают где-то с подветренной стороны Ла Магдалены».(14) Таким образом, в устных преданиях мы не находим подтверждения гипотезы, по которой полинезийские мореплаватели заложили плантации кокосовой пальмы на острове Кокос. Напротив, сообщается, что первые орехи были привезены людьми, прибывшими с богатого кокосовыми пальмами острова на востоке, где лежит Америка.
Если морская вода и микроорганизмы загубят глазки плавающего кокосового ореха, прежде чем какое-либо морское течение успеет доставить его из Полинезии за 4000 миль в район острова Кокос или в Новый Свет, то 300 миль, отделяющие тот же остров от американского материка, – вполне преодолимое расстояние для переноса естественным путем. Тем более что ветры здесь благоприятные, не в пример экваториальной полосе на западе с ее штилями и переменчивыми течениями.
Остается выяснить, мог ли кокосовый орех, принесенный с американского материка, рассчитывать на благоприятные
условия, способствующие его естественному распространению на берегах острова Кокос. Целью нашего короткого визита на остров было ознакомиться с местной топографией и растительностью. Таких сведений не найдешь ни в литературе, ни на весьма приблизительных картах.
Обойдя вокруг Кокоса, мы убедились, что крутые скалы и высокие отвесные берега, придающие острову сходство с крепостью, не оставляют ни одного клочка земли, где мог бы зацепиться дрейфующий орех, за исключением узкого устья рек в заливах Чатем и Уэфера в северной части. Экспедиционное судно отдало якорь у залива Чатем; мы высаживались на берег и здесь, и в бухте Уэфера.
После визита Уэфера в 1685 году растительность изменилась так разительно, что, не укажи он точные, исключающие всякую возможность ошибки, координаты, можно было бы подумать, что он говорит о другом острове. Если отряд Уэфера нашел остров «приятным» и без труда поднялся на плато вокруг возвышенности в центре острова, нам было совсем нелегко проникнуть в перегороженную густыми зарослями долину, откуда он начинал свою вылазку.
За один день, который был в нашем распоряжении, нам удалось дойти только до круто вздымающихся стен в глубине долины Уэфера и до ближайших скал. Вспомнились слова Чабба(15), сообщающего в своем геологическом очерке, что он не смог достаточно подробно изучить внутреннюю часть острова и проверить, существует ли в самом деле описанное Уэфером кратерное озеро. При желании сквозь заросло можно было проложить тропу в горы, но такой необходимости не было, так как внутренние плато и долина, где высаживались англичане, «густо поросли кокосовыми пальмами…».
Было очевидно, что за два с половиной столетия густой лес, наступая на кокосовые рощи, занял все прежние расчистки. Во время вылазки мы увидели, что в возвышенных лесных районах и на далеко отстоящих друг от друга гребнях выше леса растут одиночные кокосовые пальмы. Макушки отдельных пальм поднимались и над сплошным пологом дождевого леса, растущего в обеих долинах. Только на небольшой ровной площадке возле берега бухты Уэфера стояла группа кокосовых пальм, которую с натяжкой можно было назвать рощицей. Здесь мы заметили следы недавней расчистки, некоторые пальмы были срублены; возможно, это память о недолгом пребывании в этих местах костариканской колонии преступников.
Не будь у нас записанного черным по белому рассказа Уэфера про обширные рощи внутри острова, можно было бы подумать, что Cocos nucifera на острове Кокос – не культурное растение, а дикая пальма, растущая спонтанно, как составная часть дождевого леса. Но тогда перед нами оказалось бы единственное место с дикорастущей Cocos nucifora. и вопрос о ее происхождении из Нового Света решился бы положительно.
В таком случае появление группы пальм в заливе Уэфера вполне можно было бы объяснить тем, что морское течение принесло кокосовые орехи из Коста-Рики или Панамы. Затем кокосовая пальма могла естественным путем распространиться по дну долины при условии, что не было нынешнего леса, преграждающего путь этим чрезвычайно солнцелюбивым растениям.
С нами вместе на Кокос прибыл плантатор А. Кинандер с островов Общества, специалист по кокосовым пальмам. Он выразил полную уверенность, что молодые ростки зачахли бы в густом подлеске, не успев пробиться сквозь плотный свод. Действительно, нигде, кроме расчистки возле берега, мы не видели ни проросшего ореха, ни молодой пальмы. Все одиночные пальмы, замеченные нами, были уже взрослыми, их вершины вздымались высоко к небу, вырвавшись из мертвой хватки дождевого леса. Густые леса, покрывающие внутреннее нагорье и гребни, отделены от двух глубоких теснин нависшими скалами; они так плотно обступают заканчивающиеся тупиком долины, что ни один орех не мог бы без помощи человека из долины попасть на возвышенное плато, на котором Уэфер видел большие рощи, а мы издали разглядели макушки отдельных пальм.
Если не игнорировать сообщение Уэфера и не считать Cocos nucifera диким уроженцем острова Кокос, остается признать, что задолго до прихода европейцев люди расчистили обширные участки земли на дне долин, на плато и гребнях и разбили на этих участках большие плантации кокосовой пальмы.
Кроме кокосовых пальм, большинство которых мы могли видеть лишь издалека, нам за время короткого визита не попалось никаких признаков деятельности аборигенов, разве что на берегу залива Чатем. Мы не стали затевать раскопок. Подробное исследование в устьях двух рек и в зарослях нагорья, наверно, вознаградит археологов, которые захотят здесь поработать.
В заливе Чатем два узких пляжа разделены высоким мысом. Крутые склоны и искусственно сглаженный гребень мыса покрыты чрезвычайно густой травой, выше человеческого роста, переплетенной вьющимися растениями. Эта растительность резко отличается от окружающего дождевого леса. Здесь ярко выражены следы человеческой деятельности, но они могли появиться уже после того, как остров открыли европейцы. Лишь с помощью мачете удавалось нам пробиться сквозь густую, жесткую траву на склонах, где то и дело встречались небольшие выемно-насыпные площадки. Назначение их неясно. Может быть, на этих площадках стояли скромные жилища? Поросшая травой искусственная терраса на гребне, около шестидесяти метров в ширину и вдвое больше в длину, несомненно потребовала большого труда. Западной границей террасы служит вертикальная четырехметровая выемка в каменно-земляном грунте; весь снятый грунт пошел на расширение поля. С севера в террасу врезается глубокий и широкий овраг, похожий на искусственный ров.
Тут и там попадались совсем свежие расчистки; сараи из рифленого железа и другие следы обитания человека рассказывали о деятельности недавних посетителей острова, возможно кладоискателей.
Мы знали, что здесь некоторое время размещалась костариканская колония преступников. Может быть, она и находилась на большой террасе на мысу? Иначе невозможно объяснить существование этого искусственного сооружения, если исключить деятельность аборигенов. Однако впоследствии выяснилось, что колония с 1878 по 1881 год находилась в заливе Чатем, а не в бухте Уэфера.
Профессор Анастасио Альфаро, посетивший это место, писал в 1898 году: «В день нашей высадки в заливе Чатем, 14 марта, мы с братом Рафаэлем сопровождали сеньора Питье до бухты Уэфера, где стояли дома колонии… На тропе, по которой мы шли, часто попадались следы свиней, ранее содержавшихся в двух свинарниках в бухте Уэфера… Особенно много следов было на пастбищах, а также на плантациях кофе и кешью, возле того места, где некогда стояло главное здание колонии, а теперь осталось лишь несколько гнилых бревен да листы ржавого железа».(16) По имеющимся данным(17), никто не занимался ни земледелием, ни строительством в районе бухты Чатем, а так как колония преступников размещалась в заливе Уэфера, у нас, казалось бы, нет оснований относить большие работы по разбивке террасы на мысу к историческим временам. Если не принимать во внимание колонию и случайные короткие визиты кладоискателей, остров Кокос был необитаем – об этом пишут все, кто там побывал в исторические времена.
На берегах бухт Чатем и Уэфера, а также на расчистках в устье обеих рек было множество старых и свежих разведочных шурфов – работа кладоискателей. Уплатив правительству Коста-Рики пошлину, эти авантюристы получали разрешение искать предполагаемые сокровища. Они были единственными регулярными посетителями острова, который из-за непроходимых зарослей и неприступных берегов не привлекает ни дельцов, ни туристов. На немногочисленных ровных участках в районе причалов вся земля перекопана, кое-где применялась взрывчатка. Одичавшие свиньи усугубили хаос, роясь в мягкой земле и переворачивая камни. Поэтому о первоначальном виде этих мест судить невозможно.
В бухте Уэфера, метрах в пятидесяти от песчаного пляжа, параллельно подножию скал есть два коротких ряда врытых в землю каменных глыб. Вся почва вокруг них так перепахана, что определить, для чего они предназначались, нельзя.
Чтобы надежно вычислить возраст искусственных сооружений в бухтах Чатем и Уэфера, требовалось больше времени, чем мы располагали. Поэтому наши догадки о том, что человек жил на острове в доисторические времена, основаны только на следах расчисток для посадки кокосовых пальм.
В заключение скажем, что древние земледельцы, очевидно, считали положение острова Кокос достаточно важным, если ценой неимоверных усилий расчистили в девственном лесу участки для пальм. Трудно себе представить, что могло побудить полинезийцев проделать такую огромную работу на острове, лежащем более чем в четырех тысячах миль от их области, разве что они вели интенсивную торговлю с Панамской областью, но на это пока нет никаких указаний. Столь же трудно понять, для чего американским индейцам понадобилось сводить большие площади леса на уединенном острове далеко от побережья: ведь кокосовый орех играл незначительную роль в их питании, да и в лесах на материке хватало земли для расчисток.
Мне кажется, что разведение кокосовых пальм на острове Кокос имело смысл лишь в случае, если остров был либо густо населен, либо занимал удобное положение для мореплавателей, которые проходили через этот район и нуждались в пополнении провианта. По собственному опыту могу заверить, что для первобытного мореплавателя нет лучшего провианта, чем свежие, чуть недозревшие кокосовые орехи. Они не боятся соленых брызг, нетребовательны к хранению и в течение многих недель могут служить моряку жидкой и твердой пищей.
Наш коллега, американский археолог Фердон наблюдал, как приморские жители, которые из северной части провинции Эсмеральдас в Эквадоре еще в 1943 году ходили на долбленках типа «имбавура» до Тумако и Буэнавентуры в Колумбии, использовали неочищенные зеленые кокосовые орехи в качестве источника «воды».(18) Зеленые орехи полностью удовлетворяли потребность в питье также тех эквадорских плотогонов, которые в 1947 году доставили нас с Ватсингером и наши бальсовые бревна для плота «Кон-Тики» вниз по реке в Гуаякиль.
В последние годы археологи все более склоняются к мысли, что быстро накапливающиеся свидетельства культурных контактов между Гватемалой, с одной стороны, Эквадором и Северным Перу – с другой, возможно, следует объяснять древними торговыми связями через море.(19) Такое предположение подтверждается и тем, что на побережье, разделяющем эти области, нигде не найдено сходного археологического материала.
Достаточно одного взгляда на карту, чтобы убедиться, что остров Кокос лежит на пути из Эквадора в Гватемалу. Археологические материалы,(20) найденные на Галапагосе, и свидетельство о том, что жители Северо-Запада Южной Америки издавна ходили на парусных плотах, управляемых гуарами, тоже дают серьезное основание рассматривать остров Кокос как идеальную промежуточную гавань в открытом море между областями высокоразвитых культур, сложившихся по обе стороны непроходимых панамских лесов.(21) На нем доиспанские мореплаватели могли отдохнуть и запастись водой и кокосовыми орехами.
Влажный климат, густой дождевой лес и быстрое накопление гумуса типичны для острова Кокос и резко отличают его от засушливых, со скудными почвами островов Галапагос. Будущие археологические работы на Кокосе, очевидно, потребуют немалых затрат. Наиболее вероятными местами археологических находок нам кажутся устья рек и возвышенные плато, некогда занятые рощами кокосовых пальм.
ОСТРОВ ПАСХИ
Даже те читатели, которые помнят «Аку-Аку» – лучшее введение для неспециалиста в последующие главы, вряд ли откажутся расширить свое представление об острове Пасхи, главном объекте археологических исследований экспедиции 1955-1956 годов. Здесь за основу взят написанный Хейердалом географический и исторический обзор, вошедший под заголовком «Очерк острова Пасхи» в первый том отчетов Норвежской археологической экспедиции. Мы не воспроизводим здесь полностью этот очерк, так как он слишком пространен.
Остров Пасхи лежит в 2300 милях от побережья Перу и Северного Чили и в 1200 милях от ближайшего форпоста Восточной Полинезии – острова Питкерн. Образовался он в результате ряда подводных вулканических извержений. Кратеры, лавовые ноля и множество извергнутых обломков на поверхности острова говорят о его геологическом прошлом. Однако процесс горообразования на острове (в отличие от островов Галапагос) закончился задолго до появления здесь человека. Некоторые из многочисленных пещер, о которых столько пишут, возникли в связи с выделением вулканических газов.
Маленький, всего 22X11 километров, остров напоминает в плане треугольник. Берег во многих местах крутой и обрывистый; вдоль береговой стены лишь кое-где можно увидеть крохотные островки. Коралловых рифов нет. Климат субтропический (координаты острова: 109
o 25' западной долготы и 27
o 8' южной широты); осадков достаточно. Несмотря на это, флора и фауна чрезвычайно бедны, что объяснялось раньше огромными расстояниями, отделяющими остров от материка и от архипелагов Полинезии. Особенно бросается в глаза полное отсутствие деревьев, однако как раз в связи с этой особенностью острова экспедиция пришла к неожиданному выводу.
Некоторые растения и животные, в основном те, которые играют важную роль в хозяйстве, были привезены сюда. Об этом было рассказано в «Аку-Аку», а ниже этот рассказ будет дополнен.
На острове, где животный и растительный мир скуден, поражает изобилие каменных свидетелей прошлого. В разных местах встречаются каменные фундаменты; уже первые европейцы, исследовавшие остров, описали жилища, сделанные целиком из камня. Однако самое сильное впечатление производят мегалитические скульптуры, изображающие человека. На зарисовках ранних исследователей мы видим, что скульптуры стояли на платформах, внутри которых помещались погребальные камеры. Головы каменных исполинов венчались цилиндрами из красного камня. Как высекали и перемещали идолов, было установлено исследованиями Хейердала в 1956 году. Вооруженные лишь техникой каменного века, аборигены делали удивительные вещи.

В более поздние времена европейцы увидели, что статуи все до единой были свергнуты с платформ – аху. Это произошло во время войн между местными племенами. Очевидно, в ходе междоусобиц наиболее богатые районы острова переходили из рук в руки. Последняя большая битва произошла в промежутке между двумя посещениями европейцев. Затем наступила тяжелая пора – набегя европейцев и работорговля; население Пасхи было почти полностью истреблено. Думая обо всех этих подтвержденных исследованиями столкновениях между племенами, невольно спрашиваешь себя, как люди находили время и силы, чтобы воздвигнуть столько огромных изваяний?
Сами пасхальцы рассказывают, что ваянием их предки начали заниматься еще в мирную пору, когда они работали на другой народ. Они подробно описывают этот народ. Подтверждение того, что на острове, лежащем: сравнительно близко к Южной Америке, некогда обитала сильно отличавшаяся от полинезийцев этническая группа, было очень важно для обоснования теории Хейердала.
Правда, видный французский этнолог Метро в свое время назвал все эти рассказы вымыслом. Дескать, островитяне пытались объяснить явления, которые в пору упадка казались им непонятными. Метро считал, что полинезийцы пришли на безлесный остров. Уйти отсюда они не могли, так как на острове не было материала для мореходных судов, И тогда люди приложили неслыханные усилия, чтобы как-то скрасить жизнь на этом голом клочке земли: вытесывали статуи по образцам, известным на некоторых других островах Восточной Полинезии, тешили свое тщеславие войнами. Даже возникновение письменности, единственной во всей Полинезии, Метро втиснул в рамки своего толкования. Его гипотеза была принята не только потому, что она вроде бы соответствовала наличным фактам, но и в силу тенденций, присущих определенным этнологическим школам. Современные исследователи нередко склонны объяснять развитие культуры средой (весьма растяжимое понятие), мало считаясь с исторической подоплекой, которую особенно трудно установить, когда речь идет о первобытных народах.
Искусственно построенная гипотеза рассыпалась, словно карточный домик, когда начались раскопки. Их проводили квалифицированные археологи, вошедшие в состав экспедиции Хейердала: Э. Н. Фердон (тогда сотрудник музея в Нью-Мексико, ныне заместитель директора Государственного музея в Аризоне, США), У. Меллой (профессор, руководитель кафедры этнологии Уайомингского университета, США), А. Шельсволд (тогда заведующий археологическим отделом Ставангерского музея, ныне главный археолог собрания древностей Ослокского университета, Норвегия), К. С. Смит (профессор, руководитель кафедры этнологии Канзасского университета, США), а также археологи Г. Фигероа и Э. Санчес, сотрудники университета Сантьяго (Чили).
Археологи норвежской экспедиции показали, сколь несовершенна картина, нарисованная Метро, который ограничил действительность искусственным горизонтом.
На острове было древнее население с совершенно неполинезийской культурой. Постепенно в связи с новыми волнами переселенцев возникло сходство между культурами Пасхи и других островов. Мало-помалу за более чем тысячелетний период появляются те элементы, которые Метро считал полинезийской основой. В последний период развития всецело преобладают полинезийские элементы. Их значение возросло в пору, когда происходила миграция населения под влиянием европейцев (большую роль тут сыграли миссионеры). Загадка острова Пасхи была решена, и это решение хорошо согласуется с гипотезой, разработанной Хейердалом.
СТАТУИ ОСТРОВА ПАСХИ – ПРОБЛЕМА И ИТОГИ
Из публикаций Хейердала, посвященных острову Пасхи, мы включили в сборник статью о статуях. Статуи на Пасхе не только символ, их появление и дальнейшая судьба отражают смену различных этнических слоев. Кто укажет истоки вдохновения ваятелей, у того в руках будет ключ от загадки острова.
Эта статья по сравнению с «Аку-Аку» пополнилась новыми впечатлениями Хейердала. Кроме того, в статье он дал обзор истории исследования острова и указал на тесную связь этой истории с трагическими событиями, уничтожившими последнюю островную культуру.
В основу главы лег доклад, прочитанный в Шведском обществе антропологии и географии в Стокгольме 24 апреля 1962 года. Доклад был напечатан в журнале «Имер», Э 2, стр. 108-124, 1962.
Трудно найти другое место на земле, где между географией и этнологией было бы такое парадоксальное соотношение, как на острове Пасхи. На этом засушливом и бесплодном клочке земли, самом уединенном во всем Тихом океане, больше замечательных археологических памятников, чем на любом из более крупных, плодородных и легкодоступных островов и архипелагов, лежащих западнее. Конечно, естественно, что Тихий океан в силу своих географических особенностей – множество обитаемых островов разбросано на площади, занимающей более половины всего земного шара, – ставит перед этнологами больше проблем, чем любой другой из океанов. Но как-то неожиданно, даже несуразно, что именно остров Пасхи, самый обособленный и труднодоступный из десятков тысяч тихоокеанских островов, привлек всеобщее внимание обилием своеобразных археологических памятников. Пожалуй, столь же поразительно, что на острове, занимающем в географическом и археологическом отношении совершенно особое положение, не проводили археологических исследований вплоть до приезда туда экспедиции, о которой здесь пойдет речь.
Первым из европейцев поселился на острове Пасхи в 1864 году французский миссионер Эжен Эйро; ему и его коллегам по конгрегации «Святое сердце Иисуса и Марии» удалось перевернуть последнюю страницу изначальной истории острова. Закончился последний, трагический акт одной из самых удивительных драм, какие когда-либо разыгрывались на одиноком океаническом островке.
Никому из посторонних не довелось увидеть первых актов. Зрители прибыли на остров Пасхи, когда в разгаре было уже последнее действие. Только археология и другие науки, изучающие прошлое, могут помочь восстановить главные черты поры расцвета и величия острова. Раньше этого не знали, но теперь мы можем утверждать, что шли последние картины печального эпилога, когда первый европеец появился в поле зрения островитян, на несколько часов сошел на берег и был в Старом Свете объявлен открывателем острова. Это был голландский адмирал Роггевен. Под вечер дня пасхи в 1722 году он приблизился к неведомому острову.
Утром следующего дня, когда солнце выглянуло из-за горизонта, три корабля подошли ближе, и моряки увидели островитян – людей с разным цветом кожи. Они сидели на корточках перед кострами, разведенными вдоль вереницы исполинских статуй, и, склонив голову, молитвенно поднимали и опускали руки. Как только солнце взошло, они упали ниц на землю, головой на восток, а костры перед каменными великанами продолжали гореть. Уже тогда статуи были настолько старыми, их так источило дождями и ветром, что Роггевен смог отломить кусок от одной из них; он заключил, что истуканы вылеплены из глины и земли, замешанных с камнями. Голландцы провели на острове всего один день.
Прошло почти пятьдесят лет, прежде чем испанец Фелипе Гонсалес и его спутники вновь открыли остров. (Это было в 1770 году. Вице-король Перу послал два корабля с приказом разыскать и аннексировать остров, о котором в Перу говорили, что он лежит примерно в 600 милях от материка на широте Копьапо и может оказаться тем самым островом, который видел Роггевен.) Испанцы не ограничились поверхностным осмотром статуй: один из них так хватил киркой по статуе, что искры полетели. Скульптуры казались им изваянными из очень твердого и плотного камня. По записям испанцев, головы десятиметровых истуканов были увенчаны большими цилиндрами из камня другой породы. На цилиндрах лежали человеческие кости, из чего был сделан вывод: статуи были не только идолами, но и местом кремации покойников.
И голландцы, и испанцы записали, что на острове Пасхи нет ни леса, ни канатов в достаточном количестве, чтобы воздвигнуть столь огромные статуи. Роггевен, как уже говорилось, считал, что скульптуры вылеплены из глины, но испанцы опровергли его мнение. От них удивленный мир впервые услышал о многочисленных каменных великанах, высящихся на голом, безлесном острове с примитивным населением, за тысячи километров от ближайшей суши. Два с половиной века загадка острова Пасхи прочно владела умами людей.
Через четыре года после испанцев на остров приплыл капитан Кук, а за ним – французы во главе с Лаперузом. Все ранние путешественники подчеркивали, что статуи очень древние, а примитивные люди, которых застали европейцы, никак не могли быть причастны к ваянию этих монументов. Кук заметил, что многие статуи повалены и лежат рядом с разрушенными каменными постаментами, напоминающими алтарь. Он обратил внимание и на то, что пасхальцы ничуть не заботятся о починке разрушенного.
У Кука был переводчик – полинезиец. Он с трудом понимал местную речь, но, во всяком случае, разобрал, что многочисленные статуи изображают умерших королей и вождей. Никто, кроме голландцев, не видел, чтобы пасхальцы молились перед идолами, но и англичане, и французы находили около статуй скелеты и поэтому описали их как древние могильники.
Чем бы ни были скульптуры для тогдашнего населения Пасхи, жители острова продолжали свергать их с пьедесталов.
В 1804 году на остров Пасхи высаживался русский мореплаватель Лисянский. Он записал, что в бухте Кука по-прежнему стояли на своих каменных платформах четыре статуи, в Винапу – семь. Двенадцать лет спустя, в 1816 году, на остров прибыла еще одна русская экспедиция во главе с Коцебу. Он установил, что в бухте Кука все изваяния повалены, а из семи статуй в Винапу остались стоять только две.
Последнее сообщение о стоящих статуях мы находим в записях дю Пти-Туара, который в 1838 году видел севернее залива Кука девять истуканов на каменных платформах. Позднее были свергнуты и эти исполины, и когда в 1864 году первый европеец Эжен Эйро поселился на острове Пасхи, на многочисленных платформах не было ни одной статуи – все были повалены, причем многие при падении раскололись, а огромные каменные цилиндры с их голов скатились вниз по склонам, словно паровые катки. Пасхальцам не удалось повалить только наполовину врытые в землю изваяния, обнаруженные отрядом Кука у подножия древней мастерской в кратере Рано Рараку.
Эйро и миссионеры, его коллеги, первыми из чужеземцев освоили язык пасхальцев. Они пытались расспрашивать жителей, чтобы получить ответ на загадку острова Пасхи. Островитяне могли лишь сообщить, что давным-давно все статуи стояли в одном месте, но затем по велению бога-творца Макемаке они сами разошлись по многочисленным платформам аху в разных концах острова.
Через семь лет миссионеров заставили уйти с Пасхи. Вскоре на остров явился таитянский овцевод Салмон, а затем еще и чилийский метеоролог Мартинес. Они жили в тесном общении с пасхальцами; благодаря им до нас дошли чрезвычайно интересные предания.
Согласно первым записанным преданиям, предками нынешнего населения острова были «короткоухие». Они пришли на Пасху со своим вождем Туу-ко-иху с острова, расположенного далеко на западе, то есть в Полинезии. Прибыв, они обнаружили, что новая земля уже заселена другим народом, «длинноухими», которые во главе с ее первооткрывателем Хоту Матуа прибыли с противоположной стороны, с востока. Шестьдесят дней плыли они из огромной страны, лежащей там, где восходит солнце и где так жарко, что временами палящие солнечные лучи сжигают всю растительность. «Длинноухие», прибывшие первыми, сразу начали воздвигать моаи – статуи. Двести лет «короткоухие» помогали «длинноухим» строить аху и высекать изваяния. Но затем мирное сосуществование сменилось кровавой распрей, во время которой «короткоухие» истребили почти всех «длинноухих» – загнали их в длинный оборонительный ров, в котором был разожжен огромный костер. Оставили только одного «длинноухого». После этого продолжались междоусобицы среди «короткоухих». Все истуканы были повалены с помощью канатов и клиньев, о чем тоже говорится в преданиях. (VII) Археологическое исследование острова началось в 1914 году, когда англичанка Кэтрин Скоресби Раутледж приплыла сюда на частной яхте. Правда, миссис Раутледж не захватила с собой опытных археологов. Ее собственные научные записки, к сожалению, утрачены. Но ее популярная книга о путешествии изобилует ценнейшими научными наблюдениями и до последнего времени оставалась главным источником общих сведений об археологии острова Пасхи.
Двадцать лет спустя, в 1934 году, на остров прибыла франко-бельгийская экспедиция. К несчастью, француз археолог скончался в пути, и Анри Лавашери, его бельгийский коллега, должен был один исследовать все пасхальские памятники прошлого. Он занялся изучением неизвестных ранее наскальных изображений, а француз этнолог Альфред Метро провел не менее важное исследование в своей области. Однако эта экспедиция, как и экспедиция Раутледж, не проводила систематических раскопок. Все считали, что на безлесном острове не могло быть перегноя, который скрывал бы неведомые следы прошлого.
Раутледж полагала, что до полинезийцев на острове Пасхи обитал неизвестный, уже вымерший народ, возможно, меланезийского происхождения. Однако Метро решительно утверждал, что этот уединенный клочок земли был необитаемым, пока в XII-XIII веках сюда не приплыли полинезийцы. Он выдвинул теорию, ставшую затем общепринятой, согласно которой пасхальцы воздвигали огромные статуи из камня, так как попали на голый остров, где не было материала для резьбы по дереву, распространенной на лесистых островах собственно Полинезии. Теория эта выглядела достаточно убедительной, и археологи больше не приезжали на Пасху, считая, что там нет смысла проводить стратиграфические раскопки.
Был ли остров Пасхи, как уверяли этнологи, в самом деле таким безлесным, когда его впервые освоили люди? Мы надеялись, что сможем ответить на этот вопрос, и привезли с собой новейшее снаряжение для взятия проб пыльцы.
Теперь я с удовольствием могу сообщить о результатах палинологического исследования кратерных озер в потухших вулканах Рано Рараку и Рано Као на острове Пасхи. Был собран богатый палеоботанический материал, над изучением его затем работал профессор Улуф Селлинг из Государственного музея естественной истории в Стокгольме. Удалось установить, что естественная среда, в которую попали первопоселенцы, была непохожа на известную нам по описаниям, сделанным во время открытия острова европейцами в 1722 году. Теперь остров беден растительностью, а раньше здесь была более богатая флора, росли деревья. Между деревьями произрастали кустарники разных видов. В целом растительность до какой-то степени, должно быть, напоминала первичную низинную флору, скажем, на подветренной стороне Гавайских или Маркизских островов.
До того как в кратере Рано Рараку начали трудиться ваятели, его голые ныне склоны, очевидно, были покрыты пальмами вида, которого теперь нет на острове. Донные отложения кратерного озера буквально насыщены пыльцой этой пальмы. Одно из самых неожиданных открытий – пыльца кустарника, родственного хвойным (Ephedra). Этот кустарник раньше вообще не находили на тихоокеанских островах; зато он сродни кустарнику одного южноамериканского вида, если не идентичен ему. Улуф Селлинг обнаружил пыльцу такого же вида на Маркизских островах.
Взятые нами на острове Пасхи восьмиметровые колонки с пыльцой, которая поддается вполне четкому определению, позволяют проследить, как постепенно исчезала первичная растительность. Вокруг открытых древних кратерных озер еще росли деревья, когда здесь неожиданно появился американский пресноводный Polygonum amphibium. Вероятно, его как лекарственное растение привезли с побережья Южной Америки первопоселенцы. С той поры в отложениях появляются зольные частицы и быстро оскудевает первичная растительность. Зольные частицы – скорее всего след лесных пожаров. Виновниками пожаров, видимо, были первопоселенцы. Население росло, людям нужна была земля для жилищ и огородов, а потом, возможно, началось и намеренное уничтожение леса во время войн. Это опустошение было довольно основательным, во всяком случае в верхних слоях следы первичной растительности исчезают; голым островом постепенно завладели травы и папоротники.
Такая перемена декораций на острове Пасхи интересна не только для ботаников. Выходит, мы неверно представляли себе природу острова в ту пору, когда первоначальная островная культура была в расцвете. Приплывшие с первой волной переселенцев каменщики, которые вытесывали и применяли для строительства огромные глыбы базальта, попали не на безлесный остров, на котором можно в любом направлении перетаскивать огромные монолиты. Им пришлось сперва валить деревья, расчищать участки, чтобы проложить путь к каменоломням, и освобождать место для жилищ и монументов. Это открытие опровергает старую гипотезу о пасхальцах, будто бы потому врубившихся в склон горы, что на острове не было возможности заниматься резьбой по дереву. Среда обитания первых пасхальцев в основном была такой же, как на других островах; и тем сильнее бросается в глаза своеобразие культуры, которую, как будет показано ниже, привезли с собой эти люди.
Еще одно утверждение внесло путаницу в вопрос о статуях острова Пасхи. В основе его лежало неверное толкование одного из наблюдений, сделанных экспедицией Раутледж. Кэтрин Раутледж велела очистить от песка и гравия основания некоторых идолов, частично погребенных у подножия каменоломни Рано Рараку. В своей книге она написала, что у одной из этих статуй было заостренное основание. Раутледж предполагала, что эту скульптуру нарочно сделали так, чтобы врыть ее в землю, а не ставить на аху. Метро решил, что все шестьдесят изваяний, поставленных у подножия вулкана, заостряются книзу. Даже не проверив это сообщение, он в своем труде об этнологии острова Пасхи заявил, что на острове есть изваяния двух в корне различных видов: статуи, заостренные внизу, стоящие у подножия кратера Рано Рараку, и статуи с плоским основанием, некогда венчавшие многочисленные аху.
Сэр Питер Бак, крупнейший авторитет по культуре Полинезии, сам не бывавший на Пасхе, усугубил путаницу, сделав вывод, что Метро считал остроконечными, то есть предназначенными для установки в земле, также те 170 незаконченных статуй, которые лежали на карнизах каменоломни. В итоге одна (дефектная) статуя превратилась в публикациях в 230.
В «Мореплавателях солнечного восхода» – самой распространенной из всех книг, посвященных Полинезии, Питер Бак писал: «Изваяния с заостренными основаниями не предназначались для установки на ритуальных каменных платформах, их вкапывали в землю в качестве нетленных украшений и знаков, обозначающих дороги и границы округов. Так как у всех изваяний, оставшихся в каменоломне, основания заостренные, можно предположить, что заказы для платформ были полностью выполнены и пасхальцы приступили к украшению дорог…».
Не стоило большого труда установить, что ни одна из многочисленных статуй, оставшихся в каменоломнях Рано Рараку, не заострялась книзу, хотя Шельсволд, руководивший этими раскопками, нашел около пятидесяти статуй, которые еще совсем не были описаны. Мы приступили к раскопкам частично врытых в землю истуканов и обнаружили, что у них, если не считать одного дефектного экземпляра, тоже плоское широкое основание и тонкие пальцы длинных рук встречаются в нижней части живота. Все эти скульптуры предназначались для установки на аху.
Наши исследования показали, что все известные пасхальскис статуи (примерно 600) однородны и отличаются только по степени готовности. Весь процесс ваяния можно разбить на четыре стадии. На первой стадии спина изваяния была еще соединена с коренной породой, шла обработка передней части и боков, производилась даже полировка, и только глазниц недоставало. На второй стадии фигуру отделяли от породы и ставили в отвалах у подножия вулкана, чтобы закончить обработку спины и высечь на ней символические изображения; на крутом склоне нетрудно было поставить изваяние на вымощенную необработанным камнем площадку. На третьей стадии все еще безглазые статуи снова укладывали на землю и перетаскивали по дорогам, расходящимся от вулкана. И только на четвертой стадии, когда идол уже был установлен на своей аху, ему делали глаза, а на голову помещали большой цилиндр из красного камня. Этот цилиндр пасхальцы называли пукао, то есть узел или пучок волос.
Наше открытие сразу упростило проблему. Ни о каком украшении дорог или ландшафта речи не было. Ваятели высекали лишь похожих друг на друга истуканов и красные цилиндры для установки в ряд на аху вдоль всего побережья. Однако оставалось еще немало загадок.
Пока Шельсволд вел работы около Рано Рараку, американские археологи профессора Меллой и Смит приступили к систематическим исследованиям и раскопкам разрушенных аху, на которых некогда стояли изваяния. Они обнаружили, что под верхними слоями кладки скрывались более древние сооружения, которые частью были перестроены, частью расширены и укреплены. Первичные сооружения не могли служить постаментами для тяжелых статуй, в них нашел воплощение другой архитектурный стиль, другая каменотесная техника.
Данные стратиграфических раскопок всюду и все ясное показывали, что доисторический период развития острова Пасхи можно подразделить на три отчетливо различимых периода: ранний, средний и поздний.
В раннем периоде не делали изваяний для аху. Культовые сооружения представляли собой возвышения, напоминающие алтарь; они были сложены из очень больших, тщательно обтесанных и пригнанных друг к другу камней разной формы; фасад смотрел на море, а с противоположной стороны простиралась вырытая в земле культовая площадка. Все возвышения были точно ориентированы по солнцу; вероятно, здесь работали искуснейшие каменотесы, которые хорошо изучили годичное движение солнца и подчиняли ему религиозную архитектуру. На площадке устанавливали разного рода небольшие скульптуры.
Только в средний культурный период на каменные платформы были водружены известные нам гигантские изваяния. Первичные сооружения были отчасти разрушены и переделаны, их надстроили, и возникли хорошо известные неориентированные аху. На них спиной к морю и лицом к старой культовой площадке шеренгами выстроились каменные великаны.
Начало позднего периода характеризуется внезапным прекращением работ в каменоломнях Рано Рараку. Кончилась и транспортировка статуй по дорогам. Одно за другим изваяния свергли с аху; представители более примитивной культуры, искусные резчики по дереву, не умевшие делать мегалитических скульптур и не владевшие техникой каменной кладки, хоронили покойников под беспорядочно наваленными грудами камня на развалинах аху или в больших коллективных склепах, небрежно сооруженных под брюхом или лицом поверженных исполинов. На всем острове поздний период был порой резкого упадка, войн и разрушений. В слоях этого периода лежат тысячи обсидиановых наконечников для копий; до этой поры оружия на острове либо вовсе не было, либо оно было редкостью.
 История одной аху (аху Э 2 в Винапу), по материалам раскопок в 1955-1956 годах.
1 – аху до начала раскопок (разрез), 2 – в конце раннего периода, реконструкция, 3 – в конце среднего периода, реконструкция, 4 – в конце позднего периода. Появляются погребальные камеры, четкие контуры смазываются.
История одной аху (аху Э 2 в Винапу), по материалам раскопок в 1955-1956 годах.
1 – аху до начала раскопок (разрез), 2 – в конце раннего периода, реконструкция, 3 – в конце среднего периода, реконструкция, 4 – в конце позднего периода. Появляются погребальные камеры, четкие контуры смазываются.
Архитекторы и ваятели среднего периода сосредоточили все свои силы и внимание на установке огромных статуй из туфа каменоломен Рано Рараку; в отличие от них, пасхальцы в ранний период гораздо искуснее обтесывали и подгоняли огромные базальтовые глыбы для алтареподобных культовых сооружений.
Таким образом, было установлено чередование разнородных культур на острове Пасхи. И пришла пора в корне пересмотреть прежние гипотезы о последовательности развития местной культуры. Правда, Раутледж предполагала, что пасхальские аху прежде выглядели иначе и позднее были перестроены, но Метро и Лавашери отвергли ее догадку и заявили, что культура острова Пасхи однородна, в ней нет различных слоев. Все отмечали поразительное сходство самых больших и наиболее сохранившихся фасадов пасхальских аху с подобными сооружениями в Андской области, но полагали, что на Пасхе лучшие стены появились позже, в период расцвета независимого местного каменотесного искусства полинезийцев, которые не владели этой техникой, когда прибыли сюда, но, живя на безлесном острове, сумели достигнуть такого же совершенства, как лучшие мастера каменной кладки в Южной Америке.
И вот все поменялось местами. Оказалось, что первопоселенцы, расчистив участки в лесу, сразу начали сооружать совершенные стены такого же типа, какой известен в Перу и в прилегающих частях Андской области. Во второй, средний период люди не владели этим искусством, они ограничивались ваянием огромных статуй. В третий период пасхальской истории всякая эволюция каменного дела прекратилась, все то, что создали две предыдущие культуры, разрушается и гибнет.
Итак, все оказалось иначе. Теперь уже нельзя было исключать возможность влияния характерной каменотесной культуры Южной Америки. Ведь во всей тихоокеанской области больше негде было освоить эту совершенно особую технику обработки камня, которой владели первые пришельцы.
Разнородность пасхальской культуры отразилась не только на культовых сооружениях и могильниках, но и на жилищах аборигенов. Фердон, ознакомившись с памятниками, предположил, что на острове сохранились остатки жилищ различного типа. До сих пор этнологи и археологи считали, что на Пасхе, помимо пещер, был только один вид жилья: продолговатые камышовые хижины, напоминающие перевернутую вверх дном лодку. Жерди, служившие каркасом для камышовой и травяной кровли, втыкались в отверстия в каменном фундаменте, который очертаниями также напоминал лодку.
Наши археологи начали с того, что раскопали целый ряд таких фундаментов. Оказалось, что все они были сооружены либо непосредственно перед появлением здесь европейцев, либо вскоре после этого события, то есть в поздний период. Затем Фердон и Шельсволд принялись изучать кольцевые каменные ограды, которых очень много на острове. Прежде этнографы и археологи верили рассказам местных жителей о том, что на безлесном острове эти стены защищали от ветра огороды предков, сажавших махуте.
Ботаник Скоттсберг, посетивший остров Пасхи в 1917 году, подтвердил, что стенами огораживали плантации; об этом свидетельствует и иллюстрация в его статье о флоре острова Пасхи. Позже Метро воспроизвел эту иллюстрацию в своем труде об этнологии Пасхи. Наши раскопки показали, что стены начали использовать для защиты огородов не сразу, а лишь в третий период. Первоначально это были крытые камышом круглые жилища. В земляных полах мы нашли множество изделий и отбросов – следы длительного проживания людей. Очаг помещался либо посреди пола, либо возле стены снаружи. Одна из найденных Шельсволдом печей, по-видимому, поспешно брошенная хозяевами, была полна обугленных остатков печеного сахарного тростника и бататов.
Радиоуглеродный анализ показал, что этот совсем неполинезийский тип жилья распространился на острове в средний культурный период, когда вытесывались исполинские статуи; некоторые дома стояли еще и в третий период рядом с лодковидными жилищами из жердей и соломы. Фердон, хорошо знающий археологию Южной Америки, указал, что круглые дома, неизвестные в остальной Полинезии, были характерны для той части Андской области, которая лежит ближе всего к острову Пасхи.
Во время раскопок на равнине у Винапу мы обнаружили третий, тоже своеобразный вид жилья – дом с массивной крышей из каменных плит, засыпанных землей. Последующее поколение пасхальцев использовало этот дом как склеп для захоронения обезглавленного человека. Целое селение из таких же каменных домов размещалось на вершине самого высокого вулкана острова Пасхи. Еще первые миссионеры установили, что здесь находился важнейший культовый центр – Оронго. Ежегодно во время
весеннего равноденствия в Оронго собирались все жители острова и наблюдали за традиционными соревнованиями, участники которых плыли на маленьких камышовых лодках на птичьи островки поблизости, чтобы добыть первое в году яйцо. Победитель получал священный титул птицечеловека.
И Раутледж, и Метро уделили немало внимания этому своеобразному ежегодному ритуалу, который сохранился до исторических времен. Однако каменные дома в Оронго все исследователи считали сугубо пасхальской культовой деревней; ведь на Тихом океане больше нигде не было таких жилищ-склепов. Раскопками в Оронго руководил Фердон, который и здесь нашел признаки чередования культур. Необычные сооружения на вершине вулкана, сохранившиеся в качестве ритуальных объектов, на самом деле были перестроены из жилищ раннего периода. Фердон заключил, что и этот тип сооружений, неизвестный в других частях Полинезии, связан с древним Перу и прилегающими частями Андской области.
Все выступы скал в Оронго сплошь покрыты высеченными изображениями птицечеловека – этой типичной для Пасхи человеческой фигуры с птичьей головой и длинным изогнутым клювом. Один птицечеловек держит в своих объятиях солнце. Раскапывая низкие, нередко обвалившиеся культовые сооружения, Фердон открыл много ранее неизвестных росписей на стенах и потолке. Среди изображений преобладали камышовые лодки, двухлопастные весла и характерный для американских древних культур мотив «плачущий глаз» (круглые глаза, из которых струятся слезы в виде капель или вертикальных черточек – символ дождя, посылаемого богом-творцом). Ничего подобного не найдено в других частях Полинезии.
По стратиграфическим материалам, поселок на вершине самого высокого пасхальского вулкана на протяжении всех трех культурных периодов с небольшими перерывами был культовым центром острова. В нижнем слое Фердон нашел солнечную обсерваторию с метками, определяющими положение восходящего солнца во время декабрьского и июньского солнцестояний и равноденствий. Тут были солнечные символы, в том числе петроглифы, и небольшая статуя, тип которой неизвестен. Ничего похожего на эту обсерваторию ранее не находили в Полинезии. И снова, чтобы найти параллель, мы должны обратиться к Андской области.
В средний период солнечная обсерватория, кладка которой искусно выполнена из обтесанных камней, была перекрыта святилищем, напоминающим аху. Рядом выросли каменные домики поселка. И внезапно в совершенно развитой форме появился культ птицечеловека. Сперва он сочетался с предшествовавшим ему солнцепоклонничеством, потом совсем его вытеснил. В начале среднего периода в самом просторном и, видимо, главном каменном строении культового центра Оронго появилась сравнительно небольшая, изумительно выполненная статуя из темного базальта (она известна историкам под названием Хоа-хака-мана-па, хранится теперь в Британском музее). В ранний период она, по-видимому, воплощала бога Солнца; на спине идола были высечены символические изображения солнца и радуги. А затем поверх старинных символов были нанесены изображения птицечеловека и весла; Раутледж первая написала об этом, не делая попыток объяснить такое чередование.
Статуя из Оронго отличается от всех известных изваяний острова Пасхи тем, что она вытесана не из серо-желтого туфа, а из твердого черного базальта; значит, ее делали не в каменоломнях Рано Рараку. У статуи выпуклое основание. Как мы увидим дальше, она, вероятно, была прототипом всех скульптур, установленных во второй период на аху.
На равнине тоже стали находить статуи не встречавшихся раньше видов. Одни из этих ранних изваяний были намеренно разбиты, а обломки пошли на сооружение круглых домов среднего периода. Другие были целиком использованы как блоки для постаментов, на которых воздвигли великанов среднего периода. Среди ранних, подвергшихся надруганию статуй были статуи, вытесанные из черного базальта, из красного и серо-желтого туфа каменоломен Рано Рараку. И все они не были похожи на обычные пасхальские изваяния.
Открытые экспедицией статуи, характерные для раннего периода, можно отнести к четырем разным видам, три из которых были ранее неизвестны в тихоокеанской области. К первому виду относится плоская, прямоугольная каменная голова без туловища, схожая с головой, найденной в храме Солнца в Оронго; ко второму – колонноподобная условная фигура в полный рост, с прямоугольным сечением, углы слегка закруглены; к третьему – очень реалистическая коленопреклоненная фигура с острой бородкой, сидящая на пятках, руки положены на колени, взгляд обращен в небо. Все эти три вида скульптур, не встречавшиеся на других островах, принадлежат к типам, которые Беннет считает характерными для доинкского культового центра Тиауанако в Андах. Зато четвертый вид статуй – традиционный: срезанный у бедер бюст, руки соединяются внизу живота. Это явно местный тип, очень близкий к типу исполинов, характерных для среднего периода Пасхи.
Полное, до мелочей, сходство коленопреклоненной статуи раннего периода острова Пасхи, найденной Шельсволдом в отвалах каменоломни Рано Рараку, с коленопреклоненными скульптурами Тиауанако, отнесенными Беннетом к раннему предклассическому периоду этого важного культурного центра, настолько очевидно, что Шельсволд делает вывод: «Вряд ли это можно объяснить случайностью, скорее всего речь идет о близком родстве, указывающем на связь между этими двумя образцами древней каменной скульптуры в Андах и на острове Пасхи».
Четвертый вид статуй раннего периода острова Пасхи – прямой, усеченный внизу торс – не имеет явных параллелей ни в Полинезии, ни в Южной Америке. Очевидно, это местная разновидность статуй, получивших распространение в конце раннего периода. Примитивные прототипы этого бюста высекались из красного туфа и черного базальта, а конечный классический вариант был в ранний период представлен небольшой базальтовой скульптурой из каменного дома в Оронго. Все «серийные» изваяния следующего, среднего периода Пасхи повторяют статую из Оронго. Их отличают только значительно большие размеры, материал (туф Рано Рараку вместо твердого базальта) и плоское основание, позволяющее установить идола на аху.
По этим различным типам статуй можно отчетливо представить себе эволюцию пасхальских монументов с аху. До сих пор были известны только похожие друг на друга исполины среднего периода, а у них нет ничего общего ни со статуями островов на западе, ни с изваяниями, встречающимися на континенте на востоке. В этом одна из причин того, что их присутствие на уединенном острове Пасхи казалось столь загадочным. Теперь выяснилось, что в раннюю пору, о которой прежде никто не подозревал, первые пасхальцы экспериментировали с разными горными породами и различными типами антропоморфных статуй (из них три были хорошо известны в главном культурном центре на ближайшем материке на востоке). К концу раннего периода развился четвертый, чисто пасхальский тип. Он был принят в качестве обязательного образца для сотен каменных исполинов, воздвигнутых на перестроенных аху в следующий культурный период острова Пасхи.
Почему? Чтобы объяснить эту эволюцию и, как это показывает археология, сменивший ее странный застой, приходится обратиться за помощью к этнологам. Нет никаких оснований сомневаться в устной информации, которую получили Кук, Лаперуз и другие путешественники от пасхальцев в поздний период, когда многие статуи еще стояли на своих аху. Изваяния были не идолами в собственном смысле слова, а памятниками, воздвигнутыми на местах погребения королей, вождей и других могущественных лиц.
Каждая статуя была изваяна в честь определенного умершего человека. Многие старики даже после племенных распрей в третьем периоде, когда изваяния были повалены на землю, еще помнили имена некоторых арики – вождей, чьи образы были воплощены в памятниках. При раскопках мы выявили, что в конце среднего и на всем протяжении позднего периода склепы и другие виды погребения были всецело связаны с аху. В ориентированных по солнцу алтареподобных сооружениях раннего периода, которые не украшались статуями, не хоронили. Но перед фасадом ориентированных по солнцу стен, более искусно сложенных и обработанных, мы нашли следы коллективной кремации. Это открытие тоже было совсем неожиданным: до сих пор было неизвестно, что в погребальный ритуал на острове Пасхи некогда входила кремация.
И опять возникает естественный вопрос: почему могущественные вожди в средний период на Пасхе предпочитали, чтобы на их могилах стояли стереотипные копии небольшой статуи из Оронго? Может быть, эта статуя играла какую-то особую роль? На последний вопрос можно ответить утвердительно. Эта единственная статуя, основание которой было выпуклым, установлена на полу внутри помещения; из всех изваяний на острове одна она не подверглась надруганию во время всех трех культурных периодов: ее не пытались ни повалить, ни повредить. Наконец, это единственный монумент, которому поклонялось все население, независимо от родовой или племенной принадлежности. Остальные статуи вместе с аху принадлежали отдельным родам, поэтому во время кровавых распрей позднего периода все они оказалась свергнутыми и разбитыми – это был своеобразный акт мести.
Глубокие шрамы свидетельствуют о попытках обезглавить даже некоторые незаконченные статуи, врытые в землю под каменоломнями Рано Рараку, потому что их не удалось повалить. А идол в каменном доме в Оронго простоял неприкосновенным в течение среднего и позднего периодов. С ним вплоть до прибытия миссионеров во второй половине прошлого столетия были связаны культ плодородия и важные ритуалы, общие для всех враждующих племен острова. При раскопках мы нашли очень много древесного угля – следы ритуальных костров перед входом в большой центральный каменный дом, в котором стояла базальтовая статуя.
Судя по всему, изваяние в доме на вершине самого высокого вулкана в ранний период было связано с ритуалами пасхальских солнцепоклонников. На спине изваяния были высечены символические изображения солнца и радуги. В средний период статую внесли в новое каменное здание и на спине ее появились отличающие этот период символические изображения птицечеловека. Воплощая бога-творца или бога плодородия, этот идол сохранял свою центральную позицию в пасхальских культах; ему поклонялись во время ежегодных празднеств весеннего равноденствия. Если другие статуи, установленные в средний период на родовых аху, воплощали образы отдельных людей, то оронгская скульптура продолжала оставаться общим божеством, почитаемым всеми пасхальцами. А поскольку короли на острове Пасхи, как и во всей Полинезии, и в Перу, считали себя прямыми потомками высшего божества, понятно, что каждый хотел, чтобы его изображение как можно больше походило на божественный образец, известный всему населению. Единственное отклонение, которое допускалось – это увеличение размеров статуи, так как каждый стремился, чтобы его статуя была самой крупной – символом могущества и богатства.
Так выяснилось место известных пасхальских великанов в хронологии сложной истории Пасхи. Все они относятся к среднему периоду; развились эти статуи тут же, на острове, из более древних и меньших по размеру монументов раннего периода; их перестали вытесывать, когда кончился средний период, и наконец без всякого почтения свергли с погребальных аху в поздний период истории острова, продолжавшийся вплоть до исторических времен.
Естественно, возникает вопрос: можно ли хотя бы приблизительно датировать три разнородные культурные эпохи острова Пасхи? Чтобы выяснить это, археологи, не жалея сил, разыскивали связанные с разными периодами строительства органические остатки, по которым можно было бы сделать радиоуглеродный анализ. Прежние попытки датировать первое заселение острова делались на основании генеалогии местных королей, по сообщениям островитян. При этом наиболее древний «ряд королей» – пятьдесят семь поколений – был отвергнут в пользу более короткого ряда, насчитывающего двадцать – тридцать имен. Ведь все считали, что остров Пасхи первоначально был открыт пришельцами из Азии и заселен последним среди тихоокеанских островов, так как расположен он ближе всего к Южной Америке.
Раутледж предполагала, что на остров Пасхи прибыли два потока иммигрантов разного происхождения, причем полинезийцы приплыли примерно в 1400 году. Кнохе тоже считал, что на остров в разное время прибыли два различных народа, первый – между XI и XIII веками. Лавашери и Метро считали культуру острова Пасхи молодой и однородной, открытие острова относили к XII – XIII векам. Энглерт допускал местное слияние двух культур, но полагал, что ни одна из них не могла появиться на острове ранее 1575 года.
Наши раскопки показали, что уже в 380 году (плюс – минус сто лет) на острове было многочисленное население, занятое строительством крупного оборонительного сооружения. Эта дата на тысячу лет опережала все предполагавшиеся до тех пор; вообще ни на одном из островов Полинезии еще не было получено столь древней даты. (VIII) Тщательно отобрав на острове Пасхи древесный уголь и костные останки, мы смогли получить семнадцать радиоуглеродных датировок. Из них две (наиболее интересные) – из легендарного рва, отделяющего полуостров Поике. Островитяне давно рассказывали европейцам, что в этом месте произошла решающая битва между их предками и «длинноухими». И «длинноухие» были сожжены в их собственном оборонительном рву длиной более двух километров.
И геологи, и археологи считали ров естественной геологической формацией. Метро и Лавашери полагали, что пасхальцы придумали легенды, пытаясь объяснить природное явление. Современные этнологи и археологи назвали предание о «длинноухих» и «короткоухих» сплошным вымыслом. Однако первый же шурф показал, что ров полон древесного угля, что здесь примерно в 1676 году (плюс-минус сто лет) пылал огромный костер. Это поразительно совпадало с датой (1680 год), которую патер Себастиан Энглерт еще раньше определил, исходя из утверждения островитян, что битва у Поике произошла двенадцать поколений тому назад.
Раскопки Смита помогли установить, что оборонительный ров был вырыт не наскоро; к 1680 году, то есть к тому времени, когда усобицы завершились массовым аутодафе, он уже представлял собой древнее сооружение, частично занесенное песком и пылью. На дне его Смит нашел осколки обсидиана. Природная складка была расширена до 12 метров и углублена до 4-5 метров; общая длина рва около 2 километров. Вынутый со дна грунт пошел на строительство оборонительного вала вдоль одной стороны; при этом щебенкой было засыпано кострище, по остаткам которого удалось определить, что укреплять окаймленный скалами полуостров начали уже около 380 года. Возможно, обитатели острова не ладили между собой, а может быть, они боялись набегов из страны, из которой прибыли, – рассказы о преследующем враге занимают важное место в древнейших пасхальских преданиях.
Расположенные ниже каменоломен Рано Рараку гребешки и холмики, поросшие травой, прежде считались природными образованиями. На вершине одного холма стоял фундамент священного жилища для ежегодно избираемого птицечеловека. Раутледж и Метро связывали этот фундамент с древнейшими ритуалами пасхальцев. Раскопки Шельсволда показали, что гребешки и холмы – не природные образования, а отвалы грунта. С каменоломен на склоне сюда носили обломочный материал, разбитые рубила, золу. Анализ пепла из костров, некогда горевших на отвалах, позволил датировать ту часть среднего периода, когда в каменоломнях Рано Рараку еще шла работа. Тут и выяснилось, что жилище птицечеловека
– позднее сооружение; оно было выстроено на отвалах среднего периода, когда перестали вытесывать статуи.
По данным радиоуглеродного анализа археологи смогли наметить хронологию трех культурных эпох острова Пасхи. Ранний период начался до 380 года и закончился примерно в 1100 году, средний период продолжался примерно с 1100 до 1680 года, поздний период, начавшись приблизительно в 1680 году, длился до 1868 года, когда миссионеры ввели на острове христианство.
Чтобы получить основу для хронологических и типологических сопоставлений, наша экспедиция после острова Пасхи посетила Питкерн, Раиваваэ, а также два острова Маркизского архипелага – Хива-Оа и Нуку-Хива. Во всей Полинезии только на этих четырех островах, кроме Пасхи, найдены монументальные статуи.
На Питкерне и Раиваваэ находили небольшие скульптуры сравнительно позднего происхождения, однако никто не пытался утверждать, что они были источником вдохновения древних ваятелей острова Пасхи. Но Бак и другие считали примитивными предшественниками совершенных пасхальских статуй неуклюжие гротескные фигуры примерно в рост человека, установленные в двух святилищах Маркизских островов, которые лежат так же далеко к северо-западу от Пасхи, как Перу на востоке. Шельсволду посчастливилось найти древесный уголь в двух слоях под каменной платформой, служащей опорой статуям острова Хива-Оа, а Меллой и Фердон взяли древесный уголь из-под постаментов изваяний острова Нуку-Хива. Ученые узнали, что статуи Маркизских островов были установлены в XIII, XIV и XV веках, то есть в разгар среднего периода культуры острова Пасха. Значит, маркизские скульптуры никак не могли вдохновить первых пасхальских скульпторов; ведь, как мы видели, ваяние развилось на Пасхе уже в ранний период, за тысячу лет до появления маркизских статуй. Ни стилистически, ни хронологически эти статуи XIII-XV веков не могли повлиять даже на тех пасхальцев, которые в средний период наладили массовое производство истуканов для аху: средний период начался около 1100 года. Зато возможность влияния Пасхи на маркизское ваяние хронологически не исключена. (IX) Как известно, один из потомков Оророины (единственного уцелевшего после пожара во рву Поике «длинноухого») показал нашей экспедиции, как двенадцать поколений тому назад грубо заостренными рубилами из твердого андезита островитяне высекали на склонах кратера Рано Рараку огромные статуи, как несколько сот человек могли перетаскивать изваяния по равнине, как двенадцать островитян, располагая только канатами, бревнами и камнями, могли за восемнадцать дней установить на аху исполина весом примерно 20 тонн.
Что же в итоге нам известно о загадке острова Пасхи?
Некогда, до 380 года, то есть более полутора тысяч лет назад, на острове Пасхи высадились первые поселенцы. Они нашли цветущую землю, на которой росно множество разных деревьев и кустарников, а также пальмы. Люди принялись расчищать участки для жилищ, каменных святилищ, каменоломен, где высекались статуи. Хотя на острове не было недостатка в лесе, эти люди, в отличие от полинезийцев, не строили свои жилища из жердей и соломы. Они делали круглые дома из камня, лодковидные – из плит, которые выкладывали ложным сводом. Часто на кровлю шел камыш тотора – растение, корневища которого, несомненно, были привезены с какого-то орошаемого участка на засушливом побережье Южной Америки и высажены в пресноводные кратерные озера вместе с Polygonum amphibium – другим американским растением. И хотя леса было вдоволь, свои необычные суда поселенцы вязали из камыша тотора; такие же суда ходили по водным путям Тиауанако и вдоль тихоокеанского побережья древнего Перу. Чтобы добраться до туфа, скрытого под почвенным слоем, они рубили пальмы, рощи которых покрывали тогда склоны потухшего вулкана Рано Рараку. Из этого туфа, а также из туфов и базальта в других каменоломнях они рубилами американского типа искусно высекали огромные блоки самой различной формы, обрабатывали их и складывали так, что в шов между камнями не проходило даже лезвие ножа.
Техника каменной кладки, которой они владели, была неизвестна в других частях Полинезии, зато она характерна для древнего Перу, от долины Куско до Тиауанако. Очевидно, эти первопоселенцы были солнцепоклонниками: ведь их мощные культовые сооружения представляли собой алтареподобные мегалитические платформы, ориентированные по солнцу. И недаром на самой высокой вершине Пасхи они соорудили солнечную обсерваторию и святилище. В отличие от полинезийцев, жители острова Пасхи не занимались резьбой по дереву, они высекали статуи из твердого базальта и разных туфов, потом устанавливали их в святилищах. Среди этих статуй мы видим скульптуры своеобразного типа, неизвестного на островах Тихого океана, зато характерного для динамического культурного центра Тиауанако. Оборонительное сооружение отделило от острова полуостров Поике; возможно, переселенцы опасались, что в их уединенное убежище вторгнутся те, кто преследовал их еще на родине.
Нам неизвестно, что произошло с людьми, положившими начало культуре раннего периода. Как в Винапу, так и в Оронго археологи нашли признаки временной заброшенности святилищ. Не исключено, что на какое-то время между ранним и средним периодами остров вообще был оставлен жителями. Во всяком случае, люди, пришедшие позднее, враждебно относились к своим предшественникам. Они разрушали старые святилища и перекладывали каменные блоки, не считаясь с искусством обработки и кладки, не думая об ориентации по солнцу. Каменные истуканы тоже были разбиты, а обломки пошли на сооружение новых архитектурных объектов – аху.
Несмотря на враждебность к предшественникам и явное различие в религиозных представлениях, новая культура была так близка к предыдущей, что мы вправе искать ее корни в той же географической области. Возможно, что поселенцы, положившие начало среднему периоду, знали, где лежит остров Пасхи. Прибыв сюда приблизительно в 1100 году, они ввели культ птицечеловека. С культом птицечеловека был тесно связан культ умерших. Большие статуи, изображающие предков, заняли главное место в архитектуре и повседневных занятиях островитян, а различные погребения стали культовыми центрами тех или иных родов. В течение примерно шестисот лет на обезлесенных склонах кратера Рано Рараку (ранее растущие на склонах пальмы давно обратились в развеянный ветром пепел) было высечено более шестисот огромных изваяний. Для поддержания престижа постепенно стали воздвигать все более и более внушительные памятники. Внешние враги не угрожали уединенному острову, и заботой островитян стало перещеголять друг друга в создании статуй для своего рода. К концу среднего периода весь остров был опоясан платформами – аху – с каменными великанами, обращенными лицом к святилищу, спиной к морю. В конце этого же периода вместо кремации перед аху, очевидно, стали совершать коллективные погребения внутри самих аху или на них. Этот обычай стал преобладающим в поздний период.
Когда производство статуй достигло кульминации (перед внезапным концом среднего периода), пасхальские мастера уже умели воздвигать монолитные статуи высотой до 12 метров, что соответствует высоте четырехэтажного дома. Самая большая статуя, установленная на постаменте вдали от каменоломни, весила больше 80 тонн. Высота истукана оказалась 10 метров, да еще на голове его покоился красный каменный цилиндр, весивший 12 тонн – столько же, сколько два взрослых слона. В каменоломне уже шла работа над двадцатиметровой статуей (то есть равной по высоте семиэтажному дому), но около 1680 года внезапно произошла катастрофа. Работы в каменоломнях, на дорогах и на аху были прекращены и больше никогда не возобновлялись. Впервые началось производство наконечников для копий из обсидиана, которыми изобилуют все последующие культурные слои. Статуи были низвергнуты с аху, сожжены камышовые хижины, разрушены опорные степы.
Победителем оказался полинезиец, который не привык высекать статуи и строить из камня. Он строил дома из жердей и соломы и собирал на берегу плавник, чтобы, как это принято во всей Полинезия, вырезать деревянные фигуры. На острове Пасхи важнейшим традиционным деревянным изделием, которое и поныне изготовляется в сотнях экземпляров для продажи, становится причудливая фигура изможденного человека с острой бородкой, орлиным носом и длинными, свисающими до плеч мочками ушей. По словам пасхальцев, так выглядели люди, которых их предки застали на острове и сожгли во рву Поике.
Полинезийцы, приплывшие на Пасху, не привезли с собой ни пестов для приготовления пои, ни колотушек для тапы – двух важнейших предметов домашнего обихода, характеризующих общеполинезийскую культуру. До сих пор не найдено материальных следов, позволяющих определить, когда именно прибыли полинезийцы. Похоже, что это были смиренные пришельцы, послушно принявшие неполинезийскую веру и обычаи. Еще нельзя сказать точно, с какого острова они приплыли сюда. В их преданиях, записанных в прошлом веке, утверждается, что они прибыли карау-карау, то есть за двести лет до восстания, которое закончилось битвой на Поике. Это хорошо согласуется с предположениями, сделанными Раутледж и другими на основе более короткой из двух пасхальских генеалогий (в ней перечислено 22 поколения, а про Хоту Матуа говорится, что он пришел с востока 57 поколений назад).
Многое говорит за то, что полинезийцы не но своей воле прибыли на уединенный остров помогать «длинноухим» островитянам; возможно, их захватили в плен и привезли пасхальцы среднего периода, если, конечно, они посещали Маркизские острова примерно в XIV веке.
Так или иначе, новые пришельцы жили одни среди руин на голом острове Пасхи (сохранив в своей среде небольшой инородный элемент). Когда Роггевен поднял занавес перед европейским зрителем, основное действие давно кончилось и исполнители главных ролей покинули сцену.
ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ И НЕПОЛИНЕЗИЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ
Теперь, когда археологическое исследование выявило на Пасхе несколько культурных и этнических слоев, можно напомнить, что представители других наук (например, физической антропологии, лингвистики и этнографии, причем каждый по ряду пунктов) давно указывали на неполинезийские компоненты в культуре острова.
Правда, к этому долго не прислушивались, так как умозрительное построение, предложенное Метро взамен истории, взяло верх над здравым смыслом. Господствовало мнение, будто некая полинезийская ветвь развилась здесь в уединении и достигла беспримерных высот. Очень уж увлекательной казалась картина неистового творческого порыва, когда художники старались превзойти самих себя.
Но теперь это построение развеялось и собранный материал снова можно рассматривать объективно. В основе этой главы лежит доклад, прочитанный Хейердалом на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, состоявшемся в 1964 году в Москве.
Раскопки на острове Пасхи, предпринятые по инициативе Норвежской археологической экспедиции в 1955-1956 годах и продолженные У. Меллоем и Г. Фигероа (университет Сантьяго), показали, что на Пасхе происходила смена культур. Памятники народа, религиозные и архитектурные представления которого в корне отличались от представлений людей, живших в поздний период, относятся к поре, опередившей на тысячу лет эпоху, с которой до сих пор связывали первое заселение острова.(1) Эти открытия вынуждают заново рассмотреть исторически известную пасхальскую культуру, чтобы выяснить, нет ли в ней элементов каких-то иных доисторических традиций. Тот факт, что ныне на острове живет полинезийский народ, говорящий на полинезийском наречии, приобретает новый смысл, если учесть, что в культурном наследии пасхальцев есть много черт, отличающих его от общеполинезийского наследия.
Кстати, мысль о том, что на уединенном острове Пасхи слилось несколько культур, возникла задолго до упомянутых раскопок. Голландцы, открывшие остров в 1722 году, а затем испанцы, вновь открывшие его в 1770 году, описывают представителей многочисленных этнических групп, которые жили на острове.(2) Когда же Кук в 1774 году – всего через четыре года после испанцев – высадился на Пасхе, он нашел сильно поредевшее и истощенное войной население явно полинезийского происхождения. Кук проводит четкую грань между этими островитянами и монолитными статуями Пасхи; он считает, что изваяния – памятники какой-то давней эпохи.(3) Первые европейцы, поселившиеся на острове, услышали от пасхальцев рассказ о двух волнах миграции: одна пришла с востока, вторая с запада. При этом островитяне упорно твердили, что после многолетнего периода мирного сосуществования с другим островным народом наступил период, когда их предки почти совсем истребили этот другой островной народ, представлявший иную культуру.(4) Томсон(5), который при посредничестве Салмона беседовал с пасхальцами, тоже предполагал, что острова достигла не одна волна переселенцев.
В. Кнохе(6), руководивший чилийским научным отрядом, обратил внимание на сложный состав элементов пасхальской культуры, он заключил, что культурному слою, характерному для преобладающего ныне населения, предшествовал неполинезийский слой. Он отверг взгляд английского специалиста по Андской области Клемента Маркхема(7), предполагавшего связь с Тиауанако. Кнохе заявил, что южноамериканские плоты не могли пересечь океанские просторы, он допускал дополинезийскую волну переселенцев из далекой Меланезии.
Английский антрополог Бальфур8 утверждал, что культура Пасхи неоднородна, что была по меньшей мере одна дополинезийская волна переселенцев, вероятно, из Меланезии. А. Хеддон(9) предполагал, что этого уединенного островка достигли три волны переселенцев – одна из Австралии, вторая из Меланезии и последняя из Полинезии. Хеддон опирался на исследование черепов европейскими и американскими антропологами Фольцом, Хеми, Джойсом, Пикрофтом и Кейсом. Все эти видные ученые находили у пасхальцев неполинезийские черты.
Первое систематическое исследование памятников на острове, правда, без раскопок, провела Кэтрин Раутледж(10). Ее научные записи были утрачены, но в популярной книге она высказывает мнение, что в основе пасхальской культуры явно есть какой-то неполинезийский элемент. Она заключает: «Очевидно, что здесь перед нами смешанная раса…».
Американский антрополог Г. Шапиро(11) снова рассмотрел проблему с позиций физической антропологии и установил, что мнения ученых в этой области сильно расходятся. Сам он заключил: «Кто связывает остров Пасхи с населением Меланезии или Австралии… вступает в противоречие с известными фактами». Метро(12) счел это отрицание меланезийского фактора вполне обоснованным. В своей монографии об этнологии острова Пасхи он пишет о том, что исследование археологических памятников убедило его в единстве культуры острова Пасхи.
Его коллега Лавашери(13), единственный квалифицированный археолог, посетивший Пасхи до 1955 года, подчеркнул, однако, что работа экспедиции свелась к общим наблюдениям и зарисовкам наземного материала. Стратиграфическими раскопками члены экспедиции не занимались, ибо господствовало представление, что почвенный слой на острове не менялся, поэтому памятники разных периодов надо искать не в земле, а на ее поверхности. Лавашери осторожно заключил: «По-видимому, полинезийцы нашли остров Пасхи необитаемым и лишенным следов каких-либо построек; впрочем, у нас нет доказательств этого утверждения».
В 1941 году я вернулся к свидетельствам, говорящим в пользу комплексного характера пасхальской культуры, но вместо меланезийского субстрата предложил субстрат из соседней Андской области.(14) Позднее патер Энглерт(15) пересмотрел результаты археологического исследования наземных памятников и оспорил выводы Метро и Лавашери. Он вернулся к предположениям Кэтрин Раутледж и других исследователей о том, что полинезийскому этническому и культурному слою предшествовал какой-то другой слой. Старую гипотезу об иммиграции из Меланезии он видоизменил, указав на важные совпадения в элементах культуры с древним Перу.
В области лингвистики было, пожалуй, меньше оснований искать чужеродный субстрат. Однако Энглерт(16), наиболее тщательно исследовавший современный пасхальский язык, заключает, исходя из преданий, что ранняя инородная этническая группа говорила на другом языке. Наличие синонимов в современном рапануйском наречии может объясняться тем, что одновременно существовало дна языка.
Первый словарь, в который вошло девяносто четыре пасхальских выражения, был составлен в 1770 году участником испанской экспедиции Агуэрой.(17) В словаре много характерных слов полинезийского происхождения, но содержатся и явно неполинезийские слова. К последним относятся, в частности, числительные от одного до десяти. Привожу эти числительные (в скобках – полинезийские числительные на современном рапануйском наречии): кояна (этахи), корепа (эруа), когохуи (этору), кироки (эха), маяна (эрима), феуто (эоно), фегеа (эхиту), мороки (эвару), виховири (эива), керомата (ангахуру).
Росс(18) и Метро(19), чтобы объяснить, откуда взялись эти, казалось бы, не имеющие никаких корней на Пасхе слова, предположили, что Агуэра неверно истолковал их смысл. Но даже если это так, они остаются чужеродным элементом в полинезийском языке: ведь другого толкования мы все равно не находим.
Как показывает Энглерт(20), примерно с 1772 по 1774 год, как раз перед прибытием Кука, на острове, очевидно, шла разрушительная война. Плантации были опустошены; осталась горстка измученных войной, живущих в крайней нужде полинезийцев. Только они встречали разочарованных англичан, которые не смогли здесь запастись даже достаточным количеством провианта.
Кук и его спутники вполне понимали, насколько отличаются эти несколько сот уцелевших пасхальцев от многочисленного процветающего населения, описанного предыдущими исследователями. Он и естествоиспытатель Г. Форстер сразу определили полинезийский элемент. По их описанию, уцелевшие островитяне – это малорослые, щуплые, боязливые и жалкие люди. Оба исследователя предположили, что на острове произошла какая-то катастрофа, и только грозные монументы остались свидетелями былого величия(21). Позднейшие исследователи забыли об этой резкой перемене, происшедшей между визитами европейцев в 1770 и 1774 годах. Между тем археологические находки и устные предания свидетельствуют, что примерно в 1680 году, то есть незадолго до визита Роггевена, тоже была уничтожена немалая часть населения острова.(22) Мы не знаем, в какой степени ко времени прибытия Кука на Пасху там сохранились неполинезийские языковые элементы, потому что Кук(23) и Форстер(24) записали для сравнения только такие слова, которые они и их переводчик с Таити смогли отождествить с таитянскими. Непонятные выражения не принимались во внимание. Сам: Кук признавал, что словарик из двадцати восьми слов, родственных таитянским, не характеризует пасхальского языка той поры. Ведь пишет же он о первом пасхальце, который поднялся на борт корабля, что «язык его оказался совершенно непонятным"(25) и для таитянского переводчика.
Еще до появления полного словаря рапануйского языка на остров в 1864 году прибыл миссионер Эйро. Он привез с собой, кроме мангаревцев, немногочисленную группу пасхальцев, переживших эпидемию оспы в Перу, куда они были угнаны в рабство. Они вернулись на родину через Таити. Письменность и речь сильно сократившегося населения Пасхи подверглись влиянию таитянского диалекта.
Вскоре французский миссионер Руссел(26) составил рапануйский словарь, опубликованный после его смерти. Но еще при жизни Руссела английский хирург Пальмер(27) писал: «Язык их изменился так сильно, что никто не может сказать, каким он был первоначально».
Влияние таитянского диалекта еще больше усилилось, когда в 1871 году большинство пасхальцев отправились на Мангареву и Таити, а на острове, население которого к 1878 году сократилось до 111 человек, обосновались говорящие на полинезийском языке овцеводы и проповедники.(28) Лексика потомков этих 111 пасхальцев, которых обучали в школах на таитянском наречии, и легла в основу большинства словарей острова Пасхи. Неудивительно, что языковед Черчилль(29), сравнивая свой собственный словарь с рапануйским текстом, записанным на острове Томсоном со слов жителей предыдущего поколения, сообщал в 1912 году: «Об этом тексте мы можем лишь сказать, что это не тот рапануйский язык, который мы видим на страницах словаря; не отвечает он и наречиям каких-либо иных известных полинезийских народов, речь идет, скорее, о смешении нескольких языков».
Независимо от того, что к глоттохронологии (так называется метод, сторонники которого по характеру и степени языковой дифференциации определяют начало обособленного развития языка) многие относятся скептически, ко всяким подсчетам, основанным на нынешней пасхальской лексике, вообще нужно подходить очень осторожно(30), так как этот метод очень ненадежен. (X) Говорящая на ломаном таитянском диалекте группа, которая прививала свою речь немногочисленному покорному населению Пасхи, состояла из полинезийцев, обращенных в христианскую веру. Они не привезли с собой понятий, связанных с их прежним пантеоном. Поэтому богам и богиням острова Пасхи не пришлось потесниться, уступая место божествам, занимавшим ведущее место в собственно Полинезии. Высшие полинезийские божества Ту, Тане, Тангароа, Тики и Мауи не играли никакой роли в религии пасхальцев. Хиро, Ронго, Тангароа и Тики были известны по преданиям, но их не почитали и им не поклонялись. Метро(31) справедливо отмечал: «Наиболее приметной чертой пасхальской религии является то, что важнейшим богам и героям других полинезийских религий придается весьма малое значение». Он предположил: «Значение, придаваемое в пасхальской мифологии богам, имена которых неизвестны в остальной Полинезии, свидетельствует о том, что переселенцы, прибывшие на остров, заменили главных богов богами низшего ранга, снабдив их соответствующими атрибутами и достоинством «.(32) Однако в Полинезии нет божеств низшего ранга, носящих те имена, которые по-настоящему почитались на Пасхе. Высшим божеством пасхальцев был Макемаке. Кроме него, поклонялись и приносили жертвы только Хауа(33). В других частях Полинезии не знали даже имен Макемаке и Хауа. Предположение, что речь идет о неполинезийских богах, доставшихся пасхальцам в наследство от носителей другой культуры на самом острове, кажется более правдоподобным, чем гипотеза о полинезийских переселенцах, которые будто бы, прибыв на необитаемый остров, выбросили за борт всех общеполинезийских богов, то есть принесли их в жертву собственному изобретению, совершенно чуждому их предкам. Это было бы совсем непохоже на полинезийцев.
И ведь Макемаке был не просто обожествленным героем, он являлся верховным божеством пасхальцев, которые считали его творцом земли и моря, солнца, луны и звезд, человека и всего живого. Он вознаграждал добродетельных и карал дурных людей после их смерти, о своем гневе он давал знать громовыми раскатами.
Фердон(34) показал, что символ Макемаке тесно связан с сооружениями для наблюдения за солнцем и с другими следами солнцепоклонничества, обнаруженными в Оронго, на вершине самой большой горы острова Пасхи. Ритуальное поселение Оронго с его искусно выполненными каменными строениями было центром культа Макемаке и всей религиозной деятельности, общей для всего острова. Причем постройки и приуроченные к ним ритуалы были такими же неполинезийскими, как сама фигура Макемаке. Сооруженная здесь обсерватория для наблюдения положения солнца во время солнцестояния и равноденствий пока что остается уникальной во всей Полинезии.
Зато такие сооружения обычны на ближайшем материке, в Перу. И здесь, как на Пасхе, они служат центром религиозных ритуалов.(35) Мы установили, что ритуальное поселение Оронго и по архитектуре не является полинезийским. Нигде больше в Полинезии не проявлялось стремление соединить вместе несколько домов. Но это свойственно древнеперуанской архитектуре – и в горах, и на побережье. Не знает параллелей в Полинезии и высокоразвитая техника строительства домов в Оронго. Это относится к кладке стен, ложному своду, искусному соединению под острым углом наклонных стен. Такие каменные дома характерны для строительного искусства Перу и прилегающих областей Южной Америки.(36) Археологи свидетельствуют, что к культу Макемаке, то есть солнцепоклонничеству, позднее добавился общий для всех островитян культ птицечеловека, если не совсем был вытеснен им. Здесь главную роль играло неполинезийское божество Хауа. В средний период все скалы в Оронго были покрыты изображениями человеческой фигуры с птичьей головой. Ритуальными стали ежегодные заплывы на заостренных, как клык, поплавках из камыша тотора к островку у побережья за первым яйцом. Победитель считался священным птицечеловеком и в течение года получал почти неограниченные социальные привилегии.
Метро(37) пишет: «Глядя на руины Оронго и многочисленные изображения птицечеловека на скалах, невозможно оспаривать значение культа птицечеловека. Предания, свидетельства ранних миссионеров и путевые заметки мореплавателей подтверждают первостепенную роль ритуалов этого культа, а также рисуют социальные отношения во время этих ежегодных соревнований… Весь комплекс культа птицечеловека… не знает параллелей в остальной Полинезии… Нигде больше не было всеобщих состязаний, за которыми следовало поклонение священному человеку». Фердон(38) пишет: «Хотя художественные изображения пасхальского птицечеловека сейчас кажутся уникальными, следы культа птицечеловека в Тиауанако (Боливия), а также в культуре чиму на северном побережье Перу позволяют предположить американское происхождение пасхальского культа».
Применявшиеся в состязаниях камышовые плоты с острым носом – еще одна неполинезийская черта. Плавучие средства из растительного материала использовали в прошлом в Новой Зеландии, но там они формой не напоминали клык, кроме того, делали их из Phormium tenax – местного представителя лилейных. Материал этот быстро намокал.(39) Зато остроносые лодки такого же размера и формы, как на Пасхе, сделанные из такого же камыша, были самым распространенным плавучим средством в древнем Перу. На озере Титикака, особенно у тихоокеанского побережья, камышовые лодки порой достигали поразительных размеров.
Стоит отметить, что изображение знакомого нам птицечеловека с длинным изогнутым клювом часто встречается среди памятников древней культуры чиму, причем птицечеловек плывет на камышовых лодках.(40) Шведский ботаник Скоттсберг(41) недавно показал, что на Пасхе первоначально рос неполинезийский камыш Scirpus riparius (по новейшим данным, Scirpus tabora) –
американское пресноводное растение, которое из искусственно орошаемых участков в приморье Перу могло попасть на пасхальские пресноводные озера лишь при посредничестве человека. Фердон(42) отмечает, что существование на острове Пасхи не только камышового плота южноамериканского типа, но и самого растения, которое шло на такие плоты, «служит веским доказательством контакта с Америкой и позволяет предположить, каким образом элементы американской культуры могли достичь острова Пасхи».
Большие и малые камышовые лодки занимают видное место в стенных росписях домов Оронго. Мы видим тут также стилизованное изображение двухлопастного пасхальского весла. В остальной Полинезии двухлопастного весла нет, им не пользовались даже в ритуальных танцах, как это было на Пасхе. Зато оно было широко распространено в Америке; в древнем Перу его использовали гребцы на камышовых плотах.(43) Далее, изображенные в Оронго личины имеют «плачущий глаз» – постоянный элемент всего пасхальского искусства.(44) «Плачущего глаза» тоже нет нигде в остальной Полинезии; вместе с тем его считают характерным мотивом ранних культур Перу и сопредельных областей Америки. Типичным примером могут служить изображения птицечеловека на тиауанакских Вратах Солнца.(45) Верховный бог Макемаке изображался в Оронго в виде животного, напоминающего кошку. Томсон(46) писал об одном наскальном рельефе, который считал самым древним: «Наиболее часто встречается мифическое существо, полузверь-получеловек, с выгнутой спиной и длинными, переходящими в когти руками и ногами. По словам островитян, это символ бога Меке-Меке…». Томсон считал это изображение «удивительно схожим» с мотивом, виденным им на побережье Перу. Кошка с выгнутой спиной, втянутым животом, длинными ногами, круглой головой и раскрытой пастью вырезана рядом с птицечеловеком и на пасхальских дощечках.(47) Жоссан предположил, что речь идет о крысе(48), так как на островах Южных морей нет хищных кошек. Зато они есть в Южной Америке и со времен культуры тиауанако от Мексики до Перу служили символом бога-творца.
У каждого рода наряду с главным культовым центром Оронго, единым для всех племен Пасхи, была своя платформа со статуями, связанная с культом предков. В поздний период постаменты напоминали культовые сооружения других островов Юго-Восточной Полинезии. Однако при раскопках выявилось, что аху были выстроены поверх более древних конструкций, они имели другой рисунок и выполняли иную задачу. На месте задней стены аху находился фасад ранних сооружений, в которых не было склепов; они не предназначались для установки исполинских статуй. Позднейшие постаменты с пристроенными крыльями ориентировались беспорядочно и представляли собой массивные сооружения из каменных глыб и бывших в употреблении плит; ранние конструкции предстают перед нами как астрономически ориентированные алтари с искусной облицовкой из тщательно обтесанных и пригнанных блоков.
Многочисленные статуи, водруженные на позднейшие постаменты – аху, были обращены лицом внутрь острова. В позднее время ритуал совершался на площадке перед ними, а в ранний период – у обращенного к морю высокого фасада платформы, ориентация которой была согласована с годовым движением солнца. Щели в тех местах кладки, где грани прямоугольных или многоугольных блоков не совпадали, были аккуратно заполнены щебнем; получалась очень ровная, чуть выпуклая стена. Нигде в Полинезии не найдено ничего похожего на эту совершенную технику каменной кладки. Правда, на некоторых островах можно увидеть старательно выложенные стены, но их отделка не идет ни в какое сравнение с отделкой пасхальских стен, и они не согласовывались с движением солнца. Зато мегалитические культовые платформы со щебневым заполнением, ориентированные по солнцу и облицованные мастерски высеченными и пригнанными плитами, то есть платформы, кладка которых так же совершенна, как в ранний период на Пасхе, встречаются во многих областях Перу доинкского периода, от долины Куско и Руми-Кольке до Оллантай-Тамбо и Тиауанако.(49) Бак50 предлагал считать предшественниками пасхальских изваяний немногочисленные в рост человека каменные статуи Маркизских островов. Эта гипотеза опровергается новейшими раскопками и радиоуглеродным анализом. Маркизские платформы с идолами, о которых здесь идет речь, появились намного позже той поры, когда на Пасхе начали вырубать статуи среднего периода.(51) А различные пасхальские скульптуры раннего периода относятся к слою, который вообще не дает нам антропоморфных монолитов ни в Полинезии, ни в Меланезии, ни в Микронезии. Вместе с тем огромные статуи, воздвигнутые под открытым небом, были характерными для святилищ в соседних областях северо-западного угла Южной Америки. Три из четырех типов скульптур раннего пасхальского периода, о котором до раскопок ничего не было известно, очень близки к своеобразным типам статуй раннего периода Тиауанако.(52) Бросается в глаза разнообразие погребальных обрядов на крохотном острове Пасхи. Наши раскопки позволили открыть новые ритуалы. Сначала перед ориентированной по солнцу стеной Винапу, а затем перед другими пасхальскими аху Меллой нашел примыкающие друг к другу каменные гробы с кремированными останками.(53) Кремация известна на Новой Зеландии, но в остальной Полинезии не обнаружена. Случайные следы кремации найдены в Меланезии, и установлено, что она применялась в западной части Южной Америки.(54) Неизвестны в Полинезии и широко распространенные на Пасхе овальные могильники из камня, полые внутри; в эту полость помещали вторичные останки.(55) Нет в остальной Полинезии и цилиндрических, увенчанных ложным сводом каменных башен, которые на Пасхе называют тупами. Зато они в точности повторяют южноамериканские погребальные башни, известные под названием «чульп» и особенно часто встречающиеся в области Тиауанако.
Если обратиться к жилым постройкам, то мы опять увидим совсем неполинезийскую картину. В статье, посвященной типам пасхальских жилищ, Фердон(56) пишет: «Одна из многих черт, которые так хорошо отличают комплекс материальной культуры острова Пасхи от культур других полинезийских островов, – многообразие типов жилищ… По своей общей конструкции каждый из этих типов является уникальным в Полинезии; это порождает еще одну проблему, которую вряд ли можно объяснить только самостоятельным развитием».
Один из основных ранних типов жилищ особенно часто встречается в восточной части острова. Речь идет о круглых каменных домах с толстыми двойными каменными стенами со щебневым заполнением, встроенными погребами и входом через крышу, которая, по-видимому, была конической и делалась из камыша. Местами такие круглые дома примыкали друг к другу, у них были смежные стены; получались поселения с единообразной планировкой.(57) В полинезийской культуре ничего похожего нет, зато эти дома во всем, вплоть до такой детали, как вход через камышовую крышу, схожи с круглыми толстостенными и многокомнатными каменными домами тихоокеанского побережья ниже Тиауанако.(58)
 План пасхальского селения со смежными домами.
План пасхальского селения со смежными домами.
Не менее распространенными, чем круглые дома с вертикальными стенами и камышовой крышей, были продолговатые лодковидные жилища из положенных горизонтально друг на друга каменных плит. Характерные черты этих жилищ – тщательная подгонка камня в местах соединения стен постройки под острым углом, кровля ложным сводом и вход через туннель сбоку. Ритуальное поселение Оронго представляет собой наиболее сохранившийся образец этой примечательной неполинезийской архитектуры, но и в других частях острова есть развалины отдельных домов и даже руины целого поселения такого же рода.(59) Пасхальские камышовые хижины, в отличие от полинезийских (деревянные каркасы, крытые пальмовыми листьями), были не прямоугольными и не овальными, они сохраняли в плане ту же своеобразную ланцетовидную форму, что и каменные дома с конструктивно обусловленными острыми концами. Необычная форма, применение южноамериканского камыша, жердей, вставлявшихся в отверстия, пробуренные в каменном фундаменте, который выкладывался из тщательно обтесанных и пригнанных плит, – все это отличает даже пасхальские дома исторической поры от жилищ остальной Полинезии.(60) Повсюду встречающиеся базальтовые фундаменты – паенга – принадлежат к самым частым археологическим находкам на Пасхе. Ничего похожего нет в других частях Океании.(61) Пасхальский очаг, не имеющий ничего общего с применяемой во всей Полинезии земляной печью, сооружался из прямоугольных каменных плит и блоков, устанавливаемых торчком. Наполовину врытые в землю, они образовали квадратную или пятиугольную фигуру. И опять перед нами конструкция, которая была хорошо известна в древнем Перу и выполняла там ту же функцию.(62) Можно привести немало других подробностей, но ограничимся здесь общим обзором орудий, утвари и других изделий.
Основное оружие, наиболее часто встречающееся на Пасхе, – матаа, обсидиановый наконечник для копья с черенком, позволяющим крепить наконечник к древку; в нем нет ничего полинезийского. За пределами острова Пасхи найдено всего два матаа, оба в могилах древних жителей чилийского приморья. Были ли они изготовлены на месте или привезены (может быть, как раз с Пасхи), остается невыясненным.(63) Каменные топоры из слоев последнего пасхальского периода весьма разнотипны. Топоры с симметрично обитым с двух сторон клинком (то есть собственно топоры, а не тесла) нельзя назвать типично полинезийскими. Тем не менее их находили при раскопках в слоях среднего периода. Заостренные с одного или с двух концов ручные рубила составляют на Пасхе основную массу находимых орудий труда: ведь ими пользовались все каменотесы. Однако они не являются характерным полинезийским элементом. Зато в Америке эти рубила, как и упомянутый выше топор, были широко распространены.
В чрезвычайно пестром пасхальском наборе рыболовных крючков важнейшее место занимает сплошной каменный крючок, не встречающийся ни в Полинезии, ни в прилегающих к ней областях. По не выясненной пока причине его встречают в культурных слоях на островах у побережья Калифорнии. Кроме того, сплошные каменные крючки делали только на южноамериканском побережье ниже Тиауанако.(64) Важнейший элемент всех полинезийских культур – каменный пест для приготовления пои. Тем резче бросается в глаза его полное отсутствие на Пасхе. Хотя тут выращивали таро, но пои, основную полинезийскую пищу, не делали.(65) Отсутствовал на Пасхе и кава – распространенный по всей Полинезии ритуальный напиток, присущий лишь полинезийской культуре.
Сделанная из дерева или китовой кости ребристая колотушка для тапы (наряду с пестом главный предмет полинезийской утвари) на острове Пасхи не применялась, пока ее не ввезли уже во времена миссионеров. Пасхальны выколачивали свой луб махуте окатанными морем голышами и соединяли получившиеся полосы совсем не на полинезийский лад – сшивали их с помощью иголки и нитки. Как показал Метро(66), остров Пасхи – единственное место во всей Полинезии, где одежду из тапы шили. Соответственно важным элементом пасхальской культуры стала маленькая костяная игла с ушком. Наша экспедиция нашла 163 таких иглы. Этот тип изделий чрезвычайно редок в Полинезии, зато подобные ему изделия известны в древнем Перу.(67) Единственным предметом обстановки в домах были циновки из южноамериканского камыша тоторы и каменные подушки с нацарапанным рисунком, не употреблявшиеся в Полинезии. Применение на острове каменных подушек (они известны также у многих южноамериканских народов) неверно объясняли(68) нехваткой древесины – довод, которым долго оперировали исследователи.
 Положение острова Пасхи по отношению к ближайшим островам Полинезии и побережью Южной Америки. Наглядно видно сколь мала разница в расстоянии до соседей на западе и на востоке.
Положение острова Пасхи по отношению к ближайшим островам Полинезии и побережью Южной Америки. Наглядно видно сколь мала разница в расстоянии до соседей на западе и на востоке.
До сих пор вне поля зрения ученых оставались повсеместно встречающиеся на Пасхе неполинезийские жернова, очень похожие на американские метате. Для чего древние пасхальцы применяли эти жернова, неизвестно. Не менее часто попадаются (тоже неполинезийские) маленькие миски из полированного базальта в форме полушария. Аналогичный тип распространен на северном побережье Чили.(69) Личные украшения и знаки достоинства пасхальцев – например, деревянные реи миро (плоский кусок дерева в виде полумесяца, обычно с бородатой мужской физиономией на концах; по словам островитян, реи миро символизировали, во-первых, луну, во-вторых, те самые суда, на которых приплыли на Пасху их предки) и тахонга (кусок дерева, напоминающий по форме яйцо или кокосовый орех; на тупом конце часто вырезалась двойная человеческая голова; тахонга вешали на грудь) – сильно отличаются от полинезийских.
Даже столь важные моаи кавакава (резное изображение изможденного мужчины с торчащими ребрами, впалым животом, орлиным носом, козлиной бородкой и свисающими до плеч ушами; местные предания утверждают, что это портрет единственного представителя первых обитателей острова, который уцелел после жестокой битвы), моаи паапаа (плоское деревянное изображение женщины с некоторыми мужскими чертами) и прочие деревянные скульптуры – основные атрибуты искусства и ритуалов острова Пасхи, неизвестны в Полинезии. У них нет ничего общего с фигурками тики.
Перечень пасхальских элементов, отсутствующих в Полинезии, и полинезийских элементов, которых нет на Пасхе, можно продолжить, но мы уже назвали важнейшие предметы местного быта и черты религиозных обрядов. Поэтому достаточно в заключение сослаться на дощечки ронго-ронго, ставшие предметом столь оживленного обсуждения. Полинезийцы но знали письменности, а между тем именно остров Пасхи, занимающий обособленное географическое положение, оказался единственным из островов Южных морей, где обнаружена письменность. Исследованиям этого вопроса посвящена следующая глава.
Трудно объяснить сложную историю острова Пасхи, если догматически отвергать влияние культур Нового Света. И ведь от Пасхи до Нового Света расстояние ничуть не больше, чем до Центральной Полинезии на западе.
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОСТРОВА ПАСХИ И ПИСЬМЕННОСТЬ РОНГО-РОНГО (XI)
Остров Пасхи, ныне принадлежащий Чили, приобрел в последние десятилетия известность не только благодаря экспедиции Хейердала. Прошел слух, будто один немецкий ученый, применяя методы дешифровки, разработанные в годы второй мировой войны, обработал собранный епископом Жоссаном материал и раскрыл наконец тайну пасхальской письменности. Во всяком случае, печать превозносила этого ученого как толкователя письмен острова Пасхи и Хейердалова супостата. Но опубликованный отчет оказался чрезвычайно сдержанным. Впечатление, что многое осталось невыясненным, подтвердилось тем, что в расшифровку включились советские исследователи, применяющие самые современные способы. Причем они считают, что проблема прочтения пасхальских дощечек далеко не решена; больше того, они сомневаются, что ее вообще можно решить.
Хейердал внес немалый вклад в решение этой проблемы. Он не ограничивается ссылками на собранный экспедицией материал, а тщательно разбирает все, что почти за двести лет стало известно от островитян о дощечках с письменами.
Интерпретируя толкования, предложенные самими пасхальцами, Хейердал пришел к тому же заключению, к какому другим путем пришли советские исследователи: язык дощечек, очевидно, так же чужд для Полинезии, как и письмена. Некоторые признаки как будто указывают на связь с Южной и Средней Америкой.
На первый взгляд, аргументация Хейердала может показаться чрезмерно обстоятельной, отдельные факты повторяются и рассматриваются с различных сторон, но это необходимо при той осторожности и сдержанности, с которой он формулирует свои выводы. Зато читатель приобщается к увлекательной, кропотливой работе исследователя, когда словно при расследовании уголовного дела, отыскивается деталь за деталью и возникает мозаичная картина, призванная выявить истину.
Текст этой главы первоначально был напечатан во втором томе «Отчетов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и в восточную часть Тихого океана». Он был дополнен статьями Т. Бартеля, Ю. Кнорозова, И. Федоровой и А. Кондратова, а также образцами письменности.
На VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве в 1964 году русские исследователи ронго-ронго сообщили, что содержание дощечек с письменами острова Пасхи все еще неизвестно, хотя некоторые утверждают обратное.(1) Ю. Кнорозов и его коллеги считали, что ронго-ронго – иероглифическое письмо, однако, по их мнению, неверно было бы отождествлять язык дощечек с современным рапануйским языком, как это делалось до сих пор.(2) Этот вывод сам по себе является важным шагом вперед и побуждает еще раз критически рассмотреть сведения, сообщенные пасхальцами в XIX веке. Ведь все известные попытки расшифровать кохау ронго-ронго исходили из предположения, что язык и письменность дощечек были известны некоторым островитянам той поры, когда на Пасхе уже обосновались миссионеры. (XI)
ПОДПИСИ ПАСХАЛЬЦЕВ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА ГОНСАЛЕСА В 1770 ГОДУ
Первое сообщение о том, что у жителей Пасхи, в отличие от всех остальных полинезийцев, была какая-то письменность, мы находим в официальной записке коммодора Фелипе Гонсалеса, датированной 19 ноября 1770 года. Гости провели среди островитян четыре дня и, очевидно, подметили, что на острове есть своя письменность, ибо перед тем, как испанцы торжественно именем короля Испании вступили во владение островом, Гонсалес отдал дону Хосе Бустильо, назначенному руководить церемонией, письменное распоряжение: «…и поручите казначею представить вам отчет обо всем, что происходило, и присовокупите грамоту признанных вождей, или кациков, подписанную их собственными письменами, в подтверждение того, что они во всем согласны и всем довольны…».
Старинная рукопись, повествующая о ходе церемонии, сообщает: «И тогда, после того как грамота о вступлении во владение островом была подписана всеми участниками экспедиции, они предложили кацикам сделать то же самое в знак покорности королю Испании. И вожди начертали письмена в рукописи, их подлинность и достоверность засвидетельствована секретарем экспедиции, сеньором Антонио Ромеро».(3) В другом отчете о той же церемонии один из офицеров экспедиции пишет: «Акт передачи власти был засвидетельствован с соблюдением надлежащих формальностей, и, чтобы придать еще большую достоверность столь важному делу, некоторые из присутствовавших при сем туземцев подписали или утвердили официальную грамоту, начертав на ней знаки своей собственной письменности».(4) Знаки, которыми пасхальцы в 1770 году подписали договор с испанцами, заметно отличаются от знаков, известных нам по дощечкам ронго-ронго, за исключением знака, изображающего фрегат. Эта птица – обычный сюжет пасхальского искусства, ее изображение мы видим на стенных росписях в домах и пещерах.(5) Можно было бы назвать пасхальские «подписи» 1770 года попросту каракулями, начертанными в подражание знакам испанской письменности, если бы мы не знали, что к этому времени на острове, вероятно, существовали дощечки ронго-ронго. Поэтому приходится выбирать одну из двух взаимоисключающих возможностей: либо пасхальцы XVIII века только делали вид, будто умеют писать, либо они изобрели (или унаследовали) письмена, отличные от тех, которые нам известны по кохау ронго-ронго.
Независимо от того, какая альтернатива верна, налицо важная информация: пасхальцы позднего периода, когда им в 1770 году представился случай «писать», не воспользовались знаками, вырезанными на деревянных дощечках.
ОТКРЫТИЕ КОХАУ РОНГО-РОНГО И РАССПРОСЫ ПАСХАЛЬДЕВ
До 1864 года, когда на острове Пасхи поселился брат Эжен Эйро(6), мало кто навещал пасхальцев, да и то на очень короткое время. Возможно, и до него кто-нибудь из чужеземцев видел дощечки ронго-ронго, но он первым поведал миру об их существовании. В декабре 1864 года Эйро писал верховному генералу конгрегации «Святого сердца Иисуса и Марии»: «Во всех их домах можно увидеть деревянные дощечки или палки, покрытые всякого рода знаками, изображающими неизвестных на острове животных; эти знаки туземцы чертят острым камнем. У каждой фигуры есть свое название; но так как туземцы придают этим дощечкам мало значения, я склонен думать, что эти знаки – пережиток примитивной письменности – для них ныне стали традицией, которую сохраняют, не доискиваясь ее смысла. Туземцы не умеют ни читать, ни писать…»
Похоже, что исследователи недостаточно внимательно отнеслись к этому свидетельству первого наблюдателя, близко познакомившегося с пасхальцами в те времена, когда на острове еще сохранялась исконная культура и кохау ронго-ронго были в обиходе.
Итак, Эйро, знавший всех жителей острова, утверждает, что никто из них не умел читать и что владельцы дощечек знали каждый знак сохранившейся письменности лишь по названию, а смысла не понимали.
Сообщение Эйро подтверждается наблюдениями патера Ипполита Руссела и патера Гаспара Зумбома. Они оба поселились на острове Пасхи через два года после прибытия Эйро. Но если Эйро поначалу в каждом доме находил дощечки с письменами, то теперь они почти все исчезли. Как ни странно, Эйро никогда не говорил на эту тему со своими коллегами, но Руссел(7) докладывал своим начальникам: «Их песни сопровождаются ритмичными движениями, весьма монотонными и крайне непристойными. Они утверждают, будто у них есть своего рода письменность, благодаря которой они сохраняют для потомства важнейшие события, происходящие на их земле. Я видел знаки этой письменности на продолговатом куске полированного дерева, они очень напоминают египетские иероглифы. Лично мне кажется, что вряд ли они понимают смысл этих знаков. Некоторые из индейцев уверяли нас, будто понимают их, но когда мы устраивали проверку, то слышали только какие-то нелепые и невразумительные истории».
Его коллега Зумбом(8) сообщал: «Сначала несколько слов об иероглифах. Иногда нам попадались на берегу некие камни со следами гравировки, но так как здешние туземцы не придавали этому большого значения, мы не видели причин задумываться над находками. Однажды, когда я совершал прогулку со школьниками, о которых еще расскажу, я увидел в руках одного мальчика странный предмет, найденный им среди скал. Это был кусок дерева около 35 сантиметров в длину и около 30 в ширину, слегка закругленный с одного конца. Можно было различить стоящие правильными рядами знаки, к сожалению, поврежденные выветриванием. Видя, как внимательно я рассматриваю находку, ребенок преподнес ее мне, и я ее сохранил.
На следующий день один индеец, заметивший, какое значение я придаю этому открытию, принес мне такой же предмет, но больших размеров и лучше сохранившийся и выменял его у меня на кусок материи. Здесь были начертаны миниатюрные изображения рыб, птиц и прочего, что есть на этой земле, а также вымышленные фигуры. Я созвал самых просвещенных индейцев, чтобы расспросить их о смысле этих знаков, очень похожих на иероглифические письмена.
Все с явным одобрением смотрели на этот предмет. Мне сказали, как называется предмет, но я забыл; потом некоторые из них стали читать текст нараспев. Однако другие закричали: «Нет, не так!»
Разногласие среди моих учителей было столь велико, что, несмотря на все мои старания, после этого урока я знал немногим больше, чем до него.
Позднее, во время одной поездки, я показал эту диковину монсеньеру Аксъери (епископу Тепано Жоссану на Таити), который осмотрел ее с великим интересом и очень сожалел, что я не могу объяснить ему смысл всех загадочных фигур. «Ибо это, – сказал он мне,
– первые следы письменности, когда-либо обнаруженные на островах Океании». Видя, сколь высоко наш возлюбленный прелат оценил этот предмет, я поспешил преподнести его ему. Его преподобие посоветовал мне незамедлительно связаться с патером Ипполитом Русселом, чтобы он по возможности расшифровал второй текст, оставленный мной на острове Пасхи.
Впоследствии я нашел еще один такой же предмет длиной примерно 135 сантиметров и шириной 40 и договорился выменять его на одежду. Но немедленно заключить сделку я не мог, так как не располагал в это время средствами, а владелец сего небольшого сувенира ни за что не соглашался отдать его мне, пока не получит плату. Мы условились, что он придет ко мне домой, но я напрасно его ждал. Встретив этого человека через несколько дней, я спросил его, почему он не принес мне то, что я у него приобрел. Он ответил, что у него больше нет этого предмета, однако не пожелал рассказать, что он с ним сделал. Потом я узнал, что один коварный человек то ли из зависти, то ли по злобе присвоил себе этот предмет и сжег его. Меня очень огорчила эта потеря, тем более что я не смог ее возместить другой находкой такого же рода. Я не сомневаюсь, что эта индейская письменность представляет подлинную ценность для науки».
ЕПИСКОП ЖОССАН РАССПРАШИВАЕТ ПАСХАЛЬСКИХ РАБОЧИХ НА ТАИТИ
Монсеньер Аксьери, он же епископ Жоссан, чрезвычайно заинтересовался открытием миссионеров. Однако их неспособность записать на острове Пасхи текст хотя бы одной дощечки удручила его чрезвычайно, и он решил лично взяться за дело. Жоссан(9), сообщив, что брат Эйро во всех домах на острове Пасхи видел дощечки с письменами и что, по словам Эйро, никто из пасхальцев не умеет ни читать, ни писать, продолжает:
«Когда патер Гаспар Зумбом проезжал через Таити, направляясь через Вальпараисо обратно на остров Пасхи, он преподнес мне косички волос, намотанные на плоскую дощечку размером 30 на 15 сантиметров, которая была обломана или повреждена со всех концов. Эта дощечка тотчас же привлекла мое внимание, ибо на обеих ее сторонах я увидел аккуратно начерченные ряды знаков. Тогда я не вспомнил рассказ любезного святого брата, а удивление его друга патера Гаспара Зумбома свидетельствует, что брат Эжен Эйро не показал ни одной дощечки миссионерам на острове Пасхи, где он скончался 20 августа 1868 года.
При первой возможности я попросил патера Руссела собрать для меня все еще сохранившиеся подобные дощечки, поскольку они теперь туземцам ни к чему. «Они используют их для растопки кухонных очагов», – сказал один пасхалец, сопровождавший патера Зумбома. Нельзя было мешкать. Патер Руссел прислал мне пять дощечек. Одну из них я подарил русскому военному кораблю «Витязь». Несмотря на призыв патера Руссела, никто – почему, не знаю, – не предложил свои услуги, чтобы истолковать ему надписи на этих дощечках. Я не скрывал своей радости, что получил дощечки, – ведь в моих руках оказались полинезийские тексты. Но если и появилась надежда найти в них обильную информацию, то она быстро развеялась…
С той поры я всегда говорил как туземцам, так и приезжим о великой ценности кохаоу ронго-ронго – мудрого гибискусового дерева. Так называются дощечки. Один чилийский военный корабль сумел вскоре приобрести две штуки. И наконец, господин Паеа Салмон, овцевод, состоявший на службе у покойного Дютру-Борнье п Брандера, собрал на острове Пасхи все диковины, какие мог найти, и продал их в Папеэте. Говорят даже, будто он отыскал туземца, который смог прочесть ему дощечки.
Вывоз пасхальцев на плантации господина Брандера на Таити позволил мне познакомиться с «маори», то есть с туземным ученым по имени Меторо Таоуаоуре, уроженцем Махатоуа, сыном Хетоуки и учеником Гахоу, Реимиро и Паоваа. Мне указали на него его земляки. Господин Брандер согласился предоставить его в мое распоряжение на две недели. Меторо, пока ждал меня в моем доме, начертил на бумаге несколько знаков. Со мной был Оуроупано Хинапоте, старый спутник патера Зумбома, сын ученого Текаки и ученик его дяди Реимиро, который писал акульим зубом. Перед пасхальцами, смеявшимися над ним, Хинапоте смешался; он признался, что учился в школе, но ничего не знает.
Эти подробности, а также сообщение о европейском весле, на котором правильными рядами нанесены письмена, могут служить подтверждением того, что письменностью, хотя речь идет о древней письменности, на острове Пасхи пользуются по сей день.
Перуанская экспедиция (подразумевается набег рабовладельцев в 1862 году) увезла всех туземных ученых. С 1864 года, когда брат Эжен Эйро видел много ценных для туземцев дощечек, до 1868 года, когда патер Руссел еще смог найти для меня пять таких дощечек, большая часть их была сожжена. Мне кажется, я вправе сказать, что они открыты мной, во всяком случае, я спас от огня все, что осталось, спас ключ от загадки.
Наступила торжественная минута. Я вручаю Меторо одну из дощечек. Он поворачивает ее раз, другой – ищет, где начинается текст, и читает нараспев нижнюю строчку, слева направо. Дочитав ее, он спел следующую строчку справа налево, третью слева направо, четвертую справа налево – так ходит бык с плугом. Дойдя до последней, верхней строки, он перешел на обратную сторону и стал спускаться по строкам, словно быки, которые вспахивают бугор с двух сторон, так что борозда, начавшись у подножия с одной стороны, кончается у подножия с другой. Читающий дощечку может после каждой строчки переворачивать ее, если не умеет читать знаки, стоящие вверх ногами. Таким образом, пасхальцы показали некоторым из моих читателей, что значит писать бустрофедоном. Если бы они объяснили нам также, откуда у них эта письменность!
Внимательно рассматривая письмена, я увидел, что первые знаки парных строк стоят противоположно друг другу; этим объясняется попеременное чтение строк слева направо и справа налево. Стремясь уловить смысл написанного, насколько мне позволяло знание диалектов, я обнаружил, что письмена идеографические, точнее, даже кириологические, то есть каждый знак выражал какое-то понятие. Но я не видел письмен, которые связывали бы отдельные понятия между собой, не было также «неизвестных на острове животных», вообще никаких убедительных признаков древности. Если они и существовали, на что как будто указывает сообщение брата Эйро, можно лишь предполагать, что все они стали жертвой пламени. Сколь прискорбно, что до нас не дошла ни одна из древних дощечек! Те, которые я спас, явно относятся к более позднему времени, и я почти уверен, что они представляют собой лишь остатки письменности былой поры, ведь мы видим на них только то, что есть в природе этого маленького острова.
Затем мой переводчик объяснил мне, что принято собираться в кружок и читать текст нараспев; это своего рода ритуал. Кроме слов, передающих истинный смысл знаков, песня содержит также множество слов, добавляемых исполнителями от себя. Эти слова ученику значительно труднее удержать в памяти, чем одно только значение письмен. Писать знаки было удовольствием, а вот выучить наизусть и уметь исполнять все песни, по мнению Меторо, было тяжелым трудом. Он ни разу не пытался объяснить мне смысл какого-нибудь знака вне песни. Когда патер Руссел обратился с призывом к жителям острова прочитать ему письмена, все ученики, учителя которых умерли, опасались, что им встретится незнакомая дощечка. Вот почему никто не явился…
И я снова вручил дощечку Меторо и записал то, что он пел…»
Жоссан нигде не опубликовал полный рапануйский текст, исполненный Меторо, ибо, как он говорит, «слова, прибавленные в песню, растянули бы ее больше чем на двести страниц, и читать все это невозможно».(10) Вместо этого Жоссан сам попытался построчно выделить знаки ронго-ронго, чтобы число их в каждой строке отвечало числу слов, спетых Меторо, но все равно не смог прочесть или уяснить себе смысл хотя бы одной дощечки. Тогда он отобрал знаки ронго-ронго соответственно их предполагаемому содержанию и сгруппировал по понятиям: боги, люди, птицы, рыбы, растения и так далее. Рядом с каждым знаком он написал свое толкование.
Так появилось то, что называют каталогом Жоссана.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОФТА НА ТАИТИ В 1874 ГОДУ
Как только Жоссан сообщил, что располагает письменными дощечками, обнаруженными у аборигенов острова Пасхи, он сразу стал получать письма от исследователей со всею света. Одним из первых к нему обратился живший на Таити Томас Крофт, которому Калифорнийская академия наук поручила приобрести у епископа дощечку с письменами. Это обращение вылилось во вторую попытку решить загадку письмен с помощью пасхальцев, вывезенных на Таити. Ниже следует выдержка из письма Крофта президенту Калифорнийской академии, написанного на Таити 30 апреля 1874 года:
«Получив от монсеньера Аксьори известие, что он сможет передать вам одну из дощечек, я приложил все старания, чтобы добыть два комплекта хороших фотографий всех дощечек, как вы об этом просили…
Дощечки имеют разную величину и форму. Я объясню, почему. Давным-давно (как рассказали мне туземцы острова Пасхи, ныне живущие на Таити) население острова очень сильно выросло – до нескольких тысяч человек. И так как остров мал, всего около 20 миль в длину, а люди могли рассчитывать только на местные ресурсы, надо было возделывать каждый клочок пригодной земли. Жители острова срубили все деревья и посадили на месте лесов батат, ямс и прочее.
С той поры и до нашего времени на острове нет деревьев больше двух дюймов в поперечнике, да и то это быстрорастущие породы с мягкой древесиной, которую использовали, не дожидаясь, когда она затвердеет. Поэтому, когда была израсходована вся древесина прежних лесов, оставалось только собирать плавник, выброшенный на берег океаном. Вообще всюду, где было можно, собирали дерево твердых пород, чтобы записать то, что хотели сохранить для потомства. Так можно объяснить разнообразие древесины, из которой сделаны дощечки, их неодинаковую форму и различную толщину. В прошлом, как говорят туземцы, таких таблиц пли дощечек было огромное количество, но большая часть их погибла во время частых войн, когда один отряд намеренно уничтожал имущество, принадлежащее другому отряду.
Правда, некоторые туземцы поведали мне – насколько это достоверно, не знаю (ибо жители всех этих островов не отличаются правдивостью), – что миссионеры католики убедили многих островитян предать огню все имевшиеся у них дощечки. Они называли их языческим наследием и говорили, что хранить такие дощечки, значит, сохранять связь с язычеством, а это препятствует подлинному обращению в новую веру и, следовательно, спасению души.
Другие туземцы решительно отрицают такое объяснение и считают это ложью. Правда, так говорят католики, живущие у епископа. Поэтому к их словам следует относиться осторожно. Во лжи миссионеров обвиняют те, кто работает у господина Брандера и не подчинен контролю католиков.
Господин Де Грено (пассажир корабля, затонувшего возле острова Пасхи; он провел на острове несколько месяцев) рассказывал мне, что, когда он впервые попал на остров, туземцы показали ему и его друзьям много таких дощечек. Причем они явно дорожили дощечками, ибо через три или четыре месяца, когда он собрался уезжать и хотел взять с собой несколько дощечек, добыть их оказалось невозможным, а многие туземцы даже вообще отрицали, что у них есть дощечки. Тем не менее капитану затонувшего корабля удалось приобрести две или три штуки, которые он привез в Европу.
Мистер Кэлиген, помощник капитана американского судна, недавно потерпевшего крушение у острова Пасхи… тоже приобрел одну дощечку, которую, по его словам (его нет здесь сейчас, когда я пишу это письмо), отправил своей жене, живущей, кажется, где-то в Калифорнии…
Мистер Паркер, здешний торговец, сообщает мне, что три-четыре года назад, когда на Таити привезли около трехсот туземцев с острова Пасхи (они были завербованы на срок, который теперь истекает), у них были с собой такие дощечки и они пытались их продать. Однако покупателей не нашлось, так как туземцы запросили очень высокую цену. Мистер Паркер говорит, что они явно считали свои дощечки очень ценными, но не сумели никого в этом убедить. По его словам, ему (поскольку он не понимает языка) эти изделия показались просто-напросто кусками дерева с образцами резьбы, знаки, нанесенные на них, имели чисто орнаментальный характер…
Что касается перевода письмен, должен, к сожалению, сообщить, что я горько разочаровался в своем переводчике. Его привел ко мне в дом его земляк, сказав, что этот человек сможет перевести мне письмена. В тот день я записал часть перевода пасхальца и настроение у меня было самое оптимистическое. Это происходило в воскресенье, единственный день, когда у него был досуг для таких дел. Потом я куда-то задевал свои записи. И когда он пришел в следующее воскресенье, я решил начать перевод сначала и принялся записывать его толкование, как на его собственном наречии, так и на таитянском диалекте малайского языка.
Через некоторое время меня вдруг осенило, что этот вторичный перевод тех же самых знаков существенно отличается от первою. Чем дальше, тем больше крепло это подозрение, и наконец я понял, что он меня обманывает и то ли вовсе не понимает письмен, то ли не умеет верно их объяснить.
Тем не менее я решил не проявлять излишней поспешности, любезно сказал ему, что он свободен и попросил его прийти в следующее воскресенье. Однако он пришел не в условленный день, а только через воскресенье. Тем временем я отыскал первую запись, сравнил ее со второй и убедился, что между ними большая разница. Когда он появился, я попросил его повторить прежний перевод, чтобы исправить ошибки и пропуски в моих записях. Он послушался, и я увидел, что третий перевод, в свою очередь, расходится с предыдущими.
Тут я обратил его внимание на это несовпадение и сказал ему, что не может быть так, чтобы одни и те же знаки имели три разных значения, что он, очевидно, не знает смысла письмен и пытается меня обмануть. Если это так, пусть лучше уходит. И он ушел.
Епископ тоже пытался справиться с переводом этих письмен. Он показал мне довольно толстую рукопись, содержащую, по его мнению, толкование большинства знаков с фотографий, помеченных номерами 5 и 6, то есть с обеих сторон одной из дощечек. По его словам, ему помогал один из людей (туземец с острова Пасхи, ныне состоящий на службе в миссии), который был переводчиком. Я посоветовал епископу тоже проверить своего переводчика, и опасаюсь, что он окажется обманутым. Он обещал сделать это, как только представится возможность».(11)
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДОЩЕЧЕК
Внезапное исчезновение большого количества дощечек ронго-ронго (между 1864 и 1866 годами) совпадает с прибытием миссионеров и поселением на острове первых европейцев. Маловероятно, чтобы наследие предков использовали для растопки кухонных очагов, как это часто думают, исходя из «остроумного» объяснения пасхальского спутника патера Зумбома. Глубокий знаток психологии островитян патер Себастиан Энглерт пишет: «Что же случилось с многочисленными дощечками, которые брат Эйро видел в 1864 году? В период войн и упадка многое могло погибнуть… Но патер Эйро видел дощечки, когда эпоха войн только что кончилась. Что произошло с ними? Трудно понять, как они могли исчезнуть. Самое правдоподобное объяснение: их спрятали в тайниках – пещерах. Миссионеры, получившие распоряжение от епископа Жоссана собирать дощечки, приобрели всего несколько штук. Похоже, что пасхальцы в это время считали святотатством отдавать дощечки, которые были табу, то есть священными и запретными для чужеземцев; они, вероятно, опасались страшной кары духов, скажем, покойных маори ронго-ронго, за то, что передадут кому-то дощечки… Потайные пещеры служили хранилищами именно таких ценных и священных предметов, как эти дощечки».(12) Конечно, внезапное исчезновение языческих идолов и старых ритуальных дощечек вполне можно объяснить прибытием Эйро на остров и введением новой веры; естественно, что у миссионеров было меньше шансов, чем у кого-либо, добыть укрытое в тайниках наследие. В 1868 году, как раз когда патер Руссел получил письмо епископа Жоссана с настоятельной просьбой разыскать дощечки, на остров Пасхи зашел капитан норвежского торгового судна Петтер Аруп. Человек мирской, он смог без труда приобрести старинных идолов(13) и дощечку с письменами. Когда он показал свои приобретения постоянно живущим на острове миссионерам, Руссел проявил такой интерес к дощечке ронго-ронго, что Аруп отдал ее ему и она попала к Жоссану на Таити.(14) Вскоре после этого остров Пасхи посетил Пальмер(15); он так пишет о дощечках: «После прибытия миссионеров почти все они, как говорят, были уничтожены. Мы не видели ни одной в 1868 году. Чилийский капитан Гана приобрел только три (в 1870 году), он сообщает, что они – большая редкость. Эти дощечки были найдены в каменных домах у Терано Кау (Рано Као)».(16) Очевидно, миссионеры уже тогда заподозрили, что кое-что из языческого наследства исчезло в пещерах. В предисловии к неопубликованной рукописи Жоссана, которую я видел в главной канцелярии конгрегации «Святого сердца Иисуса и Марии» (в Гроттаферрате под Римом), по поводу дощечек ронго-ронго говорится: «Теперь их больше не изготовляют. Если в будущем что-нибудь найдут, то либо в старых каменных постройках, либо в пещерах».
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ С УЧАСТИЕМ А. II. САЛМОНА (1877-1886 годы)
Пасхальцы, к которым обращались за информацией о ронго-ронго Жоссан и Крофт, были привезены на Таити фирмой Брандера; ее представитель капитан Дютру-Борнье переехал с Таити на остров Пасхи и, поселившись там сразу же после приезда миссионеров, занялся овцеводством. После года непрерывных стычек с миссионерами он в 1871 году совсем их выжил с острова, но в 1877 году был сам убит местными жителями.
В том же году, когда пасхальцы снова жили без посторонних, на их остров зашел французский военный корабль «Сеиньелей», и один из пассажиров, Пинар(17), записал следующее о дощечках с письменами: «Это единственный остров во всей Полинезии, где найдены такие документы, скорее всего, – памятники поколения, воздвигшего монументальные статуи. Современные островитяне не могут расшифровать этих «говорящих дощечек», как их называют на острове. На немногие еще сохранившиеся «говорящие дощечки» туземцы наматывают бечеву, идущую на лески и сети; поэтому они и сохранились». Пинар не приобрел ни одного образца.
Вместо убитого Дютру-Борнье с Таити
приехал Александр П. Салмон. Семейство Салмонов состояло в родстве с королевской семьей на Таити, и новый поселенец мог разговаривать с островитянами на таитянском языке, используя рапануйские слова, которые он перенял у пасхальцев, работавших на таитянской плантации Брандера. Салмона очень заинтересовало прошлое острова Пасхи, он стал незаменимым информатором и переводчиком для прибывших на Пасху через несколько лет европейских и американских исследователей. Ему посчастливилось познакомиться с пожилыми островитянами, которые, наверно, больше дорожили прошлым, чем молодые рабочие, вывезенные Брандером на Таити.
В Германии Мейнеке(18) и Бастиан(19) уже в 1871 – 1872 годах опубликовали сообщения об открытии на острове дощечек с письменами, когда немецкий сторожевой корабль «Гиена» по инициативе Бастиана навестил остров в 1882 году. От Салмона капитан «Гиены» Гейзелер узнал, что у старого вождя по имени Хангето сохранились «дощечки со знаками, обозначающими генеалогии». Старик не был склонен расставаться с дедовским наследием, но поведал, что письмом владели только короли и вожди. Он сообщил также, что письменность применялась на острове для двух целей. Во-первых, чтобы передавать другим вождям важные вести, которых гонец не должен был знать, во-вторых, чтобы записывать генеалогии.(20) Четыре года спустя, в 1886 году, пришел американский военный корабль «Могикан», на борту которого находился предприимчивый казначей У. Томсон. и Салмон снова выступил в роли незаменимого информатора и переводчика. Перед этим Томсон побывал у епископа Жоссана на Таити, который позволил ему изучить и сфотографировать свои дощечки. Эти фотографии Томсон привез на Пасху. Он сообщает,(21) что ценой «немалых усилий и расходов» добыл две дощечки. «Приобретенные дощечки находятся в хорошем состоянии. Большая дощечка представляет собой кусок плавника, судя по необычной форме, – обломок лодки».
Об этих самых дощечках через три десятка лет Кэтрин Раутледж(22) записала со слов аборигенов: «Туземцы рассказали, что один ученый с южного берега, в доме которого было очень много таких текстов, расстался с ними по призыву миссионеров. Другой человек с практическим складом ума, по имени Ниари, присвоил эти дощечки и сделал из них лодку, с которой он поймал много рыбы. Но так как лодка сильно протекала, он спрятал все дерево в склепе аху у Ханга Роа, чтобы потом сделать новую лодку. Пакарати, островитянин, который жив до сих пор, нашел одну из этих дощечек. Она была потом продана на американский корабль «Могикан».
Томсон продолжает: «Вторая дощечка сделана из дерева торомиро, растущего на острове. Островитяне, объясняя, почему исчезли дощечки, утверждают, что миссионеры велели сжигать все, какие удастся найти; они старались уничтожить старинные тексты и другие предметы, которые могли связывать туземцев с язычеством, чтобы их обращение в христианство было прочным…
Туземные предания сообщают о дощечках с письменами лишь то, что Хоту-Матуа, первый король, владел письменностью и привез с собой на остров шестьдесят семь дощечек с текстами аллегорий, преданий, генеалогий и поговорок, связанных со страной, откуда он приплыл. Умение читать письмена было привилегией королевского рода – вождей шести округов, на которые был поделен остров, их сыновей, а также некоторых жрецов или учителей; однако один раз в год в заливе Анакена собирали все население и читали текст всех таблиц. Праздник дощечек считался самым важным праздником, даже война его не отменяла.
Стечение обстоятельств, которое положило конец ваянию огромных статуй, а затем и вообще всяким работам такого рода на острове, могло отразиться и на искусстве письма. В таком случае наиболее сохранившиеся дощечки могут быть ровесницами незаконченных статуй в каменоломнях. Умение читать письмена могло сохраниться до 1862 года (у Томсона ошибочно указан 1864 год), когда перуанские работорговцы угнали в неволю немалую часть населения, в том числе всех должностных лиц и знатных людей. После этой катастрофы жители острова вспоминали предания и все, что было зафиксировано на дощечках, очевидно, в особых случаях, но точного смысла знаков уже никто не знал.
Человек по имени Уре Ваеико, один из старейших жителей острова, заявил, что как раз во время перуанского набега его обучали искусству читать иероглифы. Он уверял, что понимает большую часть знаков. Были начаты переговоры с ним о переводе двух приобретенных дощечек, но он отказался сообщить какие-либо сведения, так как это запрещено священниками. Время от времени ему носили от меня деньги и ценные подарки, однако он неизменно отвечал, что слишком стар и слаб, что жить ему осталось совсем немного; он не соглашался рисковать спасением души, поступая вопреки указаниям своих христианских учителей. В конце концов, чтобы избежать соблазна, старик задумал отсидеться в горах, пока не уйдет «Могикан».
С помощью Салмона Томсон и его отряд однажды вечером застигли врасплох старика, которого сильнейший дождь вынудил вернуться в свой дом. «Видя, что уйти нельзя, он рассердился и наотрез отказывался не только взять в руки дощечку, но даже посмотреть на нее. Ему предложили пойти на компромисс и рассказать какое-нибудь старое предание. На это он охотно согласился… Пока он говорил, его угостили нарочно припасенными для такого случая согревающими напитками… Предпочтение благ настоящих заглушило все опасения за блаженство-грядущее, и в подходящую минуту ему показали фотографии дощечек, принадлежащих епископу.
Старый Уре Ваеико прежде никогда не видел фотографий, и его удивило, как верно они воспроизводят дощечки, виденные им в молодости. Настоящая дощечка вызвала бы в нем отпор, но против фотографии нечего было возразить, к тому же она принадлежала доброму епископу, которого его учили почитать. Он узнал текст и без запинки прочел легенду. Было выяснено содержание и всех остальных известных нам дощечек; мистер Салмон записывал слова туземца по мере того, как тот говорил, потом перевел на английский язык…
Никто не перебивал плавную речь Уре Ваеико, хотя было очевидно, что он не читает письмена. Было замечено, что фразы не отвечают числу знаков в строке, и когда ему незаметно подложили фотографию другой дощечки, он продолжал свой рассказ, так и не заметив подмены. Добрый старик пришел в замешательство, когда в конце нашего бдения, затянувшегося на всю ночь, его обвинили в обмане. Он заявил, что понимает все знаки, однако истолковать иероглифы, взятые наудачу с уже проверенных дощечек, не смог.
В конце концов он сказал, что подлинный смысл и значение письмен забыты, но каждую дощечку можно безошибочно опознать по определенным признакам, поэтому его толкование не подлежит сомнению. Так человек узнает иностранный язык, которым написана книга, и вполне представляет себе ее содержание, хотя прочесть ее сам не может».
В этой связи важно отметить (об этом писал Томсон)» что старик Уре Ваеико прервал чтение одной дощечки и пропустил часть текста. Приводя английский перевод остального текста, Томсон(23) отмечает: «Следующие иероглифы на этой дощечке, как нам было сказано, принадлежат какому-то древнему языку, ключ к которому давно утрачен. После этого таинственного куска перевод выглядит так…»
Затем перевод был еще раз прерван из-за не поддающихся толкованию мест, написанных на забытом языке.
Томсон(24) продолжает: «Без сомнения, каждая дощечка содержит свою легенду, отсюда названия дощечек, вызывающие определенный сюжет в памяти даже тех, кто не утверждает, что понимает смысл иероглифов. Старик по имени Каитае, называющий себя родичем Маураты – последнего короля, позднее опознал на фотографиях некоторые дощечки и повторил тот же текст, который нам сообщил Уре Ваеико».
Во время пятимесячного пребывания на Пасхе в 1923 году Макмиллан Браун(25) расспрашивал стариков про Уре Ваеико и узнал следующее: «Уре Ваеико был известен как один из слуг Нгаары, короля, который умер перед набегом перуанцев. Говорят, однако, что он не знал письменности. Будучи поваром короля, он часто слышал, как тот читает дощечки; благодаря хорошей памяти он запомнил их и мог повторить песни или религиозные гимны, о которых ему напоминал вид дощечек».
Раутледж(26) получила такие же сведения: «Экспедиция расспрашивала об этом старике, и островитяне единодушно утверждали, что он никогда не владел ни одной дощечкой и не умел их делать, но что он был слугой Нгаары и научился читать их по памяти».
Таким образом, так как два престарелых пасхальца, несмотря на то, что они не умели читать ронго-ронго, независимо друг от друга прочли Салмону и Томсоыу почти один и тот же текст на фотографиях дощечек Жоссана, можно заключить, что они помнили наизусть некоторые старинные тексты, прежде исполнявшиеся по дощечкам. Оба были уже пожилыми людьми во время набега работорговцев и появления первых миссионеров. Конечно, у нас нет никаких доказательств, что прочтенные ими Салмону и Томсону тексты ронго-ронго в самом деле соответствовали письменам на дощечках. Однако совпадение двух текстов очень важно – это позволяет определить примерную длину обычного текста одной дощечки.
Из разных сообщений, которые будут приведены ниже, нам известно, что во время ежегодных праздников кохау ронго-ронго в заливе Анакена различные тангата ронго-ронго читали изрядное количество дощечек. Естественно предположить, что текст каждой дощечки в отдельности не мог быть очень длинным. Это подтверждается образцами текстов ронго-ронго, которые два старика независимо друг от друга изложили Салмону и Томсону. Тексты представляют собой короткие содержательные мифы о сотворении мира, легенды, траурные и любовные песни.
В публикации Томсона(27) все они заняли неполных девять страниц, вместе с рапануйским и английским переводом. Вот почему особенно странно, что текст, который прочел Меторо с дощечек Жоссана на Таити, получился невразумительным и такой длины, что Жоссан не стал его публиковать, так как получилось бы «больше двухсот страниц». Могли ли на ежегодных праздниках различные тангата ронго-ронго зачитать все дощечки, если каждый должен был прочесть текст, равный по объему двумстам печатным страницам?
Во введении к составленному Русселом словарю рапануйского языка патер Ильдефонсо Алазар(28) цитирует образец странного текста, спетого на Таити Жоссану. Этот отрывок, якобы отвечающий первой строке дощечки длиной 42 сантиметра, приводится здесь; он хорошо иллюстрирует упоминавшийся метод Меторо, который по своему усмотрению добавлял слова, чтобы связать между собой знаки, будто бы опознанные им по начертанию на дощечке. Это производит впечатление импровизации. Так школьник пишет сочинение на заданные ему произвольные слова.
«Пусть дождь падет с неба на два мира Хоту Матуа! Пусть восседает он высоко на небесах и на земле! Старший сын пребывает на земле, в его собственном мире; его лодка вышла к его младшему брату, прямо к ребенку. Что до него, то будь он на небесах или на земле, пусть явится на землю тот, которому так нравится на небесах! Он держит землю в своей руке. Человек, уходи. Я останусь на моей земле. Отец, восседающий на троне, приди к своему ребенку. Ему нравилось на небесах. Птица улетела с земли, летит к человеку, который кормится на земле. Человек ест курицу, он поместил курицу под воду, он ощипал с нее перья. Курица, берегись копья, иди в хорошее место, иди прямо к королю, к его дому, лети; она улетела в хорошее место, подальше от копья; летя к детям земли, она оказалась в безопасности».
Алазар(29) продолжает: «Несмотря на несовершенства этой песни, монсеньер Жоссан охотно издал бы построчный перевод всех своих дощечек, если бы это не требовало таких больших расходов. Ему пришлось отказаться от этой мысли и довольствоваться публикацией короткой заметки с перечнем примерно 500 иероглифических знаков, которая появилась в «Географическом бюллетене» в 1893 году, через год после его смерти.
Покойный монсеньер де Арль, известный профессор католического университета в Левэне, впоследствии изучил эти своеобразные дощечки и толкование их, сообщенное пасхальцем на Таити. «Да представляют ли в самом деле эти знаки какую-то письменность? – вопрошает он в номере «Мюзеон» за ноябрь 1895 года. – А может быть это скорее набор виньеток, достойных самого изобретательного резчика по дереву?» От сомнения он переходит к утверждению: «Да, это не что иное, как ряд независимых друг от друга изображений».
Владельцы дощечек не могли их прочесть, а те, кто вызывался это сделать, не могли объяснить смысла отдельных знаков, и даже когда одному и тому же лицу в разное время показывали одну и ту же дощечку, излагались противоречивые версии. Неудивительно, что мнение де Арля(30) постепенно нашло столько сторонников в научном мире.
ВИЗИТ КНОХЕ В 1911 ГОДУ
В 1911 году на остров Пасхи из Чили был послан научный отряд во главе с доктором В. Кнохе. К этому времени в музеях Старого и Нового Света собралось уже около двадцати дощечек ронго-ронго. Кнохе привез с собой на остров репродукции трех дощечек, доставленных капитаном Гана на корвете «О'Хиггинс» в Чили в 1870 году.
Прошло всего сорок девять лет после набега перуанских работорговцев и появления на Пасхе первых миссионеров, и люди старшего поколения еще помнили ежегодные чтения кохау ронго-ронго в заливе Анакена. Тем не менее попытки Кнохе истолковать дощечки оказались такими же тщетными, как и усилия его предшественников.(31) «Два старейших пасхальца будто бы могли перевести копии пасхальских письмен, привезенные мной из музея Сантьяго. Однако их переводы оказались совершенно различными и в обоих случаях объем изложения не отвечал объему текста. Остается предположить, что нынешнее население не знает значения письмен. Недаром все присутствовавшие при чтении заявляли, что старики ничего не смыслят в знаках, а только пересказывают одно из многочисленных преданий, известных и другим без всяких дощечек».
Расспрашивая старейших пасхальцев, Кнохе как-то раз в присутствии 60-70 любопытствующих островитян услышал интересное признание: «Нам сказали, что дощечки с письменами были изготовлены не нынешним населением, а более древними обитателями».(32) Подобно другим приезжим, которые, начиная с Салмона, интересовались пасхальскими преданиями, Кнохе(33) тоже записал некоторые детали местной версии о том, что до прихода европейцев на острове Пасхи поселились два разных народа. Он несколько раз возвращается к сообщению, что «длинноухие» – наиболее трудолюбивый народ, творец огромных статуй – были истреблены в гражданской войне. Об указании, что письменность принадлежала более древнему населению, он говорит: «Это более чем вероятно… вряд ли мы ошибемся, приписав «длинноухим» также и письменность…» Таким образом, он первый сформулировал гипотезу, что подлинный язык дощечек, возможно, отличается от современного рапануйского и что нынешнее население сберегает рудиментарные следы искусства, принадлежавшего другому народу.
ИССЛЕДОВАНИЯ РАУТЛЕДЖ В 1914-1915 ГОДАХ
Через три года после Кнохе на остров прибыла английская экспедиция Раутледж. Кэтрин Раутледж(34) пишет:
«Когда мы прибыли, на острове еще жило несколько человек, которым было за шестьдесят, так что они помнили кое-что из старины; с большинством из них, числом около двенадцати, мы встретились… Это была очень важная работа, потому что время было на исходе, истекали последние дни…» И еще: «…дощечки, известные под названием «кохау ронго-ронго», имели большое значение в жизни островитян в ту пору, которую еще помнили люди преклонного возраста». И дальше: «Языковая проблема, естественно, усугубляла трудности… Туземцы говорят не только на своем языке, они сочетают его с таитянским, который применяется в их церковных книгах и в богослужении. Эти языки родственны между собой, но вместе с тем сильно различаются, и, чтобы понимать речь туземцев, надо было изучать оба языка».(35) Большую часть информации о письменах Раутледж получила от старика по имени Томеника, проживавшего в лепрозории, его близкого друга Капиеры и Те Хахи. Последний был приближенным покойного короля Нгаары, помогал королю во время ритуалов ронго-ронго и даже «начинал учиться писать, но оказалось, что у него слишком сильно дрожит рука…» Ее основной информатор Хуан Тепано, владеющий испанским языком, в молодости отказался от предложения «выучить один из видов письменности»; эти слова заставляют вспомнить, что на острове существовали письмена, или знаки, отличающиеся от начертанных на дощечках.
Раутледж(36) продолжает рассказ: «Дощечки имели разную длину, до шести футов. В роще, где мы беседовали, старый пасхалец подобрал с земли кусок бананового стебля длиннее себя и заковылял с ним, показывая, как носили дощечку. Зрелище было забавное. По его словам, дощечки были плоские с обеих сторон, а не круглые, как стебель. Говорят, что письмена были привезены на остров первопоселенцами, причем они были начертаны на «бумаге», а когда бумага износилась, из банана сделали новую. Когда же оказалось, что и эта бумага изнашивается, стали использовать дерево. В каждом племени были «люди ронго-ронго» (тангата ронго-ронго). Они жили в собственных домах, в разных округах нам показывали, где стояли эти дома. В них они занимались своим делом, часто работали, сидя вместе с учениками в тени бананов. Их жены жили отдельно. Ученики чертили знаки акульим зубом; начинающие упражнялись на коре бананового стебля, и только позже им разрешалось чертить на дереве, известном под названием торо-миро…
Читали, по словам Те Хахи, так: одну строку слева направо, следующую строку справа налево – так же, как бык прокладывает борозду при вспашке, способ этот называется бустрофедоном. Готовые дощечки обертывали камышом и подвешивали в домах… Они считались военным трофеем, но часто сгорали вместе с домом во время межплеменных стычек. Рассказывают, будто в доме Нгаары хранились «сотни кохау», и он обучал других искусству, которое перенял от своего деда. Он читал тексты, держа в руке дощечку и раскачиваясь при декламации из стороны в сторону…
Каждый год, рассказывает Те Хаха, устраивалось большое собрание в заливе Анакена, куда приходили сотни чтецов ронго-ронго. Молодые и наиболее пытливые островитяне из всех округов собирались посмотреть на это зрелище. Они приносили с собой хеу-хеу (палки с пучками перьев на конце), привязывали к ним пуа (растение семейства Scitamineae) и втыкали эти палки в землю вокруг площадки…
Арики и его сын Каимокои восседали на сидениях, сделанных из дощечек, и каждый держал в руке дощечку. На голове у них, как и у всех учителей, были уборы из перьев. Чтецов ронго-ронго выстраивали рядами, так что посредине оставался проход, ведущий к арики. У одних островитян была с собой только одна дощечка, у других – целых четыре. Старики читали поочередно, иногда вдвоем, с того места, где стояли, но никто не следил по их дощечкам.
Те Хаха и его товарищи стояли с края, он и еще один пасхалец держали в руках мару (нитку белых перьев, привязанную к палке). Если ошибался молодой чтец, его вызывали и указывали ему на ошибки; если же старик читал скверно, Нгаара подавал знак Те Хахе, тот подходил к оплошавшему и дергал его за ухо… Утром успевали прослушать половину чтецов, потом был перерыв на обед, после чего читали остальные, и все это представление продолжалось до вечера. Порой доходило до стычек, когда кто-нибудь высмеивал допустившего ошибку…
Кроме этого большого собрания, в новолуние или когда луна была в последней четверти, устраивались не столь многолюдные собрания. Чтецы ронго-ронго собирались в заливе Анакена, и арики ходил взад-вперед, читая дощечки, а старики стояли вместе и слушали».
О кончине арики Нгаары, умершего незадолго до набега работорговцев, Раутледж рассказали следующее: «Шесть дней подряд после его смерти все делали палки с перьями на конце (хеу-хеу), эти палки расставили вокруг того места. Его похоронили в разрушенной аху в Тахаи, и тело его несли на трех дощечках, а следом между рядами провожающих шли чтецы ронго-ронго. Дощечки захоронили вместе с ним. Голова арики поплатилась за свое величие: ее потом украли, и неизвестно, куда она делась. Десять или пятнадцать дощечек арики раздали старикам, остальные достались его слуге Пито, а после смерти Пито – Маурате. Когда Маурату увезли в Перу, дощечки перешли к родственнику Те Хахи, Таке, и Салмон попросил Те Хаху добыть их для него. На беду Таке был в ссоре с Те Хахой, ибо Те Хаха, служа у Салмона и получая хорошее жалованье, был, по мнению Таке, слишком скуп на подарки родственнику. Поэтому Таке отказался уступить дощечки. Они хранились в пещере, положение которой приблизительно было известно; но Таке умер, не сказав точно, где она находится, и дощечки не удалось найти».
Раутледж напоминает также основанное на длительности декламации Меторо мнение Жоссана, что каждый знак ронго-ронго «был лишь гвоздем, на который можно было подвесить куда более длинный текст, сохраняемый в памяти». Правда, по ее наблюдениям, декламируемые тексты дощечек оказались не длиннее тех, которые были известны Салмону и Томсону со слов старика Уре Ваеико на острове Пасхи. Больше того, информаторы Раутледж узнали в одном из кусков, прочтенных Уре Ваеико, текст дощечки, в которой говорилось о сотворении мира. Другой отрывок оказался хорошо известной старинной любовной песней, остальные не были опознаны. Но островитяне единодушно утверждали, что Уре Ваеико, хотя и не умел сам изготовлять дощечки ронго-ронго, «был слугой Нгаары и научился их декламировать».
Раутледж продолжает: «Поначалу у нас все шло так же, как у американцев. Стоило нам предъявить фотографии с единственной целью получить общие сведения, как их, к нашему удивлению, тотчас начинали читать, привязывая определенные слова к каждой фигуре. Когда же мы после великих трудов начертили все знаки и записали значения каждого, оказалось, что можно любой из них поставить на любое место. Туземцы вели себя словно дети, они делали вид, что читают, а сами декламировали наизусть».
Одно наблюдение Раутледж особенно важно в свете наших последующих открытий на острове Пасхи: «Однако в пяти или шести примечательных случаях разные лица декламировали примерно одно и то же, начиная словами: «Хе тимо те ако-ако, хе ако-ако тена». На вопрос, что это значит, нам отвечали, что эти слова взяты с одной из древнейших дощечек и всем известны. Они представляли собой как бы «первую азбуку». Уре-ваи-ике (то есть Уре Ваеико) утверждал, что это «великие древние слова», а все другие слова «малые». Получить перевод их было очень трудно… некоторые слова могли быть объяснены, другие нет, полный смысл оставался непонятным. Тем не менее можно предположить, что здесь действительно речь идет о содержании древних дощечек».
Мы не знаем, записала ли экспедиция Раутледж полный текст этого важного документа, потому что неопубликованные записки экспедиции были потеряны в Англии. К счастью, мне удалось найти текст «Хе тимо те ако-ако» среди рукописей, собранных мной в 1956 году на острове Пасхи.
Сообщение Раутледж о том, что речь идет о выученном наизусть тексте одной из древнейших дощечек и что смысл его непонятен из-за слов, которые нынешние островитяне не могут истолковать, очень интересно, если учесть, что современные ей пасхальцы хорошо знали другие полинезийские диалекты. Церковные службы шли на таитянском языке; мангаревский был в обиходе на острове с тех пор, как приехали первые миссионеры со спутниками с Мангаревы; во время визита Раутледж учителем закона божьего на острове был Пакарати, женатый на туамотуанке. Замечательно, что в этой полинезийской лингвистической каше сохранился древний текст, непонятный самим пасхальцам.
Вспоминается продекламированный Салмону и Томсону отрывок, будто бы написанный «на древнем языке, ключ к которому давно утрачен». Видимо, пасхальский язык изменялся в большей степени, чем представляют себе большинство языковедов. Или же перед нами свидетельства лингвистического субстрата. Намек на то, что исконный текст дощечек написан не на современном рапануйском языке, виден и в своеобразных ответах, которые получила Раутледж от своих двух основных информаторов, когда силилась выяснить, почему все попытки прочесть дощечки приводят в тупик Она пишет. «Как заявил Томеника, «слова новые, а вот письмена старые»; Капиера по этому же поводу сказал, что «картинки те же, а слова другие»."(37) Раутледж составила список тринадцати предметов, о которых, по словам разных лиц, повествовали кохау ронго-ронго. «Предметы, о которых, казалось бы, непременно должны рассказывать ронго-ронго – генеалогии, перечень арики или странствия народа, – вовсе не упоминались». По полученным ею сведениям, были дощечки, которые читались в связи с убийством человека, другие связывались с местью, третьи способствовали плодородию, в некоторых перечислялись войны или описывались полностью либо частично ритуалы.
Ей сообщили, что самая интересная дощечка известна под названием «кохау-о-те-ранга». Она приносила своему владельцу победу и много «ранга», то есть беженцев, обращаемых в рабство. И будто бы есть только одна такая дощечка, привезенная на остров первыми поселенцами. Она была украдена у короля Нгаары слугой, который отдал ее Арохио, а сын его продал дощечку одному из миссионеров. Видимо, она оказалась в числе дощечек, попавших на Таити.
И снова мы видим указание на то, что был второй род письма. Раутледж говорит: «К счастью, мы прибыли своевременно и застали человека, который умел чертить один из видов письмен. Правда, он был, увы, уже далеко не в расцвете своих сил.
Однажды нам показали в деревне клочок, вырванный из чилийского блокнота бумаги с коряво начертанными знаками; одни из них напоминали уже известные, другие отличались от всего виденного нами ранее. Выяснилось, что это дело рук старика по имени Томеника; будто бы он последний из пасхальцев знал низший вид ронго-ронго именуемый «тау». Но теперь он был болен и содержался в колонии прокаженных.
Вооружившись копией письмен, мы посетили старика; он стоял на пороге своего дома и явно не хотел, чтобы мы входили, – он не был склонен сотрудничать с нами. Старик признал, что знаки начертаны его рукой, прочел «Хе тимо те ако-ако» и объяснил, что некоторые письмена связаны с «Иисусом Христом"».
Во время второго визита Раутледж Томеника попросил бумагу и карандаш и вызвался написать и прочесть тау. «…Он сделал три вертикальных столбца, сначала из нуликов, потом из «птичек», дал название каждому столбцу и принялся декламировать. Не было никакого сомнения, что декламация подлинная, но он бормотал слишком быстро, а когда его попросили говорить медленнее, чтобы можно было записать, сбился и вынужден был начать сначала. Несомненно, значки нужны были ему только, чтобы вести счет фразам. В конце нашего посещения он предложил написать что-нибудь к следующему разу. Мы оставили ему бумагу. И когда через два-три дня вернулись, он приготовил пять горизонтальных строк, четыре из них состояли из письмен, в которых часто повторялся один и тот же знак; всего было не больше дюжины разных символов.
Сопровождающий нас Хуан Тепано назвал это «ленивым письмом».
Томеника посетовал, что бумага «недостаточно велика», и ему дали другой лист. Он положил его рядом с первым и продолжил горизонтальные строчки. Старик писал слева направо проворно и легко… То, что он прочитал, частично совпало с прочтенным в прошлый раз, причем письмена играли роль «птичек»: каждому знаку соответствовали три-четыре (до десяти) слова. Когда его просили что-нибудь повторить, он мог поменять местами две фразы. Очевидно, сами письмена для него – во всяком случае теперь – не были связаны с определенными словами.
Когда мы с Хуаном Тепано стали разбирать смысл записанных слов, оказалось, что вторая половина каждой фразы, как правило, состоит из чисел, которым предшествует слово «тау», или «год». Например: «год четыре», «год пять» и так далее. Числа нарастали с каждой строкой (в общем, правильно) до десяти. Первую часть почти каждой фразы нам истолковали как имя какого-нибудь человека…»
Капиера, которого Раутледж называет одним из наиболее заслуживающих доверия стариков и который одно время жил вместе с Томеникой, попытался объяснить общий смысл тау. Во время «коро» – большого праздника в честь отца (живого или умершего) – заказывали знающему письмо человеку маленькую дощечку, перечисляющую все подвиги престарелого родителя: «…сколько людей он убил, сколько кур украл…»
Другая, более крупная дощечка содержала перечень всех этих малых дощечек, в котором называлось только имя каждого героя и год его коро. «Вот этот общий обзор и прочел нам Томеника; и хотя не обошлось без путаницы, каждая строка, как будто, представляла десятилетие». Заметив, что хотя Томеника, очевидно, знал наизусть некоторые старые тау, Раутледж заключила: «Попытка побудить его восстановить какую-нибудь тау, сделанную им самим, кончилась неудачно».
Капиера тоже смог прочесть образец малой тау. «Эта тау, как нам сказали, была первоначально сделана одним из предков Хота-Матуа, первого вождя переселенцев. Она не считалась табу, в отличие от других ронго-ронго, и Нгаара ее не знал. В начале прошлого века о ней было известно лишь троим. Среди них… был приемный отец Томеники, обучавший других этому искусству. Сам Томеника и другие говорили, что он знает «только часть», что есть еще письмена, с которыми он не знаком, потому что его приемный отец умер прежде, чем он все выучил».
Томеника умер во время пребывания Раутледж на острове, через две недели после ее третьего визита в лепрозорий. Образцы начертанных им письмен опубликованы Раутледж и воспроизведены в отчете Норвежской экспедиции.
Подозрение, что дощечки ронго-ронго были спрятаны, когда приехали миссионеры, и что лишь часть из них (примерно двадцать штук, известных нам сегодня) позднее была извлечена из тайников, подтверждается рассказами, записанными на острове во время визита Раутледж: «Туземцы от природы скрытны, они никому не поверяют своих тайн, и со смертью человека его клад оказывается утраченным.
Один старик, больной проказой, у которого будто бы было что-то около пяти дощечек, поведал своим друзьям, что, когда мистер Эдмунде (английский казначей, купил дело у фирмы Брандер и стал ее преемником) велел соорудить стену на своем участке, люди работали так близко от тайника, что владелец боялся, как бы секрет не раскрылся, но строители прошли мимо. Вскоре старик умер и унес свою тайну в могилу.
Особенно трагична вполне достоверная история о человеке, который исчез вместе со своим тайным кладом. Он заключил сделку с приезжими и пошел к своему тайнику, чтобы принести для продажи кое-что из спрятанного имущества; больше его никто не видел. Видимо, произошел какой-то несчастный случай, он либо сорвался со скалы, либо был погребен заживо.
Иногда какой-нибудь пасхалец на смертном одре поверяет сыну, где спрятаны вещи, но природные ориентиры меняются и этой информации бывает недостаточно, чтобы опознать место. Поэтому охота за сокровищами на острове Пасхи – занятие весьма бесполезное, мы это испытали на себе.
Вскоре после нашего приезда в деревне умер человек, о котором было известно, что он спрятал кое-что среди скал на побережье недалеко от селения. Его соседи отправились на поиски. Мы предложили высокое вознаграждение за любую находку, причем вознаграждение удваивалось, если найденный предмет будет оставлен на месте нетронутым до нашего прихода. Мы и сами потратили немало времени, наблюдая за поисками, но обнаружить ничего не удалось.
Один молодой пасхалец сообщил, что у него есть пещера на Рано Као, где отец хранил какие-то предметы. Полдня ушло на поездку туда, однако местонахождение тайника было описано приблизительно, и он не смог его найти…
Интересная, но столь же тщетная экспедиция была предпринята для поисков дощечки, будто бы спрятанной одним из тангата ронго-ронго возле залива Анакена. В пещере оказался вход в виде искусственно выложенного колодца, за которым следовала длинная естественная подземная полость. Там было обнаружено что-то напоминающее остатки истлевшего дерева… Тем не менее сами туземцы с неизменным рвением продолжают разыскивать спрятанные изделия, цену которых хорошо знают. Такой род работы им по нраву».(38)
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТРО В 1934 ГОДУ
Через двадцать лет после визита Раутледж на Пасху прибыла франко-бельгийская экспедиция; старые люди, помнившие жизнь на острове до миссионеров, к этому времени все уже умерли. Отныне приходилось довольствоваться сведениями о дощечках и об их содержании из вторых рук. Метро пишет: «Вряд ли можно считать достоверной теперешнюю информацию о содержании дощечек… Современные туземцы относятся к ним с суеверным страхом. Мне рассказали, что три года назад пасхалец по имени Берибери нашел кусок дощечки. Через некоторое время несколько членов его семьи умерло. Он решил, что виноваты чары дощечки и сжег ее».(39) Не сумев решить проблему путем расспросов пасхальцев, Метро порицает методику предшествующих исследователей, которые находились в более выгодном положении: «Они заведомо считали знаки письменностью и отказывались от информаторов, которые не могли доказать, что на самом деле читают… Если бы европейские исследователи допускали мысль, что речь идет необязательно о письменности, они могли бы несколькими вопросами решить загадку дощечек острова Пасхи».(40) Метро считал пасхальскую культуру однородной и молодой, он не сомневался, что искусство ронго-ронго было в расцвете, когда прибыли европейцы, и что пасхальцы, декламировавшие тексты первым исследователям, отлично знали систему знаков. Исходя из такой предпосылки, он считал неспособность островитян прочесть знаки лишь доказательством того, что «знаки острова Пасхи не являются письменностью».(41) Метро ссылается на отсутствие письменности в других частях Тихого океана и на то, что ничего похожего на пасхальские дощечки не встречалось ни на одном из островов океана.
Он полагает, что кохау ронго-ронго – местное изобретение. Метро цитирует Лавашери(42), который считал, что на дощечки шло также дерево, привезенное лишь в новое время. Один из самых больших и наиболее сохранившихся образцов текста вырезан на лопасти европейского весла из ясеня. «Следовательно, он должен датироваться концом XVIII века или первой половиной XIX века… Деревянные дощечки не могли сохраниться веками в хижинах с соломенной кровлей или в пещерах. Как же они пережили тысячелетия странствий и войны и дошли до нас в виде современного европейского весла?»
И Метро заключает: «Деревянные дощечки, покрытые рядами маленьких фигур, являются научной загадкой, а также одной из самых сложных загадок культуры острова Пасхи».(43) Дальше: «С какой стати пасхалъским жрецам могли понадобиться мнемонические приспособления, без которых обходились жрецы других полинезийских островов. Главная трудность в решении загадки дощечек связана с отсутствием убедительных параллелей в Полинезии… Какую-то параллель можно провести между дощечками Пасхи и мнемоническими приспособлениями маркизцев, представляющими собой цилиндрические пучки плетеного кокосового волокна, с которых свисают шнурки с узелками… Некоторые признаки позволяют предположить, что и на островах Кука узелки помогали запоминать песни».(44) Хотя Метро в остальном и не допускал сравнений с ближайшим на восток материком, он обращается к этому материку, чтобы найти параллели письменным дощечкам Пасхи: «Индейцы куна в Панаме и оджибва в Северной Америке изобрели сходный способ письма. Оджибва заучивают наизусть свои песни, но воспроизводят их на бересте знаками, чем-то напоминающими пасхальские. Вокруг каждого слова группируется гнездо слов, образующее куплет».(45) Указывая на религиозный или магический характер письмен острова Пасхи, он добавляет: «Точно так же у индейцев оджибва и куна символы применяются специально, чтобы придать тексту большую силу и святость».(46) Резюмируя, Метро заявляет, что знаки на бесформенных кусках дерева, найденных на острове Пасхи, несомненно играли роль символов, они не были чисто декоративными: «Письменность острова Пасхи, возможно, была разновидностью рисуночного письма – пиктографии. В ней есть все черты рисуночного письма – натуралистические изображения, чередующиеся с геометрическими знаками, которые можно воспринять как условные символы».(47) Однако он признает: «Если дощечки острова Пасхи являют собой образец пиктографии, странно, что символы до такой степени стандартизованы и их число более или менее ограниченно… Хотя многое свидетельствует о примитивной пиктографии, не следует безоговорочно принимать такую гипотезу».
НАБЛЮДЕНИЯ ЭНГЛЕРТА ПОСЛЕ 1935 ГОДА
Через несколько месяцев после отъезда франко-бельгийской экспедиции на острове поселился миссионер-капуцин патер Себастиан Энглерт, чтобы возобновить прерванную в 1871 году деятельность миссии. Он постоянно слышал рассказы про кохау ронго-ронго; чаще всего речь шла о старых дощечках, либо добытых из тайных родовых пещер, либо еще хранящихся там. Энглерт подчеркивает, что это наследие предков до последнего времени считалось табу, и показывает, сколько суеверия и таинственности было связано с хранилищами ценных предметов: «Этим объясняется случай, когда один старик показал подлинную дощечку другому туземцу и, взяв с него слово никому не говорить о ее существовании, сжег ее из суеверного страха. Тайные пещеры служат хранилищем дорогих и священных предметов, вроде упомянутых дощечек. Несколько десятилетий назад старик по имени Паоа Хитаки повел туземца Хуана Араки на Рано Као. Он не разрешил ему спускаться на дно кратера, а велел приготовить в земляной печи курицу и батат. Потом начертил на земле круг и строгонастрого запретил выходить за пределы этого круга. Старик стал спускаться в кратер и вскоре скрылся за деревьями и скалами. Вернулся он много времени спустя с хорошо сохранившейся дощечкой в руках. «Семь кохау ронго-ронго обратились в прах в пещере,
– сказал он, – одна эта уцелела».
Вернувшись в Хангароа, он продал дощечку управляющему компании, который в то время жил в Матавери. Через некоторое время старик помешался и умер. Причину его болезни и смерти все видят в том, что он достал дощечку и сбыл ее. Ныне туземцы наконец расстались со своими страхами и охотно пошли бы на выгодную сделку. Но они не знают, как проникнуть в тайники, а если бы и знали, у них мало надежд найти хорошо сохранившиеся дощечки во влажных, лишенных вентиляции пещерах».(48) Лучший знаток современного рапануйского языка, Энглерт говорит о дощечках: «Если даже посчастливится расшифровать надписи (это маловероятно, так как речь идет явно не о письменности), все равно в наших знаниях исконного языка, архаичных слов и специальных флексий так много пробелов, что мы не смогли бы перевести большинство текстов. Например, никто не сумел бы перевести первые строфы цитируемой здесь дощечки: «Хе тимо те акоако э те туу э те таха э те куиа э те капакапа э те хере хуа».
В общем, то же можно сказать о текстах песен, связанных с древними «каикаи» (игра в веревочку). Несколько лет назад автор записал ряд таких текстов, однако вскоре оставил эту работу, потому что туземцы, заучившие эти песни со слов старых людей, не знали, их содержания, они понимали только отдельные слова».(49) Энглерт сообщает также. «Из преданий известно, что первые дощечки и первые «маори кохау ронго-ронго» прибыли вместе с Хоту Мату'а. Очевидно, перед нами культурное наследие неизвестного происхождения. Прибыв на Те Пито о те Хенуа, переселенцы считали своим долгом продолжить священную традицию – вырезание на дереве письмен. За этим следил арики хенуа, первый мастер и главный авторитет в таких делах, так сказать, верховный маори кохау ронго-ронго. Арики надлежало наблюдать за преподаванием; ежегодно проводились экзамены, для чего ученики в сопровождении своих учителей являлись в Анакену».(50) Через Энглерта мы впервые узнаем, что священные школьные постройки были особого рода; они назывались харе паепае и конструктивно в корне отличались от построек, известных на Пасхе в исторический период: «Харе паепае состояли из каменных стен без дверей и из камышовой крыши. Они были выше, просторнее и лучше освещены внутри, так как открытый вход помещался вверху. В таких помещениях обучали детей искусству читать и писать на дощечках».
Подобные каменные дома с входом через камышовую крышу представляют собой пережиток культурного элемента, присущего одному из ранних архитектурных периодов Пасхи, как это выяснилось во время проведенных нашей экспедицией выборочных раскопок, когда «огороды» оказались жилищами среднего периода.(51) Энглерт продолжает: «Один старик, который в молодости посещал эти классы, поведал ныне живущим туземцам, что он ходил в школу около Аху Акапу. Дисциплина была очень строгая. Сперва заучивали тексты наизусть. Играть и разговаривать не разрешалось, от учеников требовали постоянного внимания, они стояли на коленях, сложив руки на груди… Научившись декламировать тексты, ученики начинали осваивать письмо. Копировали знаки сначала не на дереве, а на банановых листьях, пользуясь заостренной птичьей косточкой или острой палочкой. Лишь достигнув известной степени совершенства, ученики могли писать на деревянных дощечках, преимущественно из торомиро, либо тончайшими осколками обсидиана, либо острыми акульими зубами».
Патер Руссел, по словам Энглерта (52),– пожалуй, был недалек от истины, когда заявил, что пасхальцы исторической поры вряд ли понимали смысл своих знаков ронго-ронго.
ОТКРЫТИЕ РУКОПИСЕЙ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ В 1955-1956 ГОДАХ
Норвежская археологическая экспедиция на остров Пасхи всецело состояла из археологов-профессионалов, так как здесь еще никто не занимался стратиграфическими раскопками. Зная по опыту, как далеко зашла аккультурация (взаимодействие местной культуры с пришлой) на других островах Восточной Полинезии, я не рассчитывал ни на какие этнографические открытия. Все внимание было сосредоточено на археологических полевых работах; местное население на первых порах использовалось лишь как источник рабочей силы.
В лепрозории, расположенном к северу от деревни Хангароа, который мы посетили вместо
с патером Себастианом Энглертом вскоре после нашего прибытия на остров (в октябре 1955 года), мы с женой впервые заметили, что здесь и поныне, спустя 90 лет после исчезновения дощечек, сохранился некоторый интерес к забытому искусству ронго-ронго. Габриель Херевери, пожилой человек, сидел у открытого окна своей комнаты и что-то писал чернилами в книге, напоминающей амбарную. Заметив наши любопытные взгляды, Херевери с гордостью показал нам несколько колонок скопированных им знаков ронго-ронго и пронзительным голосом объяснил, что сейчас записывает «значение» письмен. Этот случай напомнил нам картину, которую наблюдала Раутледж сорок лет назад в том же лепрозории. Полагая, что больной просто развлекается, списывая знаки с опубликованных дощечек, мы забыли об этом эпизоде; правда, старика мы засняли на киноленту. Сейчас не приходится сомневаться, что Херевери работал над рукописью, которую позже увидел и скопировал Бартель.(53) Лишь через несколько месяцев, к концу нашего пребывания, мы установили, что в разных концах острова в пещерах с потайными входами пасхальцы прячут украденные предметы и другое имущество – вообще вещи, которые слишком ценны, чтобы держать их в деревне. Мелкое воровство считалось дозволенным средством «принудительной торговли» (обоюдные кражи обеспечивают обмен, обычно осуществляемый посредством торговли).(54) Ночью 13 марта 1956 года я находился вместе с Атаном Атаном Пакомио и его старшим братом Эстеваном в домике Атана на окраине деревни Хангароа. Пытаясь расположить к себе туземцев, я заговорил о потайных пещерах, где еще не побывал ни один посетитель, и с удивлением услышал от Эстевана, мужчины лет тридцати двух, что у него есть «книга», полученная от деда (абуэло), который умел писать и петь ронго-ронго. В этой «книге» абуэло, мол, изобразил все знаки пасхальскон письменности и латинскими буквами написал их значение. Эстеван добавил, что у его старшего брата, Педро Атана, есть еще одна такая книга.
По словам Эстевана, многие пасхальцы научились писать латинскими буквами, когда их угнали в рабство в Перу (1862-1864 годы), и его абуэло изображал «чилийские письмена» с помощью одного из тех, кто вернулся на Пасху. Эта «книга», дескать, хранится в непромокаемом мешке в пещере самого Эстевана, и ее еще никто не видел. При этих словах его младший брат Атан вышел из комнаты и вскоре вернулся со старым пожелтевшим листом бумаги, исписанным выцветшими бурыми чернилами. Он явно гордился диковиной, которую, по ею словам, унаследовал от того же абуэло. На листе было несколько столбцов обычных знаков ронго-ронго и написанный латинскими буквами рапануйский текст, который занимал площадь, раза в четыре большую, чем письмена ронго-ронго. Дав мне вдоволь полюбоваться драгоценным наследством, Атан спрятал лист, и больше его никто не видел.
Я обсудил этот случай с патером Энглертом, который никогда не видел в домах пасхальцев никаких рукописей. Через шесть дней Атан Атан хотел показать нам свою пещеру. Ночью меня привели в домик Эстевана Атана за деревней Хангароа.
В маленькой комнате Эстеван достал из бумажного мешка для цемента толстую тетрадь без обложки и позволил мне рассмотреть ее. Она была сделана из чилийской школьной тетради и дополнена другой бумагой, преимущественно листами из линованного блокнота. На некоторых страницах чернилами были изображены горизонтальные строки знаков ронго-ронго, другие страницы содержали рапануйскпй текст, записанный латинскими буквами, третьи – вертикальные колонки знаков ронго-ронго, справа от которых находился перевод этих знаков на рапануйский язык, записанный латинскими буквами. В верхней части одной страницы я прочел: «1936»; дальше следовали вертикальные столбцы, изображающие разные фазы луны. Судя по изношенной бумаге и поблекшим чернилам, текст в самом деле мог относиться к указанному году. Эстевану тогда было лет двенадцать.
По словам Эстевана, он получил тетрадь в подарок от своего отца Хосе Абрахана Атана за год с небольшим до его смерти. Отец не знал ронго-ронго и не владел современной грамотой. Тем не менее, как сказали Эстевану, это он тщательно скопировал другую тетрадь, которая истрепалась до того, что грозила совсем рассыпаться. Ее автором был дед Эстевана, Тупутахи, считавшийся маори ронго-ронго Эстеван повторил то, что говорил раньше: по словам его отца, Тупутахи умел вырезать и декламировать тексты на дощечках. Но чтобы записать значение знаков и другую информацию буквами, понятными современным людям, он вынужден был обратиться за помощью к одному из грамотных пасхальцев, вернувшихся из Перу. Эстеван чрезвычайно высоко ценил свою тетрадь, приписывая ей магические свойства; он доставал ее очень редко и то тайно, когда ему хотелось вспомнить покойного отца. Теперь он решил сделать новую копию, и, когда приступил к работе, оказалось, что это дело непростое – ведь так много страниц исписано замысловатыми знаками.
(Страница пасхальской рукописи Эстевана Атана (рукопись А).)
Эстеван ни за какие блага не соглашался расстаться со своей рукописью, но в конце концов разрешил Фердону и экспедиционному фотографу, которые ждали снаружи вместе с его младшим братом Атаном, войти в комнату и посмотреть тетрадь. На присутствовавшую при этом жену Эстевана и на Атана тетрадь произвела сильное впечатление, похоже было, что они и в самом деле, как говорил Эстеван, никуда прежде ее не видели.
(рис.II) (Страница рукописи Эстевана Атана Предпотагаемый смысл знаков ронго ронго написан по ралануйски латинскими буквами.
Поскольку все попытки приобрести рукопись ни к чему не привели, я уговорил Эстевана позволить нам сфотографировать ее и избавить его от долгого и утомительного переписывания изношенных листов. Он согласился при условии, что съемка будет происходить на борту нашего судна, в тайне от других пасхальцев. Атану было поручено принести тетрадь на судно (см. стр. (рукопись А), (рис. II), (рис. III).(55) Рукопись А была возвращена Эстевану с набором фотокопий. После отъезда нашей экспедиции с острова Пасхи, Эстеван Атан Пакомио на небольшой самодельной лодке направился на Таити. Лодка и команда пропали. Вдова рассказала Бартелю(56), что Эстеван взял с собой тетрадь, однако есть сведения, что эту рукопись видели на острове в 1964 году.
Лист со знаками ронго-ронго и рапануйским текстом, который я видел в доме Атана, исчез. Вряд ли лист был уничтожен, скорее всего, он хранится где-нибудь на острове. Тетрадь, по словам Эстевана, принадлежавшая его брату Педро Атану, никто не видел, и сам Педро никогда о ней не упоминал.
Возможно, старик Томеника, умерший от проказы во время пребывания на острове экспедиции Раутледж, каким-то образом причастен к рукописи А: вверху первой страницы стоит имя Томаника Ава (?) Tea (рис. II). В связи с этим интересно следующее сообщение Энглерта: «Покойный Эстеван Атан Пакомио был сыном Хосе Абрахана Атана и Хиларии Пакомио, сестры Магдалены Пакомио, бывшей замужем за Тимотео Пате а вака. Отцом Тимотео был Томеника а Те Ана о My, дедом – Те Ана о My. Брат Те Ана о My, Ко Театеа, вырастил Томепику… Томеника считался дядей Эстевана».(57)
(рис. III) Четыре из тринадцати обрывков рукописи, показанной Хенердалу Ароном Пакаратп, содержат чнаьи ропго ронго и пред полагаемый перевод на рапануйскии язык На обрывке Ь видны французские слова Ciel (небо) п Soleil (солнце) написанные одной рукой Очевидно, что это копия каталога Жоссана.
(рис. IV) Первая страница рукописи Эстевана Атана Сравнение последовательности знаков ронго ронго и их транскрипции латинскими буквами с началом каталога Жоссана (см кат. I) показывает, что островитянин копировал каталог епископа.
(рукопись B) Страница из рукописи, приобретенной Хейердалом у Элиаса Пакарати Атана (рукопись В) Ронго-ронго и транскрипция латинскими буквами на рапануйском языке. Перевод на испанский добавлен карандашом другой рукой Предполагают, что рукопись представляет гобой копию одной из тетрадей, изготовленных Пуа Ара-хоа, который, вероятно, копировал рукопись А.
Но еще интереснее, что на одной из страниц перед именем Томаника Ава написано имя Уре Вае Ику (см. рукопись А). Энглерт указывает(58), что Уре Вае Ику – правильное написание имени, переданного Томсоном как Уре Ваеико.(59) Вспомним, что Уре Ваеико был одним из старейших островитян во времена Салмона и все пасхальны говорили, будто он знает тексты ронго-ронго наизусть, ибо служил у короля Нгаары, умершего незадолго до набега перуанских работорговцев. Энглерт не установил очевидного родства между Эстеваном Атаном Пакомио и Уре Вае Ику.
На двух других страницах ((рис. I)) видна надпись «Хе Ма Рама»; это, вероятно, имя еще одного местного ученого, или маори. Энглерт пишет: «Урекино Маори, принявший при крещении имя Пакомио (теперь ставшее фамилией), происходил из племени Марама. Поэтому вполне возможно, что его звали Хе Марама, подобно тому как старик Хей(60) тоже был Марама».(61) Таким образом, Эстеван Атан Пакомио, владелец рукописи А, по материнской линии (его мать Хилариа Пакомио), был прямым потомком Хе Марамы.
Особый интерес представляет короткая страница с рапануйским текстом и заглавием «Хе Тимо», после которого следует текст, начинающийся словами: «Хе тимо, теако ако, хеако ако тена…». Вспомним рассказ Раутледж о том, что с полдюжины человек декламировали примерно один и тот же текст, начинающийся словами: «Хе тимо те ако-ако, хе ако-ако тена». На ее вопрос о тексте отвечали, что это выученный наизусть текст одной из древнейших дощечек. Полный смысл текста был неизвестен тогдашним рапануйцам, так как в нем содержались неподдающиеся толкованию слова. Уре-ваи-ико (Уре Вае Ику) сказал о старинном тексте, что это «великие древние слова». Текст «Хе тимо» пропал вместе с записками Раутледж, а Энглерту(62) удалось записать только начальные отрывки, но в передаче пасхальцев текст сохранился в рукописи А.
О второй родственной рукописи стало известно при драматических обстоятельствах,(63) когда в доме Хуана Хаоа подвергали испытанию мою «мана». Конторскую книгу без корок, с пожелтевшими, сильно потрепанными страницами внесли в комнату в плоской плетеной из камыша тотора папке. Клапан, закрывший отверстие с одной из коротких сторон папки, был завязан плетеным шнурком из тоторы. Мне предложили доказать, способен ли я угадать содержимое завязанной папки, которому, по всем признакам, владелец придавал магическое значение. По чистой случайности ответ в духе оракула, с помощью которого я попытался выйти из затруднения, носил двойной смысл («кон плюма», то есть «с пером» или «пером») и произвел на владельца рукописи сильное впечатление. Видимо, поэтому рукопись была преподнесена мне в подарок, тогда как тетрадь Эстевана Атана приобрести не удалось.
(рукопись C) Страница из рукописи подаренной Хейердалу Хуаном Хаоа (рукопись C). Внизу две строки, написанные латинскими буквами; эти строки считались магическими, владелец видел в них «аку-аку тетради».
С первого взгляда было видно, что большие листы конторской книги заполнены не одной рукой. Как знаки ронго-ронго, так и рапануйский текст явно записывались в разное время. Записи были сделаны синими чернилами различных оттенков, зеленовато-коричневыми и серыми. Некоторые знаки ронго-ронго были обведены карандашом, в нескольких местах стояли карандашные крестики и другие значки, словно пометки читавшего. Судя по обилию пятен, книгой прилежно пользовались. Типографская нумерация страниц начиналась с 79 и кончалась 368, но большинство промежуточных листов было вырвано, вырезана верхняя половина одного листа и нижняя другого, всего осталось тридцать четыре страницы. Бумага стала совсем хрупкой и приобрела желтовато-бежевый оттенок. Листы кое-как скреплялись остатками корешка.
Хуан Хаоа, владелец рукописи, показал мне ее в присутствии своего старшего брата Андреса, так называемого «туму» – Хуана Нахоэ и Атана Атана. Драматическая обстановка помешала мне получить сведения о ее происхождении, но мне дали ясно понять, что речь идет о ценном наследстве, видимо, от отца. Судя по тому, как часто упоминалось имя старухи Таху-таху, она была причастна к акту передачи рукописи, во всяком случае, одобряла его. Таху-таху, она же Виктория Атан, была единственной оставшейся в живых теткой братьев Атан. Несмотря на весьма преклонный возраст, она провела несколько дней в пещере в Анакене, колдовством «помогая» своим племянникам, когда они заканчивали подъем анакенской статуи. После благополучного завершения этого «предприятия» она не упускала случая подчеркнуть, что отныне мне будет сопутствовать «большая удача». Виктория Атан выступала как бы в роли незримого соучастника многих последовавших в дальнейшем неожиданных событий.
Отнюдь не впечатлительный Хуан относился к ней с величайшим почтением, считая ее колдуньей (таху-таху). Для него вся ценность рукописи заключалась в ее магической силе. Его заботила только одна строка в середине книги, написанная на рапануйском языке (рукопись C). Большую часть страницы занимают две колонки знаков ронго-ронго и написанные латинскими буквами предполагаемые рапануйские эквиваленты. Все это записано синими чернилами, но пониже, другой рукой, выцветшими светло-бурыми чернилами добавлены две строчки, нижнюю из которых владелец считал аку-аку, то есть духом книги. Эту строку («Кокава аро, кокава туа, те игоа о те акуаку, эруа») Хуан понимал как повеление владельцу сделать новый список, когда настоящий «износится спереди и износится сзади». Когда мы потом спрашивали пасхальцев, каков смысл этой фразы, они отвечали, что дословный перевод невозможен. Тем не менее Хуан считал ее наделенной волшебной силой мана. Он многократно прочел эту фразу вслух, сперва дома, затем на террасированном конусообразном холме, возвышающемся над нашим лагерем в Анакене. На вершине холма состоялась торжественная церемония передачи рукописи мне.(64) (Кондратов(65), ссылаясь на Энглерта, впоследствии показал, что Кава-аро и Кава-туа – имена двух аку-аку, будто бы обитающих в районе Рааи. Ко – артикль, обычно употребляемый перед именами собственными.) Рукопись Хаоа (она же рукопись С) теперь хранится в музее «Кон-Тики».
Два столбца знаков необычного вида пасхальцы считали «ронго-ронго второго рода». Однако при сопоставлении оказалось, что многие из этих знаков совпадают с образцами «подписей», вождей маори на мирном договоре с Англией, воспроизведенных Жоссаном просто для сравнения.
Не все подписи, приведенные Жоссаном, повторены в версии Хаоа, нарушена их последовательность, некоторые стоят вверх ногами по отношению друг к другу. Многие знаки Хаоа отсутствуют в каталоге Жоссана.
Здесь важно вспомнить, что «подписи» маори были сымпровизированы совершенно неграмотными людьми, которые имели лишь поверхностное представление об европейской письменности и, как могли, подражали ей. Аналогичные «подписи» пасхальских вождей на договоре с испанцами, скорее всего были таким же образом изобретены на месте. У подлинных ронго-ронго, очевидно, совсем другие и более глубокие корни. Из «подписей» маори, внесенных почтенным епископом в каталог ронго-ронго, опекаемые миссионерами пасхальцы сотворили второй род не поддающегося прочтению мнимого письма.
 Знаки на печатях Индской культуры, смысл неизвестен.
Знаки на печатях Индской культуры, смысл неизвестен.
Не исключено, что информатор Салмона и Томсона, Уре Бае Ику, чье имя написано наверху одной страницы рукописи Эстевана Атана, причастен к оригиналам, лежащим в основе списков Эстевана Атана и Хуана Хаоа. Энглерт пишет: «Настоящее имя Уреваеико было Уре Вае Ику. Я смог узнать о нем очень мало – лишь то, что он был слугой (туура) короля Нгаары и состоял в родстве с женой Даниеля Теавы – Бери а Моту а Манухеуророа. Поскольку сын Даниеля, тоже Даниель, чья фамилия Теаве превратилась в Чавез, женился на Исабель Хаоа, Хуан Хаоа – родственник его жены. Поскольку Уре Вае Ику был туура у Нгаары, он мог выучить знаки дощечек кохау ронго-ронго».(65а) Третью, меньшую по объему рукопись (рукопись В), выцветшую и отчасти изъеденную червями, принес в наш Анакенский лагерь, казалось бы, случайный посетитель из деревни – молодой Элиас (Эриа) Пакарати Атан; он потом заболел и умер. Элиаса звали также Харе Кае Хива в честь одного из предков, кстати, отца Тупутахи, предполагаемого автора книги Эстевана Атана. Доставленная Элиасом рукопись В(66) состоит из десяти маленьких листов из тетради в клетку (двадцать страниц), сшитых крученой пеньковой бечевкой. Верхние края срезаны ножом, но на трех страницах еще можно разобрать печатную надпись «Эскуэлас Примариас де Чиле» (Чилийская начальная школа).
На первых двух страницах нет ни номеров, ни текста, если не считать цифру 1865, написанную карандашом посредине первой страницы. Наверху всех остальных страниц видим написанное чернилами заглавие «Пуа арахоа арапу» и номер. Последняя страница содержит только заглавие, а на предшествующих семнадцати страницах стоят, кроме того, в один или два столбца знаки ронго-ронго и рядом латинскими буквами записан предполагаемый перевод на рапануйский язык. Как повторяющееся заглавие, так и знаки, а также толкование их написаны как будто одной рукой, чернила выцветшие, синевато-бурые. Под большинством рапануйских слов или рядом с ними карандашом приписан испанский перевод. Добавления сделаны явно опытной нерапануйской рукой; иностранец, едва ли знавший рапануйский язык, включил в свой перевод пояснения, очевидно, полученные от пасхальца, который пытался истолковать рапануйские выражения, пользуясь скудным набором испанских слов.
Цифра 1865 на первой странице написана карандашом той же нерапануйской рукой. Вряд ли можно считать это годом появления рукописи – дата слишком ранняя. Хотя Эйро обнаружил дощечки на острове в 1864 году, Зумбом попал на Пасху только в 1866 году и привез первую дощечку Жоссану в 1868 году. Возможно, цифра 1865 обозначает год, к которому предположительно отнес рукопись человек, внесший карандашные пометки на испанском языке.
Остается загадкой, каким образом тетрадь попала в руки человека, владевшего испанским языком и достаточно заинтересовавшегося ее содержанием, чтобы исписать ее всю карандашом, и потом вернулась к рапануйцам. Примечательно также, что молодой владелец рукописи предложил мне ее просто и деловито, без признаков суеверия, гордости или сентиментальности. Он сказал мне, что тетрадь представляет собой копию оригинала, изготовленного его дедом Пуаарахоа Араки, доставшегося в наследство отцу Элиаса, Аугустину Пакарати, и что Матео Херевери хранил эту копию в пещере на островке Моту-нуи.
Правда о происхождении этой рукописи все еще неизвестна. Когда Бартель(67) попытался получить дополнительные сведения от Элиаса и Матео Херевери, он услышал от Матео, что версия о хранении тетради в тайнике на Моту-нуи и об авторстве их деда – знаменитого птицечеловека Пуаарахоа – была придумана, чтобы набить цену. Но это звучит малоубедительно, так как вверху каждой страницы той же рукой и теми же чернилами, что и весь текст, написано «Пуа арахоа арапу». К тому же Элиас и не думал расписывать мне славу Пуаарахоа, имя которого я до тех пор не слышал. И, кроме того, Элиас подчеркнул, что текст написан не рукой Пуаарахоа Араки, что речь идет о копии.
Любопытно, что Элиас называл автора оригинала Пуаарахоа Араки, а не Пуаарахоа Арапу, как написано на всех страницах тетради. В генеалогии, составленной Энглертом(68), говорится, что Пуа Арахоа при крещении получил новое имя – Аракилио (таитянский эквивалент Гераклио), которое пасхальцы превратили в Араки. На острове не знали о существовании ни этой рукописи (несмотря на испанские пометки), ни других, и это уже свидетельствует о том, что тетрадь хранилась в тайнике. С точки зрения Элиаса, вряд ли место расположения тайника могло повлиять на ценность рукописи. Скорее всего, рукопись лежала в пещере на Моту-нуи, так как на Пасхе нет других надежных хранилищ, недоступных для местных жителей.
Значительный интерес представляет информация, полученная Энглертом(69): мать Элиаса, Хилариа Атан, была племянницей Пуа Арахоа; следовательно, Элиас приходился Пуа Арахоа не внуком, а внучатым племянником. Отсюда следует, что у покойного Эстевана Атана Пакомио и покойного Элиаса Пакарати Атана был общий родственник – Пуа Арахоа, завоевавший, по данным Бартеля(70), титул птицечеловека в год, когда родился переводчик Раутледж – Хуан Тепано (около 1875 года, согласно Раутледж(71)). Таким образом, намечается возможная связь между творцами оригиналов, лежащих в основе рукописей А и В. Рукопись В хранится вместе с рукописью А в музее «Кон-Тики».
Другой посетитель нашего лагеря, Арон Пакарати, принес несколько поврежденных рукописных листов только для того, чтобы показать их мне. Он не согласился расстаться с ними и отказался назвать имя владельца, которому был обязан вернуть эти листы. Возможно, владельцем был Доминго или один из его братьев – Педро, Сантьяго или Тимотео; все трое сотрудничали со мной, когда я попросил их смастерить лодки «пура». Престарелые братья были сыновьями пасхальского учителя закона божьего, который после изгнания первых миссионеров продолжал кое-как вести богослужение.
Мы сфотографировали все тринадцать обрывков, принесенных Ароном (рис. III) (72). На одиннадцати видны обычные вертикальные столбцы знаков ронго-ронго с написанным латинскими буквами рапануйским переводом. На одном под вертикальными колонками есть сплошная горизонтальная строка знаков ронго-ронго; последний клочок содержит только горизонтальную строку письмен ронго-ронго. На одном из обрывков среди рапануйских слов стоят написанные той же рукой французские слова «Ciel» и «Soleil».
Бартель(73) предполагает, что эти обрывки относятся к рукописи С. Это вполне возможно по ряду причин. Как уже говорилось, рукопись С – конторская книга без корок, из которой вырвано большинство листов; два листа обрезаны. И почерк рукописи D как будто совпадает с одним из почерков более разнородной рукописи С. Наконец, клочки оторваны от листов с вертикальными графами такого же рода, какие мы видим на некоторых страницах рукописи С.
Примечательной деталью являются крестики, которыми помечено большинство знаков ронго-ронго в рукописи D. То же самое есть и в рукописи С. Скорее всего, крестики проставлялись, когда делали список. Человек, аккуратно переписывавший знаки, отмечал каждый из них крестиком, чтобы ни одного не пропустить и не повторить.
ДРУГИЕ РУКОПИСИ НА ОСТРОВЕ
Было очевидно, что рукописи, найденные на острове, имеют особое значение для нынешних пасхальцев; недаром они прежде никому о них не рассказывали и отказывались продавать их, за одним исключением (Элиас Пакарати). Когда мы уезжали, у пасхальцев, несомненно, оставались еще рукописи. Своеобразный лист Атана Атана, содержащий связные тексты ронго-ронго и на рапануйском языке, не был сфотографирован, и данных о том, что этот лист потом кто-либо видел, нет. Рукопись его брата Эстевана Атана мы сфотографировали, потом она считалась пропавшей вместе с владельцем, пока вдруг не появилась вновь в 1964 году. Старший из братьев Атан – Педро – по нашим сведениям, обладал третьей полной рукописью, которую нам так и не показали. Обрывки рукописи Арона Пакарати Атана, не представляющие, казалось бы, никакой ценности, приобрести не удалось, они снова канули в неизвестность.
Интересно, что текст одной из страниц тетради Эстевана Атана был составлен и записан за двадцать лет до нашего приезда(74), когда ее нынешний владелец был еще мальчиком, и что рукопись передавалась от старшего поколения к младшему в полной тайне; это особенно примечательно в такой маленькой островной общине, где всем все известно друг о друге. Просьба Эстевана Атана сфотографировать рукопись на борту нашего судна, чтобы другие пасхальцы не узнали, что у него есть такая вещь, говорит о сознательном стремлении к секретности.
С другой стороны, то обстоятельство, что пациент лепрозория, где нельзя было скрыть своих занятий, открыто работал над рукописью, свидетельствует о живом интересе к традициям, которые играли важнейшую религиозную роль на острове, когда были молоды родители нынешних стариков.
Другие указания о стремлении современных пасхальцев хранить в тайне унаследованные рукописи с письменами ронго-ронго находим в сообщениях, опубликованных уже после нашего посещения острова.
В 1957 году Бутинов и Кнорозов рассказали, что Оливарес, посетивший Пасху в 1956 году на чилийском военном корабле «Пинто», когда мы еще были на острове, будто бы видел у пасхальца Хуана Теао очень неполный «словарь ронго-ронго». Согласно тому же сообщению, рукопись была скопирована с более ранней, принадлежавшей Педро Пате, который унаследовал ее от своего деда Томеники. Томеника, мол, составил оригинал шестьдесят пять лет назад, «чтобы обучать своих учеников». Принадлежащего Педро Пате оригинала никто не видел, и копию Хуана Теао приобрести не удалось, Оливарес успел только сделать несколько фотоснимков, но пленка таинственным образом оказалась «не то утерянной, не то украденной».(75) Узнав, что мы обнаружили на острове Пасхи рукописи, Бартель(76) в 1957 году отправился туда и сумел разыскать страницы, виденные чилийцами; они теперь были у старика Тимотео Пакарати. С помощью другого члена семьи Теао ему удалось также найти часть недостающих листов. Этот список он назвал рукописью Е. По словам информаторов Бартеля, эту рукопись в 1946 году подарила Хорхе Пакарати Атану его тетка Хилариа Атан. Она была матерью Элиаса Пакарати Атана, у которого я приобрел рукопись В. Бартель не смог приобрести рукопись E, но он переснял ее. Позднее он сообщил(77), что, по словам Николаса Пакарати, недавно посетившего ФРГ с группой пасхальцев, оригинал пропал на корабле по пути в Чили.
Хотя мне не довелось видеть никаких фотокопий рукописи E, полагаю, что Пакарати ввел в заблуждение Бартеля и рукопись Е идентична той, которая попала в руки Макса Пуэльмы Бунстера из Сантьяго (Чили). Пуэльма получил старинную рукопись объемом в сто тридцать страниц от пасхальцев, прибывших в Чили в 1960 году, после смерти ее владельца Тимотео Пакарати. Напомню, что у Тимотео хранилась рукопись Е, когда на Пасху приехал Бартель. Пуэльма, близкий друг семьи Пакарати, сообщает, что получил рукопись в дар.(78) По словам информаторов Пуэльмы, тетрадь старика Тимотео первоначально принадлежала его отцу Николасу Пакарати Уре Потахи, учителю закона божьего, который сам учился на Таити под надзором епископа Тепано Жоссана.(79) Хотя это сообщение о происхождении и наследовании рукописи Пакарати несколько отличается от данных Оливареса и Бартеля, оно, вероятно, близко к истине, так как вполне объясняет, каким образом взгляд Жоссана на ронго-ронго мог отразиться на некоторых частях рукописей, сохраненных в тайниках на острове Пасхи. Сложный состав рукописи Пакарати отнюдь не исключает (по предположению информатора Оливареса), что одним из соавторов был Томеника, дед Педро Пате. В самом деле Томеника и старый учитель закона божьего были тесно связаны между собой. А Доминго Пакарати, сын учителя и брат унаследовавшего рукопись Тимотео, был воспитан Томеникой и носил его имя.(80) По сообщению Пуэльмы(81), двадцать страниц рукописи, написанные карандашом, представляют собой «словарь ронго-ронго». На последних семи страницах столбцы знаков ронго-ронго якобы начертаны Вака о Tea Хивой или Томеникой. Большая часть рукописи отведена фольклору, записанному на рапануйском языке латинскими буквами. Образцы текста, переведенные Пуэльмой с помощью Хуана Лахароа, Леонардо Пакарати и Марианы Пакарати, позволяют определить приблизительный возраст оригинальной записи.
Пуэльма говорит о рапануйском тексте: «Ошибки в написании некоторых слов оставляют впечатление, что писавший не владел в совершенстве языком и точно воспроизводил речь старых людей. Текст, написанный выцветшими чернилами железистого состава, содержит короткие предложения, многие из которых начинаются с последнего слова предыдущего».
Пуэльма допускает, что эта рукопись скопирована с записей, сделанных одним из первых европейцев, побывавших на острове, возможно, миссионером. Однако миссионеры удивительно мало интересовались пасхальским фольклором, хотя по распоряжению епископа Жоссана и стали проявлять усиленное внимание к ронго-ронго. Первым грамотным человеком, который владел рапануйским языком и живо интересовался фольклором острова Пасхи, был Александр (Тати) Салмон. Его записи были утрачены, вероятно, на самом острове, но многое скопировал и опубликовал Томсоп (1889 год).
В самом деле образцы, переведенные Пуэльмой и его рапануйскими помощниками, очень напоминают предания, которые рассказывались во времена Салмона, но к XX веку были забыты.
Имя главного информатора Салмона – Уре Вае Ику, слуги последнего короля, – прямо связывается с некоторыми текстами рукописи Пакарати, так же как и в случае с рукописью А.
Пуэльма(82) приводит в качестве примера предание об открытии Пасхи, по которому некий Махаа достиг острова после двухмесячного плавания за заходящим солнцем. Его брат – король Хоту Матуа отправился вслед за ним «на двух судах с 300 подданными, они шли на закат 120 дней, пока в августе (анакена) не достигли Те Пито О Те Хенуа, идя со стороны восхода, из Марае Toe Xay (место погребения), очень жаркого места».
Этот отрывок из рукописи Пакарати, запечатленный на старой бумаге в клетку с пометкой «Эскуэлас Примариас де Чиле», удивительно близок к тексту, записанному Салмоном со слов Уре Вае Ику.(83) Однако, как подчеркивает Пуэльма(84), в рукописи Пакарати указания, что остров был известен до прибытия туда Хоту Матуа, более категоричны, чем в публикации Томсона. Так, по рукописи, сперва остров «явился» Хаумаке видением, потом там побывали три разведчика, затем приплыли Ира, Рапа, Ренга и еще пять человек. Лишь после этого прибыли суда с Хоту Матуа, его родичами и приближенными.
Бартель(85) тоже отмечает, что рапануйское предание в рукописи Е, а также короткий текст в рукописи С упоминают легендарные имена людей, которых Хоту Матуа застал, прибыв на остров Пасхи.(86) Поскольку во всех рукописях, содержащих рапануйские предания, упоминается имя Уре Вае Ику, очень возможно, что он вместе с Томеникой и с учителем закона божьего Николасом Пакарати составлял тексты и списки. Только полная публикация рукописи Пакарати и тщательное изучение языка рассказчика смогут показать, идет ли речь о независимых записях или о копиях записок Салмона.(87) Не исключено, что в руках Оливареса, Бартеля и Пуэльмы побывали разные копии или разные отрывки одной и той же рукописи. В пользу такой версии говорит утверждение Оливареса, что страницы, показанные ему Хуаном Теао, были списаны с оригинала, принадлежащего внуку Томеники, Педро Пате.
Не знаю почему, но рукопись Тимотео Пакарати оставалась в тайнике во время нашего пребывания на острове. Хотя старик Тимотео давал экспедиции ценные сведения о конструкции камышовых лодок и о старинных обычаях, он ни словом не обмолвился о существовании такой рукописи. Ничего не сказал о ней и Педро Пате, который был десятником на раскопках в Рано Рараку. Патер Энглерт больше двадцати лет дружил с пасхальцами, но и он не знал их секрета, а ведь Педро Пате был его ближайшим помощником, он выполнял обязанности пономаря деревенской церкви.
Кстати, вероятно, как раз это лучше всего может объяснить причину скрытности пасхальцев. Они знали, что кохау ронго-ронго и все, что связано с этим древним искусством, относилось к языческим ритуалам, которые стали осуждаться, когда на острове утвердилось христианство. Для пасхальцев ронго-ронго было не просто письменностью, оно было магическим средством их предков, с помощью которого те вступали в контакт со сверхъестественными силами. Большинство пасхальцев все еще верило, что их предки совершали оккультные действия, общаясь с «бесами», и что в ронго-ронго заключена мана.
По существу, мало что изменилось с тех пор, как Метро, опросив одного представителя рода Теао (в этом самом роду Оливарес потом обнаружил страницы словаря ронго-ронго), записал его мнение о ронго-ронго: «Чарли Теао не сомневался, что с каждым знаком связана песня, обладающая магической силой. Скажем, если кто-нибудь хотел навязать другому свою волю, достаточно было взять дощечку, посмотреть на определенный знак и спеть надлежащую формулу. Силой колдовства и действия знака можно было даже убить человека. Знаки на дощечках (рона) обладали такой же мана, как аналогичные знаки, нанесенные на черепах или скалах».(88) Дети и внуки крещеных островитян, некогда спрятавших в потайных пещерах множество дощечек с письменами, продолжали смотреть на них как на запретное связующее звено с загадочным прошлым, не предназначенное для глаз общественности. Деревянные дощечки, за редким исключением, пропали или сгнили, а старый обычай был забыт. И пасхальцы обратились к бумаге и камню, чтобы сохранить оккультные знания и предания. При этом инициаторы попыток уберечь или оживить прошлое предпочитали развивать свою деятельность в тех тайниках, где оказалось ронго-ронго после введения на острове христианства.
Подчеркнутая скрытность островитян и необходимость относиться недоверчиво ко всякой недокументированной информации из пасхальских источников – два обстоятельства, из-за которых особенно трудно выявить взаимосвязь между известными рукописями и установить первоначального автора. В какой-то мере путеводной нитью могут служить степень сходства в оформлении и расположении содержания, повторение одинаковых текстов, наличие страниц с одним и тем же почерком, опознание обрывков или разрозненных страниц, отсутствующих в неполных тетрадях, и наконец обзор нынешних владельцев известных списков.
Среди владельцев рукописей в глаза бросается преобладание двух фамилий – Атан и Пакарати:
1) Эстеван Атан (рукопись А, сфотографированная мной); 2) Атан Атан (рукописная страница, виденная мной); 3) Педро Атан (рукопись, о которой говорили его братья); 4) Хосе Абрахан Атан (по словам Эстевана, временный владелец рукописи А); 5) Хилариа Атан (по данным Бартеля, временная владелица рукописи Е); 6) Элиас Пакарати Атан (рукопись В, приобретенная мной); 7) Хорхе Пакарати Атан (по данным Бартеля, временный владелец рукописи Е); 8) Арон Пакарати (обрывки рукописи, сфотографированные мной); 9) Тимотео Пакарати (рукопись Е, сфотографированная Бартелем и полученная Пуэльмой); 10) Николас Пакарати Потахи (по данным Пуэльмы, автор рукописи Е); 11) Педро Пате (по данным Оливареса, владелец оригинала, лежащего в основе рукописи Е); 12) Томеника (по данным Оливареса, автор рукописи Е); 13) Хуан Теао (часть рукописи Е, сфотографированная Оливаресом); 14) Хуан Хаоа (рукопись С, приобретенная мной).
Должен поблагодарить доктора Эйвинда Мюре из Осло, члена Канадской экспедиции 1964-1965 годов на остров Пасхи, за то, что он вместе с патером Себастианом Энглертом составил необходимые для этого анализа родословные.
Итак, если разобрать родственные отношения между названными четырнадцатью лицами, оказывается, что Эстеван (1), Атан (2) и Педро Атан (3) – братья, а Хосе Абрахан Атан (4) – их отец. Хилариа Атан (5)
– их мать; она же во втором браке мать Элиаса Пакарати Атана (6).
Таким образом, перебрасывается мост между семьями Атан и Пакарати. Хилариа Атан к тому же тетка Хорхе Пакарати Атана (7) и Арона Пакарати (8), а ее второй муж, Аугустин Пакарати, был братом Тимотео Пакарати (9) и сыном Николаса Пакарати Потахи (10), деда (6), (7) и (8). Возвращаясь к Хиларии Атан (5), видим, что она также сестра Магдалены Пакомио, матери Педро Пате (11). Томеника (12) – дед Педро Пате (11), и, как говорилось выше, считался дядей Эстевана Атана (1), в рукописи которого, наверху первой страницы, стояло имя Томеника. Он вырастил также отца Арона Пакарати (8).
Таким образом, налицо тесная взаимосвязь от (1) до (12), причем Томеника занимает ключевую позицию. По имеющимся данным, во владении Хуана Теао (13) находилась только копия оригинала, принадлежавшего Педро Пате (11).
Отношение Хуана Хаоа (14) к остальным владельцам рукописей представляется не столь непосредственным и ясным. Пожалуй, здесь важно еще раз отметить, что старая таху-таху Виктория Атан играла не последнюю роль при передаче рукописи Хуана Хаоа; эта женщина была единственной живой сестрой Хосе Абрахана Атана (4) и теткой (1), (2) и (3).
Еще одно возможное связующее звено с Хуаном Хаоа (14) – его жена, Ольга Пакомио, с которой он состоит еще и в кровном родстве. Ольга Пакомио, Хилариа Пакомио (мать братьев Атан – (1), (2) и (3) и Магдалена Пакомио (мать Педро Пате, 11) – прямые потомки ученого Урекино Маори, которого, как уроженца племени марама, звали Хе Марама; при крещении он получил имя Пакомио. Имя Хе Марама, как и Томеники (см. рукопись A и рукопись B), стоит наверху одной страницы рукописи Эстевана Атана (1) и как будто связывает между собой (1) и (14).
Выше мы со ссылкой на Энглерта показали также, что Хуан Хаоа (14) состоит в родстве с ученым Уре Вае Ику, чье имя фигурирует вместе с именем Томеники (см. рукопись A) на одной из страниц рукописи Эстевана Атана (1). На другой странице, где стоит имя Томеники (см. рукопись B), следуют неразборчивые буквы, последние из которых образуют слово «теа». Возможно, подразумевается Театеа, брат отца Томеники; он же, по данным Энглерта(89), вырастил Томенику. Круг замыкается – Театеа был прадедом Педро Пате (11).
Резюмируя, можно сказать, что нити владения известными пасхальскими рукописями тесно переплетаются и явно ведут к группе информаторов или рассказчиков, в которую входят Томеника, Уре Вае Ику и Хе Марама. Николас Пакарати – первый учитель закона божьего, продолживший дело изгнанных миссионеров, – тоже принадлежит к числу авторов, если верить сведениям, полученным Пуэльмой от сына Николаса Пакарати. Пуа Арахоа Арапу же, чье имя стоит на страницах рукописи, приобретенной у Элиаса Пакарати Атана (6) не был автором этих листов, так как они попросту скопированы с ранее известного на острове списка.(90) Томеника, Уре Вае Ику, Хе Марама и Николас Пакарати – все они были просвещенными пасхальцами. Николас Пакарати научился читать и писать на Таити. К имени Хе Марам добавлялось слово «маори» – указание на его ученость. Уре Вае Ику и Томеника слыли знатоками письмен ронго-ронго.
Вспомним, что Уре Вае Ику был слугой последнего короля; Салмон и Томсон показали, что он не умел читать ронго-ронго, но знал некоторые тексты наизусть. Если Уре Вае Ику умер до прибытия на остров Раутледж в 1914 году, то Томеника скончался через несколько недель после ее приезда. Он утверждал, будто в какой-то мере владеет ронго-ронго и продекламировал ей текст «Хе Тимо те акоако». Этот текст вошел в рукопись Эстевана Атана, на первой странице которой вверху стоит имя Томеники.
Еще примечательнее, что в 1914 году группе Раутледж, как уже говорилось, «однажды показали в деревне лист бумаги из чилийской тетради» со столбцами своеобразных знаков ронго-ронго. По совету островитян, Раутледж показала этот листок помещенному в лепрозорий Томенике, и тот признал, что это «его работа».
Следовательно, Томеника был причастен к созданию рукописей с письменами ронго-ронго до приезда экспедиции Раутледж, ведь он умер через две недели после ее третьего визита в лепрозорий. Если связать эту информацию с тем фактом, что на одной из страниц рукописи Эстевана Атана перечислены названия ночей одного лунного месяца 1936 года(91), и вспомнить, что в 1955 году Габриель Херевери тоже работал в лепрозории над рукописью ронго-ронго, то перед нами конкретные доказательства того, что усилия островитян сохранить наследие отцов не прекращались в первой половине нашего века и, вероятно, продолжаются по сей день.
В 1965 году Бьерн Экблум(92) видел в деревне Хангароа хрупкий лист бумаги, на котором выцветшими чернилами были начертаны строки ронго-ронго. Этот лист Экблуму, члену медицинской экспедиции, показал Эстеван Пате. Попытки приобрести его оказались тщетными, владелец даже не хотел говорить о цене.
С тех пор как епископ Жоссан опубликовал каталог, будто бы раскрывающий смысл некоторых знаков ронго-ронго, а епископ Арльский усомнился в верности его толкований и даже в том, что речь идет о письменности, – с этих самых пор дискуссия ведется вокруг двух основных тем: проблемы происхождения и проблемы толкования.
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Необычайный интерес Жоссана к бустрофедону, обнаруженному миссионерами на острове Пасхи, объясняется тем, что больше нигде в Океании не было известно никакого вида письма. Как явствует из неизданных записок епископа, он немало потрудился, пытаясь найти в Малайской области следы письменности, которая напоминала бы пасхальское кохау ронго-ронго. Его усилия оказались напрасными. Несмотря на это, более поздние исследователи буквально прочесали далекие архипелаги Меланезии, Микронезии и Индонезии, надеясь хотя бы в искусстве найти мотивы, перекликающиеся с отдельными знаками ронго-ронго.
Каталог Жоссана (кат.1)

Не так давно Кенигсвальд(92а) писал о внешнем сходстве между изображающими птиц знаками ронго-ронго и птичьим орнаментом некоторых вышивок на Южной Суматре. Но письменность Пасхи так и осталась изолированным явлением, поэтому некоторые полинезианисты решили, что она зародилась на острове.
В числе тех, кто предлагал теорию независимой эволюции, был Питер Бак.(93) Питер Бак признавал, что судит о проблеме ронго-ронго с позиций Полинезии, где никакой письменности нет. Он предполагал, что пасхальские исполнители ронго-ронго первоначально вырезали орнаментальные изображения Макемаке и птицечеловека на жезлах, которые держали в руке, когда выступали.
Позже эти мотивы стали изображать на деревянных дощечках, которые полностью покрывались резьбой из-за естественного желания предельно использовать площадь. Расположение бустрофедоном – следствие естественного стремления поставить первый знак последующего ряда поближе к последнему знаку предыдущей строки.
Каталог Жоссана (кат. 2)

«Художественное стремление избежать монотонного повторения небольшого числа знаков приводило к тому, что основные мотивы, заимствованные из культа птиц, стали разнообразить и добавлять в них новые, чисто декоративные изображения. Так, дощечки стали предметом искусства, и, подобно другим ценным вещам, получали собственные
имена, как это бывало с нефритовыми украшениями в Новой Зеландии. Пасхальцы, подобно другим полинезийцам, знали свои песнопения и родословные наизусть. Они держали дощечки в руке, как ораторский жезл».
Теория Бака не завоевала широкого признания, хотя Метро(94) тоже одно время придерживался такого воззрения и утверждал, что «пасхальские символы не были письменностью».(95) Он считал «логичным предположить, что дощечки были мнемоническим средством запоминания песен». И дальше: «Несомненно, знаки играли роль символов, они не были чисто декоративными». Однако Метро добавлял: «С какой стати пасхальским жрецам могли понадобиться мнемонические приспособления, без которых обходились жрецы других полинезийских островов».(96) Позднее, ознакомившись с аргументами Бартеля, Кудрявцева, Ольдерогге, Бутинова и Кнорозова, Метро(97) полностью отошел от взглядов Бака и признал, что пасхальские ронго-ронго, вероятно, представляли какой-то род письменности.
Каталог Жоссана (кат. 3)

Эмори(98), пытаясь по-своему решить проблему, предложил такой вариант решения проблемы: «Пасхальскую письменность впервые наблюдали через 94 года после того, как вожди острова Пасхи присутствовали и поставили свои «подписи» на испанской грамоте об аннексии. Их «подписи» часто используют как доказательство того, что у пасхальцев тогда была письменность. Однако при ближайшем рассмотрении подписи представляют собой либо просто каракули, либо изображения птиц или женского полового органа.
Такие изображения встречаются среди местных петроглифов. Поскольку инкская культура не знала письменности, контакт с европейцами кажется наиболее вероятным стимулом для создания своеобразной неполинезийской письменности на острове Пасхи, а также сходною с ней письма, обнаруженного в Перу после Колумба».
При позднейшем исследовании расположения и повторения знаков на пасхальских дощечках подтвердилась давно высказанная догадка, что ронго-ронго – вид бустрофедона; этот факт говорит не в пользу гипотезы европейского происхождения или связи с полинезийскими ораторскими жезлами.
Таким образом, защитники теории местного возникновения ронго-ронго оказались вынужденными присовокупить маленькую уединенную полинезийскую общину к очень немногим крупным мировым центрам первоначального изобретения письма. Вот почему непрерывно продолжались начатые Жоссаном поиски внешнего импульса.
В этом направлении ничего, что могло бы взволновать ученый мир, не происходило до 1930-1932 годов, когда Э. фон Хорнбостель и Хевеши выдвинули противоречивые теории внепасхальского происхождения письменности ронго-ронго. Хорнбостель(98а) усмотрел связь между письменами Пасхи и рисуночным письмом индейцев куна в Панаме, считая их примитивными предшественниками высоко развитой мексиканской письменности, а названные районы – географическим трамплином, через который древние китайские идеограммы проникли в Новый Свет.
Двумя годами позже Хевеши прочел доклад, в котором указывал на внешнее сходство между некоторыми знаками ронго-ронго и нерасшифрованной письменностью, только что обнаруженной на древних печатях Хараппы и Мохенджо-Даро в далекой Индской долине.
Риве, Стефен-Шове, Имбеллони и многие другие одобрили теорию Хевеши, хотя она подразумевала древние связи между противоположными точками земного шара. Хейне-Гельдерн поддержал как Хорнбостеля, так и Хевеши, полагая, что письменность распространилась из Индской долины в Китай, на остров Пасхи, в Панаму и, наконец, в Мексику.
Бак, Скиннер, Лавашери и Метро были среди тех, кто решительно оспаривал эти гипотезы. Бак(99) отвергает предполагаемое сходство некоторых знаков Индской долины и острова Пасхи, он подчеркивает, что принцип бустрофедона, которому подчинено расположение строк ронго-ронго, неизвестен в индской культуре. Кроме того, «остров Пасхи расположен на расстоянии более 13 тысяч миль от Мохенджо-Даро, цивилизация которого восходит к 2000 году до нашей эры. Могли ли эти знаки сохраниться, пока люди на протяжении 3000 лет в борьбе со стихиями осваивали расстояние, превосходящее 13 тысяч миль? Как могли они прибыть на уединенный остров Пасхи, не оставив следа по пути?..».
Метро, касаясь той же далекой индской культуры, писал: «В их цивилизации нет ни одной черты, которая указывала бы на возможную связь с Полинезией».(100) И еще: «Любой, кто без предвзятости изучает эти дощечки и письмена Инда, неизбежно заметит огромную разницу, не только в системе, но и в очертаниях и типе знаков… Я мог бы сравнить индские письмена с пиктографией американских индейцев и обнаружить не меньшее сходство… Если ученые настаивают на связи острова Пасхи с долиной Инда, я требую того же для обойденных индейцев куна нынешней республики Панамы. Можно сюда подключить также оджибва».
Панамские индейцы куна – не самые близкие соседи пасхальцев в Новом Свете, и однако они обитают не дальше от острова Пасхи, чем племена Центральной Полинезии. Примечательно, что они живут на узком перешейке, связывающем области высоких культур Северной Америки и Анд. Линне писал: «На побережье Перу и Эквадора известны легенды о вторжениях с севера, причем речь идет не о мифах, а скорее, о преданиях, правда, довольно смутных. И если некоторые элементы культуры индейцев куна в Панаме и Северо-Западной Колумбии, особенно рисуночное письмо, указывают на связь с севером, то археологические находки, сделанные в провинции Кокле, – скорее на связь с Южной Америкой».(101) Первым рисуночное письмо куна систематически анализировал Норденшельд(102) Он нашел вдоволь признаков, которые свидетельствуют, что оно «происходит от рисуночного письма, существовавшего в этой части света ко времени открытия Америки». Ссылаясь на ранних хронистов Мартира и Энсико, Норденшельд показывает, что некоторые аборигенные племена на Панамском перешейке, когда их открыли европейцы, поддерживали связь с племенами, у которых было рисуночное письмо и были книги. Он предполагает, что это были индейцы никарао, населяющие тихоокеанское побережье Никарагуа, протянувшееся на несколько сот миль между важными центрами письменности Нового Света в Мексике и на Юкатане.
Вместе с Овьедо(103) Норденшельд сообщает, что ко времени прибытия европейцев у никарао были пергаментные книги длиной от десяти до двенадцати футов (то есть от трех до четырех метров) и шириной с ладонь; эти книги складывались, так что их можно было накрыть одной рукой.
В том же XVI веке Симон и Кастельяно рассказывали, что у южноамериканских индейцев катиа (Колумбия) было рисуночное письмо, они писали красками на ткани или на другом материале. Как эти южные племена, так и никарао на севере, вероятно, поддерживали контакт с куна и другими индейцами панамской области.
О самих куна Норденшельд говорит: «В своей превосходной работе П. Гассо пишет, что эти индейцы владели каким-то пиктографическим письмом и писали на дощечках. Подробностей он не приводит. Видный американский биолог доктор Харрис посетил куна, чтобы с генетической точки зрения изучить альбиносов или так называемых белых индейцев, которых много в этом племени. Он обнаружил у куна своего рода рисуночное письмо, применяемое для записи различных песен. По словам Харриса, эти записи читают снизу, сначала справа налево, потом слева направо и так далее».
Большинство образцов рисуночного письма, приобретенных Норденшельдом у куна, было запечатлено на европейской бумаге, однако, «иногда пиктограммы рисовали на деревянных дощечках. Как мне рассказывали куна, – говорит Норденшельд, – дерево – исконный материал; П. Гассо подтверждает это. Одна из деревянных дощечек с изумительными изображениями обителей демонов составляет едва ли не самый ценный предмет нашей коллекции…
Тот факт, что письмена первоначально наносились на дерево, говорит об их самостоятельном возникновении, а не под влиянием белых… Пиктограммы читали справа налево, потом слева направо, причем начинали в правом нижнем углу: это доказывает, что идея пиктографии куна родилась не под влиянием знакомства с письменностью белых».
Он резюмирует: «Из сказанного выше явствует, что нет никаких оснований считать рисуночное письмо куна продуктом какого-либо влияния белых. В нем нет ничего похожего на гораздо более развитое письмо майя. Пожалуй, оно больше всего напоминает пиктографию древней Мексики, и я склонен считать, что оно представляет собой выродившуюся разновидность этой пиктографии. В подтверждение можно сослаться на упоминавшееся выше сообщение Мартира. Из него видно, что индейцы дариен в начале XVI века поддерживали связь с индейцами, у которых был какой-то вид рисуночного письма, вероятно, сходного с мексиканским».
Хейне-Гельдерн писал, развивая первоначальную теорию Хорнбостеля: «Нынешние куна пишут преимущественно на бумаге. Но наряду с этим у них есть деревянные письменные дощечки, сами куна называют их исконным материалом для письма. Дощечки, виденные Норденшельдом, предназначались для того, чтобы подвешивать их в домах во время празднеств. Идеограммы начертаны красками. Однако, по сведениям Гассо, прежде идеограммы вырезали на деревянных дощечках.
Здесь вспоминаешь письменные дощечки острова Пасхи. Способ письма бустрофедоном, с чередованием строк снизу вверх, напоминает письменность острова Пасхи. Но куна пишут знаки всегда одинаково, не переворачивают вверх ногами в каждой второй строке, как пасхальцы». И дальше: «Хотя на первый взгляд знаки письменности куна по виду совершенно отличны от пасхальских, мне кажется, что можно установить существенное сходство».(104) Хейне-Гельдерн считает, что изучение вопроса о связи между письменными дощечками куна и пасхальцев подтверждает предположения Хорнбостеля; он говорит: «Форма письмен острова Пасхи намного опередила в развитии письмо куна или же, что вернее всего, письменность куна упростилась и деградировала больше, чем пасхальская, хотя в ней, возможно, лучше сохранена исконная форма многих знаков. Из сообщений Норденшельда вытекает, что сами куна отдают себе отчет в деградации своего письма: «Нынешнее рисуночное письмо индейцев хуже того, которое было у них прежде», – сказал нам Неле». (Неле, информатор Норденшельда, сообщил, что предания куна приписывают изобретение пиктографии у куна герою по имени Ибеоргун, жившему около 800 лет назад, и что нынешнее письмо отличается от исконного: «Последним, кто по-настоящему знал рисуночное письмо, был Мемекина».) (105) Хорнбостель указывал на магический аспект письменных дощечек Панамы и острова Пасхи и отмечал, что куна, как и пасхальцы, «не умеют читать письмена в буквальном смысле слова, а поют связываемые с этими письменами традиционные тексты».(106) Хейне-Гельдерн развил это положение: «Совсем как у пасхальцев, у куна необходимо знать текст, чтобы читать его, вернее декламировать».(107) И дальше: «Как и у куна, на острове Пасхи на похоронах декламировали письменные тексты. У куна эти тексты содержали описание дороги, по которой душе покойного предстояло странствовать после смерти. Жрец декламирует текст по пиктограмме, когда тело несут в лодке к могиле…
Полученная Раутледж от островитян информация о похоронах Арики Нгаары, умершего в 1860 году, позволяет предположить, что тексты содержали в основном сведения о странствии, ожидавшем душу после смерти. По рассказам пасхальцев, тело Арики несли к могиле на трех письменных дощечках, которые захоронили вместе с ним…
Пользуюсь случаем обратить внимание на своеобразное и, возможно, не случайное сходство погребального обряда обеих областей, а именно, употребление палок с перьями. «Шесть дней подряд после его (Нгаары) смерти, – говорит Раутледж в упомянутом отрывке, – все делали палки с перьями на конце (хеу-хеу), эти палки расставили вокруг того места».
По поводу этих хеу-хеу в записанном Томсоном тексте «Апаи» сказано, что бог перьев Эре Нуку «отгоняет злых духов, когда перья размещены по всему месту погребения». У куна было принято класть в могилу вместе с телом четыре палки с перьями, которые были символом или обителью четырех духов-хранителей, сопровождавших душу в ее посмертном странствии».
Отметив совпадения в начертании и повторении знаков, Хейне-Гельдерн показывает, что перья и нитки перьев многократно представлены в письменности и пасхальцев, и куна. Выше мы говорили о том, что палки с перьями втыкали в землю вокруг площадки, где пасхальские тангата ронго-ронго, облаченные в головной убор из перьев, собирались для ежегодного чтения дощечек.
Если бы случайный образец дощечки, увиденный патером Зумбомом, не заинтересовал епископа Жоссана, познания европейцев об этом изделии могли быть похоронены вместе с нелюбопытным святым братом Эйро. И только в устных преданиях утверждалось бы, что в прошлом на крайнем восточном острове Полинезии писали на каких-то дощечках. Поэтому мы, быть может, ошибаемся, считая, что лишь у одного племени на восточной окраине Тихого океана, а именно у куна, были письменные дощечки.
Предположения о широком распространении письменности в прошлом в Восточной Полинезии мало значат для науки, пока они не подкреплены свидетельствами. А вот к югу от Панамского полуострова исторические источники подтверждают наличие пиктографии как таковой у индейцев катиа в Колумбии и мотилоне в Западной Венесуэле.
Выше говорилось, что европейцы видели пиктограммы катиа нарисованными на тканях и вырезанными на другом материале, скорее всего, на дереве. Индейцы мотилоне наносили свои пиктограммы на ткань, бумагу и дерево. Гонцы племени во время пения «протокольных формул» указывали на знаки, нарисованные на жезлах, именуемых тиот-тио.
Директор Каракасского музея Дж. Краксент, открывший такую систему письменных сообщений у изолированных племен в районе Сьерра де Периха у границы Колумбии, сообщает: «Ясно, что тиот-тио уже переживает стадию культурной трансформации, однако нет никакого сомнения, что оно местного происхождения. Любопытно, что приемы чтения тиот-тио и некоторые знаки напоминают нам рапануйские дощечки острова Пасхи».(108) Хейне-Гельдерн комментирует доклад Краксента, представленный XXIX Международному конгрессу американистов в Нью-Йорке: «Доктор Краксент сообщил об открытии у индейцев мотилоне в Западной Венесуэле системы рисуночного письма, которое не только в общих чертах, но и в деталях настолько близко пиктографии индейцев куна в Восточной Панаме и письменности острова Пасхи, что вряд ли можно сомневаться в наличии некоей связи».(109) Итак, установлено, что разные виды письменности были спорадически распространены от области куна до Мексики. Вероятно также, что распространение письменности в Южной Америке не ограничивалось отдельными племенами Венесуэлы и Колумбии.
Обычай применять мнемонические жезлы, сохранившийся у гонцов мотилоне, напоминает то, что некогда практиковалось в области инков. Пачакути(110) описывает, как Инка Тупак Юпанки, который позднее предпринял дальнее плавание в Тихом океане, послал наблюдателя инспектировать свои владения, снабдив его инструкциями в виде черточек на крашеных жезлах.
Беннет(111) подчеркивает, что у инков было принято использовать «в помощь памяти крашеные жезлы». Когда дело доходило до более сложных или важных текстов, вероятно, простой жезл заменялся деревянной дощечкой. К сожалению, алчные до золота конкистадоры не сохранили образцов таких изделий.
Опросив сорок два ученых инкских историка, Сармьенто де Гамбоа(112) услышал, что они почерпнули свои знания о «делах» и «преданиях» предков из записей на дощечках, передававшихся из поколения в поколение. Далее Сармьенто пишет о Пачакути Инге Юпанки, девятом Инке (английский перевод Бандельера(113)): «И ознакомившись с важнейшими из старых преданий, он велел записать их все по порядку на больших досках и поместил эти доски в просторном зале в доме солнца, где названные доски, украшенные золотом, выполняли роль наших библиотек. И он назначил ученых людей, которые понимали их и умели читать. И никто не должен был входить в это помещение, кроме самого Инги или историков, получивших на то особое разрешение Инги».
А вот что пишет патер Молина: «Что касается их идолопоклонничества, то мы видим, что эти люди не знали письменности. Но в доме солнца, именуемом Покен-Канча, что находится недалеко от Куско, хранят они описания жизни каждого Инки и завоеванных ими земель, запечатленные знаками на определенных досках, и там же приведена его родословная… В число этих записей входит также следующая басня, – продолжает Молина, – после чего идет сложнейший текст, включающий даже законы первого Инки».(114) Во введении к английскому переводу записок патера Фернандо Монтесиноса(115) Маркхем и Минз называют автора одним из виднейших ранних хронистов Перу, поскольку он скопировал чрезвычайно важную рукопись Бласа Валера, прежде чем она была утрачена. Блас Валера был наполовину перуанец, его родным языком был кечуа, его мать была связана с двором Инки, и в первые годы после конкисты он воспитывался в Кахамарке, излюбленной резиденции Инки. Тридцать лет Блас Валера изучал предания и легенды, которые ему рассказывали престарелые амаута и кипукамайоки, помнившие годы до прихода европейцев.
Уже одно то, что Монтесинос скопировал записки Бласа Валера, говорят Маркхем и Минз, делает его «важнейшим, даже единственным до сих пор историком, который осведомлен о доинкской истории Перу». Тем интереснее приводимый Монтесиносом эпизод из жизни одного из древнейших доинкских королей:
«Амаута, которым события тех времен известны из старинных преданий, передававшихся из уст в уста, рассказывают, что, когда у власти находился сей правитель (Синчи Коске Пачакути I), существовали буквы, и сведущие в них люди, именуемые амаута, учили других читать и писать. Главной наукой была астрология. Насколько я понимаю, они писали на высушенных листьях банана… Эта письменность была утрачена перуанцами в связи с одним событием, которое произошло во времена Пачакути VI, как мы это увидим».(116) Говоря об организованной системе каски, или гонцов, он пишет: «Когда у них еще были буквы и знаки или иероглифы, они, как мы указывали, писали на банановых листьях, и один каски передавал сложенный лист другому, пока он не попадал в руки короля или правителя. Когда же письменность была утрачена, каски передавали весть друг другу из уст в уста…».(117) В правление Титу Юпанки Пачакути V, после которого сменилось еще двадцать восемь правителей, до того как власть взял первый Инка, из внутренних областей страны пришли огромные армии свирепых воинов и народ Перу вынужден был вести «жестокие войны, в ходе которых была утрачена существовавшая до той поры письменность… Кончилось монархическое правление в Перу. Монархия оправилась только через четыреста лет, а знание письмен было утрачено».(118) Следы древней письменности сохранились в Андах вокруг озера Титикака до исторических времен. Первое основательное исследование этой письменности проделал Ибарра Грассо, но и прежде некоторые авторы упоминали об этом своеобразном рисуночном письме. Ибарра Грассо(119) опубликовал богатый материал об этой письменности, собранный в послеколумбово время среди племен аймара и кечуа. Доказывая ее неевропейское происхождение, он проводит параллель с письменностью куна(120) и приводит образец андского бустрофедонного письма.
На каменной плитке из Андской области стоят в два ряда идеограммы, причем второй ряд продолжает первый согласно системе бустрофедон и к тому же знаки изображены вверх ногами, как на пасхальских дощечках. В отличие от письменности куна, но подобно письменности Пасхи в этой разновидности андского письма текст начинался внизу слева.
Такой способ не так-то просто изобрести. На это было указано во время конференции за круглым столом в Москве в связи с VII Международным конгрессом антропологических и этнографических наук (1964 год), когда Кнорозов(121) подчеркнул, что система перевернутого бустрофедона обнаружена лишь в двух районах мира: на острове Пасхи и в Перу.
Общеизвестно, что кипу стало широко распространенным заменителем письма в культуре инков. Эта замысловатая мнемотехническая система шнурков с узелками так же далека от бустрофедонной письменности, как аналогичные узелковые памятки маркизцев.(122) Мы не располагаем никакими данными, чтобы строить сколько-нибудь приемлемые предположения о том, на что были похожи знаки, изображавшиеся перуанскими аматуа на банановых листьях и деревянных дощечках. И мы не располагаем убедительными доказательствами существования характерных знаков типа ронго-ронго когда-либо за пределами острова Пасхи. Для художественного оформления письмен ронго-ронго характерно яркое местное своеобразие. Головы птиц с крючковатым клювом, длинноухие люди, животные с разинутой пастью как будто пририсованы, чтобы украсить знаки; большинство их скорее носит условный характер, чем отражает биологическую реальность.
Хотя многие знаки ронго-ронго явно возникли как чисто абстрактные символы, уже потом обработанные и снабженные зооморфными атрибутами, некоторые из них частично или полностью воплощают формы, поддающиеся определению. Причем все такие формы знаков ронго-ронго совпадают с основными элементами религиозного искусства и символики древнего Перу.
Так, постоянно повторяющийся птицечеловек (человеческое туловище и голова с длинным клювом), птица с крючковатым клювом, птица с двойной головой, млекопитающее с разинутой пастью и выгнутой спиной, рыба, длинноухий человек, трехпалая рука, человек с одной или двумя тростями, человек на серповидной камышовой лодке, солнце, нагрудное украшение в форме полумесяца, головной убор с рогами, фигуры людей или животных с нитками перьев – все это хорошо известные художественные мотивы и религиозные символы Перу; и они же преобладают среди знаков пасхальского ронго-ронго.
Птица с крючковатым клювом и не менее часто фигурирующее млекопитающее с выгнутой спиной и разинутой пастью – единственные зооморфные знаки в пасхальском ронго-ронго, не имеющие прообразов в местной фауне. Видимо, это и есть «изображения животных, неизвестных на острове», которые увидел Эйро на дощечках, прибыв на Пасху. Все остальные животные, представленные резными символами, могли быть местными: рыба, черепаха, ракообразные и так далее.
Двухголового человека, возможно, следует искать в местных легендах и искусстве. Этот мотив столь же редок в Полинезии и Меланезии, как в большей части Южной Америки. В Индонезии и Южной Азии он не описан; обычен он, как будто, только в Коста-Рике и ранней приморской вальдивийской культуре Эквадора.(123) Однако двухголовый человек по замыслу сродни двухголовой птице, столь часто встречающейся среди знаков ронго-ронго и являющейся одной из главных идеограмм древнего Тиауанако.(124) Пожалуй, особенно примечательно, что у всех антропоморфных фигур пасхальской письменности на руке, кроме большого, только три пальца. Бартель(125) подчеркивает, что это особенность кохау ронго-ронго, потому что на пасхальских петроглифах, а также у скульптур, и деревянных, и каменных, все пальцы на месте.
Он справедливо усматривает здесь параллель с изображением трехпалой руки, типичным для старинной маорийской резьбы по дереву, а также встречающимся, по Кенигсвальду и Хейне-Гельдерну, на Южной Суматре и в древнем Китае. В самом деле отсечение пальцев было широко распространено по обе стороны Тихого океана.(126) Стоит однако отметить, что в андском искусстве по изображению трехпалой руки определяют тиауанакское или тиауанакоидпое влияние.
Названные аналогии отдельным компонентам ронго-ронго находили на огромной территории к западу от Пасхи, на всем полушарии, включающем и Суматру, и долину Инда, но мало кто обращал внимание на то, что все они вместе взятые представлены в религиозном искусстве культового центра на ближайшем на восток материке. Для примера достаточно остановиться на одном важном религиозном памятнике, так называемых Вратах Солнца в Тиауанако(127), частично украшенных фигурами, которые мы вправе назвать идеограммами.
Поскольку Тиауанако – главный церемониальный центр культуры, которая в пору своего расцвета была панперуанской, можно предположить, что идеограммы, высеченные на одном из важнейших религиозных памятников этой культуры, отражают важные черты тогдашней местной символики.
На острове Пасхи главным культовым центром и местом религиозных ритуалов ронго-ронго было селение Оронго с каменными постройками неполинезийского вида. Давайте сопоставим письмена дощечек и идеографические знаки и символы, типичные для оронгских ритуалов ронго-ронго, с набором идеограмм, высеченных на Вратах Солнца в Тиауанако.
1) Основной элемент рельефов на церемониальных вратах Тиауанако – три ряда мифических существ. Каждая фигура изображает человека в профиль либо с крыльями, либо с птичьей головой. Все шестнадцать фигур среднего ряда – характерные тиауанакские птицечеловеки: человеческое туловище с руками и ногами увенчано птичьей головой с крючковатым клювом.
Хотя в фауне острова Пасхи нет птицы с крючковатым клювом, птица и птицечеловек с сильно изогнутым клювом являются преобладающей фигурой письменности ронго-ронго. Характерные птицечеловеки с птичьей головой, человеческим туловищем и конечностями высечены также на всех скалах культового центра Оронго; правда, у них клюв длиннее и изгиб на его конце меньше.
Крючковатый клюв, встречающийся среди знаков ронго-ронго, обычно сравнительно короток и напоминает клюв хищной птицы, скажем, кондора, голова которого венчает туловище птицечеловека Тиауанако. Длинный клюв птицечеловека со скал Оронго скорее схож с клювом морской птицы – фрегата; это же можно сказать о длинном клюве с изогнутым кончиком у мифического птицечеловека на камышовой лодке, встречающегося в искусстве области Чиму в приморье Перу.(128) В древнем искусстве этой части перуанского побережья представлены птицечеловеки с клювами обоих видов.
2) Каждый птицечеловек на тиауанакских воротах держит вертикально трость, сжимая ее (3) в руке, насчитывающей, кроме большого, только три пальца. Среди знаков ронго-ронго тоже много птицечеловеков с тростью, и если показана рука, она всегда трехпалая (не считая большого пальца).
4) Среди изображенных в профиль птицечеловеков на тиауанакских воротах в центре высечена анфас более крупная человеческая фигура, олицетворяющая солнечное божество здешнего культа. И в Оронго единственное среди многочисленных птицечеловеков антропоморфное изображение – портрет бога солнца Макемаке. Здесь он связан с солнечной обсерваторией, и его всегда высекали анфас, в отличие от окружающих птицечеловеков, изображавшихся в профиль.
5) Главное тиауанакское божество держит в руках по жезлу, и на обеих руках у него только по четыре пальца, включая большой, – как у птицечеловека. Человек, фигура которого вошла в число знаков ронго-ронго, тоже часто держит жезл, причем, как говорилось выше, его руки, подобно рукам птицечеловеков, всегда насчитывают четыре пальца, включая большой.
6) Украшения из перьев играют важную роль в церемониальном облачении фигур людей и птицечеловеков на воротах в Тиауанако; на голове у всех убор из перьев. Мы уже говорили, что пасхальские вожди и знатоки ронго-ронго всегда надевали такой головной убор, когда собирались для чтения дощечек, а кругом втыкали в землю трости с перьями. Мы видели также, что многие фигуры письменности ронго-ронго держат в руках нити с перьями.
7) Основная особенность жезлов, которые держит главное тиауанакское божество – их верхние и нижние концы, оформленные в виде птичьих голов с крючковатым клювом. Верхняя часть одного жезла вырезана в виде двухголовой птицы. Еще одна двухголовая птица помещена на животе божества. Жезлы в руках окружающих птицечеловеков тоже раздвоены вверху в виде двух голов, но уже рыбьих. Как говорилось раньше, двухголовые существа представлены среди знаков на дощечках ронго-ронго, причем особенно часто встречается двухголовая птица с изогнутым клювом.
8) Головы и хвосты рыб вообще многократно фигурируют в виде идеограмм на крыльях и головных уборах птицечеловеков на воротах в Тиауанако, а на груди главного божества высечена целая рыба. И в числе письмен ронго-ронго мы часто видим рыб.
9) Сильно изогнувшаяся рыба на груди главного тиауанакского божества исполнена в виде серповидного нагрудного украшения. Ее расположение на столь видном месте особенно примечательно, если вспомнить, что серповидное нагрудное украшение было знаком достоинства пасхальских королей, которые приписывали себе божественное происхождение и управляли всеми церемониями ронго-ронго. Эти серповидные королевские украшения тоже часто фигурируют в письменах ронго-ронго.
У тиауанакского божества серповидное нагрудное украшение, изображающее рыбу, символизирует, как принято считать, его власть над морями и водами, точно так же, как перья и головы кондора олицетворяют власть над небом и воздухом. Символическую роль играло и серповидное нагрудное украшение пасхальских королей; первым исследователям островитяне истолковывали его как изображение судна древнего вида.(129) Импровизируя перевод письмен ронго-ронго, Меторо назвал соответствующий знак «вака» – лодка (см. Каталог Жоссана (кат.2), VI, правый столбец, знак 7).(130) Серповидные камышовые лодки видим также на стенных росписях плит церемониальных построек Оронго, а их сходство в конструкции и материале с камышовыми лодками приморья Перу и озера Титикака, соседнего с Тиауанако, уже обсуждалось.(131).
10) Кроме птицы с крючковатым клювом и рыбы, на тиауанакских воротах изображено еще только одно животное. В нем можно узнать хищника из кошачьих, который во многих областях Северной и Южной Америки символизировал власть верховного божества над сушей и землей. Шесть перьев, расходящихся от головного убора главного божества, заканчиваются символическими кошачьими головами, другие головы изображены попарно на руках, словно татуировка. Церемониальный пояс представляет двухголовую кошку.
В Океании кошки неизвестны, а на Пасхе, где не знали полинезийской свиньи и собаки, единственным наземным млекопитающим была крыса. Тем не менее один из часто употребляемых знаков ронго-ронго изображает четвероногое существо с выгнутой спиной и разинутой пастью, прообразом которого явно была какая-то длинноногая кошка. Очень сходное существо было единственным млекопитающим среди птицечеловеков и морских тварей, изображенных на скалах Оронго.
Об этих древних, ныне едва различимых фигурах Томсон(132) писал: »…наиболее часто встречается мифическое существо – полузверь-получеловек, с выгнутой спиной и длинными, переходящими в когти руками и ногами. По словам островитян, это символ бога Меке-Меке, великого духа моря. Абрис этой фигуры, грубо высеченный в камне, удивительно напоминал украшение на черепке гончарного изделия, попавшемся мне в Перу, когда я раскапывал могилы инков».
Меке-Меке – несомненно то же, что Макемаке, который на Пасхе считался властелином не только моря, но и всей вселенной. Фердон(138) говорит о нем: «…Очевидно, что Макемаке был не только богом солнца, однако, возможно, небеса были главной сферой его деятельности…» Верховный пасхальский бог моря, земли и неба Макемаке изображался в виде животного с выгнутой спиной, круглой головой и длинными, переходящими в когти руками и ногами – то есть в облике, который больше всего напоминает кошку.
11) Чресла главного божества на тиауанакских воротах опоясаны горизонтальным рядом, состоящим из шести обобщенных человеческих ликов без ушей. Характерная черта этих масок – круглые глаза. Два безупречно круглых углубления разделены носом, который вверху разветвляется, переходя в охватывающие глаза брови. Этот же условный нос, разветвляющийся над круглыми глазами, и отсутствие ушей – типичные черты пасхальских масок Макемаке, единственных антропоморфных изображений среди оронгских птицечеловеков и кошек.
12) Итак, в дополнение к церемониальным жезлам, головному убору из перьев и серповидному нагрудному украшению у главного божества на тиауанакских воротах есть церемониальный пояс. Значение этого пояса очевидно, ведь такими же поясами снабжены почти все найденные здесь большие каменные статуи. На спине пасхальской базальтовой статуи в Оронго, которая играла важную роль в ритуалах ронго-ронго и была единственной статуей, обожествлявшейся всем населением острова, высечено рельефное изображение церемониального пояса.
Этот пояс мы видим и на других скульптурах Пасхи; он явно имел скорее символические, чем практические функции, ведь все скульптуры изображают обнаженных людей.(134) Бартель(135) говорит о значении этих поясов в ряду знаков ронго-ронго.
13) Ниже локтей главного тиауанакского божества высечены две человеческие головы, они расположены словно подвешенные трофеи. Их отличают сильно вытянутые мочки ушей, которые свисают ниже щек и принимают вид длинных птичьих шей, заканчивающихся головами с обращенным вниз клювом.
Возможно, эти длинноухие символизируют покорность местных жителей своему всемогущему божеству; ведь здешние предания утверждают, что памятники Тиауанако были сооружены длинноухими людьми по указаниям бога-творца.(136) Люди, называвшие себя «рингрим», что означает «ухо», положили начало обычаю удлинять уши, который потом переняли правящие инки. Увеличенные уши присущи также антропоморфным знакам в письменности Пасхи; ими снабжены и все пасхальские статуи среднего периода. Как и в Перу, старинный обычай увеличивать уши сохранился здесь у определенных социальных групп вплоть до прибытия европейцев.
14) В отличие от своих обезглавленных подданных, главное тиауанакское божество подобно условным маскам, опоясывающим его чресла, изображено без ушей. Возможно, что солнце и солнечные символы, в отличие от людей, вообще полагалось изображать без ушей. На Пасхе сотни расставленных по всему острову статуй среднего периода, воплощавших покойных вождей и представителей знати, наделены сильно вытянутыми ушами. Только у базальтовой статуи в культовом центре Оронго, олицетворявшей верховного бога-творца, были маленькие уши. А все солнечные символы – маски Макемаке, как уже говорилось, вовсе лишены ушей.
15) Двенадцать схематизированных солнечных символов в виде двойных концентрических кругов помещены на концах перьев в головном уборе бога солнца на тиауанакских воротах. Еще пять таких символов парят ниже его щеки. Различные изображения солнца повторяются во всей композиции рельефа.
Лучезарное солнце часто представлено также среди пасхальских письмен ронго-ронго, солнце с реалистически исполненными лучами, падающими на птицечеловека, – единственное из наскальных изображений Оронго, не относящееся к биологическим объектам.(137) 16) Последняя из определенных учеными идеограмм на воротах в Тиауанако – широко распространенный в этом районе мотив «плачущий глаз». Вертикальная цепочка слез под глазами главного бога и всех окружающих птицечеловеков олицетворяет дождь, дарованный этими небожителями. Мотив «плачущий глаз» считается неизвестным в Океании, он типичен для высокоразвитых культур Америки. Тем не менее антропоморфные маски с головным убором из перьев и характерным плачущим глазом встречаются среди настенных росписей неполинезийских каменных построек святилища Оронго.(138) Те же символы и идеограммы повторяются на рельефном изображении ступенчатой, или террасированной, платформы, на которой стоит тиауанакский бог солнца. Эта платформа конструктивно напоминает преобладающие формы ориентированных по солнцу ступенчатых святилищ как древнего Перу, так и острова Пасхи (включая Тиауанако и Оронго). Как и венчающее ее божество, она украшена изображениями изогнутой луком рыбы, солнечных символов и многочисленных голов, принадлежащих животному из кошачьих, и птиц с крючковатым клювом. Эти же элементы образуют декоративный обод, довершающий сложную композицию на церемониальных воротах.
Итак, все идеограммы или символические знаки, представленные на одном памятнике Тиауанако, совпадают с символами или идеограммами дощечек ронго-ронго и культового центра Оронго, где пасхальцы каждый год выбирали птицечеловека и где тангата ронго-ропго в головных уборах из перьев во главе с королем читали свои дощечки.
В то же время среди рельефов, петроглифов и наскальных рисунков Оронго, если не считать немногочисленных знаков, изображающих черепаху и женский половой орган, есть лишь один важный элемент, который ни в каком виде не представлен среди идеограмм на тиауанакских воротах: церемониальное двойное весло. Оно изображено на спине оронгской статуи, нарисовано на плитах внутри ритуальных построек, встречается и среди письмен ронго-ронго.
Двойные весла, будь то ритуальные или функциональные, неизвестны в других частях Полинезии, зато они относились к оснастке небольших камышовых лодок в доколумбовой Южной Америке, в том числе на озере, лежащем по соседству с Тиауанако. Как показал Томсон(13Э), на Пасхе двойное весло не всегда играло ритуальную роль. Он пишет о приобретенном им образце, что оно «употреблялось на старинных лодках аналогично приемам гребли американских индейцев».
Хотя на известных дощечках ронго-ронго определено около 800 различных знаков (по Бартелю (140) – 799), лишь немногие из них, если не считать чисто геометрических и отвлеченных, не относятся к описанным выше; такими исключениями являются растения с побегами, морские твари и копье. Вариация достигается в основном за счет огромного разнообразия изгибов, поз и сочетаний перечисленных компонентов. Подчас видно стремление украсить абрис более простых знаков.
Подводя итог, можно сказать, что сохранившийся обычай декламировать заученные наизусть религиозные тексты, записанные бустрофедоном на деревянных дощечках, хотя этнографически и ставит пасхальское письмо в ряд с письмом послеколумбовых обитателей Панамы, основные знаки и символы совпадают с религиозными идеограммами древнего Перу. Здесь, как и на острове Пасхи, по рассказам аборигенов, раньше писали на банановых листьях и на дереве.
Еще более важным представляется нам то, что элементы пасхальского письма и ритуалы ронго-ронго имеют много общего с чертами, характерными, подчас даже специфическими, для Тиауанако, видного культового центра в бассейне Титикаки, пока еще единственного, кроме Пасхи, района мира, где писали способом перевернутый бустрофедон.
ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ
Среди многочисленных авторов, которые высказывали весьма противоречивые взгляды по вопросам, связанным с наличием на острове Пасхи письменных дощечек, лишь двое утверждали, что могут расшифровать и прочесть тексты ронго-ронго.
Первым был доктор Керролл из Австралии. В 1892 году он в первом томе «Журнала Полинезийского общества» заявил, что дощечки ронго-ронго повествуют о событиях, происходивших в Южной Америке в доисторическую пору, до того как предки пасхальцев мигрировали на запад и достигли острова.(141) Этот взлет фантазии явно был вдохновлен рапануйскими текстами ронго-ронго и преданиями о происхождении островитян из опаленной солнцем страны далеко на востоке, приведенными Томсоном(142) в изданных тремя годами раньше материалах об острове Пасхи. Сам Томсои так комментировал эти предания: «Трудно объяснить столь часто повторяющееся в легендах утверждение, что Хоту-Матуа пришел с востока и открыл новую землю, идя на закат…»
Американский лингвист Черчилль писал о мнимом переводе Керролла: «Его толкование было слишком гладким. Речь шла о каких-то малопонятных событиях на склонах Анд. Когда же доктора Керролла попросили объяснить методику перевода, он исчез со сцены».(143) Вторая претензия на расшифровку была заявлена недавно. В 1956 году на XXXII Международном конгрессе американистов доктор Т. Бартель(144), развивая положения своей статьи, опубликованной годом раньше, утверждал, что расшифровал письменность ронго-ронго. Согласно его прочтению, из текста дощечек явствовало, что перве переселенцы пришли на остров Пасхи с запада, вероятно с острова Рапатеа, около XIV века. Однако советские исследователи ронго-ронго Ю. Кнорозов и П. Бутинов не согласились с определением системы письма, предложенным Бартелем, а я усомнился в информации, якобы содержащейся в тексте.
Через два года журнал «Сайентифик Эмерикен"(145) объявил, что пасхальское письмо расшифровано Бартелем. В статье, посвященной содержанию дощечек ронго-ронго, Бартель(146) говорил:
«Дощечки… содержали «ключевые» реплики, в которых исполнитель мог прочесть только суть куплетов; недостающие слова он должен был вставлять сам. Конечно, вследствие этого нам труднее восстановить полностью сюжет, законспектированный на дощечках. Тем не менее о полинезийском фольклоре они рассказывают нам очень много.
Прежде всего нужно отметить, что сохранившиеся «говорящие дощечки» повествуют преимущественно о религии и ритуалах и почти не говорят о событиях пасхальской истории. У островитян была другая письменность (так называемое «письмо тау»), применявшаяся для летописи и прочих светских записей, но она исчезла. Дощечки, которыми мы располагаем, содержат главным образом гимны богам, указания для жрецов и тому подобное. Некоторые из них повествуют о мифическом начале света, когда Тане отделил небо от земли и воздвиг мощные опоры, чтобы поддерживать небосвод.
Описание ритуалов показывает, что якобы идиллические Южные моря были ареной бешеного каннибализма, племенных войн, человеческих жертвоприношений и истязания детей.
На большинстве дощечек речь идет только о мужчинах. Но и женщины упоминаются на дощечках, толкующих о плодородии.
О предмете, который больше всего занимал археологов, пытавшихся проникнуть в прошлое острова Пасхи – о каменных скульптурах дощечки, к сожалению, мало рассказывают. Но мне представляется гораздо более интересным обилие указаний, связывающих остров Пасхи с остальным полинезийским миром.
Пасхальское письмо само свидетельствует о том, что оно не изобретено на острове, а привезено из какого-то другого района Южных морей. Приведу только один пример: в письме есть особый знак для изображения хлебного дерева, которое никогда не произрастало на острове Пасхи, зато было одним из важнейших растений на островах тропической части Южных морей. Есть
знаки, обозначающие и другие непасхальские растения…
Археологи считают, что переселение произошло в XIV или XV веках. Содержание дощечек не оставляет никакого сомнения, что переселенцы пришли откуда-то из сердца Полинезии, возможно, с Раиатеа, о котором известно, что он был начальной точкой больших исходов полинезийских групп на далекие Гавайские острова и Новую Зеландию. И похоже, что окончательно опровергается недавно выдвинутая Туром Хейердалом теория, будто пасхальцы пришли из Перу… Возможно, китайское и полинезийское письмо было связано с древним культурным центром где-то в Юго-Восточной Азии».
Сообщение о том, что знаменитое ронго-ронго наконец-то расшифровано, естественно, опять вызвало живой интерес во всем мире. Поскольку Бартель обнародовал не текст переводов, а лишь свою версию их содержания, его заявление(147), что Гамбургский университет готовит публикацию полного отчета о завершенных переводах дощечек, породило нетерпеливое ожидание.
В монографии (148) оказалось 400 страниц с таблицами и рассуждениями, которые, несомненно, представляют ценность для каждого, кто попытается продолжить поиски толкования. Однако тех, кто надеялся увидеть перевод одной или всех дощечек, высокоученый отчет разочаровал.
В февральском номере журнала «Эмерикен антрополоджист"(149) за 1964 год специалисты по Пасхе Меллой, Шельсволд и Смит предложили Бартелю опубликовать перевод хотя бы одной дощечки; это позволило бы проверить его достоверность путем сопоставления со знаками на других дощечках. Советские исследователи ронго-ронго заявили, что «при изучении письменности острова Пасхи не следует отождествлять язык иероглифических дощечек с современным рапануйским диалектом, как это делает Т. Бартель».(150) Они сказали, что, несмотря на все усилия, пока еще никому не удалось расшифровать и прочесть текст ни одной из пасхальских дощечек.(151) Несомненно, Бартель, опытный дешифровщик, технически вполне корректно подошел к проблеме расшифровки ронго-ронго; возможно даже, что другого эффективного пути вообще нет. Но Бартель основывал свою теорию на предположении, что пасхальцы исторической поры, исполняя тексты ронго-ронго, знали смысл знаков, поэтому он щедро черпал из информации, полученной Жоссаном от Меторо.
Открытие «словарей ронго-ронго», составленных не Меторо, а другими пасхальцами, казалось бы, придавало больший вес словам Меторо, хотя Бак(152) и утверждал, что информация Меторо «явно сочинена на месте», а Метро(153) даже показал, как Меторо импровизировал свои песнопения. Для меня было очевидно: если пасхальцы, сообщившие сведения, которые содержатся в рукописях ронго-ронго, в самом деле владели унаследованным от предков письмом, я должен пересмотреть свое утверждение о том, что смысл письмен был забыт пасхальцами еще до прибытия европейцев(154), а Бак и его многочисленные последователи должны отказаться от своего заявления, что Меторо смошенничал, желая доставить удовольствие епископу.
Бартель основывал свою попытку толкования на принятой им за истину информации одного единственного островитянина (Меторо), известной по каталогу и неизданным запискам епископа, хранившимся в Гроттаферрата; естественно, что его заинтересовали и новые списки, обнаруженные у пасхальцев. Поэтому он был незамедлительно ознакомлен с только что открытыми рукописями еще до отъезда на Пасху в 1957 году.
В 1958 году, изучив в Осло оригиналы, Бартель любезно написал небольшую статью по этому вопросу, вошедшую в качестве приложения А во второй том отчета Норвежской археологической экспедиции.
В 1962 году по согласованию с Академией наук СССР я привез оригиналы и фотокопии того же материала и представил их группе ленинградских исследователей. Итогом явились три статьи – Кнорозова, Федоровой и Кондратова, – включенные в тот же том в качестве приложений В, С и D.
Из названных статей явствует, что наиболее объемистые рукописи пасхальцев (рукописи А, С и Е), в создании которых, как мы видели, участвовало несколько островитян, содержат мифы и предания, королевские родословные, календарные сведения, названия важных растений, текст, декламировавшийся в связи с дощечкой «Хе Тимо», и другие отрывочные рапануйские тексты, написанные латинскими буквами.
Во всех рукописях есть столбцы знаков ронго-ронго, переведенных на рапануйский язык, причем рапануйские слова написаны латинскими буквами. Некоторые, кроме того, содержат сгруппированные в горизонтальные строки знаки ронго-ронго без перевода. Федорова и Кондратов в своих статьях анализируют рапануйские тексты, написанные латинскими буквами. Однако к нашей теме относятся только страницы с письменами ронго-ронго, также рассмотренные Кондратовым.
В целом толкование большинства знаков в рукописях совпадает с толкованием Жоссана. Казалось бы, это повышает ценность каталога Жоссана. Однако не требуется глубокого анализа, чтобы понять причину совпадения. Первые шесть знаков ронго-ронго в каталоге Жоссана (см. Каталог Жоссана (кат.1), I) вместе с рапануйским переводом их повторяются в той же последовательности в (рукописи А). Хотя дальше в рукописи А появляются отклонения, поправки и вариации, ясно, что составитель опирался на труд Жоссана, он откровенно копировал его, даже не пытаясь это скрыть. Автор рукописи В, составляя первую страницу своего словаря ронго-ронго (см. рукописи В), лишь косвенно скопировал каталог Жоссана: он точно воспроизвел первую страницу (рукописи А).
Список ронго-ронго в рукописи С тоже без труда можно привязать к Жоссану: первая страница списка начинается пятью знаками, взятыми с другой страницы каталога Жоссана в той же последовательности, с одной разницей – улучшен рапануйский перевод и исправлены опечатки. Автор фрагментарного списка в рукописи D не копировал другие рукописи, но имел доступ к каталогу Жоссана, судя по добросовестно воспроизведенным из оригинала французским словам Ciel и Soleil (см. (рис. III) и (кат. 1), II). Другие примеры можно найти у Кондратова.(155) При дальнейшем изучении рукописей, очевидно, добавится еще что-то, но уже то, что бросается в глаза на первых страницах, позволяет сделать вывод: авторы рукописей знали предания, королевские родословные и даже декламировавшийся текст одной дощечки, но для передачи смысла отдельных знаков ронго-ронго островитяне были вынуждены обращаться к каталогу Жоссана.
Рапануйских ученых, например, Уре Вас Ику и Томепику, известных своим интересом к ронго-ронго (причем последний даже писал на бумаге ронго-ронго до прибытия Раутледж), не выручили ни их собственные познания, ни познания других островитян – пришлось искать ответа у епископа Таити.
Это подтверждают исторические свидетельства, приведенные выше: Уре Вае Ику, Томеника и их современники были уже взрослыми ко времени прибытия миссионеров и тем не менее оказывались беспомощными, когда их просили истолковать хотя бы один знак. Они просто декламировали тексты, то ли по памяти, то ли импровизируя, причем продолжали декламацию, если дощечка незаметно подменялась, даже исполняли три разных текста, когда им три воскресенья подряд предъявляли одну и ту же дощечку.
Каталог Жоссана был составлен им самим на основе долгих и невразумительных песнопений Меторо. Жоссан признает, что Меторо ни разу не объяснил ему смысл ни одного знака. Больше того, епископ был единственным среди первых исследователей, кто слепо поверил тому, что исполнил пасхалец. И не подверг его испытанию, как это предложил сделать Крофт, чисто случайно обнаруживший, что его от начала до конца обманывал другой пасхалец, который, подобно Меторо, был отрекомендован своими соплеменниками в качестве человека, умеющего переводить письмена. Крофт и Жоссан одновременно предприняли свои попытки. Есть ли у нас особые основания полагать, что Меторо знал нечто такое, чего совсем не знали другие?
Если поближе взглянуть на биографию Меторо, выясняется, что его уникальные знания были им приобретены явно после отъезда на Таити. Не следует забывать, что и Меторо, и дощечки Жоссана еще находились на острове Пасхи, когда Зумбом собрал наиболее ученых островитян, чтобы получить перевод двух дощечек. Однако версии ученых островитян расходились, и было ясно установлено, что ни один из них не понимал письмен. Именно после этого случая Жоссан получил первую дощечку от Зумбома, а затем фирма Брандера стала вывозить пасхальцев на Таити.
Таким образом, Меторо либо не участвовал в устроенном Зумбомом опросе, так как не считался в своей общине ученым, либо участвовал и, подобно остальным, провалился на этом экзамене. Если бы Меторо в самом деле был единственным на Пасхе знатоком ронго-ронго ко времени прибытия миссионеров, он, несомненно, занимал бы видное место в пасхальском обществе. Им не могли бы совершенно пренебречь, как это было, например, когда Эйро, первый европейский поселенец на острове, докладывал своим начальникам, что никто из его прихожан не умеет читать и писать, хотя во всех домах хранятся дощечки и палки, покрытые «иероглифическими знаками».
Вспомним, что Меторо был в расцвете сил, что фирма Брандера привезла его на Таити как рабочего и отпустила к епископу только на две недели. Престарелых пасхальцев не вербовали, они остались на родном острове, где их опрашивали Салмон и Томсон. Один из тамошних стариков, как и двое молодых, уехавших на Таити, утверждал, будто понимает большинство знаков ронго-ронго, и предъявленные ему фотокопии читал «от начала до конца без запинки».
Хотя его тексты были вразумительными и некоторые из них, вероятно, имели отношение к каким-то дощечкам, проверка показала, что и этот старик при чтении следил за письменами не больше, чем информатор Крофта. Так что искусство Меторо оказывается подозрительно уникальным.
Итак, мы стоим перед примечательным фактом: все предполагаемые тангата ронго-ронго или маори были опрошены поселившимися на Пасхе миссионерами до того, как Брандер стал вербовать островитян. Все, кто вызвался прочесть ронго-ронго, провалились, когда дело дошло до проверки в присутствии других.
Двое островитян, отправленных на Таити, опять-таки объявили, будто умеют читать ронго-ронго. Им поверили, по одному не повезло: чисто случайно он был уличен как выдумщик и импровизатор. Второй, глядя на пять дощечек Жоссана, две недели декламировал бессмысленные тексты, притом настолько длинные, что их оказалось невозможно опубликовать и они не соизмерялись даже с исполнением многочисленных дощечек, которые читали па Пасхе во время ежегодных праздников ронго-ронго.
Бак(156) пишет про декламацию Меторо: «…несмотря на то, что вся композиция преподносилась как песнопение, в ней не было связного смысла; очевидно, она была сымпровизирована на месте, чтобы удовлетворить желание белого человека услышать обрядовое пение по знакам на дощечке. Любой полинезиец умеет импровизировать. Я сам импровизировал песнопение для не понимавшей языка европейской аудитории, чтобы продлить песенный номер. Ни информатор епископа, ни я никого не собирались обманывать, нами руководило желание доставить удовольствие слушателям».
Жаль, что епископ не захотел проверить Меторо и не попросил его повторить исполнение, хотя Крофт(157) предупреждал его, что он тоже будет разочарован. Епископ Жоссан заслуживает чести называться спасителем материальных свидетельств единственного письма, обнаруженного в области обитания полинезийцев; понятное стремление еще и расшифровать дощечки, очевидно, притупило критическое чутье Жоссана, сбитого с толку долгой декламацией Меторо.
Епископ заметил, что количество исполняемых слов, приходящихся на каждую строку, не соответствует числу знаков, но ловкое заявление Меторо о том, что большая часть слов не записана, поэтому их нельзя увидеть, исключало возможность проверки. И пришлось самому епископу, когда Меторо вернулся на свою работу, доискиваться связи между дощечками и нескончаемыми песнями Меторо. Чтобы расшифровать этот длиннейший текст, Жоссан «отделял черточкой то, что относилось к отдельному знаку. Таким образом, в каждой строке оказалось столько же отделенных друг от друга групп слов, сколько было знаков в одной строке дощечки. Любой человек, не зная языка, при помощи точного отсчета мог поместить каждый знак над тем словом, которое передавало его смысл».(158) В исполненном Меторо тексте были десятки тысяч слов («больше двухсот страниц»), которые требовалось привязать к ограниченному количеству знаков ронго-ронго на пяти дощечках Жоссана. Поэтому у епископа были большие возможности в подборе знаков к словам, когда он составлял свой нашумевший каталог.
Метро(159) нашел тексты, которые он называет «мнимыми песнями, исполненными Меторо», в Музее Папе-эте; копии хранились в главной канцелярии конгрегации «Святого сердца» в Брен-ле-Комте. Он утверждает, что каталог Жоссана не представляет никакой ценности, так как «основан, скорее, на предполагаемом смысле, чем на изображенных знаках… Сравнивая текст с дощечкой, я обнаружил, что большинство исполненных строф представляли собой просто объяснения.
Например, глядя на изображение птицы, Меторо говорил: «птица летит» или «птица сидит», а на изображение головного убора – «к головному убору». Так что этот длинный текст представляет собой попросту описательный каталог. Удивительно, что простые объяснительные фразы, сымпровизированные им, Меторо пел. Однако тут нужно учесть, что петь легко, а Меторо знал, что с дощечками всегда было связано пение».
Свое открытие, что Меторо всего-навсего импровизировал, Метро(160) подтверждает примерами, воспроизводя двадцать один знак с дощечек и продекламированный рапануйский текст, а также английский перевод. Вот как (в передаче Метро) выглядят мнимые отрывки из «песни ронго-ронго»:
«(1) Он просверлен (2) он король (3) он пошел к воде (4) человек спит, опираясь на цветущий плод (5) столбы установлены (6) красный ямс растет (7) растение кава сломано (8) красный ямс растет (9) растение кава сломано (10) два человека пошли, все цвело (11) вроде рыбы-иглы (12) и солнце (13) цветет (14) это нагрудное украшение (15) он пристал к берегу (16) это выросло перед ним (17) человек ушел (18) к твоему растению кава (19) а вот нагрудное украшение (20) очень маленький человек (21) вроде твоего растения кава».
Итак, Меторо всего лишь импровизировал на ходу бессвязное песнопение, объясняя своими словами, что напоминает ему начертание каждого знака. Или, как говорит Метро: «Сопоставление обрывочных фраз с символами показывает, что они представляют собой составленные наспех объяснения рисунков».(161) В ряде случаев сходство очевидно всякому, и Меторо нетрудно было оставаться последовательным, но многочисленные чисто условные знаки требовали немалой изобретательности и богатого воображения – качеств, которыми большинство пасхальцев наделено в достатке.
Меторо часто не мог вспомнить, что он сымпровизировал по поводу какого-нибудь абстрактного знака во время предыдущего чтения, поэтому мы видим много расхождений. Но разве не могло быть у одного знака двух и более различных смыслов? Или у различных знаков – одного и того же смысла? Словом, открывался безграничный простор для декламации, и читающий мог по своему произволу обогащать ее любыми словосочетаниями.
Когда я знакомился с неопубликованными записками Жоссана, хранившимися в Гроттаферрата под Римом, меня особенно интересовало, как Меторо интерпретировал зооморфный знак, который Жоссан в своем каталоге перевел словом «крыса» или «визжащий, как крыса» (IX, левый столбец, знак 2 или XII, левый столбец, знак 4*. Я заметил, что изображенное животное наделено признаками кошачьих, которые утрачены в перерисовке Жоссана, но отчетливо видны в оригинальном знаке, скажем, на принадлежавших Жоссану дощечках Мамари и Кеити (названы но имени резчика) или на украшенном надписью реи миро в Британском музее. (* Далее для краткости всюду указано так: например (IX, слева, 2).) В оригинальном начертании у животного круглая голова со свирепо разинутой пастью, тонкая шея и сильно выгнутое кверху туловище, опирающееся на длинные согнутые ноги. Зная, что на Пасхе нет млекопитающих с такой пастью, Меторо не долго думая перевел этот знак как «тангата» (человек), когда встретил его впервые, и потом последовательно придерживался такого толкования на протяжении первой половины записей Жоссана.
Однако затем он, видимо, вспомнил о маленьком грызуне, которого, в отличие от полинезийской свиньи и собаки, знали его предки, и знак вдруг начинает переводиться как «киоре» (крыса). Дальше в записках этот знак бессистемно толкуется то как «человек», то как «крыса».
В своем каталоге Жоссан выбирает то значение, которое его устраивает. Так, толкование «крыса» стоит около группы из шести различных символов, которые показались составителю крысами (III, справа, 2; IX, слева, 2; XII, слева, 4), и на всякий случай весьма сходное существо включено в группу из шести знаков, которые должны означать «человек» (I, слева, 9).
С одной стороны, как бывший зоолог, я хорошо знаю ползающую Mus exulans, с другой стороны, мне известно, как точно полинезийцы подмечают характерные черты животных, вот почему я беру на себя смелость утверждать, что творец этого зооморфного знака не подразумевал ни «крысу», ни «человека».
Каталог Жоссана (воспроизводимый на (кат. 1 – кат. 2), группы I-XII) показывает, что епископ позволял Меторо широко варьировать. Несколько примеров:
Девять различных знаков ронго-ронго истолкованы как «ваи» – вода (III, справа, 1), хотя некоторые из них присутствуют в других местах каталога и переводятся как «ваха» – рот (II, слева, 1), «те гое» – Млечный путь (II, слева, 11), «хага» – залив (III, слева, 10), «пуре»
– фарфор, посуда (V, слева, 3), а другие трудно было отличить на дощечках от некоторых письмен, толкуемых как «мата» – глаз (II, слева, 4), «мауга» – гора (II, справа, 7), «кана» – моллюск (V, слева, 5), «маго ниухи» – тюлень (V, справа, 2), «хуага» – плод (VI, слева, 6), «харе пуре» – святилище (VI, справа, 4), «хуки хоко ока» – лопата или пика (VI, справа, 9), «тога» – ряд домов (VII, слева, 3), «тино» – киль лодки (VII, слева, 4), «тахета ваи» – бассейн (VII, слева, 6), «веро» – черта, копье (VII, справа, 1), «ваиваи» – кайма (VII, справа, 7), «хуму и те вае» – татуировка на ногах (VII, справа, 12), «рима вере хенна» – возделывающая рука (VIII, справа, 12), «хенуа, коко кухи» – земля, устье (IX, слева, 8) или «ки то ио» – он дома (XII, слева, 10).
Целых тринадцать напоминающих начертанием рыбу знаков толкуются словом «ика», обозначающим рыб вообще (IV, справа, 1). Однако для разных видов рыб есть свои знаки; так, еще пять знаков, три из которых явно идентичны, означают «маго» – акула (IV, справа, 4), и есть еще один знак, обозначающий «акулу пожирающую» (XII, слева, 9).
Из пяти знаков, представляющих «хону» – черепаху (IV, справа, 6), один видим снова среди восьми различных знаков, толкуемых как «те арики» – король (I, слова, 7), и этот же знак в другом месте обозначает «хака-ганагана» – танцовщики (XI, справа, 2). Восемь совершенно различных замысловатых знаков прочтены одинаково– «те гое»
– млечный путь (II, слева, 11), и однако знак «Матарики» – Плеяды (II, слева, 9) – самого важного созвездия, по которому все полинезийцы определяли наступление Нового года, не отличишь от знака, переведенного в другом месте как «хенуа» – земля (II, справа, 1), а также как «те иноино» – светящееся, лучезарное (IX, справа, 5) и «нохо» – обитать (XI, слева, 10).
Такие важные слова, как «раа» – солнце (II, слева, 6), «хету» – звезда (II, слева, 7) и «ахи» – огонь (III, слева, 5) изображены одним знаком, значит, пишущий не мог точно выразить, что подразумевал. Невозможно также различить «гару» – волна (III, слева, 9) и «уа» – дождь (III, слева, 1) и так далее. Очевидно, знаки напоминали Меторо и то, и другое… Легко заметить, как Меторо снова и снова нанизывал ряд самых различных знаков на одно и то же значение, тогда как более важные «ключевые» слова либо остались совсем без обозначения, либо обозначены знаком, который уже использовался в другом смысле.
Так, все, напоминающее растение с побегами, становится «руа тупу те ракау» – растение с побегами (VI, слева, 9); все, похожее на крючок, становится «хакату-роу» – рыболовные крючки (VII, слева, 10); все, напоминающее работающего человека, толкуется как «тагата хага» – работающий человек (XI, справа, 4) и так далее.
Хотя остались необозначенными многие важнейшие вещи, мы видим знаки, представляющие самые неожиданные понятия, лишь потому, что такую ассоциацию они вызвали у Меторо. Типичные примеры: «глаза ракообразного» (V, слева, 10), «он лечит, держа красный ямс» (VIII, справа, 4), «он любит своего отца» (XII, слева, 8) и такие знаки, как «человек с двумя головами» (XII, справа, 1), «птица с двумя головами» (XII, справа, 2), «птица с тремя глазами» (XII, справа, 4), «два рта» (XII, справа, 6), «рыба с двумя хвостами» (XII, справа, 8), «человек без головы» (XII, справа, 11) и так далее.
Один из знаков получил сложное толкование «куа оо те тере о те вака», вольно переведенное Жоссаном как «хорошо идущая лодка, человек, перья» – потому что все это напоминает начертание знака (XI, слева, 1). По той же причине другой знак истолкован как «марама, э те хету э те рима» – луна, звезда и рука (VIII, справа, 9), а третий – «мама хакатепе на» – разрезанное пополам ракообразное (IX, слева, 7).
Как было показано выше, из того, что в лексике, которую Меторо привязывал к ронго-ронго, отражены растения, известные только в срединной Полинезии, но не на Пасхе, выводят заключение, будто эта письменность родилась в собственно Полинезии.
Например, хотя на острове Пасхи не знали кавы, в каталог Жоссана вошло восемь различных знаков, обозначающих «каву» – имбирь (VI, слева, 3), и еще один с толкованием «куа хуа те кава» – цветущий имбирь (VI, слева, 4).
Другой пример: пока Меторо жил на Пасхе, он не видел кокосовой пальмы, тем не менее в каталоге Жоссана есть пять знаков «ниу» – кокосовая пальма (V, справа, 4).
Но можно ли сделать вывод, что кохау ронго-рошо было изобретено в сердце Полинезии? А может быть, Меторо под впечатлением таитянских пирушек с питьем кавы, а также повседневной работы на плантациях кокосовых пальм включил эти слова в свою песню, потому что успел с ними свыкнуться? Как восстановить пасхальскую старину, если Меторо толкует знак ронго-ронго (IX, слева, 12) как «е оо и тона пурега» – «он открывает фарфоровый сосуд»? В коротком каталоге Жоссана пять разных знаков переведены как «фарфор», «фарфоровая посуда» (V, слева, 3).
Можно возразить, что Жоссан допускал ошибки, произвольно разбивая текст Меторо на обороты, якобы передающие смысл отдельных знаков, и что в несуразицах виноват перевод Жоссана, что «пуре» означает скорее «моллюск», чем «фарфор», «ниу» – скорее «пальма», чем «кокосовая пальма», а «кава» следовало передать одним из его многочисленных рапануйских значений.
Нельзя только утверждать, что Меторо показал себя тангата ронго-ронго. Его ловкий способ чтения, при котором он между мнимо истолкованными письменами произвольно вставлял буквально тысячи отсутствовавших на дощечках слов, вырезанным на дощечках знакам придавал различное значение или одинаково толковал разные знаки, позволил ему декламировать сколько угодно, лишь бы его де попросили повторить песни. Импровизируя на ходу, Меторо оказался не в состоянии придумать связный сюжет или осмысленный текст. Даже сам Жоссан не пытался найти какой-либо смысл в его декламации. Анализ исторических источников и полных записок Жоссана показывает, что Меторо извлекал из письмен ронго-ронго не больше информации, чем извлек бы наугад любой человек, знакомый с местной фауной, флорой, символикой и верованиями. Современные попытки извлечь осмысленное решение из этой придуманной системы и текстов могут привести куда угодно. К тому же пытаться найти в информации Меторо осмысленные сюжеты, которых сам он не заметил и не исполнил, – значит подвергнуть сомнению его способности в качестве тангата ронго-ронго.
РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
Испанцы, посетившие Пасху в 1770 году, сообщили, что у островитян есть «свое письмо» и что местных вождей уговорили «подписать» грамоту о присоединении. В 1864 году на острове поселился первый миссионер, который обнаружил во всех домах висящие под потолком письменные дощечки и палки. Как показывает сравнение, знаки, начертанные вождями, не принадлежали к письменности, запечатленной на сохранившихся дощечках. Отсюда можно было заключить, что либо на острове Пасхи существовали две различные системы письма, либо тогдашние вожди своими «подписями» подражали европейцам, так как не умели практически применять знаки, вырезанные на их собственных дощечках.
Вероятность второго варианта возросла, когда каждый из трех прибывших на Пасху миссионеров произвел проверку, показавшую, что, к кому бы из островитян ни обращались, никто не брался и не мог прочесть текст дощечек.
Позднее некоторые из молодых и уже обращенных в новую веру пасхальцев отправились на Таити в качестве рабочих, и когда тамошний епископ и мистер Крофт занялись исследованиями, двое из них сделали вид, будто умеют читать дощечки. Крофт разоблачил обман своего информатора, который в три разных воскресенья исполнил с одной и той же дощечки три разных текста.
Он предупредил епископа и посоветовал ему подвергнуть информатора такому же испытанию. Епископ обещал это сделать, но так и не выполнил своего обещания, вероятно, потому, что его красноречивый помощник все отведенное время занял исполнением бессмысленных нескончаемых песнопений. Епископ записал, но не стал публиковать, больше двухсот страниц бессвязных и отчасти невразумительных фраз, исполненных по пяти дощечкам.
Разбор показывает, что находчивый информатор епископа на ходу сочинял и импровизировал текст, попросту описывая, что ему напоминает начертание каждого знака. Затем епископ самостоятельно попытался подогнать и связать письмена и фразы друг с другом, он составил весьма произвольный каталог избранных знаков ронго-ронго с их предполагаемым значением на рапануйском и французском языках.
Пока двое молодых рабочих сочиняли свои тексты для епископа и мистера Крофта на Таити, оставшиеся на Пасхе престарелые островитяне декламировали Томсону и Салмону подлинные тексты предков, будто бы читая фотокопии дощечек епископа. Было установлено, что они знают тексты на память, так как при подмене дощечек продолжали декламировать по-прежнему. Они не могли прочесть ни одного символа или указать знак, соответствующий простейшему слову.
Тем не менее два пасхальских ученых независимо друг от друга исполнили почти идентичные тексты, которые помнили, потому что до прибытия миссионеров многократно слышали, как их читали знатоки, начиная с левого нижнего угла дощечки и переворачивая ее после каждой строки. Эти подлинные тексты, возможно, записанные совсем не на тех дощечках, которые были предложены испытуемым, оказались вполне осмысленными и были по объему соизмеримы с ограниченной площадью дощечек.
На вопрос первых исследователей, почему все либо декламируют по памяти, либо импровизируют, когда их просят прочесть свою собственную письменность, пасхальцы обычно отвечали, что всех грамотных островитян работорговцы угнали в Перу в 1862 году. Это объяснение было принято епископом Жоссаном и впоследствии многократно приводилось в литературе как удовлетворительный ответ.
Однако нельзя забывать, что набег состоялся всего за два года до прибытия первого миссионера, сразу отметившего, что никто не умеет читать, хотя в каждом доме есть письменные дощечки. И наверно, работорговцы увезли пригодных для тяжелой работы на добыче гуано молодых людей и мужчин среднего возраста, оставив преимущественно стариков, среди которых, вероятно, были наиболее сведущие в грамоте люди.
Трудно поверить, чтобы ронго-ронго было известно только более молодым пасхальцам, которых угнали в рабство, а оставшиеся островитяне настолько прочно забыли искусство чтения дощечек, что уже через два года не могли истолковать ни одного знака ронго-ронго.
Скорее всего, подлинное знание письменности было утрачено на острове Пасхи давно, хотя внешняя сторона ритуала сохранилась (новые дощечки вырезали по образцу старых, пели тексты якобы по магическим надписям). Можно сказать, что островитяне, охотно декламировавшие тексты миссионерам, не были обманщиками, они знали, как применялись дощечки их соплеменниками, но им в голову не приходило, что в отдельных знаках заложено что-то еще, кроме известных песен.
Примечательно, что пасхальцы лишь очень смутно представляют себе, как связный текст разбивается на слова. Это можно наблюдать и в наши дни; это хорошо видно в рапануйских рукописях(162), где сплошь и рядом буквы в слове разделены пробелом, зато между словами не всегда есть пробел. Мысль о том, что ронго-ронго можно передавать словами, оказалась новой для островитян, когда европейцы затеяли первые проверки на этот счет.
Пасхальцы декламировали нараспев, не считаясь с отдельными знаками; причем одни исполняли тексты, которые читали по дощечкам сведущие чтецы, а другие, не знавшие наизусть таких текстов, в приличествующем случаю монотонном ритме пели то, что им казалось содержанием знаков, например, – «птица с тремя глазами», «человек с двумя головами» и так далее.
Поскольку пасхальцы не могли разъяснить систему своих ронго-ронго и значение отдельных знаков, а на всех остальных островах Океании письменности не было, Бак и Метро выдвинули теорию, что кохау ронго-ронго – вообще не письменность. Первый считал, что речь идет о чисто церемониальных знаках религиозно-магического свойства, созданных во времена развития полинезийского ораторского жезла, второй видел в них несложное, художественно оформленное мнемоническое приспособление. Анализ, проведенный в последние годы независимо друг от друга Бартелем, Кнорозовым и другими, ясно показал, что количество символов, повторяемость знаков и иные признаки не оставляют сомнения: это письменность.
Первые исследователи получили кое-какие интересные сведения, когда расспрашивали старых пасхальских ученых о содержании и применении дощечек и о причине, почему островитяне не могут читать и писать хотя бы простейшие тексты. Пасхальцы все как один говорили, что смысл каждого знака неизвестен; никто из них не мог начертить символа, обозначающего, скажем, понятие «человек"(163), однако они старались объяснить почему.
Так старик Томеника сказал по поводу декламации текстов ронго-ронго, что «слова новые, а вот письмена старые»; Капиера заявил о знаках: «картинки те же, но слова другие». Иначе говоря, знаки на дощечках были вырезаны по подобию прежних, но с ними связывали теперь другие слова.
Это можно истолковать двояко. Либо островитяне обнаружили путаницу в отождествлении текстов и дощечек и поняли, что по древним знакам поют не те слова, либо язык, который был в обиходе, когда создавались знаки, подвергся какому-то изменению, меж тем как знаки остались неизменными. Вряд ли островитяне подразумевали первое, ведь старики уверяли, что могут связать показанную им дощечку с определенным рапануйским текстом. Уре Вае Ику обстоятельно разъяснил, что смысл знаков забыт, но дощечки опознают по верным признакам и их содержание знают на память. (Так можно узнать книгу на иностранном языке, не читая ее.) Возможность лингвистической эволюции или присутствия на дощечках субстрата ясно вытекает из заявления пасхальцев, что текст ронго-ронго, известный под названием «Хе тимо то ако-ако», в котором сами местные исполнители понимали далеко не все, содержит «великие древние слова», а остальные слова – «малые».
Свидетельства в пользу такого варианта можно почерпнуть также в записях Томсона, которые он делал, когда старик Уре Вае Ику и Каите независимо друг от друга пели ему тексты ронго-ронго. В совершенно ясном рапануйском (точнее, рапануйско-таитянском) тексте, исполненном к дощечке «Апаи», вдруг появляется кусок на неизвестном языке, «ключ к которому давно утрачен». Энглерт сомневается, что удастся понять текст дощечек, даже если они будут расшифрованы. Нынешнее население Пасхи, говорящее на полинезийском диалекте, не поймет исконного рапануйского языка. Здесь можно текст дощечек сравнить с текстами песен, которые исполнялись пасхальцами во время ритуальной игры в веревочку. В свое время Энглерт начал было записывать эти тексты, но вскоре отказался от этого намерения, «потому что островитяне, заучившие эти песни со слов старых людей, не знали их содержания; а понимали только отдельные слова».
Опрашивая стариков, причем однажды при таком опросе присутствовало шестьдесят – семьдесят островитян, с интересом следивших за процедурой, Кнохе записал, что дощечки с письменами были изготовлены не нынешним населением, а более древними обитателями. Уже первые европейские исследователи услышали предания о том, что на остров пришли два разных народа с различной культурой и языком.(164) Согласно старинным преданиям, записанным Салмоном и Томсоном(165), письменные дощечки первоначально были привезены первым королем пришельцев Хоту Матуа, приплывшим с востока, то есть с той стороны, где лежит Южная Америка. Сподвижники короля доставили на остров шестьдесят четыре дощечки, которые старательно копировались последующими поколениями. Хинелилу, предводитель «длинноухих», прибывших с первой волной, «был человеком великого ума, и он писал ронго-ронго на бумаге, которую привез с собой».(166) Пасхальцы рассказали также, что даже в пору упадка, после истребления «длинноухих», строили особые школы, где избранных юношей обучали священному искусству чтения дощечек. Сам Хоту Матуа основал эти школы.(167) В отличие от обычных пасхальских домов и всех полинезийских построек, эти школы по традиции представляли собой круглые каменные строения с входом через коническую камышовую крышу. Археологи нашли на острове развалины таких строений – и точно такие же постройки были распространены на ближайшем на восток материке – в Южной Америке. В начале обучения использовали для письма не дерево, а банановые листья.
По словам пасхальцев, в ронго-ронго была заложена магическая сила и письмена играли важную роль в религиозных ритуалах, например во время обрядов посвящения и праздников равноденствия в селении Оронго, а также при похоронах королей. Раз в год король собирал учителей и учеников в Анакене, чтобы убедиться, что текст дощечек не забыт. Во время этого важного события, как и во время похорон королей, в землю по всей площадке втыкали приготовленные в большом количестве палки с перьями на конце.
Если отрицать, что в пасхальских преданиях о появлении письма на острове заложено зерно истины, возникает вопрос, как могла самостоятельно развиться письменность в маленькой, крайне уединенной островной общине. Ведь все случаи изобретения и развития письма связаны с немногими крупными мировыми культурными центрами. Потребность в письме была на острове Пасхи ничуть не больше, чем в остальной Океании, и времени для местной эволюции ее было совсем немного, поскольку она уже была забыта, когда на Пасху впервые прибыли европейцы.
Изолированное положение маленькой пасхальской общины посреди океана между другими островами Полинезии и Южноамериканским континентом, а также отсутствие доевропейской письменности на далеких полинезийских архипелагах и на всей огромной площади Океании дальше на запад не только допускает, но и требует сопоставления удаленных друг от друга районов. Различные авторы указывали на четыре географические области, имеющие или имевшие письменность, в какой-то мере напоминающую пасхальское ронго-ронго. Это древняя Южная Америка и Панамский перешеек, расположенные соответственно в 2000 и 2700 милях на восток от Пасхи, Южный Китай, до которого больше 8000 миль на запад, и долина Инда на противоположном конце земного шара, до которой и на запад и на восток по прямой около 11 000 миль.
Если сравнения ради пренебречь огромным географическим, хронологическим и культурным разрывом между Индской долиной и островом Пасхи и попробовать найти отдельные элементы, сопоставимые с системой письма и обычаями, связанными с кохау ронго-ронго, мы увидим, что все аналогии рушатся по следующим причинам.
В древней письменности Южного Китая и особенно долины Инда, расположенных к западу от острова Пасхи, обнаружены знаки, по начертанию похожие на некоторые письмена ронго-ронго. Но этим сходство исчерпывается, так как ни китайская, ни индская системы не относятся к бустрофедону. К тому же нельзя установить, совпадает ли смысл немногочисленных схожих знаков. Справедливо отмечалось, что сходство касается начертаний, достаточно простых, чтобы их вполне могли изобрести дважды, тогда как в общем наборе письмен налицо весьма существенные различия.
К востоку от острова Пасхи протоисторическое и историческое рисуночное письмо Панамского полуострова и северной окраины Анд, как показало сравнение, содержит некоторые знаки, напоминающие письмена ронго-ронго. Беспристрастный наблюдатель Метро подчеркнул, что сходство с письменами индейцев куна и оджибва нисколько не меньше, чем со знаками Южного Китая и Индской долины. Но и здесь мы лишены возможности проверить, совпадает ли смысл, а сходство знаков носит настолько общий характер, что речь опять-таки может идти о повторном самостоятельном изобретении. Правда, в области центров письменности Нового Света мы видим уже целый комплекс совпадений, возможно, указывающий на более близкое родство.
Так, панамские индейцы куна даже в историческое время писали бустрофедоном и на деревянных дощечках, как на острове Пасхи. Дощечки развешивали в домах во время празднеств (им придавалось магическое значение), и тексты надписей читала нараспев.
Сходство с обычаями Пасхи проявлялось и в том, что письменные дощечки куна играли важную роль во время похорон; в погребальном обряде использовались палки с перьями; наконец, перья и нитки перьев изображались как в рисуночном письме куна, так и в пасхальском ронго-ронго.
Очевидно, что более примитивные куна вряд ли изобрели свое письмо независимо от имевших письменность и пиктографию центров высокой культуры по обе стороны узкого перешейка. Как и пасхальцы, куна исторической поры не умели читать; глядя на унаследованные от предков знаки на письменных дощечках они пели древние тексты, которые знали на память. Согласно преданиям, эта система представляла собой рудиментарный пережиток старого письма, которое было несравненно лучше.
Есть данные, что примитивное письмо, сходное с письмом куна, сохранилось до наших времен в северной части Анд, где им пользовались мотилоне, декламируя послания. Материал из Центральных Анд содержит сообщения историков, протоисторические предания и примеры рисуночного письма, которое применялось индейцами аймара и кечуа в районе Титикаки и после европейского вторжения.
По данным ранних хронистов, история и легенды инков были написаны на особых досках, имевших значение современных книг и читавшихся посвященными амаута. Инки хранили эти доски в священном месте, которое испанцы сравнивали с европейской библиотекой. Если первые европейцы сообщили только, что для записи преданий служили доски, а для передачи вестей использовали крашеные жезлы, то амаута утверждали, что раньше было еще другое письмо на банановых листьях, но исконные древние знаки вышли из обихода и были забыты во время войн, предшествовавших воцарению первого Инки.
Недостаточность конкретного материала, ограниченного общими ссылками и примерами позднего происхождения, не позволяет проводить сопоставления ни с Панамой, ни с островом Пасхи. Однако идеограммы и символы на археологических памятниках религиозного искусства Перу, а именно в древнем культовом центре района Титикаки, содержат все основные элементы знаков ронго-ронго.
Так, рельефный идеографический орнамент на воротах Солнца в Тиауанако состоит из шестнадцати основных элементов, которые характерны для пасхальского ронго-ронго. Среди них группы птицечеловеков, человек, держащий церемониальный жезл, двухголовая птица с изогнутым клювом, животное из кошачьих, рыба, солнечный символ, орнамент из перьев, серповидное нагрудное украшение, «плачущий глаз», длинное ухо и трехпалая рука, которой наделены все фигуры.
Но всего примечательнее недавно установленный факт, что система письма перевернутым бустрофедоном обнаружена во всем мире только в двух местах: на острове Пасхи и в области Тиауанако.
Мне сдается, что система письма бустрофедоном на деревянных дощечках раньше была шире распространена в Центральной и Южной Америке. Дощечками пользовались во время торжественных церемоний. Идея такого письма распространилась до Панамы и Перу и достигла близлежащего острова Пасхи. Изолированность острова помогла письменности сохраниться в этой своеобразной уединенной общине, хотя из-за частых войн и языковых изменений способ чтения был забыт.
Поразительные этнографические аналогии применению кохау ронго-ронго наблюдались у куна, где до протоисторических и исторических времен сохранялись основные обряды, связанные с дощечками. Что касается магии и художественных идей, воплощенных в начертании знаков, а также такой особенности, как уникальная система перевернутого бустрофедона, то их распространение ограничилось двумя сопредельными районами восточной окраины Тихого океана: древним Перу и островом Пасхи. (XII)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Заселение Полинезии Anell, 1955; de Bisschop, 1939; Buck, 1938; Campbell, 1897/98; Deniker, 1900; Dixon, 1933; Graydon, 1952; Heyerdahl, 1952a; Hill-Tout, 1898; Mourant, 1954; Simmons etc., 1955; Sullivan, 1923; Wallace, 1870; Williamson, 1939
Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба de Bisschop, 1939; de Candolle, 1884; Greenman, 1963; Merrill, 1930. 1931, 1946, 1950, 1954
Культурные растения – доказательство доколумбовых контактов с Америкой 1 de Candolle, 1884, s. 461 2 Merrill. 1937, s. 282 3 Merrill, 1946, s. 344 4 Merrill, 1954 6 de Candolle, 1884, s. 433 6 Guppy, 1906, s. 413 7 Merrill, 1954, s. 195, 267 8 Nordenskiold, 1931, s. 269 9 Buck, 1938a, s. 315 10 Buck, 1945 11 Eames und St. John, 1943, s. 256 12 Merrill, 1950, s. 9 13 Merrill, 1954, s. 255 14 Stevenson, 1825; Wittmack, 1890, s. 340; Harms, 1922, s. 166 15 Rochebrune, 1879, s. 346, 348 16 Merrill, 1954, s. 278 17 Hutchinson, Silow und Stephens, 1947, s. 79 18 Sauer, 1950, s. 537 19 Carter, 1950, s. 169 20 Merrill, 1954, s. 338 21 Merrill. 1954. s. 190, 242 22 Skottsberg, 1934, s. 278 23 Skottsberg, 1956, s. 193 bis 438, bes. s. 407, 412; 1957 24 Thomson, 1889, s. 456 25 Bertoni, 1919, s. 280 26 Brown, 1931, s. 137 27 Degener, 1930, s. 88 28 Bryan, 1935, s. 67 29 Hillebrand, 1888, s. 14 30 Carter, 1950, s. 173 31 Prain, 1895, s. 325 32 Fedde, 1909, s. 280 33 Stokes, 1932, s. 599 34 Yacovleff und Herrera. 1935 35 Carter, 1950, s. 172, 179 36 Zum Folgenden: Brown, 1935, s. 190, 49, 79, 336 37 Baker, 1893, s. 192 38 О. F. Cook, 1903, s. 490 39 Clausen, 1944, s. 29 40 Yacovleff und Herrera, 1934 41 О. F. Cook, 1903, s. 483, 496 42 Guppy, 1906, s. 413 43 Steward, 1949 44 Sauer, 1950, s. 513 45 Carter, 1950, s. 165 46 Brown, 1931, s.
153 47 Jakeman, 1950 48 Brown, 1935, s. 174 49 О. P. Cook und R. С. Cook, 1918, s. 156, 169 50 Merrill, 1920, s. 195 51 Carter, 1950, s. 164, 181 52 Kornicke, 1885, s. 136 53 Wittmack, 1880, s. 176 54 Sauer, 1950, s. 502 55 Stonor und Anderson, 1949, s. 392 56 Whitaker und Bird, 1949 57 Sauer, 1950, s. 499 68 Merrill, 1950, s. 9
Роль инкских преданий для испанцев, открывших Полинезию и Меланезию 1 Amherst und Thomson, 1901, vol. 1, s. XVII 2 Las Casas, (1559), 1876, s. 78, 79 3 Lizarraga, (1560 bis 1602), 1946, s. 32, 33 4 Saamanos, (1526), 1844, s. 196 5 Andagoya, (1541 bis 1546), 1865, s. 36 6 Oviedo, (1535 bis 1548), 1855, bd. 4. bk. 46, kap.XVII 7 Cobo, (1653), 1890 bis 1895, bk. 12, kap. 32 8 Garcilasso, (1609), 1869 bis 1871, vol. 1, bk. 3, kap. 16 9 Sarmiento, (1572). 1907, s. 135 10 Balboa, (1576 bis 1586), Mss. s. 501 11 Balboa, (1568), 1840, kap. VII, s. 81 12 Betanzos, (1551), 1880, kap. 3 13 Sarmiento, (1572), 1907, s. 32, 186 14 Balboa, (1576 bis 1586), Mss.
15 Stevenson, 1625, bd. 1, s. 394 16 Oliva, (1631), 1910, s. 325 17 Acosta, 1590, s. 56 18 Heyerdahl, 1952a, s. 550 bis 555, 1957; Eisleb, 1963 19 Amherst und Thomson, 1901, bd. 2, s. 463 bis 468 20 Aguera, 1770, s. 109 21 Amherst und Thomson, 1901, bd. 2, s. IV bis VI 22 Gonzales, (1770), 1908, s. XLIV 23 Amherst und Thomson, 1901, bd. 1, s. 6, 7, 83 bis 85, 97, 98, 161, 162, 217, 218, 461 24 Christian, 1924, s. 525 25 Rivet, 1928, s. 583, 603; 1943, s. 124 26 Buck, 1938, s. 22, 453 27 Ferdon, 1961, s. 254 28 Heyerdahl und Skjolsvold, 1956; Heyerdahl, 1961 29 Beechey, 1831, I, s. 186 bis 188
Бальсовый плот и роль гуар в аборигенном мореходстве Южной Америки 1 Heyerdahl, 1941a 2 Hutchinson, 1875, s. 426, 454 3 Lothrop, 1932 4 Means, 1942 5 Hornell, 1945 6 Saamanos, 1844 7 Saamanos, 1844, s. 196 8 P. Pizarro, 1884 9 Las Casas, 1876, s. 78, 79 10 Oviedo, 1855; Andagoya, 1865; Zarate, 1700 11 Garcilasso, (1609), 1869 bis 1871, kap. 16 12 Benzoni, 1857 13 Garcilasso, 1869 bis 1871, s. 261 14 Lizarraga, 1946, s. 32, 33 15 Cobo, 1890 bis 1895, s. 218 16 Spilbergen, 1619 17 Juan und Ulloa, 1748, vol. 1, s. 189 18 Lescallier, 1741, s. 458 bis 463 19 Charnock, 1801, s. 12 20 Humboldt, 1816; Stevenson, 1825, s. 223 21 Paris, 1841 bis 1843 22 Skogman, 1852 23 Lothrop, 1932, s. 240 24 Bennett, 1954, fig. 89, 90 25 Uhle, 1922, s. 49 26 Nordenskiold, 1931, s. 265 27 Valverde, 1879, s. 179 28 Lothrop, 1932, s. 238 29 Byam, 1850, s. 200 30 Means, 1942, s. 240 31 Dixon, 1934 32 Emory, 1933, s. 48 33 Emory, 1942, s. 129 34 Morgan, 1946, s. 80 35 Buck, 1945, s. 11 36 Weckler, 1943, s. 35
Раскопки на Галапагосских островах Byam, 1850; v. Hagen, 1949; Heyerdahl und Skjolsvold, 1956; Hornell, 1946; Hutchinson, 1875; Juan und Ulloa, 1748; Lothrop, 1932; Sharp, 1680; Skogman, 1854
Остров Кокос – база доиспанского индейского судоходства?
1 Chubb, 1933, s. 25 bis 30 2 Dampier, 1729, bd. l, s. 111 3 Wafer, 1699, s. 379 bis 381 4 de Candolle, 1884, s. 435 5 Oviedo, 1535 bis 1548; Kerchove, 1878, s. 147 6 de Candolle, 1884, s. 429 bis 435 7 Berry, 1926, s. 184 8 Heyerdahl, 1952a, s. 453 bis 468 9 O. F. Cook, 1910 bis 1912, s. 293, 304, 318, 340 10 Hill, 1929, s. 151 11 Sauer, 1950, s. 524 12 Merrill, 1920, 1930, 1946 usw.; 1954, s. 190, 195, 267 13 Porter, 1815, bd. 2, s. 139 14 Stewart, (1832, s. 177), Amerikanischer Kapitan, berichtet, jene atua, die die Kokosnu? nach den Marquesas brachten, hatten den Ozean auf einem «Steinkanu» uberquert. N. A. Rowe (personliche Mitteilung am 16.4.1950) stellt fest, da? diese merkwurdige Nachricht erstmals in dem handgeschriebenen Tagebuch des fruhen Missionars William Pascoe Crook festgehalten wurde, der 1797 bis 1798 auf den Marquesas arbeitete, und er fugt in bezug dieses obskure Wasserfahrzeug hinzu: «Jahrelang habe ich mich gefragt, was des hei?en konnte, aber jetzt sehe ich naturlich, das es sich um den Hinweis auf ein Flo? oder рае-рае handelt. Рае-рае kann auch eine steinerne Plattform sein, daher die VenvIrrung.»
15 Chubb, 1933, s. 26 16 Alfaro, 1898, s. 33 17 Pors. Information von Dr. Doris Stone, 17. 3. 1965 18 Mundl. Information 19 Сое, 1960, s. 384 bis 386, 390 und forgende Seiten 20 Heyerdahl und Skjolsvold, 1956 21 Lothrop, 1932; Heyerdahl, 1958; Eisleb, 1963
Статуи острова Пасхи – проблема и итоги Buck, 1938a, 1938b, 1945; J. Cook, 1777; Englert, 1948; Ferdon, 1965; Gonzales, 1770/71; Heyerdahl, 1957a, 1961; Knoche, 1912, 1925; Kotzebue, 1821; Lavachery, 1935; Lisjanskij, 1812; Metraux, 1940; Mulloy, 1961; du Petit-Thouars, 1841; La Perouse, 1797 (1908); Roggeveen, 1722 (1908); Routledge, 1919; Skjolsvold, 1961, 1965; Skottsberg, 1920; Smith, 1961; Thomson, 1889
Полинезийские и неполинезийские элементы на острове Пасхи 1 Heyerdahl, Ferdon et al., 1961 2 Behrens, 1722, s. 134, 136; Aguera, 1770, s. 96 3 J. Cook, 1777, vol. II, s. 296 4 vgl. die Originalubersetzungen, gesammelt bei Heyerdahl 1961, s. 33 bis 43 5 Thomson, 1889, s. 532 6 Knoche, 1912, s. 876, 877; 1925, s. 309 bis 312 7 Markhams, 1870 8 Balfour, 1917, s. 377, 378 9 Haddon, 1918, s. 161, 162 10 Routledge, 1919, s. 221, 295 bis 299 11 Shapiro, 1940, s. 24 bis 30 12 Metraux, 1940, s. 414, 415 13 Lavachery, 1935, s. 324, 325; 1936, s. 393 14 Heyerdahl, 1941b, s. 18, 21, 22 15 Englert, 1948, s. 88, 101, 156, 157 16 Englert, 1948, s. 121, 122 17 Aguera, 1770, s. 109, 110 18 Ross, 1936 19 Metraux, 1940, s. 31 20 Englert, 1948, s. 139 bis 147; Siehe auch Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 30, 39, 40 21 J. Cook, 1777, vol. I, s. 290; Forster, 1777, vol. I, s. 564, 584, 585 22 Smith, 1961, s. 385 bis 391 23 J. Cook, 1777, vol. II, s. 364 24 Forster, 1778, s. 284 25 J. Cook, 1777, vol. I, s. 278 26 Roussel, 1908 27 Palmer, 1870, s. 109 28 Pinart, 1878a, s. 238 29 Churchill, 1912, s. 5 30 Bergsland und Vogt, 1962; Englert, 1948, s. 327 31 Metraux, 1940, s. 309 32 Metraux, 1940, s. 315 33 Geiseler, 1883, s. 131; Ferdon, 1961, s. 250 bis 253 34 Ferdon, 1961, s. 250 bis 254 35 Roggeveen, 1722, s. 15; Rehrens, 1722, a. 133; Ferdon, 1961, s. 534 36 Ferdon, 1961, s. 534 37 Metraux, 1940, s. 340, 341 38 Ferdon, 1961, s. 534 39 Heyerdahl, 1952a, s. 579 bis 582. pi. 80 40 Heyerdahl, 1952a, pl. 81, fig. 588 41 Skottsberg, 1956, s. 497, 412; 1957 s. 3 42 Ferdon, 1961, s. 535 43 Heyerdahl, 1952a, s. 583 44 Thomson, 1889, pl. 23; Routrledge, 1919, fig. 105; Ferdon, 1961, fig. 65, s. 535 45 Heyerdahl, 1952a, pl. 82 46 Thomson, 1889, s. 481, 482 47 Heyerdahl, 1952a, s. 505, 506 48 Jaussen, 1894, s. 261 49 Ferdon, 1961, s. 534; Heyerdahl, 1961, s. 497 bis 502, 328 50 Buck, 1938a, s. 232 51 Smith, 1961, s. 217, 218; Heyerdahl, 1961, s. 507 52 Skjolsvold, 1961, s. 360 bis 362; Heyerdahl, 1961, s. 462 bis 469, 502 bis 512 53 Mulloy, 1961, s. 100, 128, 130, 133 bis 135 54 Ferdon, 1961, s. 535 55 Geiseler, 1883, s. 30, 31; Ferdon, 1961, s. 381 bis 383, fig. 12b 56 Ferdon, 1961, s. 329 bis 338 57 Skjolsvold, 1961, s. 295 bis 303; Ferdon, 1961, s. 305 bis 311 58 Ferdon, 1961, s. 338; Bruyne, 1963 59 Thomson, 1889, s. 486; Ferdon, 1961, s. 329 bis 331 60 Mulloy, 1961, s. 138 bis 145; Smith, 1961, s. 287 bis 289; Skjolsvold, 1961, s. 291 bis 293 61 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 449, 450, pl. 80 a-d 62 Izumi und Sono, 1963, pl. 24 63 Smith, 1961, s. 270, 271; Mulloy, 1961, s. 151 bis 153; Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 398 bis 400, 481, 482 64 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 415 bis 438, 485 bis 487 65 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 448, 484, 485 66 Metraux, 1940, s. 215 67 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 412. 413, 484; Izumi und Sono, 1963, pl. 101b 5, 102b 6, 164 68 Metraux, 1940, s. 201 69 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 438 bis 448, 487, 488
Историческое население острова Пасхи и письменность ронго-ронго 1 Knorozov, 1964a, s. 4 2 Fedorova, 1964, s. 1, 7 3 Corney, 1908, s. 47 bis 49 4 Aguera, 1770, s. 104 5 Routledge, 1919, fig. 102; Ferdon, 1961, fig. 65 usw, 6 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 68 bis 71 7 Roussel, 1869, s. 464 8 Zumbohm, 1880, s. 232, 233 9 Jaussen, 1893, s. 12 bis 17 10 Jaussen, 1893, s. 17, 18 11 Croft, 1874, s. 318 bis 320 12 Englert, 1948, s. 317, 318 13 Heyerdahl, Berichte der Norwegischen Archaologischen Expedition, bd. III, in Vorbereitung 14 Dr. Y. Nielsen hat das Vorkommnis in dem Katalog des Osloer Universitatsmuseum festgehalten: «Historisk Oversikt over Universitetets Ethnografiske Samlinger, 1857-1907»
15 Palmer, 1875, s. 289 bis 291 16 Ferdon, 1961, s. 221, 244 17 Pinart, 1878a, s. 239 18 Meinecke, 1871 19 Bastian, 1872a, 1872b 20 Geiseler, 1883, s. 23, 24 21 Thomson, 1889, s. 514 bis 517 22 Routledge, 1919, s. 207 23 Thomson, 1889, s. 519 24 Thomson, 1889, s. 516 25 Macmillan Brown, 1924, s. 90 26 Routledge, 1919, s. 247, 248 27 Thomson, 1889, s. 517 bis 526 28 Alazard, 1908, s. 8 29 Alazard, 1908 30 de Harlez, 1896 31 Knoche, 1925, s. 242, 243 32 Knoche, 1925, s. 243 33 Knoche, 1925, s. 228, 239, 243, 298, 299 34 Routledge, 1919, s. 211 35 Routledge, 1919, s. 213 36 Routledge, 1919, s. 243 bis 254 37 Routledge, 1919, s. 252, 253 38 Routledge, 1919, s. 273, 274 39 Metraux, 1940, s. 398. 399 40 Metraux, 1940, s. 398, 399 41 Metraux, 1940, s. 399 42 Lavachery, 1934, s. 67 bis 71 43 Metraux, 1940, s. 392 44 Metraux, 1940, s. 404, 405 45 Metraux, 1940, s. 403 46 Metraux, 1940, s. 405 47 Metraux, 1940, s. 403, 404 48 Englert, 1948, s. 318 49 Englert, 1948, s. 322 50 Englert, 1948, s. 222, 316, 317 51 Skjolsvold, 1961, rp. 9; Ferdon, 1961, rp. 10, 13 52 Englert, 1948, s. 323 53 Barthel, 1965, rp. 16, Appendix A 54 Ferdon, 1958, s. 146, 147 55 Wiedergabe aller Photographien bei Heyerdahl und Ferdon, 1965, fig. 96 bis 136 56 Barthel, 1965, rp. 16, Appendix A 57 Englert, pers. Mitteilung v. 15.1.1965 58 Englert, pers. Mitteilung, v. 15.1.1965 59 Thomson, 1889, s. 514 bis 516 60 Routledge, 1919, fig. 83 61 Englert, pers. Mitteilung, v. 15.1.1965 62 Englert, 1948, s. 322 63 Heyerdahl, 1957a, kap. 9 64 Heyerdahl, 1957a, kap. 9 65 Kondratov, 1965, rp. 16, Appendix D 65a Englert, pers. Mitteilung, v. 15.1.1965 66 Heyerdahl und Ferdon, 1965, fig. 172 bis 188 67 Barthel, 1965, rp. 16, Appendix A 68 Englert, 1948, s. 55 69 Englert, 1948, s. 55 70 Barthel, 1965, rp. 16, Appendix A 71 Routledge, 1919, s. 214 72 vgl. Heyerdahl und Ferdon 1965, fig. 189 bis 191 73 Barthel, 1965, rp. 16. Appendix A 74 Kondratov, 1965, rp. 16, Appendix D 75 Butinov und Knorozov, 1957; Knorozov, Fedorova und Kondratov, 1965, rp. 16, Appendices B, C, D 76 Barhtel, 1965, rp. Appendix A 77 Rarthel, pers. Mitteilung, v. 21.3.65 78 Puelma, pers. Mitteilungen, v. 26. 4 und 2. 6. 1965 79 Puelma, pers. Mitteilungen, v. 26. 4 und 2. 6. 1965 80 Puelma, pers. Mitteilung, v. 14. 5. 1965 81 Puelma, pers. Mitteilungen, v. 4. 7. 1962; 18. 11. 1963; 9. 9. 1964 82 Puelma, pers. Mitteilung, v. 9. 9. 1964 83 Thomson, 1889, s. 526 bis 532 84 Puelma, pers. Mitteilung, v. 9. 9. 1964 85 Barthel. 1960, s, 236, 237 86 Fedorova, 1965, rp. 16, Appendix С 87 Eine Probeseite von Puelmas Pakarati-Manuskript wird von Heyerdahl und Ferdon, 1965, fig. 192, wiedergegeben um zu zeigen, da? die Handschrift desselben Schreibers auf bestimmten Seiten von mehr als einem Manuskript wiederzukehren scheint 88 Metraux, 1940, s. 399 89 Englprt, pers. Mitteilung, v 15. 1. 1965 90 Kondratov, 1965, rp. 16. Appendix D 81 Kondratov, 1965, rp. 16, Appendix D 92 Ekblom, pers. Mitteilung, v. 24. 5. 1965 92a Konigswald, 1951 93 Buck, 1938a, s. 237, 238 94 Melraux, 1940, s. 403 bis 405 95 Metraux, I940, s. 399 96 Metraux, 1940, s. 404 97 Metraux, 1957, s. 206, 207, Mundl, Mitteilung 98 Emory, 1963, s. 567 98a Hornbostel, 1930 99 Buck, 1938a, s. 235, 236 100 Metraux, 1938, s. 219, 235, 238 101 Linne, 1938, s. 169 102 Nordenskiold, 1928, s. 13 bis 21 103 Oviedo, 1535 bis 1548, vol. 4, s. 36 104 Heine-Geldern, 1938, s. 883 bis 892 105 Nordenskiold, 1928, s. 17 106 Hornbostel, 1930, s. 953 107 Heine-Geldern, 1938, s. 884, 885 108 Cruxent, pers. Mitteilung, v. 13. 5. 1950 109 Heine-Geldern. 1950, s. 352 110 Pachacuti, 1620, s. 291 111 Bennett, 1949, s. 613 112 Sarmiento, 1572, s. 200 113 Bandelier, 1910, s. 313 114 Molina, 1570 bis 1584, s. 4 115 Montesinos, 1642 116 Montesinos, 1642, s. 18 117 Montesinos, 1642, s. 32 118 Montesinos, 1642, s. 58, 62 119 Ibarra Grasso, 1948, s. 9 bis 124 120 Ibarra Grasso, 1948, s. 117 121 Knorozov, 1964b, s. 4 122 Heyerdahl, 1952a, s. 638 bis 642 123 Schuster, mundl. Mitteilung 124 Heyerdahl, 1952a, pl. 82, l 125 Barthel, 1958b, s. 327 126 Heyerdahl, 1952a, s. 140 127 Heyerdahl, 1952a, pl. 82, l bis 3 128 Heyerdahl, 1952a, pl. 812, fig. s. 588 129 Jaussen, 1893, s. 9 130 Jaussen, 1893, s. 27 131 Ferdon, 1961, s. 535 132 Thomson, 1889, s. 481, 482, Abb. 7, 8 133 Ferdon, 1961, s. 254 134 Ferdon, 1961, s. 221; Heyerdahl, 1961, s. 513, 514 135 Barthel, 1958b, s. 298 bis 300 136 Bandelier, 1910, s. 304, 305 137 Ferdon, 1961, pl. 30c 138 Lavachery, 1939, pt. 2, pl. 23, 30, 32; Ferdon, 1961, s. 236, 255, 535, fig. 65b, f, pl. 29c 139 Thomson, 1889, s 537, 538 140 Barthel, 1958b, s. 40 141 Carroll, 1892, s. 103 bis 106, 233 bis 253 142 Thomson, 1889, s. 526 bis 532 143 Churchill, 1912, s. 4 144 Barthel, 1955 145 Scientific American, vol. 198, no. 6, 1958 146 Barthel, 1955, s. 66 bis 68 147 Barthel, 1958b, s. 65 148 Barthel, 1958b 149 American Anthropologist, Febr. 1964, Bd. 66, s. 148, 149 150 Fedorova, 1964, s. 7 151 Knorozov, 1964a, s. 4; Fedorova, 1964, s. 1; Kondratov, 1965, rp. 16, Appendix D 152 Buck, 1938a, s. 237 153 Metraux, 1940, s. 397 154 Heyerdahl, 1952a, s. 625 155 Kondratov, 1965, rp. 16, Appendix D 156 Buck, 1938a, s. 237 157 Croft 1874, s. 320 158 Jaussen, 1893, s. 15 159 Metraux, 1940, s. 394, 396, 397 160 Metraux, 1940, s. 397 161 Metraux, 1940 162 Heyerdahl und Ferdon, 1965, fig. 96 bis 191 163 Routledge, 1919, s. 252 164 Heyerdahl und Ferdon, 1961, s 33 bis 43 165 Thomson, 1889, s. 533 166 Routledge, 1919, s. 279 167 Metraux, 1940, s. 394
ЛИТЕРАТУРА
Асоsta J. de. Historia natural y moral de las Indias en que se tratan las cosas… Sevilla, 1590 (engl. Ubersetzung, London, 1604).
Aguera y Infanzon F.A. de. Journal of the Principal Occurrences During the Voyage of the Frigate «Santa Rosalia» in the Year 1770. Hakluyt Soc., ser. 2, Nr. 13, 1908.
Alazard I. Introduction to Roussel. In: Roussel, 1908, s. 1-9.
A1farо А. Меmоriа de la Secretaria de Fomento, 24 de junio de 1898. In: Reproduciones Cientificas, una expediti?n de la Isla del Coco. Institute Geogr?fico de Costa Rica. San Jose, 1963.
Amherst und Thomson B. Introduction and Notes to: The Discovery of the Solomon Islands by Alvaro de Mendana in 1568. Hakluyt Soc., ser. 2, Nr. 7, London, 1901.
Andagoya P. De. Narrative of the Proceedings of Pedrarias Davila… 1541-46. Hakluyt Soc., Bd 34, 1865.
Anell B. Contribution to the History of Fishimg in the Southern Seas. Studia Ethnographica Uspaliensia, 9, Uppsala, 1955.
Baker J. G. A Synopsis of the Genera and Species of Museae. Ann. Bot., VII, London, 1893.
Balboa M. C. de. Miscellanea antarctica. Mss, in der New York Public Library, von dem heute verlorenen Original zwischen 1700-25 kopiert, o. J.
– Histoire du Perou. 1586. In: Ternaux-Compans: Voyages, Relations et Memoires originaux pour servir a l'histoire de la decouverte de l'Amerique. Paris, 1840.
Balfour H. Some Ethnological Suggestions in Regard to Easter Island, or Rapanui. Folk-Lore, Bd 28, s. 356-381, London, 1917.
Bandelier A. F. The Islands of Titicaca and Koati. New York, 1910.
Barthel T.S. Die Entzifferung der Osterinselschrift. Die Umschau, H. 12, s. 360-362, Frankfurt/Main, 1955.
– The «Talking Boards» of Easter Island. Scientific American, Bd 198, Nr 6, s. 61-68, New York, 1958a.
– Grundlagen zur Entzifferung der Osterinselschrift. Hamburg, 1958b.
– Wer waren die ersten Siedler auf der Osterinsel? Ethnologica, N. F., Bd 2, Koln, 1960.
– Native Documents from Easter Island. Appendix A zu Report 16 in: Heyerdahl und Ferdon. 1965.
Bastian A. Bemerkungen zu den Holztafeln von Rapa-nui. Zs. Ges. f. Erdkunde, Bd 7, s. 81-89, Berlin, 1872a.
– Uber die auf der Osterinsel aufgefundenen Zeichentafeln. Verhandlungen d. Berliner Ges. f. Anthropologie…, Bd 4, s. 44, Berlin, 1872b.
Beeсhey F. W. Narrative of a Voyage to the Pacific and Bering's Strait… in the Years 1825-28. 2 Bde. London, 1831.
Behrens C.F. Der wohlversuchte Sud-Lander, das ist: ausfuhrliche Reise-Beschreibung um die Welt. 1722. Ubersetzung ins Engl.: Hakluyt Society, ser. 2, Nr 13, Cambridge, 1908.
Bennett W.C. Mnemonic and Recording Devices. Handbook of South American Indians, Bd 5. Smithsonian Inst. Bur. Am. Ethn., Bull. 143. Washington, D. C., 1949.
– Ancient Arts of the Andes. New York, 1954.
Benzoni G. La Historia del Mundo Nuevo. Venedig 1565 (ins Engl. ubersetzt von W.H. Smyth: History of the New World). Hakluyt Soc., Nr 21, London, 1857.
Bergsland K. und Vogt H. On the Validity of Glottochronology. Current Anthropology, Bd 3, Nr 2, s. 115-153, Chicago, 1962.
Berry E.W. Cocos and Phymatocaryon in the Pliocence of New Zealand. Am. J. Sci., Bd 5, Nr 12, New Haven, Conn., 1926.
Bertoni M.S. Essai d'une monographie du genre ananas. Anal. Ci. Paraquaoys, II, Nr 4, Asunci?n, 1919.
Betanzos J. de. Suma y. narrati?n de los Incas. Madrid, 1880.
Bisschop E. de. Kaimiloa. D'Honolulu a Cannes par l'Australie et le Cap a bord d'une double pirogue polynesienne. Paris, 1939.
Blaxland G. Treatise on the Aboriginal Inhabitants of Polynesia with Evidence of Their Origin and Antiquity. Mss. loc. Nr В 760, Mitchell Library, Sydney.
Brown F.B. H. Flora of Southeastern Polynesia. I: Monocotyledons, 1931. III: Dicotyledons, 1935. B.P. Bishop Mus. Bull. 130, Honolulu, 1935.
Bruyne E. de. Informe sobre el descubrimiento de un ?rea arquel?gica. Museo Nacional de Historia Natural, Publicati?n Ocasional, Nr 2, s. 1-16, Santiago de Chile, 1963.
Bryan E.H. Jr. Hawaiian Nature Notes. Honolulu, 1935.
Buck P. (Te Rangi Hiroa) Vikings of the Sunrise. New York, 1938a.
– Ethnology of Mangareva. B.P. Bishop Mus. Bull. 157, Honolulu, 1938b.
– An Introduction to Polynesian Anthropology. B.P. Bishop Mus. Bull. 187, Honolulu, 1945.
Бутинов H.А. и Кнорозов Ю.В. Новые материал» об острове Пасхи. Советская этнография Э 6, Москва, 1957, 38-42.
Вуam G. Wanderings in Some of the Western Republics of America… London, 1850. (Deutsche Ausgabe: Wanderungen durch sudamerikanische Republiken. Dresden, 1851).
Campbell J. The Origin of the Haidahs of the Queen Charlotte Islands. Trans. Roy. Soc. Canada, ser. 2, Bd 3, Abschnitt II. 1897/98.
Candolle A. de.Origin of Cultivated Plants. London, 1884.
Carroll A. The Easter Island Inscriptions, and the Translation and Interpretation of them. J. Polynesian Soc., Bd 1, Nr 4, s. 103-106, 233-253. London, 1892.
Carter G.F. Plant Evidence for Early Contacts with America. South Western J. Anthrop., VI, Nr 2, Albuquerque, N. M., 1950.
Charnock J.A. History of Marine Architecture. Bd 1. London, 1801.
Christian F.W. Early Maori Migration as Evidenced by Physical Geography and Language. Report of the Sixteenth Meeting held in Australas. Ass. Adv. Sei. Wellington, N. Z., 1924.
Chubb L.J. Geology of Galapados, Cocos, and Easter Island. B.P. Bishop Mus. Bull. 110, Honolulu, 1933.
Churchill W. Easter Island. The Rapanui Speech and the Peopling of Southeast Polynesia. Carnegie Inst. Wash., Publ. Nr 174, Washington, 1912.
Clausen R.T. A Botanical Study of the Yam Beans (Pachyrrhizus). Cornell Univ. Mem. 264. Ithaca, New York, 1944.
Соbo B. Historia del Nuevo Mundo…, 1653. Ed. Marcos Jimenez de la Espada. Sevffla, 1890-95.
Сое M.D. Archaeological Linkages with North and South America at la Victoria. Guatemala. Am. Anthropologist, Bd 62, Nr 3, 1960.
Cook J. Second Voyage Towards the South Pole and Round the World, Performed in the «Resolution» and «Adventure» – 1772-75. London, 1777.
Cook O.F. Food Plants of Ancient America. Ann. Rept. Smiths. Inst., Washington, D. C., 1903.
– History of the Coconut Palm in America. Contr. U.S. Nat. Herb., Bd 14. Washington, 1910-12.
Cook O.F und Cook R.С. The Maho, or Managua, as a Trans-Pacific Plant. J. Wash. Acad. Sei., VIII. 1918.
Сorneу В.G. Editorial Annotations to: Gonzales (1770). 1908.
Croft T. Letter of April 30, 1874 from Thomas Croft, Papeete, Tahiti, to the President of California Academy of Sciences. California Acad. Sei., Proc., Bd 5, s. 318-323, San Francisco, 1875.
Damp1er W. Captain William Dampier's Voyage Round the Terrestrial Globe. A Collection of Voyages. 4 Bde, London, 1729.
Degener O. Ferns and Flowerings Plants of Hawaii National Park. Honolulu, 1930.
Deniker J. The Races of Man. London, 1900.
Dixon R.B. The Problem of the Sweet Potato in Polynesia, Am. Anthropol., Bd 34, 1932.
– Contacts with America across the Southern Pacific In: The American Aborigines, Their Origin and Antiquity. A Collection of Papers, by Ten Authors, Assembled by D. Jenness. Univ. of Toronto Press, Toronto, 1933.
– The Long Voyages of the Polynesians. Proceedings, Am. Philos. Soc., Bd 74, Nr 3, 1934.
Eames A.J. und St. John H. The Botanical Identity of the Hawaiian Ipu Nui or Large Gourd. Am. J. Bot., XXX, Nr 3, 1943.
Edmondson С.Н. Viability of Coconut Seeds after Floating in Sea. B.P. Bishop Mus., Осе. Papers, Bd 16, Nr 12. Honolulu, 1941.
Eisleb D. Beitrag zur Systematik der altperuanichen «Ruder» aus der Gegend von Ica. Baessler-Archiv, N. F., Bd 10, s. 105-128, Berlin, 1963.
Emory K.P. Stone Remains in the Society Islands. B.P. Bishop Museum Bull, Nr 116, Honolulu, 1933.
– Oceanian Influence on American Indian Culture: Nordenskiold's View. J. Polynes. Soc., Bd 51, 1942.
– Review of Archaeology of Easter Island (Heyerdahl und Ferdon, 1961). Am. Antiquity, Bd 28, Nr 4, s. 565-567, 1963.
Eng1ert P.S. La Tierra de Hotu Matu'a. Historia, Etnologia y Lengua de Isla de Pascua. Imprenta y edit. «San Francisco» Padre las Casas, Chile, 1948.
– Outlines of Easter Island's Ancient History. Vortrag, gehalten von der Medical Expedition to Easter Island. Mss. Hangaroa, 17. 1. 1965.
Eyraud E. Lettre au T.R.P. Superieur general de la congregation des sacres-coeurs de Jesus et de Marie. Valparaiso, decembre 1864. Ann. Assoc. Propagation de la Foi, Bd 38, s. 52-71, 124-138, Lyon, 1866 (1884) Fedde F. Papaveraceae-Hypercoideae et Papaveraceae-Papa-veroideae. Das Pflanzenreich, H. 49, Leipzig, 1909.
Fedorova I.K. On Kohau Rongo-Rongo Legends. Nauka Publishing House. Moskau, 1964.
– Versions of myths and legends in manuscripts from Easter Island. Appendix С zu Report 16 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
Ferdon E.N. Jr. Easter Island Exchange Systems. Southwestern Journal of Anthropology, Bd 14, s. 136-151, Albuquerque, 1958.
– The Ceremonial Site of Orongo, – Sites E-4 and E-5. – Stone-Houses in the Terraces of Site E-21. – Easter Island House Types, – An Easter Island Hare Moa. – A Summary of the Excavated Record of Easter Island Prehistory. 6 Artikel in: Heyerdaht und Ferdon, 1961, s. 221-255, 305-311, 313-321, 329-338, 381-383, 527-533.
– The Marquesas Islands. Surface architecture of the site of Paeke, Taipi Valley, Nukuhiva. Report 9 in: Heyerdahl; und Ferdon, 1965.
Forster G.A. Voyage Round the World in His Britannic Majesty's Sloop «Resolution…» 2 Bde. London, 1777.
Forster J. R. Observations Made During a Voyage Round the World. London, 1778.
Garcilasso de la Vega, Inca. First Part of the Royal Commentaries of the Yncas. 1609. Hakluyt Soc., Bd 41-45. London, 1869-71.
Geiseler. Die Oster-Insel. Eine Statte prahistorischer Kultur in der Sudsee, Berlin, 1883.
Gonzalez F. The Voyage of Captain Don Felipe Gonzalez in the Ship of the San Lorenzo, with the Frigate Santa Rosalia in Company, to Easter Island in 1770-1771. Hakluyt Soc., 2 Ser., Bd 13, Cambridge, 1908.
Graydon J.J. Blood Groups and the Polynesians. Mankind, Bd 4, s. 329-339, Sydney, 1952.
Greenman E.F. The Upper Palaeolithic and the New World. Current Antropology, Bd 4, Nr 1, s. 41-66, Chicago, 1963.
Gretzer W. Die Schiffahrt im alten Peru vor der Entdeckung… Mitteil. Roemer-Museum Hildesheim, Nr 24, Hannover, 1914.
Grisebach A. Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. Bd 1-2, Leipzig, 1872.
Guppy H.B. Observations of a Naturalist in the Pacific Bttween 1896 and 1899. Bd II, London, 1906.
Haddon A.C. Melanesian Influence in Easter Island. Folk-Lore, Bd 29, Nr l, s. 161-162. London, 1918.
Hagen V.W. von. Ecuador and the Galapagos Islands. University of Oklahoma Press, IX, s. 290, 1949.
Harlez G. de. L'Ile de Paques et ses monuments graphiques. Lowen, 1896.
Heine-Geidern R. von. Die Osterinselschrift. Anthropos, Bd 33, 1938.
– Cultural Connections between Asia and pre-Columbian America. Anthropos, Bd 45, Nr 1-3, 1950.
Heyerdahl T. Pa Jakt efter Paradiset. Oslo, 1938.
– Marquesas Islands. Report of the Standing Committee for the Protection of Nature in and around the Pacific for the years 1933-1938. Proceedings of the Sixth Pacific Science Congress. Berkeley and Los Angeles, 1940.
– Did Polynesian Culture Originate in America? International Science, Bd 1, s. 15-26, New York, 1941a.
– Turning Back Time in the South Seas, National Geographical Magazine, Bd 79, Nr 1, Washington, Jan., 1941b.
– The Kon-Tiki Expedition. Oslo, 1948 (ubersetzt in 57 Sprachen).
– The Voyage of the Raft Коп-Tiki. An Argument for American Polynesian Diffusion. Geographical Journal, Bd 115, Nr 1-3, London, 1950.
– American Indians in the Pacific. The Theory behind the Kon-Tiki Expedition. Stockholm, London, Chicago, 1952a.
– Objects and Results of the Kon-Tiki Expedition. Proceedings of the Thirtieth International Congress of Americanists. Cambridge, 1952b.
– Some Basic Problems in Polynesian Anthropology. Proceedings of the Thirtieth International Congress of Americanists. Cambridge, 1952c.
– En Gjenoppdaget Inka-Kunst. Guara-metoden som lar flater krysse og jibbe uten ror eller styreare. Teknisk Ukeblad, n. r., Bd 48, Oslo, 1954.
– The Balsa Raft in Aboriginal Navigation off Peru and Ecuador. Southwestern Journal of Anthropology, Bd 11, Nr 3, s. 251-264, university of New Mexico, Albuquerque, 1955.
– Aku-Aku. The Secret of Easter Island. Oslo, 1957 (ubersetzt in 27 Sprachen).
– Guara Navigation: Indigenous Sailing off the Andean Coast. Southwestern Journal of Anthropology, Bd 13, Nr 2, s. 134-143, Albuquerque, 1957b.
– Guara Sailing Technique Indigenous to South America. Actas del XXXIII Congreso de Americanistas. San Jose, Costarica, 1958.
– Merrill's reappraisal of ethnobotanical evidence for prehistoric contact between South America and Polynesia. Proc. of the 34 International Congress of Americanists. Wien, 1960.
– An Introduction to Easter Island. – Surface Artifacts. – General Discussion. 3 Artikel in: Heyerdahl und Ferdon, 1961. s. 21-90, 397-489, 493-526.
– Archaeology in the Galapagos Islands. Papers of the Tenth Pacific Science Congress. Unhersity of Hawaii. Honolulu, 1961a.
– Prehistoric Voyages as Agencies for Melanesian and South American Plant and Annual Dispersals to Polynesia. In: Plants and the Migrations of Pacific peoples. 10. Pacific Science Congress. Honolulu, 1961b.
– Sea Routes to Polynesia. «Expedition», The Bulletin of the University Museum of the University of Pennsylvania, Bd 4, Nr 1, s. 22-29, 1961c.
– Statuene pa Paskeoen. Problem og Resultat. Vortrag, gehalten vor der Schwedischen Anthropologischen und Geographischen Gesellschaft. 24. April 1962. Ymer, H. 2, Stockholm, 1962.
– Navel of the World. In: Vanished Civilizations. London, 1963:
– Feasible Ocean Routes to and from the Americas in pre-Columbian Times. Actas y Memorias del XXXV Congreso Internacional de Americanistas, Mexico, 1962, Mexico, 1964a.
– Plant Evidence for Contacts with America before Columbus. Antiquity, Bd XXXVIII, Nr 150, s. 120-133, Cambridge, 1964b.
– The Inca inspiration behind the Spanish discoveries of Polynesia and Melanesia. Vortrag auf dem XXVI. Internationalen Amerikanistenkongre?, Barcelona, 1964c.
– How Far is Easter Island Culture Polynesian? Vortrag auf dem VII. Internationalen Kongre? fur Anthropologie und Ethnologie, Moskau, 1964d. Mss.
– The statues of the Oipona me'ae, with a comparative analysis of possibly related stone monuments. Rp. 10 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
– The Concept of Rongo-Rongo among the Historic Population of Easter Island. Rp. 16 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
– Notes on the pre-European Coconut Groves on Cocos Island. Rp. 17 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
Heyerdahl T. und Ferdon E.N. Jr. ed. Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the-East Pacific. Bd I. Archaeology of Easter Island. Monographs of the School of American Research and the Museum of New Mexico, Nr 24, T. I, 1961. Bd II, Miscellaneous Reports. Monographs of the School of American Research and the Kon-Tiki Museum, Nr 24, T. 2, 1965, Santa Fe, New Mexico.
Heyerdahl T. und Skjolsvold A. Achaeological Evidence of pre-Spanish Visits to the Galapagos Islands. Memoirs of the Society for American Archaeology, Nr 12, Salt Lake City, 1956.
Hill A.W. The Original Home and Mode of Dispersal of the Coconut. Nature, vol. 124, London, 1929.
Hillebrand W. Flora of the Hawaiian Islands. Heidelberg, 1888.
Hill-Tout C. Oceanic Origin of the Kwakiutl-Nootka and Salisli Stocks of British Columbia and Fundamental Unity of Same with Additional Notes on the Dene. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada, 2 ser., Bd 4, 1898.
Hornbostel E. von. Chinesische Ideogramme in Amerika. Anthropos, Bd 25, 1930.
Hornell J. Was there a pre-Columbian Contact between tbe Peoples of Oceania and South America? J. Polynesian Soc., Bd 54, s. 167-191, 1945.
– How Did the Sweet Potato Reach Oceania? J. Linnaean Soc. London, Bd 53, Nr 348, s. 41-62, London, 1946.
Humboldt A. von. Vues des Cordilleres, et monuments des peuples indigenes de l'Amerique. Paris, 1810.
Hutchinson J.B., Silow R.A. und Stephens S.G. The Evolution of Gossypium and the Differentiation of the Cultivated Cottons. London, New York und Toronto, 1947.
Hutchinson T.J. Anthropology of Prehistoric Peru. J. Roy. Anthropol. Inst., Bd 4, London, 1875.
Ibarra Grasso D.E. La escritura indigena Andina. Ann. Lateranensi, 12. Vatican City, 1948.
Izumi S. und Sono T. Andes 2, Excavations at Kotosh, Peru, 1960, Tokyo, 1963.
Jасоby A. Senor Kon-Tiki. Oslo, 1965.
Jakeman M.W. The XXIX International Congress of Americanists. Bull. Brigham Young. Univ., Marz 1950.
Jaussen T. L'Ile de Paques, Historique – Ecriture et Repertoire des signes des tablettes ou bois d'Hibiscus Intelligents. Paris, 1893.
– L'Ile de Paques. Histoire et Ecriture. Bulletin Geogr. Hist, et Descriptive. No. 2, s. 240-270, Paris, 1894.
– (s.a.): L'Empire des Maoris. Ile de Paques ou Rapa-nui. Ecriture de l'Ile de Paques. Mss., 299, s, 19x29,3 cm, aufbewahrt im Ordenskapitel der Congregation des Sacres Coeurs, 412 Via Aurelia Antica, Rom.
Juan G. und Ulloa A. de. Relaci?n hist?rica del viaje a la America Meridional… Bd 1, Madrid, 1748.
Kerchove de Denerghem O. de. Les Palmiers; histoire iconographique, geographie, paleontologie, botanique, description, culture, emploi, etc., Paris, 1878.
Knосhe W. Vorlaufige Bemerkung uber die Entstehung der Standbilder auf der Osterinsel. Zs. f. Ethnologie, Bd 44, s. 873-877, Berlin, 1912.
– Die Osterinsel. Eine Zusammenfassung der chilenischen Osterinselexpedition des Jahres 1911. Concepci?n, 1925.
Кнорозов И.В. В поисках ключа. Неделя, 2-8 августа, М., 1964 г.
– Recorded statements at Izvestija's Round Table Conference. August 10th. 1964. In: «Kon-Tiki» плыл не зря, Известия 12 августа, M., 1964г.
– Manuscripts from Easter Island. Appendix B zu Rp. 16 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
Konigswald G.H. R. von. Uber sumatranische Schiffstucher und ihre Beziehungen zur Kunst Ozeaniens. In: Sudseestudien, Gedenkschrift zur Erinnerung an Felix Speiser, s. 27-50, Basel, 1951.
Kornicke F. Uber die Heimath unserer Gartenbohne Phaseolus vulgaris. Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinlande etc. Bonn. 1885.
Kondratov A.M. The hieroglyphic signs and different lists in the manuscripts from Easter Island. In: Heyerdahl und Ferdon, 1965, Appendix D zu Rp. 16.
Коцебу О.E. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах на корабле Рюрике, т. 1-3, СПБ, 1821-23 (engl. Ubers. London, 1821).
Las Casas B. de. Historia de las Indias. 1559. Colecci?n de Documentos Inedites para la Historia de Espana. Madrid, 1876.
Lavachery H. Les bois employes dans l'Ile de Paques. Bull. Soc. des Americanistes de Belgique. Marz 1934. s. 67-71. 1934.
– La Mission Franco-Belge dans l'Ile de Paques. Bulletin Societe Royale de Geographie d'Anvers, Bd 55, s. 313-361, Antwerpen, 1935.
– Easter Island, Polynesia. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, s. 391-396, Washington, 1936.
– Les petroglyphes de l'Ile de Paques. 2 Bde., Antwerpen, 1939.
Lescallier M. Traite pratique du greement des vaisseauxet autres batiments de mer. Bd 1, Paris, 1741.
Linne S. Zapotecan Antiquities and the Paulson Collection in the Etnographical Museum of Sweden. Publications of the Ethnographie Museum of Sweden, N. S., 4, Stockholm, 1938.
Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803-1806 гг. СПБ, 1812, М., 1947 (Engl. Ubersetzung Lisiansky, London, 1814).
Lizarraga R. de. Description de las Indias. Cr?nica sobre el Antiguo Peru… 1560-1602. Los Pequenos Grandes Libros de Historia Americana, ser. l, Bd 12, Lima, 1946.
Lothrop S.K, Aboriginal Navigation off the West Coast of South America. J. Roy. Anthropol. Inst., Bd 62, s. 229-256, London, 1932.
Macmillan Brown J. The Riddle of the Pacific. London, 1924.
Markham C.R. siehe: Proceedings of the Royal Geographical Society, Bd 14, s. 116-119, London, 1870.
Martius С.F.P. de. Historia Naturalis Palmarum. 3 Bde. Monachii (Munchen), 1823-50.
Means P.A. Pre-Spanish Navigation Off the Andean Coast. American Neptune, Bd 2, Nr 2, 1942.
Meiniсke С. Die Holztafeln von Rapanui. Zs. Ges. f. Erdkunde, Bd 6, s. 548-551, Berlin, 1871.
Merrill E.D. Comments on Cook's Theory as to the American Origin and Prehistoric Polynesian Distribution of Certain Economic Plants, Especially Hibiscus Tiliaceus Linnaeus. Philippine J. Sei., XVII, Manila, 1920.
– The Improbability of pre-Columbian Eurasian-American Contacts in the Light of the Origin and Distribution of Cultivated Plants. Journal of the New York Botanical Garden, Bd 31, s. 209– 212, New York, 1930.
– The Phytogeography of Cultivated Plants in Relation to Assumed pre-Columbian Eurasian-American Contacts. American Anthropologist, Bd 33, Nr 3, s. 375-82, Menasha, 1931.
– Domesticated Plants in Relation to the Diffusion of Culture. Early Man. Philadelphia, 1937.
– Merrilleana. A Selection from the General Writings of Elmer Drew Merrill, ed. by Frans Verdoorn. Chronica Botanica, Bd 10, Nr 3-4, Waltham, 1946.
– Observations on Cultivated Plants with Reference to Certain American Problems. Ceiba, Bd 1, Nr 1, s. 2-36, Tegucigalpa/Honduras, 1950.
– The Botany of Cook's Voyages and Its Unexpected Significance in Relation to Anthropology, Biogeography and History. Chronica Botanica Company, Bd 14, Nr 5-6, Waltham, 1954.
Metraux A. The Proto-Indian Script and the Easter Island Tablets. Anthropos, Bd 33, 1938.
– Ethnology of Easter Island. B.P. Bishop Museum Bulletin 160, Honolulu, 1940.
– Easter Island. A Stone Age Civilization of the Pacific. New York, 1957.
Molina C. de. The Fables and Rites of the Yncas. 1570-84. Hakluyt Soc., Bd 48, London, 1873.
Montesinos F. Memories antiguas historiales del Peru. 1642. Ins Englische ubersetzt und herausgegeben von P.A. Means. London, 1920.
Morgan A.E. Nowhere Was Somewhere. New York, 1946.
Mourant A.E. The Distribution of Human Blood Groups. Springfield, III, 1954 Mullоу W. The Ceremonial Center of Vinapu. In: Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 93-180.
– Rp. 9 in: Heyerdahl und Ferdon, 1965.
Murphy R.C. The Earliest Spanish Advances Southward from Panama along the West Coast of South America. Hispanic. Amer. Hist. Rev., Bd 21, Durham, N. Carolina, 1941.
Nordenskiold E. Picture-writing and Other Documents by Nele and Ruben Perez Kantule. Comparative Etnographical Studies, Bd 7, Gothenburg, 1928.
– Origin of the Indian Civilizations in South America. Сотр. Ethnogr. Stud., IX, Gothenburg, 1931.
Oliva A. Histoire de Perou. 1631. Ubersetzung von Bandelier, Paris, 1857. Ausgabe, Paris, 1910.
Oviedo y Valdes G.F. de. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar oceano (1535-48). 4 Bde. Madrid, 1855.
Pachacuti-Yamqui Salcamayhua J. de Sta Cruz. Relacion de antiguedades deste reyno del Piru. 1620. Ed. M. J. de la Espada, Madrid, 1879.
Palmer J.L. A Visit to Easter Island, or Rapa Nui. Royal Geogr., Soc. Proceedings, Bd 14, s. 108-119, London, 1870.
– Davis or Easter Island. Lit. and Phil. Soc. of Liverpool Proc., Nr 29, s. 275-297, London, 1875.
Paris F.E. Essai sur la construction navale des peuples extra-europeens. Paris, 1841-43.
La Perouse J.F.G. de. A Voyage Round the World Performed in the Years 1785, 1786, 1787, and 1788… 2 Bde, und ein Atlas (Orig. ed. Paris 1797), London, 1798.
Petit-Thouars A. du. Voyage autour du monde sur la fregate La Venus, pendant les annees 1836-1839… 2 Bde., l Bilderatlas, Paris, 1841.
Pinart A. Voyage a l'Ile de Paques. Le Tour du Monde, Bd 36, s. 225-240, Paris, 1878a.
– Exploration de l'Ile de Paques. Bull. Soc. Geogr., ser. 6, Bd 16, s. 193-213, Paris, 1878b.
Pizarro Pedro. Relacion del Descubrimiento y Conquista de los Reinos del Peru. 1571. Collecion de Documentes Inedites para la Historia de Espana, Bd 5. Madrid, 1844 (ins Englishe ubersetzt und mit Anmerkungen versehen von P.A. Means: Relation of Discovery and Conquest of the Kingdoms of Peru. 2 Bde, New York, 1921).
Porter D. Journal of a Cruise made to the Pacific Ocean. Philadelphia, 1815.
Prain D. An account of the genus Argemone. J. Bot., XXXIII, 1895.
Rivet P. Relations commerciales precolombiennes entre l'Oceanie et l'Amerique. Festschrift P.W. Schmidt. Wien, 1928.
– Les origines de l'homme americain. Montreal, 1943.
Rochebrune A.-T. de. Recherches d'ethnographie botanique sur la flore des sepultures peruviennes d'Ancon. Actes Soc. Linn. Bordeaux, ser. 4, Bd 3, Bordeaux, 1879.
Roggeveen J. Extract from the Official Log of the Voyage of Mynheer Jacob Roggeveen, in the Ships Den Arend, Thienhoven and De Afrikaanische Galey, in 1721/22, in so far as it relates to the discovery of Easter Island. 1722, Hakluyt Soc., ser. 2, Nr 13, Cambridge, 1908.
Ross A.S. C. Preliminary notice of some late eighteenth century numerals from Easter Island. Man, Bd 36, Nr 120, 1936.
Roussel H. Vocabulaire de la langue de l'ile de Paques ou Rapa Nui. Le Museon, Nr 2-3, s. 159-254, Lowen, 1908.
– Ile de Paques. Notice par le R.P. Hippolyte Roussel, SS. CC. Apotre de l'ile de Paques
[109]. 1869. Annales de La Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, Nr 305, s. 355-360; Nr 307, s, 423-430; Nr 308, s. 462-466; Nr 309, s. 495-499; Paris, 1926.
Routledge K. The Mystery of Easter Island. The Story of an Expedition. London, 1919.
Saamanos J. de. Relacion de los primeros descubrimientos de Francisco Pizarro у Diego de Almagro: Sacada del codice numero CXX de la Biblioteca Imperial de Viena, 1526. Celleccion, de Documentes Inedites para la Historia de Espana, Bd 5, Madrid, 1844.
Sarmiento de Garnboa P. de. History of the Incas. 1572. Hakluyt Soc., 2. ser., Bd 22, Cambridge, 1907.
Sauer С.О. Cultivated Plants of South and Central America. Handbook of South American Indians, Bd VI, Smithsonian Inst. Bur. Amer. Ethn., Bull, 143. Washington, D. C., 1950.
Shapiro H.L. The Physical Relationship of the Easter Islanders In: Metraux, 1940.
Sharp B. The Dangerous Voyage, and Bold Attempts of Capt. Bartholomew Sharp,… The History of the Buccaneers of America, Bd 2, T. 4, London, 1704.
Simmons R.T., Graydon J.J., Semple N.M. und Fry E.I.A Blood Group Genetical Survey in Cook Islanders, Polynesia, and Comparisons with American Indians. Amer. J. Physical Anthrop., Bd 13, s. 667-690, Philadelphia, 1955.
Skjolsvold A. House Foundations (Hare Paenga) in Rano Raraku. – Site E-2, a Circular Stone Dwelling, Anakena. – The Stone Statues and Quarries of Rano Raraku. 3 Artikel in: Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 291-293, 295-303, 339-379.
Skogman С. Fregatten Eugenies resa omkring jorden aren 1851-53. Bd 1, Stockholm, 1854.
Skottsberg C. The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island. Uppsala, 1920.
– Le peuplement des iles pacifiques du Chili. Soc. de Biogeograph., IV, Paris, 1934.
– Derivation of the Flora and Fauna of Juan Fernandez and Easter Island. The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island, Bd 1, s. 193-438, Uppsala, 1920-1956.
– Paskon. Goteborgs Handels– och Sjofarts-Tidning, 7 Okt., Gothenburg, 1957.
Smith С.S. A Temporal Sequence Derived from Certain Ahu. – Two Habitation Caves. – Tuu-ko-ihu Village. – The Poike Ditch. 4 Artikel m: Heyerdahl und Ferdon, 1961, s. 181– 219, 257-271, 287-289, 385-391.
Spilbergen Joris van. Speculum Orientalis Occidenta-lisque Indiae navigationis, 1614-18. Leiden, 1619.
Stevenson W.B. A Historical and Descriptive Narrative of Twenty Years' Residence in South America. 3 Bde, London, 1825.
Steward J.H. The Comparative Ethnology of South American Indians. Handbook of South American Indians, Bd V, Washington, D. C. 1949.
Stewart C.S. A Visit to the South Seas in the U.S. Ship «Vincennes» during the Years 1829 and 1830. London, 1832.
Stokes J.F. Spaniards and the Sweet Potato in Hawaii and Hawaiian American Contacts. Amer. Anthrop., XXXIV, Nr 4, o. J.
Stonor C.R, und Anderson E. Maize among the Hill Peoples of Assam. Ann. Missouri Bot. Gard., XXXVI, Nr 3, 1949.
Sullivan L.H. Marquesan Somatology with Comparative Notes on Samoa and Tonga. B.P. Bishop Mus. Mem., Bd 9, Nr 2. Honolulu, 1923.
Thomson W.J. Te Pito te Henua, or Easter Island. Rept. U.S. National Museum for the year ending June 30, 1889. Washington, D. C., 1889.
Uhle M. Fundamentes Etnicos y Arqueologia de Arica y Tacna. Universidad Central, Quito, 1922.
Valverde V. Relacion del sitio del Cuzco y principio de las guerras civiles del Peru… 1535 a 1539. Colleccion de Libros Espanoles Raros o Curiosos. Bd 13, Madrid, 1879.
Wafer L. A New Voyage and Description of the Isthmus of America. In: Dampier, 1729, Bd 3.
Wallace A.R. Discussion of Paper Read by Prof. T.H. Huxley. In: Huxley T.: On the Geographical Distribution of the Chief Modifications of Mankind. J. Ethn. Soc. London, N. W., Bd 2, London, 1870.
Weсkler J.E. Polynesian Explorers of the Pacific. Smithsonian Institution War Background Studies, Nr 6. Washington, 1943.
Whitaker T.W. und Bird J.B. Identification and Significance of the Cucurbit Materials from Huaka Prieta, Peru. Amer. Mus. Novitates, Nr 1426. New York, 1949.
Williamson R.W. Essays in Polynesian Ethnology. Ed. by R. Piddington (Cambridge Univ. Press). Cambridge, 1939.
Wittmack L. Uber Bohnen aus altperuanischen Grabern. Sitzungsber. Bot. Ver. d. Prov., XXI. Brandenburg, 1880.
– Unsere jetzige Kenntnis vorgeschichtlicher Samen. Ber. Deutsche Bot. Ges., IV, Berlin, 1866.
– Die Heimath der Bohnen und der Kurbisse, Ber. Deutsche Bot. Ges., VI, Nr 8. Berlin, 1888.
Yacovleff E. und Herrera F.L. El mundo vegetal de los antiguos peruanos. Rev. Mus. Nac., III, Nr 3, Lima, 1934, und IV, Nr l, Lima, 1935.
Zarate A. de. Histoire de la decouverte et de la conquete du Perou. (Orig. od. Antwerpen 1555). Amsterdam, 1700.
Zumbohm G. Lettres du R.P. Gaspard Zumbohm au directeur des Annales sur la mission de l'Ile de Paques. Annales de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, Bd 5, Nr 46, s. 660-667, Okt. 1879; Bd 6, Nr 50, s 117-131, Nr 52, s. 231-242; Nr 54, s. 377-385, Febr. – Juni, 1880, Paris, 1879-1880.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Человек, написавший статьи, собранные в этой книге, несомненно принадлежит к великому и неистребимому племени ученых-романтиков.
Ох уж эти романтики! Они всегда угадывают неожиданное там, где ничего такого «не может быть, потому что этого не может быть никогда». Их логика алогична. Их «знаю» походит больше на «верую». Их интуиция предвосхищает и, вот поди ж ты, случается, даже опровергает, казалось бы, безупречно построенные доводы рассудка. Их теории, концепции, взгляды всегда дерзки, даже парадоксальны, а значит, и «неудобны»! И, будьте покойны, за все это ученые-романтики всегда получают сполна: их критикуют, опровергают, шельмуют, высмеивают, ими возмущаются и пренебрегают, им даже отказывают в праве говорить от имени науки, называют дилетантами, невеждами, фальсификаторами, а то еще и похуже. Выдержать это по силам только настоящему ученому и подлинному романтику.
Тур Хейердал выдержал.
Вот уже 30 лет – с того самого времени, как он, в сущности еще юноша, оказался на Маркизских островах* – Хейердал наперекор всем авторитетам доказывает, что заселение островов Тихого океана шло не только из Азии, но и со стороны Америки. «Американские индейцы в Тихом океане"** – так прямо и назвал Хейердал свое главное исследование, с величайшими трудностями, и то лишь после блистательного рейса на «Кон-Тики», опубликованное им в 1952 году, – исследование, тут же преданное анафеме и осмеянию***. В дружном хоре разгневанных оппонентов лишь изредка раздавались трезвые, уважительные голоса****. Да и как могло быть иначе? Ведь в этой своей книге Тур Хейердал осмелился поднять руку на давно уже утвердившуюся в науке и потому ставшую традиционной, «удобной» и привычной теорию заселения Полинезии исключительно из Юго-Восточной Азии; осмелился взять под сомнение доказательность – ни много, ни мало – всей (!) совокупности аргументов, академическая корректность которых казалась более чем безупречной. Что же это были за аргументы?
(* См. книгу Т. Хейердала об этом путешествии в русском переводе: Т. Хейердал. В поисках рал. М., 1964. ** T. Heyerdahl. American Indians in the Pacific. Stockholm, 1952. *** См., например: J. Hackel. Review in: Anthropos, Bd 51,1956, Fase. 3-4; H. Plisсhke. The colonization of Polynesia – a reply to Thor Heyerdahl. Universitas, vol. I, No. 4, 1953; E. Norhесk. Book review of American Indians of the Pacific by Thor Heyerdahl. In: American Antiquity, vol. XIX, No. 1, 1953; R. Linton. Book review of American Indians in the Pacific by Thor Heyerdahl. In: American anthropologist, vol. LVI, No. 1, 1954; E. D. Merill. The botany of Cook's voyages Chronica Botanica, 1954, vol. 14, No. 5-6; и многие другие. **** См., например: Р. E. de Josselin de Jong. The «Kon-Tiki"theory of Pacific migrations. Bijdragen tot de taal-, land-en vol-kenkunde, Deel 109, 1-е aflevering. S-Gravenhage, 1953.) Своеобразен и необычен мир Полинезии. На безграничных просторах Тихого океана рассыпано бесчисленное множество мелких и мельчайших островов, скопления которых отстоят друг от друга порой на многие сотни и тысячи километров. Как же могло случиться, что острова эти с незапамятных времен были заселены людьми каменного века? То есть людьми, не знавшими ни компаса, ни карт, ни «настоящих» кораблей? Но может быть полинезийцы – всего лишь остатки древнего населения материка, опустившегося ныне на дно Тихого океана? В истории науки такие предположения делались, и не раз. Однако в настоящее время эта гипотеза оставлена, тем более что она не встретила поддержки у геологов и океанологов. Но если гипотеза об автохтонности полинезийцев не выдержала критики, значит, полинезийцы откуда-то приплыли на острова, которые они в настоящее время заселяют. Но откуда? Вопрос этот давно уже волнует умы ученых, исследователей, путешественников. Собственно говоря, возможных вариантов не так уж много: предки полинезийцев, очевидно, могли проникнуть в Тихий океан либо со стороны Азии, либо со стороны Америки.
В соответствии с этим гипотезы заселения Полинезии делятся обычно на «азиатские» и на «американские». На первый взгляд «азиатские» гипотезы выглядят гораздо убедительнее и основательнее. Ведь от американского побережья до ближайших островов Полинезии несколько тысяч километров открытого океана, тогда как от берегов Юго-Восточной Азии до самой Полинезии тянется почти непрерывная цепь архипелагов, отдельных островов и атоллов. Впрочем, это не решающий аргумент.
Сторонники «азиатских» гипотез прежде всего указывают на родство полинезийских и индонезийских языков – факт, впервые установленный Адельбертом фон Шамиcco, немецким писателем, натуралистом и путешественником, участником кругосветной русской экспедиции О.Е. Коцебу 1815-1818 годов. В пользу «азиатского» происхождения полинезийцев говорит как будто и то, что полинезийцам были знакомы свинья, сахарный тростник, куры, хлебное дерево, банан, ямс, таро и ряд других южноазиатских по происхождению элементов культуры, к тому же – что очень важно – неизвестных коренному населению Америки. Наконец, сторонники «азиатских» гипотез указывают и на то, что полинезийцы и народы Юго-Восточной Азии принадлежат к одной монголоидной расе. Таким образом, географические, лингвистические, этнографические и антропологические данные как будто действительно подтверждают предположение о заселении Полинезии выходцами из Азии.
Среди тех, кто искал предков полинезийцев непосредственно в Юго-Восточной Азии, наибольшую известность приобрел выдающийся ученый и крупный общественный деятель Новой Зеландии полумаори-полуирландец Те Ранги Хироа (его европейское имя Питер Бак). Суть гипотезы Те Ранги Хироа в следующем: предки полинезийцев отправились навстречу солнечному восходу от берегов Индонезии, вытесненные оттуда какими-то монголоидными племенами. Их мореходное искусство и судостроительная техника совершенствовались по мере продвижения на восток. Через острова Микронезии предки полинезийцев достигли архипелага Таити. Один из островов этого архипелага, Раиатеа, и стал легендарной прародиной полинезийцев «Гаваики», упоминаемой в преданиях во всех уголках Полинезии. Именно здесь сложилась собственно полинезийская культура, религия и мифология. Отсюда по всем направлениям шла колонизация остальной Полинезии. На карте Те Ранги Хироа изобразил пути заселения Полинезии в виде спрута, голова которого находится на Таити, а восемь щупалец протянулись к различным островам Тихого океана.
Такова гипотеза Те Ранги Хироа. Его книга «Мореплаватели солнечного восхода"* – несомненно лучшая из книг, когда-либо написанных в защиту «азиатской» гипотезы заселения Полинезии. И она убедила многих. Почти всех. Конечно, споры не умолкли и после ее появления. Но это были в основном уже споры о частностях: двигались ли предки полинезийцев через Микронезию, как утверждал Те Ранги Хироа, или южнее, вдоль берегов Новой Гвинеи и островов Меланезии; были ли заселены острова Западной Полинезии – архипелаги Самоа и Тонга – переселенцами с Таити или еще до них предками полинезийцев, продвигавшихся на восток; и т. д. (* См.: Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода. Предисловие С.А. Токарева. М., 1950; То же. Предисловие В.М. Вахты. М., 1959.) Казалось, что вопрос окончательно решен в пользу азиатской прародины. И все же, несмотря на всю свою убедительность, эти гипотезы не дали удовлетворительного толкования некоторым фактам, указывающим на глубокие исторические связи полинезийцев с американскими индейцами. А между тем эти связи так же несомненны, как и связи полинезийцев с миром Юго-Восточной Азии. Сам факт существования таких связей не отрицают и сторонники «азиатских» гипотез. Да и как иначе объяснить, почему по всей Полинезии возделывается батат – культурное растение южноамериканского происхождения. Ведь даже полинезийское название батата «кумара» соответствует южноамериканскому – «кумар». Пресноводный камыш тотора, 26-хромосомный хлопчатник, тыква – растения, также завезенные на острова Полинезии из южной Америки. При этом возможность занесения семян этих растений морскими течениями или птицами в данном случае биологически исключена.
Всякого рода соответствий, совпадений, аналогий между полинезийской культурой и культурами индейской Америки не так уж мало. Однако сторонники «азиатских» гипотез видят во всех этих фактах лишь указание на то, что полинезийцы некогда доплывали до берегов Южной Америки, вступали в контакты с ее населением и возвращались назад. Те Ранги Хироа считал даже, что «этот исключительный подвиг мог быть совершен только один раз».
Но отдавая должное увлеченности Те Ранги Хироа и его единомышленников, следует признать, что такое объяснение полинезийско-американских связей малоубедительно. В самом деле, трудно поверить, чтобы участники всего лишь одной или даже двух-трех случайных экспедиций из Полинезии в Америку усвоили в течение краткого пребывания в незнакомой, скорее всего враждебной, стране и методы выращивания новых земледельческих культур, и необычные приемы архитектурной и скульптурной обработки камня, и созданную чуждым народом и на чуждом языке мифологию. Не только хорошо познакомились с этими и многими другими существенными элементами иноязычной культуры, но и, вернувшись на родину, распространили их по другим архипелагам Полинезии. Тем не менее подобного рода сомнения отходили на задний план каждый раз, когда сторонники «азиатских» гипотез выдвигали свои главные доводы: родство индонезийских и полинезийских языков и отсутствие указаний на то, что индейцы Тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки обладали когда-либо знаниями и искусством, необходимыми для дальних морских путешествий.
Но не прошло и десяти лет после выхода в свет «Мореплавателей солнечного восхода», как Тур Хейердал вместе с пятью спутниками, отплыв из порта Кальяо в Перу, пересек на плоту, построенном по древнеперуанским образцам, Тихий океан с востока на запад и достиг островов Восточной Полинезии. А это значило, что, вопреки общераспространенному мнению, американские индейцы обладали до европейской колонизации достаточными техническими средствами, знаниями и опытом, необходимыми для того, чтобы достичь далекой Полинезии.
Плаванию на плоту предшествовала долгая исследовательская работа. А в последующие годы Хейердал приступил к планомерным археологическим поискам и раскопкам на ближайших к южноамериканскому побережью восточных островах Полинезии. Хейердалу удалось найти немало новых доказательств того, что американо-полинезийские связи отнюдь не были случайным эпизодом в истории заселения островов Тихого океана и что среди предков нынешних полинезийцев несомненно были выходцы и из Южной, а возможно, и из Северной Америки.
Всем этим доказательствам и посвящен сборник, который вы прочитали. Работы, вошедшие в состав сборника, написаны в 1961 –1965 годах, за исключением одной, несколько более ранней. Сборник составлен очень удачно; он дает достаточно полное и всестороннее представление о гипотезе заселения Полинезии, выдвинутой и отстаиваемой Туром Хейердалом. Здесь уместно подчеркнуть, что эту гипотезу нередко относят – кто в пылу спора, а кто по недоразумению – к числу «американских», т. е. таких, согласно которым предками полинезийцеи были аборигены Американского континента. В действительности (и в этом не так уж трудно убедиться, прочитав сборник) одним из важных достоинств и преимуществ гипотезы Хейердала является как раз то, что ее автору удалось преодолеть односторонность и ограниченность как «азиатских», так и «американских» гипотез заселения Полинезии. По сути дела Хейердал впервые в истории проблемы в равной мере учитывает и объясняет и азиатский, и американский компоненты в антропологическом типе, языке и культуре полинезийцев.
Очень важно далее, что советский читатель впервые знакомится со строго научным изложением гипотезы Хейердала во всей ее сложности и многосторонности. Дело в том, что оппоненты Хейердала нередко сосредоточивают свой огонь на популярном изложении гипотезы Хейердала в его широко известных у нас книгах.* Справедливости ради должно отметить, что и в «Кон-Тики», и в «Аку-Аку» Хейердал изложил свои взгляды упрощенно, схематично, чем дал повод к целому ряду досадных недоразумений. (XIII) (* Есть несколько изданий этих книг на русском языке. См., например: Т. Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». М., 1957; он же. Аку-Аку. Тайна острова Пасхи. М., 1959.) Однако с тех пор утекло немало воды. Помимо «Американских индейцев в Тихом океане» вышли в свет: книга об археологических изысканиях на островах Галапагос*, два объемистых тома Отчетов об археологических раскопках в Восточной Полинезии**. Кроме того, различные аспекты гипотезы Хейердала были им научно аргументированы во множестве специальных статей, а также в устных докладах и выступлениях, лишь малая часть которых вошла в настоящий сборник вместе с тремя работами из двух томов вышеназванных Отчетов.
(* T. Heyerdahl and A. Skjolsvold. Archaeological evidence of prespanish visits to the Galapagos islands. Salt Lake City. 1956. ** Reports of the Norvegien Archaelogical Expedition to Easter Island and the East Pacific, vol. 1. Archaeology of Easter Island. T. Heyerdahl, E.N. Ferdon. Eds. Stockholm, 1961; Reports of the Norvegien Expedition Archaeological to Easter Island and the East Pacific, vol. 2. Miscellaneous Papers. T. Heyerdahl and E.N. Ferdоn. Eds. Stockholm, 1965.) Подчиняясь неумолимым фактам, многие серьезные ученые, в том числе и убежденные сторонники той или иной «азиатской» гипотезы заселения Полинезии, признав, что доводы Тура Хейердала не столь легковесны, чтобы ими пренебрегать, нашли необходимым включить американских индейцев в родословную островитян Тихого океана. Любопытно и достойно внимания, что на состоявшемся в 1961 году в Гонолулу X Тихоокеанском научном конгрессе не только было сделано открытое признание, что Южная Америка наряду с Юго-Восточной Азией и прилегающими к ней островами является также важным источником информации о генезисе народов и культур островов Тихого океана. На конгрессе была выражена тревога по поводу более быстрого развития археологических исследований в Южной Америке, причем подчеркивалась острая необходимость оказания возможной помощи при археологических изысканиях в Юго-Восточной Азии*. Это уже больше походит на оборону, не правда ли? (* A. P. Elkin. Pacific Science Association 1961 Congress Oceania, vol. XXXII, No. 3, 1962.) Доброжелательных, хотя и строгих критиков своей гипотезы обрел Хейердал и в нашей стране, где до появления его книг умами исследователей тихоокеанских народов почти безраздельно владел блестящий лидер сторонников азиатского происхождения полинезийцев – Те Ранги Хироа. Обстоятельно и придирчиво взвесив все «за» и «против» гипотезы Хейердала, маститые советские ученые – этнограф С.А. Токарев и востоковед В.И. Брагинский – согласились с главным выводом Хейердала о том, что среди предков полинезийцев были, несомненно, и выходцы из Америки.* Более осторожны в оценке взглядов Хейердала советские ученые С.А. Арутюнов. Н.А. Бутинов, Р.В. Кинжалов, Я.М. Свет.** (* С.А. Токарев. Тур Хейердал и его исследования в Океании, в кн.: Т. Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». М., 1957; В.И. Брагинский. К дискуссии о проблеме заселения Полинезии (обзор литературы вопроса). Краткие сообщения института народов Азии, вып. 61, М., 1963. ** С.А. Арутюнов. Проблемы историко-культурных связей Тихоокеанского бассейна. Советская этнография, Э 4, 1964; Н.А. Бутинов. О «теории белой расы» и о плаваниях с запада на восток в Тихом океане. Там же, N 4, 1963; Р. В. Кинжалов. О статье Тура Хейердала «Ответ «Советской этнографии"». Там же. Я.М. Свет. История открытия и исследования Австралия и Океании. М., 1966.
Но что там ни говори, а новые данные, полученные учеными самых различных специальностей в последние годы, не дают оснований для того, чтобы отвергнуть главный тезис капитана «Кон-Тики». С тем большей горечью приходится отмечать, что некоторые наши этнографы продолжают, то ли по инерции, то ли из каких иных соображений, придерживаться той точки зрения, будто все или почти все, сделанное Хейердалом, находится за рамками настоящей науки. Видимо, именно с этой тенденцией связано появление полной ошибок и искажений книги А. Кондратова «Великаны острова Пасхи» – книги, в которой взгляды Хейердала нарочито рассматриваются по примеру некоторых воинственно настроенных зарубежных оппонентов Хейердала в искаженном донельзя виде.* (* Подробнее о книге А. Кондратова см.: Л.Г. Pозина. Рец. на кн.: А. Кондратов. Великаны острова Пасхи. М., 1966. Советская этнография, Э 6, 1967.) Видимо, именно с этой тенденцией связан и перевод на русский язык книги-памфлета американского ученого Роберта Уокопа.* Уокоп, конечно же не случайно ставит взгляды Хейердала в один ряд с мистическими бреднями мормонов и теософов, с наивными фантазиями безграмотных в научном отношении искателей приключений. И так же не случайно Ю.В. Кнорозов, автор русского предисловия, оппонент номер один Хейердала в нашей стране, как бы лишь вскользь оговорив, что «труды самого Т. Хейердала о Полинезии, конечно, нельзя сопоставлять с писаниями мистиков», тем не менее, не приведя ни единого довода против Хейердала,
заключает, что «некоторые его (то есть Хейердала. – В.Б.) высказывания все же неприемлемы для большинства (?!) советских и зарубежных ученых».** Если бы и в самом деле истина в науке определялась так просто – большинством голосов!
(* R. Wauchope. Lost tribes and sunken continents. Myth and method in the study of American Indians. Chicago, 1962. Русский перевод: Р. Уокоп. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен. Предисловие Ю.В. Кнорозова. М., 1966. ** Там же, стр. 12.
Наконец, именно этой тенденции обязаны мы тем, что многие советские этнографы-океанисты по-прежнему пишут свои работы так, будто проблема заселения Полинезии с востока вообще не заслуживает сколько-нибудь серьезного внимания. Таковы, например, работы И.К. Федоровой об острове Пасхи.* Такова и ее рецензия на Труды археологической экспедиции Хейердала, опубликованная в 1967г. в журнале «Советская этнография"**. Таково освещение проблемы заселения Полинезии в работах Д.Д. Тумаркина*** и некоторых других советских ученых.**** (* И.К. Федорова. Ареои на острове Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1966; она же. Фольклорные памятники острова Пасхи как исторический источник. Автореферат диссертации. Л., 1966. ** Она же. Исследования экспедиции Т. Хейердала в Юго-Восточной Полинезии. Советская этнография, Э 6, 1967. *** Д.Д. Тумаркин. Вторжение колонизаторов в «край вечной весны». М., 1964; он же и Н.Н. Чебоксаров. Антропология и этнография на XI Тихоокеанском научном конгрессе. Советская этнография, Э 1, 1967. **** См., например: С.И. Королев. Вопросы этнографии на X Тихоокеанском научном конгрессе. Советская этнография, Э 5, 1962; К.В. Малаховский. Борьба империалистических держав за тихоокеанские острова. М., 1966 (стр. 19-29); и др.) Не вдаваясь здесь в суть всех «против», я хотел бы обратить внимание читателя лишь на одно, крайне важное на мой взгляд обстоятельство, которое, безусловно, укрепляет позиции Хейердала, хотя сам он упоминает об этом обстоятельстве лишь мимоходом.
Одним из важнейших завоеваний прогрессивной исторической науки является строго научное доказательство закономерности процесса развития общества и культуры, доказательство того, что каждому историческому этапу, каждой стадии этого процесса соответствует вполне определенный уровень развития всех материальных, социальных и духовных форм жизни, находящихся в неразрывной связи и взаимодействии. Стоит напомнить, что не кто иной, как Ю.В. Кнорозов, упорно отвергающий саму мысль о возможности заселения острова Пасхи из Америки, в свое время, защищая им же обоснованное толкование характера письмен майя, опирался в числе прочего и на вывод о стадиальной обусловленности генезиса письменности и подчеркивал, что «письмо, передающее звуковую речь, – явление стадиальное».* Однако в полемике с Хейердалом Кнорозов, говоря об иероглифической письменности пасхальцев, об этом и не вспоминает.** (* Ю. В. Кнорозов. Письменность индейцев майя. М.-Л., 1963, стр. 45. **Он же. Легенды о заселении острова Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1963.) Между тем как раз и прежде всего с общесоциологической точки зрения возникновение письменности, а также, добавим, искусных каменных сооружений на маленьком изолированном от всего мира островке (я имею в виду остров Пасхи) с первобытным по уровню развития производства и общества населением даже не парадоксально, а попросту немыслимо. Столь же социологически наивно выводить всех предков пасхальцев с Маркизских островов, хотя и ближайшего, но, что важнее, одного из самых отсталых в социальном отношении архипелагов Полинезии. А вот в Южной Америке, в мире доинкскик культур, мы обнаруживаем и достаточно высокий для создания иероглифической письменности и каменной архитектуры уровень развития общества и культуры, и саму подобную письменность, и подобную архитектуру.
В свете сказанного постепенное, но неумолимое огрубление, варваризация, если хотите, культуры острова Пасхи (забвение традиций письменности, искусства каменной кладки и многое другое) выглядит закономерным и неизбежным процессом угасания в неадекватных условиях культурных традиций, проникших сюда из более обширного и географически, и демографически и более развитого в социальном и культурном отношении мира. Этим миром могла быть тогда – в первых веках нашей эры – только Южная Америка.
Об этом говорит и наибольшее сходство с доинкскими культурами именно древних (хотя, возможно, и не самых древних) памятников пасхальской культуры. А то, что на острове Пасхи растет несомненно южноамериканский тростник тотора и столь же несомненно американский хлопок (см. комментарии), то, что в записанных испанцами легендах-лоциях южноамериканского побережья содержалось удивительно точное описание острова Пасхи (перечитайте еще раз в настоящем сборнике статью «Роль инкских преданий для испанцев, открывших Полинезию и Меланезию»), и все прочие тому подобные факты – это лишь дополнительные (а не основные!), так сказать, «криминалистические» доказательства правоты Тура Хейердала.
В. М. Бахта
КОММЕНТАРИИ
(I) Результаты серологических исследований (т. е. исследований генетически обусловленного состава крови) среди народов Тихоокеанского бассейна довольно противоречивы. Это связано с тем, что вот уже не одно столетие в сравнительно малые и изолированные популяции островитян интенсивно проникают отдельные лица и целые группы из самых различных стран Европы, Азии и Америки, причем это проникновение не поддается сколько-нибудь точному учету. Однако исследования, на результаты которых ссылается Т. Хейердал, и исследования, результаты которых были опубликованы позже (см. например: R. T. Simmons. Blood group genes in Polynesians and comparisons with other Pacific peoples. Oceania, vol. XXXII, No. 3, 1962, pp. 198-210), или свидетельствуют в пользу гипотезы Хейердала, или, по крайней мере, оставляют вопрос открытым.
Крупнейший советский антрополог Я.Я. Рогинский, оценивая результаты исследований Р. Симмонса (см. Я.Я. Рогинский. О первоначальном заселении Полинезии. По материалам антропологии. Советская этнография, Э 5, 1966, стр. 75-80), придает в своем изложении выводам последнего на мой взгляд, несколько более скептический оттенок, чем они заслуживают. Крайне осторожная форма, в которую Симмонс облекает свои выводы, вызвана не его сомнениями относительно возможного участия индейцев Америки в формировании населения Полинезии (в этом Симмонс как раз не сомневается), а тем, что он, так же как и новозеландский ученый Э. Шарп (подробнее о взглядах Э. Шарпа см комментарии к стр. 97) не верит в преднамеренную массовую колонизацию Полинезии. По мнению Спммонса, пестрота генетических характеристик крови у полинезийцев объясняется именно тем, что Полинезия заселялась случайно немногочисленными и самыми различными по происхождению группами людей с унесенных в открытый океан судов. (См.: R.Т. Simmons. The blood group genetics of Easter islanders (Pascuense) and other Polynesians. Reports of the Norvegian archaeolog. expedition…, vol. 2, 1965, Stockholm, pp. 333-343).
Рогинский указывает также на то, что по некоторым серологическим признакам полинезийцы скорее близки к айнам, нежели к индейцам (см.: Я.Я. Рогинский. стр. 77). Что ж, так называемая айнская проблема далеко еще не решена, и давать категорическое объяснение этим фактам, во всяком случае пока, преждевременно. Однако, видимо, полинезийцев пришло время сравнивать по генетическому составу крови не с индейцами вообще, а с какими-то достаточно ограниченными их группами, если, конечно, время еще не потеряно.
Весьма существен и удачно подчеркнутый Рогинским факт отсутствия сходства по крови у микронезийцев и полинезийцев. Он видит в этом признак слабости серологических доводов в пользу гипотезы Хейердала. «Ведь в этом случае, – пишет Рогинский, – заведомо известно, что в Восточной Микронезии сильна полинезийская примесь». Но противоречит ли это гипотезе Хейердала? Интенсивное смешение микронезийцев с европейцами и азиатами продолжается непрерывно в течение всей колониальной истории Микронезии, т. е. вот уж четыреста лет, если не более (подробнее об этом см.: П.И. Пучков. Население Океании. М., 1967, стр. 115-151).
О генетически чистом типе (или типах) крови у современных микронезийцев говорить просто не приходится. А это значит, что кровь микронезийцев в любом случае не может свидетельствовать ни за, ни против гипотезы Хейердала. К тому же среди ученых до сих пор нет единой точки зрения на происхождение в Микронезии «полинезийской примеси», которая, к слову сказать, обнаруживается не только в антропологическом типе микронезийцев, но и в их языке и культуре. Одни (например, У. Черчилл, А. Кэппел, А. Маршалл) склонны видеть в этой примеси следы первоначального движения предков нынешних полинезийцев на восток в Тихий океан. Другие (их большинство) рассматривают «полинезийскую примесь» как следствие проникновения в Микронезию с востока отдельных групп уже обосновавшегося в Полинезии населения.
(II) Генетическое родство японской керамики с керамикой прибрежных культур нынешнего Эквадора на рубеже IV-III тысячелетий до н. э. можно считать твердо установленным (см.: В. J. Meggers, С. Evans, E. Estrada. Early formative period of Coastal Equa-dor. Smithsonian contributions to anthropology, vol. 1, Washington, 1966).
Как считает советский ученый С.А. Арутюнов, этот удивительный факт можно объяснить, предположив, что лодку рыбаков – древних жителей Японии – некогда отнесло в открытый океан, подхватило течением Куросио и вынесло к эквадорскому побережью Южной Америки, где злосчастные рыбаки слились с каким-то местным племенем рыболовов (см.: С.А. Арутюнов. Древние тихоокеанские связи: миф или действительность? Советская этнография, Э 4, 1967).
Так или иначе культурные контакты (случайные или преднамеренные – это уже вопрос другой) между Азией и Америкой возникали много раньше той эпохи, с которой связывают обычно заселение Полинезии. Действительность (и в который раз!) превзошла самые дерзновенные гипотезы. А ведь предполагаемая лодка неолитических рыбаков Японии могла двигаться только по дуге течений, пересекающей Тихий океан от Азии к Америке. Между тем скептики и по сей день спорят, могли ли выходцы из Азии достичь Америки, плывя по этой, называемой Хейердалом дуге (см. например: В.И. Войтов. Морские пути в Полинезию. Природа, Э 2, 1965).
(III) Увлекательную, полную приключений историю о французе Эрике де Бишопе и его плаваниях в Тихом океане вы сможете прочесть в книгах Б. Даниельссона «Большой риск. Путешествие на «Таити-Нуи» (1962) и Э. де Бишопа «Таити-Нуи» (1966).
(IV) Критика этноботанических доводов Хейердала, выдвинутых им в защиту своей гипотезы, была одно время особенно суровой и непримиримой. Возможно, это произошло и потому, что Хейердал приобрел в лице видного американского ботаника Э. Меррилла убежденного и высоко эрудированного противника своих взглядов. История полемики между Хейердалом, с одной стороны, и Мерриллом и его сторонниками, с другой, рассказана здесь самим Хейердалом с достаточной полнотой и к тому же в весьма увлекательной форме.
Победителем в этом споре, несомненно, стал Хейердал. Данные этноботаники действительно подтверждают американское происхождение ряда культурных растений Полинезии. Особенно примечательна находка американского культурного хлопчатника при раскопках в Мексике в слоях, датируемых шестым тысячелетием (5800) до н. э. (см.: С. E. Smith, R.S. Mасneish. Antiquity of American polyploid Cotton. Science, vol. 143, No. 3607,1964).
Едва ли стоит также оспаривать американское происхождение такой важной земледельческой культуры полинезийцев, как батат. На X Тихоокеанском научном конгрессе Г. Конклин убедительно показал легковесность всех гипотез, согласно которым батат проник в Океанию из Африки или даже наоборот – в Африку из Океании (см.: Н. С. Соnklin. The Oceanian-African hypotheses and the Sweet potato. Plants and the migrations of Pacific peoples. Honolulu, 1963), а Д. Йен, развивая идеи замечательного советского ботаника Н.И. Вавилова, обстоятельно доказал, что центр происхождения батата находится именно в Южной Америке. Что же до Азии и Африки, то не исключено, что батат был занесен туда уже в историческое время испанцами и португальцами (D. E. Yen. Sweet-potato variation and its relation to human migration in the Pacific. Ibidem). Эти примеры конечно, не исключают того, что в проблеме происхождения культурных (и некоторых дикорастущих, но используемых человеком) растений Полинезии еще много неизученного, а потому спорного, неясного и противоречивого Но – и в этом суть – в целом данные этноботаники не противоречат гипотезе Хейердала, как это иногда безапелляционно утверждается.
(V) «Роль инкских преданий для испанцев, открывших Полинезию и Меланезию» и «Вальсовый плот и роль гуар в аборигенном мореходстве Южной Америки» – это, пожалуй, лучшие, самые яркие и самые впечатляющие статьи сборника. Содержащиеся в этих статьях выводы (о том, что испанцы, проникая в Тихий океан, руководствовались и преданиями индейцев, и о том, что индейцы западного побережья Южной Америки были умелыми и опытными мореходами – на бальсовых плотах они бесстрашно уходили в открытый океан), по существу, никем не оспорены. Факты, содержащиеся в этих статьях, свидетельствуют, между прочим, и о том, что американские и европейские ученые зачастую неоправданно недооценивают самобытное мореходное искусство народов Америки и Океании. Недооценка эта ярче всего сказалась, пожалуй, в работах современного новозеландского ученого Эндрью Шарпа, который вот уж который год доказывает, что заселение Полинезии – результат стихийной игры ветра и морских течений. Если согласиться с Шарпом, навсегда унесенные в бурю от родных островов суда незадачливых островитян или гибли в волнах, или же прибивались по воле случая к необитаемым островам и архипелагам. Экипажи таких попавших в беду, но уцелевших судов и образовывали, по Шарпу, первоначальное население новых и новых островов
[110] Эту точку зрения разделяют и некоторые другие видные исследователи тихоокеанских народов, в том числе К.П. Эмори (К.P. Emory. Origin of the Hawaiiens. J. Polynesian soc., vol. 68, No. 1, 1959.) и Р. Симмонс (см. комментарий I). После знакомства с двумя названными работами Хейердала скептицизм Шарпа и его единомышленников в отношении мореходного искусства аборигенов Америки и Океании кажется особенно неоправданным. Естественно, что непреднамеренные – по воле волн и ветра – плавания к необитаемым островам также играли определенную роль в заселении Полинезии. «Но решающую роль в заселении Полинезии, – как верно подчеркивает крупный советский географ Я.М. Свет, – все же сыграли не горе-путешественники, отнесенные ветрами к неведомым берегам, а мореплаватели, которые бороздили Океанию по определенным маршрутам и с определенной целью.» (Я.М. Свет. История открытия и исследования Австралии и Океании. М., 1966, стр. 39). Отметим, что произведенные американским археологом Робертом Саггсом раскопки древнейших поселений на острове Нуку-Хива (Маркизские острова) как будто хорошо подтверждают последнюю точку зрения (см.: R.С. Suggs. The archeology of Nuku Hiva, Marquesas islands, French Polynesia. – Anthropol. papers Am. Museum nat. hist. vol. 49r pt 1, N. Y. 1961; idem. The hidden worlds of Polynesia. N. Y., 1962).
(VI) Более подробно результаты крайне важных для подтверждения гипотезы Хейердала археологических изысканий на островах Галапагос изложены Хейердалом и археологом А. Шельсволдом в работе: T. Heyerdahl and A. Skjolsvold. Archaeological evidence of prespanish visits to the Galapagos islands. (Memoirs of the Soc Am. Arch., No. 12, 1956).
(VII) Предложение Хейердала о том, что так называемые «длинноухие» и «короткоухие» (об ином толковании терминов ханау-момоко и ханау-еепе см. Ю.В Кнорозов. Легенды о заселении острова Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1963) принадлежали к разным народам и разным расовым типам, как будто не подтверждается. Советский ученый Н.А. Бутинов пришел к весьма обоснованному выводу, что пасхальцы делились на «короткоухих» и «длинноухих» не в силу разного происхождения, а что это было «деление внутри одного (полинезийского – В. Б.) народа.» (Н.А. Бутинов. Короткоухие и длинноухие на острове Пасхи. Советская этнография, Э 1, 1960). Похоже, что на это же указывают и результаты антропологических исследований черепов из пасхальских погребений, правда, сравнительно поздних (R. Murri1. A study of cranial and postcranial material from Easter island. Reports of the Norvegien archaeol. expedition to Easter island and the East Pacific, vol. 2).
Но, как справедливо заметил Хейердал, комментируя эту статью Меррилла, независимо от того, «согласимся ли мы с тем, что «длинноухие» и «короткоухие» лишь социальные подразделения, или что это представители различных по происхождению групп населения», между теми и другими существуют вполне определенные различия. (Т. HPуеrdah1. Addendum. Ibidem, p. 327). Впрочем, на выводах Меррилла сказалось, возможно, и то, что все обследованные им черепа были взяты из погребений «короткоухих».
(VIII) К настоящему времени это утверждение, тогда справедливое, уже устарело. В распоряжении ученых-океанистов сейчас целый ряд абсолютных датировок для древних стоянок на островах Полинезии. Все они получены так называемым методом С-14. Этот метод определения абсолютного возраста органических остатков (угля, золы, дерева, костей и др.) основан на том, что в живых тканях животных и растительных организмов соотношение обычного изотопа углерода C12 и радиоактивного изотопа С14 (период полураспада около 5360 лет) строго постоянно, тогда как в мертвых тканях вследствие радиоактивного распада изотопа С14 это соотношение непрерывно изменяется. Определив соотношение C12 и С14, узнают абсолютный возраст археологического памятника, содержащего органические остатки.
Известный археолог-океанист Роберт Саггс (упорный оппонент Хейердала) приводит следующие древнейшие для Полинезии даты: для Маркизских островов – примерно 150 год до н. э.; для Гавайских островов –120 год н. э.; для островов Самоа – I век н. э.; для острова Пасхи – IV век н. э., и т. д. (R.С. Suggs. The archeology of Nuku Hiva, pp. 174-175).
Число анализов и полученных по методу С-14 датировок быстро растет. Иногда полученные таким образом датировки противоречат друг другу и другим данным (см., например: Y.H. Sinoto. A tentative prehistoric cultural sequence in the Northern Marquesas islands. The Y. Polynesian Soc., vol. 75, No. 3, 1966). Поэтому делать заключения, даже предварительные, пока во всяком случае еще рано. Но один очень важный вывод уже можно сделать: оказывается, человек заселил Полинезию по меньшей мере на добрую тысячу лет раньше, чем думали еще 10-15 лет тому назад!
(IX) То, что статуи Маркизских островов были созданы, по-видимому, много позже статуй острова Пасхи (наличие полученных методом С-14 дат достаточно убедительно) – обстоятельство, крайне важное, так как многие оппоненты Хейердала в поисках ближайшей (неамериканской!) суши невольно обращают свои взоры к Маркизским островам как к месту исхода предков пасхальцев (см., например: И.К. Федорова. Фольклорные памятники острова Пасхи как исторический источник, стр. 6. Она же. Исследования экспедиции Т. Хейердала в Юго-Восточной Полинезии. Советская этнография Э 6, 1967, стр. 144; R.С. Suggs. The island civilizations of Polynesia. N.Y., 1960, pp. 226-227 etc.: idem. Archeology of Nuku Hiva, pp. 193 etc). Особенно активен и настойчив в этом отношении Кеннет Эмори (К.Р. Emorу Origin of the Hawaiiens; idem. East Polynesian relationships. Ibidem. 1963, vol. 72, No. 2; idem, and Y.H. Sinoto. Eeastern Polynesian burials at Maupiti. Ibidem, vol. 73, No. 2. 1964). Стремясь во что бы то ни стало опровергнуть результаты раскопок Хейердала и его коллег на о. Пасхи, Эмори даже пустил в оборот совершенно несуразное предположение о том, что знаменитый оборонительный ров Поики был, якобы, всего-навсего обычной в Полинезии канавой для выращивания клубневой культуры таро (см. К.P. Emory and Y.H. Sinoto. Implications of recent archaeological finds in East Polynesia. A paper delivered at the American Anthropol. Association Annual Meeting, November 21-24, 1965, p. 4).
(X) Следует подчеркнуть, что Хейердал здесь абсолютно прав. Даже те лингвисты, которые явно склонны к переоценке возможностей лексикостатистики и глоттохронологии, невольно констатируют в историографических разделах своих работ поразительную разноголосицу среди исследователей, пытающихся установить генетическое соотношение полинезийских языков и диалектов между собой и с языками других народов (см., например: G.W. Grасе. The linguistic evidence. Current anthropology, vol. 5, No. 5, 1964; R. Green. Linguistic suhgrouping within Polynesia: the implications for prehistoric settlement. J. Polynesian soc., vol. 75, No. 1.1966).
Крайний разнобой в лингвистических характеристиках полинезийских языков хорошо виден и из обзора классификаций их в книге П.И. Пучкова «Население Океании» (стр. 32-35). В связи с этим нельзя не согласиться с немецким ученым X. Келером в том, что «лингвистические исследования сами по себе не могут дать удовлетворительных результатов в решении проблемы происхождения и миграций полинезийцев, меланезийцев и микронезийцев» (H. Kehler. Comments. Current anthropology, vol. 5, No. 5, 1966, p. 393).
Существенным пороком лингвистических исследований в Полинезии методами лексикостатистики и глоттохронологии является и то, что авторы гипотетических генетических схем, исследуя ныне распространенные в Полинезии полинезийские языки и расстанавливая эти языки в том или ином порядке, не рассматривают проблемы существования, если не сейчас, то в прошлом неполинезийского языкового компонента в Полинезии. А в этом ведь как раз и заключается суть гипотезы Хейердала. Поэтому любые выводы, сделанные на основе подобного рода лингвистических исследований, не могут опровергнуть гипотезу Хейердала просто потому, что они бьют мимо цели.
(XI) Если отвлечься от истории вопроса, то основной смысл статьи – в утверждении Хейердала, что пасхальская письменность имеет неполинезийское происхождение. Это, конечно, пока гипотеза, но гипотеза, заслуживающая внимания хотя бы из-за соображений, приведенных в послесловии.
Немало места в статье уделено предпринимавшимся различными исследователями попыткам прочтения пасхальских дощечек, в частности попыткам увязать тексты дощечек с записанными вариантами легенд, преданий, верований, родословных. В связи с этим приходится отметить, что при оценке фольклора пасхальцев обе стороны – и Хейердал, и его оппоненты, видимо, проявляют известную неосторожность. Обязательно ли должны присутствовать в фольклоре острова Пасхи неполинезийские элементы и мотивы? Хейердал полагает, что обязательно. Доказывает ли, с другой стороны, отсутствие таких мотивов и элементов, что население острова Пасхи всегда было строго полинезийским?
Советские ученые H.А. Бутинов, Ю.В. Кнорозов, И.К. Федорова в этом не сомневаются (см., например: Н.А. Бутинов. Короткоухие и длинноухие на острове Пасхи; Ю.В. Кноpозов. Легенды о заселении острова Пасхи; И.К. Федорова. Ареои на острове Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1966). Кажется, однако, что и на тот, и на другой вопрос правильнее дать отрицательный ответ. И вот из каких соображений. Обзор легенд о заселении острова Пасхи, собранных и записанных Т. Жоссаном, У. Томсоном, С. Раутледж, А. Метро, С. Энглертом, Ф. Фельбермайером и некоторыми другими исследователями, привел Ю.В. Кнорозова к выводу, с которым едва ли нужно спорить: все рассмотренные легенды «имеют чисто полинезийский характер» (Ю.В. Кнорозов. Легенды о заселении острова Пасхи, стр. 153). Собственно, так и должно быть: ведь нынешнее население острова – полинезийцы и только полинезийцы. Совсем не обязательно, чтобы в современном полинезийском фольклоре сохранялся неполинезийский субстрат. Но в сколь глубокую древность можно проникнуть, опираясь на анализ фольклора острова Пасхи? Можно ли, опираясь на полинезийский характер местного фольклора, заключить, что полинезийцы здесь были с самого начала? Разве древняя традиция не могла или даже не должна была быть прервана?
Следует учитывать и еще одно существенное обстоятельство. Вторжение элементов нового (например, библейских мотивов под влиянием миссионерских проповедей или не свойственных аборигенам географических знаний после первого контакта с европейскими морепроходцами) в старые легенды, предания, вообще в устную традицию происходит удивительно быстро, и далеко не всегда ученым удается «поймать» момент и причину внедрения нового, инородного в старое, традиционное. А бесхитростные энтузиасты ученые склонны порой рассматривать это новое как неотъемлемую часть подлинно древней традиции. Любопытные примеры этому привел недавно Грегори Денинг (см: G. Dening. Ethnohistory in Polynesia. J. Pacific History, vol. 1. Canberra, 1966, pp. 32-33 etc.).
(XII) Над раскрытием характера письменности ронго-ронго работали советские ученые Б.Г. Кудрявцев, Д.А. Ольдерогге, Н.А. Бутинов, Ю.В. Кнорозов (Б.Г. Кудрявцев. Письменность острова Пасхи. Сб. Музея антропол. и этногр., вып. XI, М.-Л., 1949; Д.А. Ольдерогге. Параллельные тексты некоторых иероглифических таблиц с острова Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1947; Н.А. Бутинов и Ю.В. Кнорозов. Новые материалы об острове Пасхи. Советская этнография, Э 6, 1957; Они же. Предварительное сообщение об изучении письменности острова Пасхи. Советская этнография, Э 4, 1956; Н.А. Бутинов. Иероглифическая письменность острова Пасхи. Вестник истории мировой культуры, Э 3, 1959. Он же. Длинноухие и короткоухие на острове Пасхи). Немало интересных предположений было сделано этими учеными и относительно содержания пасхальских дощечек. Однако никто из них не подверг сомнению полинезийское происхождение письменности ронго-ронго. Да и вообще, насколько мне известно, никем еще не был предпринят серьезный поиск лингвистического ключа к содержанию ронго-ронго в южноамериканской археологии и этнографии. Это, будем надеяться, дело будущего.
(XIII) Только подобного рода недоразумением можно объяснить, что некоторые критики гипотезы Хейердала обвиняют его в расизме (?!), утверждая, что Хейердал приписывает создание древних цивилизаций Центральной и Южной Америки «белым рыжебородым» пришельцам из далекого Средиземноморья, а американских индейцев считает неспособными на это. Все это просто неверно. Дело в том, что у майя, ацтеков, чибча, инков и многих других народов Центральной и Южной Америки действительно были распространены легенды и предания, согласно которым творцами и хранителями наивысших достижений индейской культуры были будто бы пришлые немногочисленные группы людей, резко отличных но своему физическому типу от основной массы монголоидного населения. В числе важнейших отличительных признаков во внешнем облике этих людей легенды согласно указывают светлый (белый) цвет кожи и рыжую бороду.
Нередко эти же признаки приписывались индейцами местным богам. Схожие представления о людях и богах европеоидо-подобного облика есть и в полинезийских преданиях и мифах. Но, может быть, мотив «белых рыжебородых пришельцев» был привнесен в индейские легенды и предания полинезийцев уже в новое время в связи с вторжением в Америку и Полинезию европейских колонизаторов и христианских проповедников? Этот существенный, на первый взгляд, аргумент не трудно отвести. В самом деле. Не случайно же инки приняли завоевателя Перу, испанского конкистадора Писарро и его бандитов-солдат за вернувшихся к ним богов, а гавайцы равным образом увидели в английском мореплавателе Джемсе Куке своего бога Лоно. Но, что решает дело окончательно, информация о бородачах европеоидо-подобного облика содержится не только в легендах и преданиях, но и в древних памятниках изобразительного искусства Центральной и Южной Америки.
В книге «Американские индейцы в Тихом океане» Хейердал на 125 страницах свел воедино огромное число фактов, судя по которым в реальном существовании таинственных бородачей едва ли можно сомневаться. Кто же они и откуда они пришли?
Пока загадка остается загадкой. Хейердал отнюдь не бьется за то, что это были представители высшей «белой» расы, облагодетельствовавшие американских монголоидов-варваров. Он лишь называет несколько возможных направлений поиска и в том числе ставит (только ставит!) вопрос о теоретической возможности проникновения какой-то группы древних европеоидов в Америку через Атлантический океан. Впрочем, и тут Хейердал крайне осторожен, особо подчеркивая, что нет достаточных оснований считать «бородачей» кавказоидами (термин, синонимичный термину «европеоиды») ; поэтому он называет их «подобными кавказоидам» (Caucasian-like), скорее с целью обратить внимание на немонголоидные и ненегроидные черты в их облике (T. Heyerdahl. The American Indians in the Pacific, p. 225). Собственно говоря, Хейердала интересует совсем другое: то, что легенды о людях и богах европеоидо-подобного облика имеют хождение не только в Америке, но и в Полинезии! При этом, если в американских легендах эти люди (или боги) в некоторый момент уходят (или уплывают в океан), то в Полинезии они, наоборот, в некоторый момент появляются, приплывают из-за горизонта как выходцы из некой жаркой, засушливой страны. В совокупности этих вот фактов. Хейердал не без оснований видит еще одно доказательство генетической общности населения Америки и островитян Полинезии. Спрашивается, при чем же здесь расизм? Добавлю в заключение, что наличие европеоидо-подобных черт у части полинезийцев так или иначе признается всеми исследователями Полинезии, в том числе и столь убежденными противниками гипотезы Хейердала, как например, Те Ранги Хироа (см.: Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода. М., 1959, стр. 22-27).
В. М. Бахта
Редактор Л.П. Жданова Художник Ю.С Детинкин Художественный Редактор В.А. Евтихиев Технический редактор И.К. Пелипенко Корректоры Е.П. Баскакова и В.С Игнатова
Типография им Анохина Управления по печати при Совете Министров Карельской АССР г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4







Тор Хейердал
Путешествие на "Кон-Тики"
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга норвежского этнографа Тора Хейердала посвящена описанию предпринятого им вместе с пятью товарищами в 1947 году путешествия на плоту от берегов Перу до островов Полинезии. По исключительной решительности и умению, с которыми участники экспедиции совершили, пользуясь ничтожным материальным оборудованием, опасное морское плавание через Тихий океан, это путешествие является одной из самых смелых и выдающихся научных экспедиций последнего столетия.
На простом плоту из девяти бревен, скрепленных веревками из стеблей растений, с простым прямым парусом исследователи прошли 4 300 морских миль от берегов Южной Америки до островов Полинезии. Они проплыли на плоту вдвое больше, чем Колумб во время его первого путешествия к островам Вест-Индии, которое он совершил на хорошо оснащенных мореходных кораблях, хотя и небольших по размеру.
Успех плавания плота Хейердала был обусловлен точным анализом взаимодействия течений и ветров этой части Тихого океана, и по глубине научного предвидения и смелости предприятия эту экспедицию можно сравнить только с дрейфом через Северный Ледовитый океан, выполненным в 1893–1896 годах другим норвежцем — Фритьофом Нансеном.
Целью экспедиции Хейердала было доказать, что древние жители Перу могли доплыть на своих плотах до островов Полинезии. Хейердал принадлежит к группе этнографов, придерживающихся «американской» гипотезы о происхождении полинезийцев. Эти ученые считают, что острова Океании были заселены выходцами из Южной или Северной Америки. Противники этой гипотезы прежде всего указывали на отсутствие у древних жителей Америки и в особенности у жителей тихоокеанского побережья мореходных судов.
Хейердал, пытаясь опубликовать свою монографию об американском происхождении полинезийцев, встретил в научных кругах, придерживающихся общепринятой гипотезы об азиатском происхождении полинезийцев, резкую оппозицию и, чтобы доказать свои предположения, решил прежде всего опровергнуть возражение о невозможности плавания из Перу в Полинезию на примитивных перуанских судах. И он блестяще доказал, что на плоту, ничем не отличающемся от древнего перуанского, можно проплыть, пользуясь течением и пассатными ветрами, почти до центра Полинезии.
Но, как пишет в послесловии и сам Хейердал, он доказал этим только мореходные качества бальсовых плотов. Для доказательства американского происхождения полинезийцев нужно было более солидное научное обоснование, и этому вопросу Хейердал посвятил специальное большое исследование, которое до его путешествия никто не хотел опубликовать и которое после шумного успеха экспедиции, подкрепленное новыми данными, было опубликовано в 1952 году.
Как доказывают защитники гипотезы азиатского происхождения полинезийцев, язык и вся культура связывает их с народами южной Азии.
По своему антропологическому типу полинезийцы близки к южноазиатской группе монголоидной расы, но имеют примесь австролоидных черт, в то время как индейцы Америки, также монголоидного происхождения, не имеют этой австролоидной примеси. Язык полинезийцев, их мифы, предания, предметы материальной культуры — все это ясно указывает на то, что они выходцы из Азии, а не из Америки. Все домашние животные и культурные растения (кроме батата) занесены полинезийцами из Индонезии и Меланезии: до их появления атоллы Полинезии были почти лишены растительности. Все это также подтверждает, что древней родиной полинезийцев является Юго-Восточная Азия. Жители азиатского побережья и островов Индонезии издавна были хорошими мореплавателями и на своих быстроходных пирогах постепенно проникли далеко на восток, заселив в конце концов почти все острова Тихого океана.
Хейердал в описании путешествия на «Кон-Тики» и в опубликованной научной работе приводит большое количество доказательств связи Полинезии с Америкой. Эти материалы, безусловно, очень интересны и заслуживают внимания со стороны специалистов и дальнейшего изучения. Но некоторые параллели, проводимые им между культурой полинезийцев и древних жителей Южной и Северной Америки, являются очень спорными.
Слишком смело, например, Хейердал обращается с материалами по острову Пасхи (которые изложены отчасти и в настоящей книге). Полинезиец-этнограф Те Ранги Хироа в своей книге «Мореплаватели солнечного восхода», выпущенной в русском переводе в 1950 году, приходит к выводу, что культура острова Пасхи имеет тесную связь с другими островами Полинезии. «Длинноухие», которых Хейердал считает выходцами из Перу, пришли с Маркизских островов, где широко распространены тяжелые ушные украшения. «Короткоухие» — выходцы с острова Мангаревы, жители которого не прокалывают себе ушей. Жители Маркизских островов воздвигали у себя на родине громадные статуи и опорные стены, и то же продолжали они делать и на острове Пасхи. Остальные факты объясняются так же просто без привлечения связей с культурой Перу.
Но для некоторых фактов действительного сходства надо предполагать существование в прошлом непосредственного контакта жителей Америки и Полинезии. Так, несомненно, что сладкий картофель, батат или кумара, завезен из Америки в Полинезию еще до кругосветных плаваний европейцев; что некоторые вещи, обнаруженные при раскопках древних поселений в Южной Америке, указывают на связь с Полинезией.
Сторонники «азиатской» гипотезы уже давно предполагали, что полинезийцы, изумительно смелые мореплаватели, могли на своих пирогах доходить до берегов Южной Америки. Полинезийцы совершали и совершают на своих пирогах громадные переходы между островами Полинезии — вплоть до Гавайских островов на северо-востоке и острова Пасхи на юго- востоке, с радиусом плаваний до 2 500 морских миль. Например, еще недавно пять братьев с острова Пасхи проплыли в простой рыбачьей пироге от этого острова до Таити (что превышает расстояние от острова Пасхи до Южной Америки, равное 2 030 милям) и вернулись обратно. Теперь, после экспедиции Хейердала, следует считать доказанным, что и отдельные группы перуанцев могли попадать на плотах в Полинезию.
Гипотеза об азиатском происхождении полинезийцев, несмотря на экспедицию Хейердала и появление его книги, по-прежнему является наиболее обоснованной.
Но Хейердал собрал много новых фактов для подтверждения «американской» гипотезы, и дело будущих исследователей решить, как велика доля американского элемента в культуре полинезийцев и в формировании этого народа.
Путешествие Хейердала надо считать одним из самых замечательных и смелых научных предприятий нашего времени, а книгу его — самой увлекательной повестью о путешествии. Недаром за шесть лет — со времени появления первого норвежского издания в 1948 году и до середины 1954 года — книга Хейердала вышла за рубежом во многих изданиях общим тиражом более 2 500 тысяч экземпляров: тираж до сих пор неслыханный и немыслимый в капиталистическом мире для книги о научной экспедиции.
С. В. Обручев

Глава 1
ТЕОРИЯ
Взгляд на прошлое. — Старик с острова Фату-Хива. — Ветер и течение. — Поиски Тики. — Кто заселил Полинезию? — Загадка Южного моря. — Теория и факт. — Легенда о Кон-Тики и белой расе. — Начало войны.
Иногда вы оказываетесь в необычайном положении. Все происходит постепенно, самым естественным образом; и когда уже нет никакого возврата, вы вдруг приходите в удивление и спрашиваете себя, как вы до этого дошли.
Так, например, если вы пускаетесь в плавание по океану на деревянном плоту с попугаем и пятью спутниками, то раньше или позже неизбежно случится следующее: одним прекрасным утром вы проснетесь в океане, выспавшись, быть может, лучше обычного, и начнете думать о том, как вы тут очутились.
Одним таким утром я сидел, записывая в мокром от росы судовом журнале:
«17 мая. День независимости Норвегии. Море бурное. Ветер свежий. Сегодня я исполняю обязанности кока и нашел семь летучих рыб на палубе, одного кальмара на крыше каюты и одну неизвестную рыбу в спальном мешке Торстейна…»
Тут карандаш остановился, и неизбежная мысль стала подкрадываться: странное, однако, семнадцатое мая; поистине обстановка весьма забавная. С чего это все началось?
Слева перед моим взором расстилался необъятный простор синего океана с шипящими волнами, которые катились совсем рядом, беспрестанно преследуя убегающий горизонт. Когда я оборачивался вправо, я видел темную каюту и бородатого человека, который лежал в ней на спине и читал Гёте; пальцами голых ног этот человек крепко упирался в решетчатый переплет в низкой бамбуковой крыше маленькой шаткой каюты, являвшейся нашим домом.
— Бенгт, — сказал я, отталкивая зеленого попугая, который хотел усесться на судовой журнал, — можете вы объяснить мне, на кой черт мы тут очутились?
Томик Гёте опустился под золотисто-рыжую бороду.
На кой черт я очутился, вы сами лучше знаете. Это все ваша проклятая идея, но я думаю, что это грандиозная идея.
Он задрал ноги еще на три перекладины выше и продолжал невозмутимо читать. По ту сторону каюты трое других моих спутников что-то делали на бамбуковой палубе под палящими лучами солнца. В одних трусах, коричневые от загара, обросшие бородой, с полосами соли на спине, они имели такой вид, словно всю жизнь занимались тем, что плавали на деревянных плотах по Тихому океану на запад. Согнувшись, в каюту вошел Эрик с секстантом и пачкой бумажек в руках:
— Восемьдесят девять градусов сорок шесть минут западной долготы, восемь градусов две минуты южной широты — неплохо прошли, ребята, за сутки!
Он взял у меня карандаш и нанес маленький кружок на карте, висевшей на бамбуковой стене; маленький кружок в конце цепи из девятнадцати кружков, извивавшейся на карте, начиная от порта Кальяо в Перу. Герман, Кнут и Торстейн также поспешили протиснуться внутрь, чтобы взглянуть на новый маленький кружок, переместивший нас на добрых 40 морских миль ближе к островам Южного моря
[111].
— Видите, ребята? — гордо произнес Герман. — Это означает, что мы находимся на расстоянии восьмисот пятидесяти миль от берегов Перу.
— А до ближайших островов по курсу остается еще три тысячи пятьсот, — предусмотрительно добавил Кнут.
— И чтобы быть вполне точным, — сказал Торстейн, — мы находимся на пять тысяч метров выше дна океана и на сколько-то метров ниже луны.
Итак, теперь мы точно знали, где мы, и я мог продолжать свои размышления о том, почему мы тут очутились. Попугаю ни до чего не было дела; ему только хотелось вцепиться в судовой журнал. А вокруг простирался все тот же синий океан под синим куполом неба.
Возможно, все началось прошлой зимой в кабинете одного из нью-йоркских музеев. А может быть, начало было уже положено десять лет тому назад на маленьком острове из группы Маркизских, посреди Тихого океана. Может быть, мы пристанем теперь к этому же острову, если только северо-восточный ветер не отнесет нас южнее, по направлению к Таити и архипелагу Туамоту. Перед моим мысленным взором ясно вставал островок с его скалистыми горами ржаво-красного цвета, зелеными зарослями, спускавшимися по склонам к морю, и стройными пальмами, которые приветственно покачивались на берегу. Островок назывался Фату-Хива; между ним и тем местом, где мы сейчас находились, не было никакой суши, но он отстоял от нас на тысячу миль. Я видел узкую долину Оуиа как раз там, где она спускалась к морю, и вспоминал, как мы сидели на пустынном берегу и смотрели из вечера в вечер на этот же безбрежный океан. Тогда меня сопровождала жена, а не бородатые пираты, как теперь. Мы собирали всевозможных животных, а также рисунки, статуи и другие памятники погибшей культуры. Я прекрасно помню один вечер. Цивилизованный мир оказался таким непостижимо далеким и нереальным. Мы жили на острове уже почти год; кроме нас, здесь не было белых; мы добровольно отказались от всех благ цивилизации, как и от ее зол. Мы жили в хижине, которую построили для себя на сваях, в тени пальм на берегу, и ели то, чем могли снабдить нас тропические леса и Тихий океан.
Суровая, но полезная школа дала нам возможность познакомиться со многими загадками Тихого океана. Я думаю, что и в физическом и в умственном отношении нам часто приходилось повторять опыт первобытных людей, которые явились на эти острова из неизвестной страны и полинезийские потомки которых безраздельно властвовали над островным царством, пока не появились европейцы с библией в одной руке и с порохом и водкой в другой.
В тот вечер мы сидели, как это часто случалось и раньше, на берегу при свете луны, и океан расстилался перед нами. В этой обстановке, полной романтики, все наши чувства были обострены. Мы впитывали в себя запахи буйной растительности джунглей и соленого океана, мы слышали шелест ветра среди листьев в макушках пальм. Через правильные промежутки времени все другие звуки заглушались шумом бурунов, которые
вздымались прямо перед нами, обрушивались, пенясь, на берег и разбивались на пенящиеся круги в прибрежной гальке. Некоторое время слышался рев, грохот и скрежет среди бесчисленного множества сверкавших в лунных лучах камешков; затем все опять стихало, когда океан отступал, чтобы собраться с силами для нового натиска на непобедимый берет.
— Странно, — сказала жена, — но на том берегу острова никогда не бывает бурунов.
— Да, — ответил я, — но здесь наветренная сторона; прибой всегда бывает с этой стороны.
Мы продолжали сидеть и любоваться океаном, который, казалось, решил настойчиво, без конца повторять нам, что он катит свои волны с востока.
востока, востока. Извечный восточный ветер, пассат, волновал поверхность океана, вздымая валы и катя их вперед; они появлялись из-за горизонта с востока и уходили дальше, к другим островам. Здесь перед нами волны океана, раньше не встречавшие никаких препятствий, разбивались об утесы и рифы, между тем как восточный ветер просто поднимался над берегом, лесами, горами и без всяких помех продолжал свой путь к западу, от острова к острову, в сторону заходящего солнца.
Так испокон века шли волны и легкие облака из-за горизонта с востока. Первые люди, достигшие здешних островов, хорошо знали, что это именно так. Птицы и насекомые также знали, а на растительность островов это обстоятельство оказывало решающее влияние. А сами мы знали, что далеко- далеко за горизонтом, к востоку, откуда появляются облака, простирается открытый берег Южной Америки. Он находился на расстоянии 4 300 морских миль, и между ним и нами не было ничего, кроме океана.
Мы смотрели на проносившиеся облака и на залитое лунным светом волнующееся море и прислушивались к рассказу полуголого старика, который сидел на корточках, устремив свой взгляд вниз, на затухающий жар маленького костра.
— Тики, — ровным голосом говорил старик, — был и богом и вождем. Это Тики привел моих предков на острова, на которых мы теперь живем. Раньше мы жили в большой стране за морем.
Старик пошевелил палкой угли, чтобы не дать им погаснуть. 0.н сидел размышляя. Он жил в прошлом и был прочно связан с ним. Он поклонялся своим предкам и их подвигам тех далеких времен, когда предки были ботами. А в будущем он надеялся соединиться с ними. Старый Теи Тетуа был единственным оставшимся в живых представителем вымерших племен, раньше населявших восточный берег острова Фату-Хива. Он сам не знал, сколько ему лет, но его морщинистая, словно дубленая коричневая кожа имела такой вид, как будто она сушилась на солнце и ветре сотню лет. Он был, конечно, одним из немногих жителей этих островов, помнивших легендарные рассказы отцов и дедов о великом полинезийском вожде — боге Тики, сыне солнца, и веривших в них.
Когда этой ночью мы легли спать в маленькой хижине на сваях, рассказы старого Теи Тетуа о Тики и древней родине островитян за океаном продолжали навязчиво звучать в моих ушах под аккомпанемент глухого рычания отдаленного прибоя. Они звучали, как голос давно минувших дней, который, казалось, что-то нашептывал в ночной тиши. Я не мог заснуть. Время как будто перестало существовать, и Тики со своими мореплавателями впервые высаживался в пене прибоя на берег острова. Вдруг меня осенила одна мысль, и я сказал жене:
— Слушай, ты обратила внимание на то, что громадные каменные изображения Тики наверху в джунглях изумительно похожи на гигантские монолитные статуи, памятники исчезнувших цивилизаций в Южной Америке?
Я был уверен, что рев бурунов подтвердил мои слова. А потом я мало-помалу перестал их слышать и заснул.
Вероятно, с этого все и началось. Во всяком случае, с этого началась цепь событий, которая в конце концов привела к тому, что шесть человек и зеленый попугай отплыли на плоту от берегов Южной Америки.
Я помню, как испугался мой отец и удивились моя мать и друзья, когда, вернувшись в Норвегию, я передал свои банки с насекомыми и рыбами, привезенными с Фату-Хивы, Зоологическому музею университета. Я решил бросить зоологию и взяться за изучение первобытных народов. Нераскрытые тайны Южного моря пленили меня. Ведь должно же существовать какое-то разумное объяснение их — и я поставил себе целью изучить все, что было известно о легендарном герое Тики.
В последующие годы буруны и полуразрушенные памятники в джунглях были для меня чем-то вроде далекого призрачного сна, который представлял собой фон и аккомпанемент к моим занятиям племенами, населявшими острова Тихого океана. Попытки понять мысли и поведение первобытных людей лишь с помощью книг и музейных коллекций, конечно, тщетны, но столь же тщетны были бы усилия современного исследователя на собственном опыте постичь всю премудрость, которая собрана в книгах, занимающих одну полку.
Научные труды, хроники эпохи первых исследований, бесчисленные коллекции в музеях Европы и Америки представляли обильный материал, который мог помочь в решении занимавшей меня загадки. Начиная с того времени, как европейцы, после открытия Америки, впервые достигли островов Тихого океана, ученые всех специальностей накопили огромную массу фактов о жителях Южного моря и о всех народах, населявших окружающие страны. Но мнения ученых резко расходились и в вопросе о происхождении этого обособленного островного населения и в объяснении причин, по которым этот тип людей встречается лишь на изолированных островах в восточной части Тихого океана.
Когда первые европейцы рискнули, наконец, пересечь величайший из всех океанов, они, к своему удивлению, обнаружили, что в центральной части океана расположено множество маленьких гористых островов и низких коралловых рифов, отделенных друг от друга и от всего света огромными пространствами воды. И каждый из этих островов был населен людьми, которые пришли туда раньше европейцев, — высокими красивыми людьми, встречавшими их на берегу с собаками, свиньями и домашней птицей. Откуда они явились? Они говорили на языке, которого никто не знал. Европейцы, беззастенчиво называвшие себя первооткрывателями этих островов, нашли на них возделанные поля и деревни с храмами и хижинами. На некоторых островах были даже обнаружены древние пирамиды, мощеные дороги и высеченные из камня фигуры вышиной с четырехэтажный дом. Но объяснения всех этих тайн не было. Что это за народ? Откуда он пришел?
Можно уверенно сказать, что ответов на эти вопросы было почти столько же, сколько имелось посвященных им трудов. Специалисты по разным отраслям науки предлагали самые различные решения проблемы, но все их теории не выдерживали критики ученых, которые работали в других областях знания. Малайя, Индия, Китай, Япония, Аравия, Египет, Кавказ, Атлантида, даже Германия и Норвегия всерьез выдвигались в качестве родины полинезийцев. Но каждый раз находился «камень преткновения» решающего характера, и всё построение рассыпалось в прах.
А там, где останавливается научное познание, начинает свою работу воображение. Таинственные монолиты на острове Пасхи и все остальные памятники неизвестного происхождения, найденные на этом маленьком, открытом всем ветрам уединенном острове, который лежит на полпути между ближайшими островами и берегом Южной Америки, даль пищу для самых различных теорий. Некоторые исследователи обратили внимание на то, что находки на острове Пасхи во многом напоминают памятники доисторической цивилизации Южной Америки. Может быть, когда-то между островом и материком существовал мост из суши, который впоследствии опустился? Может быть, остров Пасхи и все другие острова Южного моря, на которых мы находим сходные памятники, представляют собой остатки погрузившегося в воду континента?
Эта теория была широко распространена среди неспециалистов, но геологи и другие ученые не придавали ей значения. Больше того, зоологи, на основании изучения насекомых и моллюсков на островах Южного моря, с несомненностью доказали, что на протяжении всей истории человечества эти острова, как и в наши дни, были совершенно отделены один от другого и от окружающих их материков
[112].
Итак, мы доподлинно знаем, что предки полинезийцев когда-то, по собственному желанию или в силу необходимости, прибыли на эти изолированные острова на каких-то судах по воле течения или ветра. Более тщательное изучение населения Южного моря дало все основания полагать, что оно появилось здесь лишь несколько столетий тому назад. Хотя полинезийцы населяют острова, рассеянные по океану на площади, в четыре раза превышающей всю Европу, все же их язык не претерпел существенных изменений на различных островах. Тысячи миль отделяют Гавайские острова на севере от Новой Зеландии на юге острова Самоа на западе от острова Пасхи на востоке, однако жители всех этих островов говорят на диалектах одного общего языка, который мы называем полинезийским. Письменности не существовало ни на одном из островов, если не считать нескольких деревянных табличек с непонятными иероглифами, которые сохранили жители острова Пасхи, хотя ни они сами и ни один ученый не могли прочесть их. Но на островах существовали школы, и самым важным предметом, изучавшимся в них, были поэтические легенды, так как для полинезийцев история являлась одновременно и религией. Они почитали предков и поклонялись своим умершим вождям вплоть до времен Тики, а о самом Тики говорили, что он был сын солнца.
Почти на каждом острове мужчины, обучавшиеся в школе, могли назвать без запинки имена всех своих вождей, начиная со времени первого заселения острова. Часто, не надеясь на память, они пользовались сложной системой узлов на переплетенных веревках, как это когда-то делали индейцы-инки в Перу. Современные исследователи записали на различных островах все местные родословные и обнаружили, что они с изумительной точностью совпадают как в отношении имен, так и количества поколений. Таким путем было установлено, — исходя из расчета смены поколений полинезийцев в среднем каждые 25 лет, — что острова Южного моря были заселены около 500 года нашей эры. Вторая культурная волна, которой соответствовала новая линия вождей, достигла этих островов около 1100 года, когда появились новые, более поздние переселенцы…
Откуда так поздно могли они явиться? По-видимому, лишь очень немногие исследователи принимали во внимание тот несомненный факт, что люди, которые так поздно появились на этих островах, были людьми подлинного каменного века. Несмотря на свою смышленость и удивительно высокую во всех других отношениях культуру, эти мореплаватели привезли с собой каменные топоры определенного типа и ряд других характерных для каменного века орудий, которые и распространили по всем островам, где они появлялись. Не следует забывать о том, что, не считая единичных изолированных племен, населявших первобытные леса, и некоторых отсталых народов, к 500 или 1 100 году нашей эры нигде во всем мире, кроме Америки, не существовало жизнеспособных цивилизаций, стоявших на уровне каменного века. А в Америке даже высокоразвитые индейские цивилизации совершенно не знали железа и пользовались каменными топорами и орудиями того же самого типа, какие были в употреблении на островах Южного моря ко времени их открытия.
Эти многочисленные индейские цивилизации были ближайшими соседями полинезийцев на востоке. На западе жили только чернокожие первобытные племена Австралии и Меланезии, отдаленные родственники негров, а дальше за ними находились Индонезия и побережье Азии, где люди вышли из каменного века, вероятно, раньше, чем в любой другой части земного шара.
Я стал все меньше и меньше интересоваться Старым Светом, где так много ученых искали предков полинезийцев и ни один не нашел их, и перенес свое внимание на изученные и неизученные индейские цивилизации в Америке, которые раньше никем не принимались в соображение. И на ближайшем в восточном направлении материке, там, где сейчас находится южноамериканская республика Перу, расположенная вдоль побережья Тихого океана и в прилегающей горной области, не было недостатка в очень интересных следах, стоило только задаться целью поискать их. Здесь когда-то жил и создал одну из самых оригинальных в мире цивилизаций какой-то неизвестный народ, который затем, в давние времена, неожиданно исчез, словно сметенный с лица земли. Он оставил после себя огромные каменные статуи, напоминающие человеческие существа, которые походили на изваяния, обнаруженные на острове Питкэрне, Маркизских островах и острове Пасхи, и высокие пирамиды, воздвигнутые уступами, как на Таити и Самоа. Каменными топорами эти люди высекали в горах глыбы камня величиной с товарный вагон, перетаскивали их на расстояние нескольких миль в долины, ставили их стоймя или друг на друга, создавая ворота, высокие стены террасы — в точности такие, какие мы находим на некоторых островах Тихого океана.
В этой горной стране к тому времени, когда первые испанцы появились в Перу, индейцы-инки создали свою великую империю. Они рассказывали испанцам, что грандиозные памятники, возвышающиеся в безлюдных долинах, были воздвигнуты народом белых богов, который жил здесь до того, как господство над страной перешло к самим инкам. Про этих исчезнувших зодчих инки говорили, что то были мудрые миролюбивые наставники, которые, на заре истории, пришли откуда-то с севера и научили их первобытных предков строительному искусству и земледелию, а также передали им свои обычаи и нравы. Они не походили на других индейцев, так как у них была белая кожа и длинные бороды. Ростом они были выше инков. В конце концов они покинули Перу так же внезапно, как и появились там; власть в стране перешла в руки инков, а белые учителя навсегда оставили берега Южной Америки и исчезли где-то на западе, среди Тихого океана.
И вот, когда европейцы появились на островах Тихого океана, они очень удивились, обнаружив, что многие местные жители имели почти белую кожу и бороду. На ряде островов можно было встретить целые семьи, которые отличались исключительно белой кожей, светлыми — от рыжеватых до белокурых — волосами, голубовато-серыми глазами и лицами с крючковатым носом почти семитического типа.
Остальные полинезийцы обладали золотисто-коричневой кожей, черными волосами и плоскими бесформенными носами. Рыжеволосые жители называли себя
урукеху и говорили, что они являются прямыми потомками первых вождей островов, которые были белыми богами и носили имя Тангароа, Кане и Тики. Легенды о таинственных белых людях, от которых когда-то произошли островитяне, распространены по всей Полинезии. Когда в 1722 году Роггевеен
[113] открыл остров Пасхи, он, к своему удивлению, обнаружил среди собравшихся на берегу жителей «белых». А сами жители острова Пасхи могли пересчитать своих предков, обладавших белой кожей, вплоть до времен Тики и Хоту Матуа, когда те впервые приплыли по океану «из гористой страны на востоке, которая была спалена солнцем».
Продолжая свои поиски, я обнаружил в культуре, мифологии и языке жителей Перу изумительные факты, которые побудили меня с еще большей настойчивостью заняться выяснением вопроса о том, откуда был родом полинезийский бог Тики.
И я нашел то, что искал. Однажды я сидел за чтением легенд инков о солнце-короле Виракоча, который был верховным повелителем исчезнувших белых людей в Перу. Я прочел:
«Виракоча он назывался на языке инков (кечуа), и, следовательно, это имя сравнительно недавнего происхождения. Первоначальное имя бога-солнца Виракоча, которое в старину, по-видимому, чаще употреблялось в Перу, было Кон-Тики или Илла-Тики, что означает Солнце-Тики или Огонь-Тики. Кон- Тики был верховным жрецом и солнцем-королем «белых людей» из легенд инков, тех людей, которые оставили после себя гигантские развалины на берегах озера Титикака. Легенда рассказывает, что на Кон-Тики напал вождь по имени Кари, который пришел из долины Кокимбо. В сражении на одном из островов на озере Титикака таинственные белые бородатые люди были перебиты, но сам Кон-Тики и его ближайшие соратники спаслись и добрались до берегов Тихого океана, откуда они впоследствии исчезли, отправившись куда-то на запад за океан».
Я больше не сомневался в том, что белый вождь — бог Солнце-Тики, по рассказам инков изгнанный их предками из Перу, был не кто иной, как белый вождь — бог Тики, сын солнца, которого жители всех островов восточной части Тихого океана называют праотцем своего народа. Многие подробности из жизни Солнце-Тики в Перу, с древними названиями окрестностей озера Титикака, снова воскресли в исторических легендах, распространенных среди местного населения тихоокеанских островов.
Однако повсюду в Полинезии я находил указания на то, что миролюбивый народ Кон-Тики не смог один долго удерживать в своих руках господство на островах. Указания на то, что связанные попарно военные мореходные суда — такой же примерно величины, как корабли викингов, — доставили северо-западных индейцев по океану на Гавайские острова и дальше на юг, на все остальные острова. Они смешались с народом Кон-Тики и принесли новую цивилизацию в островное царство. Это был второй народ каменного века, появившийся в Полинезии около 1 100 года и не знавший ни металла, ни гончарного искусства, ни колес и веретена, ни зерновых культур.
Итак, я занимался раскопками в Британской Колумбии, отыскивая рисунки на камне в древнем полинезийском стиле в местах, где жили северо-западные индейцы. В это время немцы вторглись в Норвегию.
Напра-во, нале-во, кру-гом. Мытье лестниц в казарме, чистка ботинок, школа радиосвязи, парашют и, наконец, Мурманский конвой
[114] и плавание к берегам Финмаркена
[115], где в течение всей беспросветной зимы в отсутствие солнца-бога царил бог военной техники.
Наступил мир. И вот пришел день, когда я закончил обоснование своей теории. Я должен вынести ее на обсуждение специалистов-ученых. Для этого надо ехать в Америку.

Глава 2
РОЖДЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Среди специалистов. — Камень преткновения. — В Доме моряков. — Последнее средство. — Клуб путешественников. — Новое снаряжение. — Я нахожу товарища. — Триумвират. — Один художник и два участника Сопротивления. — В Вашингтоне. — Совещание в военном министерстве. — В интендантское управление со списком пожеланий. — Финансовые проблемы. — Среди дипломатов в ООН. — Мы летим в Эквадор.
Итак, это началось у костра на острове Южного моря, где сидел старый полинезиец, рассказывая легенды и истории из жизни своего племени. Много лет спустя я сидел с другим стариком, на этот раз в темном кабинете на одном из последних этажей большого нью-йоркского музея.
Вокруг нас в хорошо монтированных стеклянных витринах лежали глиняные черепки давно прошедших, но уже изученных времен — путеводные нити в туманной древности. Стены были заставлены также книгами. Едва ли больше десяти человек прочли некоторые из них. Старик, который прочел все эти книги, а кое-какие из них написал, сидел за письменным столом — седой, добродушный старик. Но сейчас я, без сомнения, больно задел его, так как он испуганно вцепился в подлокотники своего кресла с таким выражением лица, словно я спутал все его карты.
— Нет! — произнес он, — Никогда!
Такой вид имел бы, вероятно, дед Мороз, если бы кто-нибудь осмелился при нем утверждать, что в следующем году рождество будет в Иванов день
[116].
— Вы не правы, совершенно не правы, — повторял он и негодующе тряс головой, как бы отмахиваясь от нелепой идеи.
— Но вы еще не прочли моих доводов, — настаивал я, с надеждой указывая на рукопись, лежавшую на столе.
— Доводы! — воскликнул он. — Вы не имеете права относиться к этнографическим проблемам, как к детективной тайне!
— Почему нет? — спросил я. — Все мои выводы основаны на моих собственных наблюдениях и на фактах, описанных в науке.
— Задачи науки — чистое и не приукрашенное исследование, — спокойно сказал старик. — А не попытка доказать то или иное.
Он осторожно отодвинул нераскрытую рукопись в сторону и склонился над столом.
— Совершенно правильно, что Южная Америка была родиной некоторых самых любопытных древних цивилизации и что мы не знаем, кто были эти люди и куда они исчезли после пришествия к власти инков. Но одно мы знаем наверно — ни один из народов Южной Америки не переселился на острова Тихого океана.
Он испытующе посмотрел на меня и продолжал:
— И знаете почему? Ответ очень прост. Они не могли попасть туда. У них не было лодок!
— Но у них были плоты, — нерешительно возразил я. — Вы знаете, плоты из бальсового дерева
[117].
Старый ученый улыбнулся и спокойно сказал:
— Ну, попытайтесь совершить путешествие из Перу к островам Тихого океана на плоту из бальсовых деревьев.
Я не нашелся, что возразить. Становилось поздно. Мы оба встали. Старый ученый, прощаясь, добродушно похлопал меня по плечу и сказал, что всегда готов к моим услугам, если мне понадобится помощь.
Но в будущем я должен специализироваться либо на Полинезии, либо на Америке и не смешивать двух различных антропологических областей. Он снова склонился над столом.
— Вы забыли это, — произнес он и протянул мою рукопись.
Я бросил взгляд на название: «Полинезия и Америка; исследование доисторических связей». Я сунул рукопись под мышку, уныло побрел вниз по лестнице и, выйдя на улицу, смешался с толпой.
В этот вечер я Отправился в один из тихих закоулков в Гринвич Вилледж
[118] и постучался у дверей старого одноэтажного дома. Я любил приходить сюда со своими маленькими проблемами, когда чувствовал, что они начинают лишать меня душевного равновесия.
Щуплый человечек с длинным носом чуть-чуть приоткрыл дверь, а затем с широкой улыбкой на лице распахнул ее настежь и буквально втащил меня в дом. Он провел меня прямо в маленькую кухню и сразу же впряг в работу, заставив носить тарелки и вилки, между тем как он сам удваивал порцию какого-то кушанья, которое, издавая аппетитный запах, жарилось на газовой плите.
— Очень мило, что вы зашли. Как дела?
— Отвратительно, — ответил я. — Никто не хочет читать рукопись.
Он разложил свою стряпню по тарелкам, и мы принялись за еду.
— Похоже на то, — заметил он. — что все, у кого вы были, считают вашу идею преходящей фантазией. Знаете, здесь, в Америке часто сталкиваешься со множеством самых курьезных идей.
— Дело не только в этом, — сказал я.
— Конечно, — согласился хозяин. — И в нашем подходе к вопросу. Они специалисты все без исключения и они не верят в метод работы, который вторгается во все специальности — от ботаники до археологии. Они ограничивают поле своей деятельности, чтобы не разбрасываться и углубленно изучать вопрос во всех подробностях. Современная наука требует, чтобы каждая специальность рылась в своей собственной ямке. Никто не привык заниматься разборкой и сопоставлением того, что добыто из разных ямок.
Он встал и извлек объемистую рукопись.
— Взгляните, — сказал он. — Моя последняя работа об изображении птиц на вышивках китайских крестьян отняла у меня семь лет, но ее сразу приняли для опубликования. В наши дни спрос на монографии.
Карл был прав. Но разрешить проблемы Тихого океана без всестороннего освещения их мне казалось так же невозможным, как разобраться в сложной шахматной позиции, учитывая движения фигур только своего цвета.
Мы убрали со стола, и я стал помогать Карлу вытирать посуду после мытья.
— Из Чикагского университета ничего нет?
— Ничего.
— А что вам сказал сегодня ваш старый приятель в музее?
Я ответил, с трудом подбирая слова:
— Он совершенно не заинтересовался. Он сказал: так как у индейцев были только простые плоты, нечего и думать о том, что они могли открыть острова Тихого океана.
Маленький человечек вдруг с яростью принялся вытирать тарелку.
— Да, — заговорил он наконец. — По правде говоря, мне это тоже кажется практическим возражением против вашей теории.
Я уныло взглянул на маленького этнографа, которого считал своим верным союзником.
— Не поймите меня ложно, — поторопился добавить он. — Я думаю, что вы правы, но вместе с тем все так неясно. Моя работа о вышивках подтверждает вашу теорию.
— Карл, — сказал я, — я абсолютно уверен, что индейцы переплыли Тихий океан на своих плотах, и готов сам построить такой плот и переплыть океан только для того, чтобы доказать, что это возможно.
— Вы с ума сошли!
Мой друг принял это за шутку и даже засмеялся от такой чудовищной мысли.
— Вы с ума сошли! На плоту?
Он не находил слов и лишь смотрел на меня с сомнением, как бы ожидая, что я вот-вот улыбнусь в знак того, что я пошутил.
Он не дождался улыбки. Я понял теперь, что в самом деле никто не согласится с моей теорией из-за того, что между Перу и Полинезией простирается беспредельный океан, для преодоления которого я ничего не мог предложить, кроме доисторического плота.
Карл неуверенно смотрел на меня.
— Теперь мы выйдем и выпьем по стаканчику, — предложил он.
Мы вышли и выпили по четыре.
К концу недели истек срок квартирной платы. В это время я получил письмо из норвежского банка, извещавшее меня в том, что он не может больше переводить мне доллары — валютные ограничения. Я захватил свой чемодан и сел в метро, которое доставило меня в Бруклин. Там я поселился в Доме норвежских моряков, где хорошо и обильно кормили, а цены соответствовали содержимому моего бумажника. Я получил маленькую комнату во втором этаже, но питался вместе со всеми моряками в большой столовой внизу.
Моряки приходили и уходили. Они отличались друг от друга по типу, по росту и по степени трезвости, но у всех у них было одно общее качество — когда они говорили о море, они знали, о чем говорят. Я узнал, что величина волн и бурность моря не зависят от глубины моря и расстояния от берега. Напротив, вблизи от берега штормы часто бывают опаснее, чем в открытом море. На мелководье, вдоль берега, где проходят местные течения или заканчиваются океанские, море часто бывает более бурным, чем вдали от суши. Судно, пригодное для плавания вдоль открытого берега, сможет выдержать и далекое плавание по океану. Я узнал также, что во время бури большие корабли часто зарываются в волны носом или кормой так, что тонны воды обрушиваются на их палубу и, как тростинку, изгибают стальные трубы, между тем как маленькое судно нередко прекрасно выдерживает шторм, потому что оно без труда умещается между волнами и танцует на них, подобно чайке.
Я встретил здесь людей, которые в бурю благополучно спаслись в лодке после того, как их корабль пошел ко дну.
Но о плотах они знали мало. Плот — это не корабль, у него нет ни киля, ни фальшборта. Это просто плавучее средство, на котором спасаются при катастрофе и держатся на воде до тех пор, пока на помощь не подойдет какое-нибудь судно. Впрочем, один из моряков относился с уважением к плотам в открытом море; ему пришлось три недели проплыть на плоту, когда немецкая торпеда потопила его корабль среди Атлантического океана.
— Но вы не можете управлять плотом, — добавил он. — Он движется в сторону и назад или крутится по воле ветра.
Я откопал в библиотеке отчеты, составленные первыми европейцами, побывавшими на тихоокеанском побережье Южной Америки. Там оказалось немало рисунков и описаний больших индейских плотов из бальсового дерева. У них был четырехугольный парус, что-то вроде киля и длинное рулевое весло на корме. Значит, ими можно было управлять.
Проходили недели, а я все еще жил в Доме моряков. Никакого ответа ни из Чикаго, ни из других городов, куда я послал экземпляры своей рукописи. Никто не прочел ее.
Как-то в субботу я собрался с духом и отправился на Уотер-стрит в магазин морских инструментов и карт. Там меня вежливо называли «капитаном», пока я выбирал навигационную карту Тихого океана. Со свернутой в трубку картой под мышкой я сел в пригородный поезд, идущий в Оссининг
[119], где в очаровательном загородном доме жила молодая норвежская чета, у которой я постоянно проводил конец недели. Муж был раньше морским капитаном, а теперь заведовал нью-йоркской конторой пароходной компании «Фред Ульсен».
После купания в бассейне для плавания все городские дела были забыты, и когда Амбьерг принесла поднос с коктейлем, мы уселись на лужайке на солнцепеке. Я больше не мог сдерживаться и, расстелив на траве карту, спросил Вильгельма, возможно ли, по его мнению, чтобы люди могли благополучно добраться на плоту из Перу на острова Полинезии.
Несколько опешив, он смотрел больше на меня, чем на карту, но тут же дал утвердительный ответ. У меня словно гора свалилась с плеч: я знал, что все, имеющее отношение к кораблевождению и к плаванию на парусах, было не только специальностью, но и любимым коньком Вильгельма. Я немедленно посвятил его в свои планы. К моему удивлению, он категорически заявил, что это чистейшее безумие.
— Но вы только сейчас сказали, что считаете это возможным, — перебил я.
— Совершенно правильно, — согласился Вильгельм. — Но столь же велики шансы и на то, что дело кончится плохо. Сами вы никогда не плавали на бальсовом плоту и воображаете, что по мановению волшебной палочки он перенесет вас через Тихий океан. Может быть, да, а может быть, и нет. Древние индейцы Перу опирались на опыт поколений. Кто знает, может быть, на каждый плот, переплывший океан, приходилось десять плотов, которые пошли ко дну, а может быть, и сотни на протяжении столетий. Как вы утверждаете, инки выходили в открытый океан целыми флотилиями этих бальсовых плотов. Тогда, если с одним из плотов случалась беда, потерпевших могли подобрать с соседних. Но кто сможет подобрать вас посреди океана? Если даже вы захватите с собой радиостанцию на случай катастрофы, не думайте, что будет легко найти маленький плот среди волн за тысячи миль от берега. Во время шторма вас может смыть с плота, и вы успеете десять раз утонуть, прежде чем кто-нибудь доберется до вас. Лучше уж оставайтесь здесь и ждите, пока у ученых найдется время прочесть вашу рукопись. Напишите еще раз и пошевелите их; это самое лучшее, что вы можете сделать.
— Я уже больше не могу ждать, — у меня скоро не останется ни цента.
— Вы можете переехать к нам. Коль скоро вы уж заговорили об этом, то как предполагаете вы снарядить экспедицию из Южной Америки без денег?
— Легче заинтересоваться экспедицией, чем не прочтенной рукописью.
— Но что это вам может дать?
— Опровержение одного из сильнейших аргументов против моей теории, не говоря о том, что в научных кругах обратят внимание на эту затею.
— Но если дело обернется плохо?
— Тогда я ничего не докажу.
— И тогда вы скомпрометируете вашу собственную теорию в глазах всех, не так ли?
— Может быть. Но, как вы сами сказали, одна из десяти попыток удавалась и до нас.
Из дому вышли дети, чтобы поиграть в крокет, и в тот день мы больше не возвращались к этому вопросу.
В следующую субботу я снова явился в Оссининг с картой под мышкой. А когда я уезжал, на карте была нанесена карандашом длинная линия от берегов Перу до островов Туамоту в Тихом океане. Мой друг капитан потерял надежду отговорить меня, и мы просидели несколько часов за расчетом возможной скорости движения плота.
— Девяносто семь дней, — сказал Вильгельм, — но помните, что это только при теоретических, идеальных условиях, при постоянном попутном ветре и предположении, что плот действительно, как вы думаете, может плыть под парусом. Вы должны положить на путешествие определенно не меньше четырех месяцев и быть готовы к тому, что оно продлится значительно дольше.
— Ладно, — оптимистически ответил я, — будем рассчитывать по меньшей мере на четыре месяца и проделаем плавание за девяносто семь дней.
Маленькая комната в Доме моряков показалась мне вдвое уютнее обычного, когда я в этот вечер вернулся домой и с картой в руках уселся на краю кровати. Я вымерил шагами площадь комнаты с точностью, какая была возможна при наличии кровати и комода. О да, плот должен быть значительно больше. Я высунулся из окна, чтобы взглянуть на далекое звездное небо большого города, которое можно было увидеть лишь прямо над головой между высокими стенами домов. На плоту, если и будет тесно, все же окажется достаточно простора для того, чтобы видеть над собой небо со всеми звездами.
На 72-й западной улице, недалеко от Центрального парка помещается один из самых замкнутых нью- йоркских клубов. Только маленькая, начищенная до блеска медная дощечка с надписью «Клуб путешественников» могла намекнуть прохожим, что в этом доме находится нечто необычное. Но, очутившись внутри, вы как бы совершали парашютный прыжок в какой-то особый мир, отстоявший на тысячи миль от нью-йоркских небоскребов и верениц автомобилей между ними. Когда за вами захлопывается дверь в Нью-Йорк, вы оказываетесь в атмосфере охоты на львов, альпинистских походов и полярных зимовок и в то же время чувствуете себя так, будто находитесь в салоне роскошной яхты, совершающей кругосветное плавание. Трофеи охоты на гиппопотамов и оленей, нарезные карабины, бивни, военные барабаны и копья, индейские ковры, идолы и модели кораблей, флаги, фотографии и карты окружают членов клуба, когда они собираются за обедом или слушают лекцию о далеких странах.
После моего путешествия на Маркизские острова я был избран действительным членом клуба и, как один из самых молодых членов, редко пропускал заседания, если только находился в Нью-Йорке. И вот теперь, когда дождливым ноябрьским вечером я вошел в клуб, меня очень удивил необычайный вид помещения. На полу посреди зала лежал надутый резиновый плот с пакетами аварийного запаса продуктов и всякого рода приспособлениями, а на столах и стенах лежали и висели парашюты, резиновые костюмы, спасательные куртки и полярное снаряжение вперемежку с приборами для перегонки воды и другими любопытными изобретениями. Вновь избранный член клуба, полковник Хаскин из лаборатории снаряжения материальной части военно-воздушных сил, собирался прочесть лекцию и продемонстрировать ряд новых военных изобретений, которые, по его мнению, в будущем могли бы оказаться полезными для научных экспедиций и в северных и в южных широтах.
После лекции началась жаркая и веселая дискуссия. Известный датский полярный исследователь Петер Фрейхен
[120], высокий грузный мужчина, встал, скептически тряся своей длинной бородой. Он не верил в эти новомодные изобретения. Однажды во время экспедиции в Гренландию он сам пользовался резиновой лодкой и мешком-палаткой вместо эскимосского каяка
[121] и иглу
[122], и это чуть не стоило ему жизни. Прежде всего он чуть не погиб во время пурги из-за того, что «молния», скреплявшая полотнища входа, так замерзла, что он не смог даже залезть в палатку. А затем один раз, когда он рыбачил, крючок зацепился за надутую резиновую лодку; лодка была проколота и затонула под ним, как кусок тряпки. Ему и его другу эскимосу удалось на этот раз добраться до берега в каяке, который подоспел им на помощь. Он уверен, что ни один самый талантливый современный изобретатель не может, сидя в лаборатории, придумать что-нибудь лучшее по сравнению с тем, чем пользовались наученные опытом тысячелетий эскимосы у себя на родине.
Дискуссия окончилась неожиданным предложением полковника Хаскина. Действительные члены клуба могут для своих ближайших экспедиций выбрать все, что им угодно из новинок, которые он демонстрировал; единственное условие — они должны по возвращении сообщить в его лабораторию свое мнение об этих вещах. Этого мне и надо было. В тот вечер я последним покинул помещение клуба. Я должен был тщательно осмотреть все это внезапно свалившееся мне в руки новехонькое снаряжение, для получения которого мне достаточно было лишь изъявить свое желание. Это было как раз то, в чем я нуждался, — снаряжение, с помощью которого мы могли бы попытаться спастись, если вопреки ожиданиям наш деревянный плот стал бы обнаруживать признаки разрушения, а других плотов поблизости не окажется.
Наутро, сидя за завтраком в Доме моряков, я все еще был поглощен мыслями о виденном снаряжении, как вдруг хорошо одетый, атлетически сложенный молодой человек подошел со своим завтраком на подносе к моему столу и сел рядом. Мы начали непринужденно болтать; оказалось, что он тоже был не моряком, а дипломированным инженером из Тронхейма, приехавшим в Америку для покупки деталей машин и для практического ознакомления с техникой холодильного дела. Он жил неподалеку и часто приходил поесть в Дом моряков, так как здесь была хорошая норвежская кухня. Он спросил меня, что я делаю, и я вкратце ознакомил его с моими планами. Я сказал, что в том случае, если до конца недели не получу никакого определенного ответа по поводу моей рукописи, я начну готовиться к экспедиции на плоту. Мой собеседник почти не задавал вопросов и слушал с большим интересом.
Через четыре дня мы опять встретились в той же столовой.
— Ну, как вы решили, отправляетесь в путешествие или нет? — спросил он.
— Да, — ответили. — Отправляюсь.
— Когда?
— Как можно скорей. Если я надолго задержусь, из Антарктики задуют штормы, да и на островах наступит пора ураганов. Я должен отплыть из Перу в ближайшие месяцы, но сначала мне нужно достать деньги и организовать все дело.
— Сколько человек будет с вами?
— Я думаю, что всего нужно шесть человек; тогда на плоту нас будет достаточно, чтобы не надоесть друг другу; к тому же это удобное число для четырехчасовых вахт у руля в течение суток.
Несколько секунд он стоял, как будто обдумывая что-то, затем горячо заговорил:
— Черт возьми, как мне хочется поехать с вами! Я мог бы взять на себя технические измерения и метеорологические наблюдения. Конечно, вы должны будете подкрепить свой эксперимент точными измерениями силы и направления ветров, течений и величины волн. Не забудьте, что вам предстоит пересечь огромные пространства океана, о которых практически ничего не известно, так как они находятся в стороне от обычных морских путей. Такая экспедиция, как ваша, может провести интересные гидрографические и метеорологические исследования: я смогу с пользой применить свои знания термодинамики.
Я ничего не знал об этом человеке, кроме того, о чем могло сказать его открытое лицо. Оно могло сказать о многом.
— Идет, — произнес я. — Мы отправляемся вместе.
Его звали Герман Ватсингер. Он был такой же горе-моряк, как и я.
Несколько дней спустя я привел Германа в качестве моего гостя в Клуб путешественников. Там мы сразу же наткнулись на полярного исследователя Петера Фрейхена. Фрейхен обладал счастливым свойством никогда не теряться в толпе. Высокий и широкий, как дверь сарая, со всклокоченной бородой, он казался посланцем бескрайной тундры. Его окружала какая-то особая атмосфера — словно он все время идет по следу медведя-гризли.

Мы подвели его к большой карте, висевшей на стене, и рассказали о нашем плане переплыть Тихий океан на индейском плоту. Он широко раскрыл свои мальчишеские голубые глаза, отчего они стали совершенно круглыми, и все время дергал себя за бороду, слушая наш рассказ. Потом он топнул своей деревянной ногой об пол и потуже затянул ремень.
— Проклятие! Я хотел бы, ребята, отправиться с вами!
Старый путешественник по Гренландии наполнил наши кружки пивом и принялся рассказывать о своей вере в суда первобытных народов, в способность этих людей передвигаться по суше и по морю, применяясь к природным условиям. Ему самому приходилось спускаться на плоту по большим сибирским рекам и, плавая на корабле вдоль арктических берегов, тащить на буксире плоты местных жителей. Рассказывая, он дергал себя за бороду и в заключение выразил уверенность, что мы получим от нашего путешествия большое удовольствие.
Благодаря горячей поддержке Фрейхена дело завертелось с устрашающей скоростью, и вскоре о нем заговорила скандинавская печать. Уже на следующее утро раздался сильный стук в дверь моей комнаты в Доме моряков. Меня звали к телефону в нижний коридор. В результате разговора в тот же вечер Герман и я позвонили у подъезда одного из домов в фешенебельном квартале Нью-Йорка. Нас принял прекрасно одетый молодой человек в лакированных домашних туфлях и шелковом халате поверх синего костюма. Он производил впечатление чуть ли не неженки, когда, прижимая к носу надушенный платок, просил извинения за свою простуду. Однако мы знали, что этот парень прославился в Америке своими подвигами в качестве летчика во время войны. Кроме невозмутимого на вид хозяина, там были еще два энергичных молодых журналиста, обуреваемых жаждой деятельности и идеями. Одного из них мы знали как талантливого корреспондента.
За бутылкой хорошего виски наш хозяин объяснил, что заинтересовался нашей экспедицией. Он предложил раздобыть необходимые средства при условии, что мы примем на себя обязательство писать о путешествии в газеты, а по возвращении совершить поездку по разным городам с лекциями. К концу свидания мы договорились и выпили за успешное сотрудничество между теми, кто финансирует экспедицию и кто участвует в ней. Теперь все экономические проблемы должны были быть разрешены; ими займутся наши компаньоны, и мы можем больше не беспокоиться. Герман и я должны сейчас же приступить к подбору экипажа и снаряжения, построить плот и отправиться в путь до наступления периода штормов.
На следующий день Герман уволился с работы, и мы всерьез взялись за дело. При посредстве Клуба путешественников я уже успел заручиться согласием исследовательской лаборатории материальной части военно-воздушных сил снабдить нас всем, что я попрошу; руководители лаборатории считали, что такая экспедиция, как наша, прекрасно подходит для испытания их снаряжения. Это было хорошее начало.
Теперь наши важнейшие задачи состояли в том, чтобы найти четырех подходящих людей, готовых отправиться с нами на плоту, и раздобыть продовольствие для путешествия.
Подбирать людей, которым предстояло вместе плавать по океану на плоту, нужно было очень тщательно. Иначе после месячного пребывания в открытом море могли бы возникнуть всякие неприятности и ссоры. Я не хотел комплектовать
команду плота из моряков: они вряд ли знали больше нас о том, как надо управлять плотом, а впоследствии, если бы нам удалось довести дело до конца, могли бы начаться разговоры, что мы достигли успеха, возможно, лишь потому, что были лучшими моряками, чем древние строители плотов в Перу. Все же на плоту следовало иметь одного человека, который умел бы, во всяком случае, пользоваться секстантом и отмечать наш курс на карте; это было необходимо для научных отчетов.
— Я знаю художника, — сказал я Герману. — Это высокий, здоровенный парень, который умеет играть на гитаре и брызжет весельем. Он окончил мореходное училище и несколько раз плавал вокруг света до того, как засел дома с кистью и палитрой. Я знаю его с детства, и мы часто совершали с ним туристские походы по горам на родине. Я напишу ему; я уверен, что он приедет.
— Он вполне подойдет, — согласился Герман, — а затем нам нужен человек, знакомый с радио.
— С радио! — в ужасе воскликнул я, — на черта оно нам сдалось? Ему не место на доисторическом плоту.
— Неверно, это мера предосторожности, которая не повредит вашей теории, если нам не придется посылать сигналы бедствия и просить о помощи. А радио нам понадобится для передачи метеорологических наблюдений и других сведений. К тому же мы не сможем использовать радио для приема предупреждений о штормах, так как для этой части океана таких предупреждений не бывает, а если бы и были, какую пользу смогут они принести нам на плоту?
Его доводы постепенно сломили все мои возражения, которые были основаны главным образом на моей нелюбви ко всяким кнопкам и крутящимся ручкам.
— Как это ни странно, — признался я, — но у меня большие знакомства с людьми, имеющими отношение к радиосвязи на большие расстояния. Во время войны я был зачислен в подразделение радиосвязи — «по специальности», должно быть. Я обязательно напишу Кнуту Хаугланду и Торстейну Робю.
— Вы с ними знакомы?
— Да. С Кнутом я впервые встретился в Англии в 1944 году. Англичане наградили его орденом за участие в парашютном десанте, который предотвратил попытки немцев создать атомную бомбу: он был радистом в группе участников Сопротивления, совершившей диверсионный акт по уничтожению в Рьюкан запасов тяжелой воды
[123]. Когда я встретился с ним, он только что вернулся с другой операции в Норвегии; гестапо накрыло его с тайным передатчиком, спрятанным в дымоходе родильного дома в Осло. Нацисты его запеленговали, и все здание было окружено немецкими солдатами с пулеметами против каждой двери. Фемер, начальник гестапо, сам находился во дворе, ожидая, когда приволокут Кнута. Но приволокли его собственных людей. Кнут с помощью револьвера пробился от чердака до подвала, а оттуда — на задний двор и исчез за больничной стеной, преследуемый градом пуль. Я встретился с ним на секретной станции в старинном английском замке, он вернулся для организации подпольной связи между сотней передающих станций в оккупированной Норвегии.
Сам я только что закончил парашютную практику, и мы собирались вместе спрыгнуть в Нордмарке, около Осло. Но как раз в это время русские вступили в район Киркенеса, и небольшой норвежский отряд был направлен из Шотландии в Финмаркен на смену, если можно так выразиться, целой русской армии. И я был послан туда. Там я встретился с Торстейном.
В тех местах была еще настоящая арктическая зима, и северное сияние мерцало на звездном небе над нами. День и ночь стояла кромешная тьма. Когда мы проходили по пепелищам сожженного района Финмаркена, посиневшие от холода и закутанные в меховую одежду, из маленькой хижины, расположенной в горах, вылез веселый парень с голубыми глазами и жесткими светлыми волосами. То был Торстейн Робю. В начале войны он убежал в Англию и прошел там курс обучения; потом его тайно перебросили в Норвегию, куда-то под Тромсё. Он скрывался с маленьким передатчиком где-то вблизи от линкора «Тирпиц» и в течение десяти месяцев ежедневно сообщал в Англию обо всем, что происходило на борту корабля. Он отправлял донесения ночью, присоединяя свой тайный передатчик к приемной антенне, установленной немецким офицером. Его регулярными донесениями и руководствовались английские бомбардировщики, которые в конце концов покончили с «Тирпицем».
Торстейн убежал в Швецию, оттуда опять перебрался в Англию, а затем с новым радиопередатчиком спрыгнул на парашюте в тылу у немцев в пустынном районе Финмаркена. Когда немцы отступили, он оказался у нас в тылу и вышел из своего убежища, чтобы помочь нам своей маленькой радиоустановкой, так как наша мощная радиостанция была выведена из строя миной. Готов держать пари, что и Кнуту и Торстейну надоело сейчас болтаться дома, и оба они будут рады отправиться в небольшую прогулку на деревянном плоту.
— Напишите и предложите им, — посоветовал Герман.
Итак, я написал короткие письма, без всяких прикрас, Эрику, Кнуту и Торстейну:
«Собираюсь переплыть Тихий океан на деревянном плоту в подтверждение теории о том, что острова Южного моря были заселены из Перу. Не хотите ли принять участие? Я гарантирую только бесплатный проезд до Перу и до островов Южного моря и обратно: во время путешествия вы найдете хорошее применение своим техническим талантам. Отвечайте немедленно».
На следующий день от Торстейна пришла такая телеграмма:
«Еду. Торстейн».
Двое других также сообщили о своем согласии.
В качестве шестого участника мы намечали то одного, то другого, но всякий раз возникали какие-нибудь препятствия. Тем временем Герману и мне надо было заняться вопросом о продовольствии. Мы не собирались во время путешествия питаться вяленым мясом лам или сушеными клубнями кумара
[124], так как не имели в виду доказать, что когда-то мы сами были индейцами. Мы намеревались испытать возможности и свойства плота инков, его пригодность к плаванию в море и грузоподъемность и выяснить, удастся ли ему — с нами на борту — благополучно переплыть по воле стихий океан и добраться до Полинезии. Наши предшественники индейцы могли, конечно, прожить на плоту на сушеном мясе и рыбе и сушеных клубнях кумара, так как этими продуктами они питались и на берегу. Но мы предполагали выяснить, повторив их путешествие, удавалось ли им во время плавания по океану добывать для себя свежую рыбу и пользоваться дождевой водой. Что касается нашего собственного питания, то я рассчитывал на простой полевой рацион, знакомый нам по войне.
Как раз в это время в Вашингтон приехал новый помощник норвежского военного атташе. Я исполнял обязанности его заместителя, когда он командовал ротой в Финмаркене, и знал, что это был «огненный смерч», который с бешеной энергией брался за решение любой задачи, поставленной перед ним. Бьёрн Рёрхолт принадлежал к тому типу людей, которые чувствуют себя совершенно растерянными, если, покончив с одним трудным делом, они не принимаются сразу за новое.
Я обрисовал ему в письме наше положение и попросил его пустить в ход свой тонкий нюх и разузнать, не найдется ли в управлении снабжения американской армии какого-нибудь человека, с которым можно было бы установить связь. Шансы на успех заключались в том, что военная лаборатория разрабатывала новые полевые рационы, которые мы могли бы испытать, как мы собирались испытать снаряжение для лаборатории военно-воздушных сил.
Два дня спустя Бьёрн позвонил нам по телефону из Вашингтона. Он переговорил в отделе внешних связей американского военного министерства, и там были не прочь узнать, в чем дело. С ближайшим поездом Герман и я выехали в Вашингтон.
Мы застали Бьёрна в его кабинете в военной миссии.
— Думаю, все будет в порядке, — сказал он. — Нас примут в отделе внешних связей завтра, как только мы получим соответствующее письмо от полковника.
«Полковник» — это был Отто Мунте-Кос, норвежский военный атташе. Узнав, в чем дело, он отнесся к нам очень доброжелательно и охотно согласился дать соответствующее рекомендательное письмо.
Когда на следующее утро мы пришли за письмом, он неожиданно встал и заявил, что лучше будет поехать ему с нами. В автомобиле полковника мы покатили к Пентагону, самому большому зданию в мире, где находятся управления военного министерства. Полковник и Бьёрн в полной парадной форме сидели спереди, а Герман и я устроились сзади и смотрели сквозь переднее стекло на огромное здание Пентагона, возвышавшееся на площади перед нами. Это грандиозное здание с тридцатью тысячами чиновников и с двадцатью шестью километрами коридоров должно было стать местом предстоящего «совещания по вопросу о плоте» с высокопоставленными представителями военного министерства. Никогда ни раньше, ни впоследствии не казался Герману и мне наш плот таким безнадежно маленьким.
После бесконечных странствий по лестницам и коридорам мы добрались до дверей отдела внешних связей и вскоре, окруженные офицерами в новой,
с иголочки, форме, сидели за большим столом красного дерева; председательское место занимал сам начальник отдела внешних связей.
Суровый, широкий в кости офицер со значком
Уэст-Пойнтской академии
[125], важно восседавший у конца стола, долго не мог сообразить, какое отношение может иметь американское военное министерство к нашему деревянному плоту. Но хорошо продуманная речь полковника и благоприятное впечатление, произведенное нашими ответами на град вопросов, заданных сидевшими вокруг стола офицерами, постепенно склонили его на нашу сторону, и он с интересом прочел письмо из лаборатории снаряжения материальной части военно-воздушных сил. Потом он встал, отдал своему штабу лаконичное распоряжение оказать нам помощь в соответствующих инстанциях и, пожелав нам пока что удачи, покинул комнату, где происходило совещание. Когда дверь за ним закрылась, молодой штабной капитан прошептал мне на ухо:
— Готов держать пари, вы получите все, что вам нужно. Это очень напоминает небольшую военную операцию и вносит какое-то разнообразие в нашу ежедневную канцелярскую рутину мирного времени; к тому же это даст возможность как следует, методически испытать снаряжение.
Отдел связей немедленно договорился о встрече с полковником Льюисом из экспериментальной лаборатории главного интендантского управления, и меня с Германом отвезли туда на автомобиле.
Полковник Льюис оказался приветливым великаном с фигурой спортсмена. Он тотчас вызвал к себе сотрудников, руководивших опытами в различных областях. Все они отнеслись к нам очень дружелюбно и немедленно предложили кучу всякого снаряжения, которое было бы желательно подвергнуть тщательному испытанию. Они превзошли все наши самые смелые ожидания, когда начали перечислять почти все, что только могло нам понадобиться, — от полевых рационов до мази от загара и не боящихся сырости спальных мешков. Затем они повели нас осматривать все эти предметы. Мы пробовали особые рационы в прекрасной упаковке; мы видели спички, которые зажигались и после того, как их опускали в воду, новые образцы примусов и бидоны для воды, резиновые мешки, специальную обувь, кухонную утварь и плававшие ножи и множество других вещей, необходимых для экспедиции.
Я взглянул на Германа. У него был вид примерного мальчика, который ходит с богатой тетей по магазину кондитерских изделий. Высокий полковник шел впереди, демонстрируя все эти восхитительные вещи, а когда обход был закончен, сотрудники лаборатории записали, что нам необходимо и сколько. Я думал, что сражение уже выиграно, и мечтал только о том, чтобы поскорее очутиться у себя в гостинице и, приняв горизонтальное положение, спокойно и мирно все обдумать. Тут высокий приветливый полковник неожиданно произнес:
— Ну, теперь надо пойти потолковать с шефом; он должен решить, можем ли мы дать вам все это.
Я почувствовал, что у меня оборвалось сердце. Итак, мы должны опять начать все сначала и снова пустить в ход свое красноречие, а одно небо знает, что за тип этот «шеф».
Оказалось, что шеф был офицер небольшого роста, державшийся чрезвычайно серьезно. Когда мы вошли к нему, он, сидя за письменным столом, окинул нас проницательным взглядом своих голубых глаз. Он предложил нам сесть.
— Ну, что хотят эти господа? — резко спросил он полковника Льюиса, не сводя с меня глаз.
— О, кое-какую мелочь, — поспешно ответил Льюис. Он в общих чертах объяснил суть нашей просьбы, а начальник терпеливо слушал, не шевельнув пальцем.
— А что они могут дать нам взамен? — спросил он, не проявляя никаких признаков удивления.
— Ну, — примирительно сказал Льюис, — мы надеемся, что участники экспедиции, вероятно, смогут дать отзыв о пригодности новых видов продовольствия и некоторых предметов снаряжения в тех тяжелых условиях, в каких они будут ими пользоваться.
Чрезвычайно серьезный офицер за письменным столом с лишенной всякой аффектации медлительностью откинулся в кресле, все еще не спуская с меня взгляда; я почувствовал, что проваливаюсь сквозь глубокое кожаное кресло, когда он холодно сказал:
— Я совершенно не понимаю, как могут они дать нам что-нибудь взамен.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Полковник Льюис поправлял свой воротничок, никто из нас не произнес ни слова.
— Впрочем, — неожиданно снова заговорил начальник, и теперь в уголках его глаз промелькнула легкая усмешка, — смелость и предприимчивость также идут в счет. Полковник Льюис, пусть они получат все!
Чуть не задыхаясь от восторга, я сидел в автомобиле, который вез нас домой в гостиницу, как вдруг на Германа напал припадок судорожного смеха.
— Вам нехорошо? — с беспокойством спросил я.
— Нет, — ответил он, беззастенчиво смеясь, — но я подсчитал, что в продовольственных рационах, которые мы получим, будет шестьсот восемьдесят четыре банки ананасов, а это мое любимое блюдо.
Нужно сделать тысячу дел, и почти все — одновременно, чтобы шесть человек, деревянный плот и его груз своевременно очутились в определенном месте на перуанском побережье. А в нашем распоряжении три месяца и у нас нет лампы Аладдина.
Мы полетели в Нью-Йорк с рекомендательным письмом от отдела связей и встретились с профессором Бэре из Колумбийского университета. Он был председателем Комитета географических исследований военного министерства, и он нажал те кнопки, с помощью которых Герман, наконец, получил все ценные инструменты и аппараты, необходимые для научных измерений.
Затем мы полетели в Вашингтон, чтобы повидать адмирала Гловера из Гидрографического института морского министерства. Добродушный старый морской волк созвал всех своих офицеров и, познакомив их с Германом и мною, указал на висевшую на стене карту Тихого океана:
— Эти молодые люди интересуются нашими новейшими картами. Помогите им!
Колеса завертелись дальше, и английский полковник Ламсден созвал совещание британской военной миссии в Вашингтоне, чтобы обсудить наши дальнейшие задачи и шансы на благоприятный исход предприятия. Мы получили кучу хороших советов и набор английского снаряжения, которое было доставлено на самолете из Англия, чтобы мы испытали его во время путешествия на плоту. Английский военный врач оказался рьяным поборником таинственного «акульего порошка». Нам достаточно будет высыпать в воду несколько щепоток порошка, если акула станет слишком нахальной, и она тотчас же исчезнет.
— Сэр, — вежливо спросил я, — мы можем положиться на этот порошок?
— Ну, — улыбаясь, произнес англичанин, — это именно то, что мы хотим выяснить!
Когда времени в обрез и приходится заменять поезд самолетом, а ноги автомобилем, тогда бумажник быстро становится тонким, как засушенный лист. После того как мы истратили деньги, полученные от продажи моего обратного билета в Норвегию, нам пришлось отправиться к нью-йоркским друзьям-компаньонам, чтобы привести в порядок финансовые дела. Там нас ждало неожиданное разочарование. Финансовый директор лежал в постели с температурой, а двое его товарищей были бессильны, пока он не поправится. Они не отказывались от нашего финансового соглашения, но в данное время они ничем не могли помочь. Они попросили нас на некоторое время отложить все дело — напрасная просьба, так как мы были не в состоянии остановить бесчисленные колесики, которые уже завертелись на полную скорость. Теперь мы могли думать только о том, как бы не свалиться; останавливаться или тормозить было слишком поздно. Наши приятели-компаньоны согласились ликвидировать синдикат, чтобы дать нам возможность действовать быстро и независимо от них.
И вот мы идем по улице, а в карманах у нас по-прежнему пусто.
— Декабрь, январь, февраль, — считал Герман.
— На худой конец, март, — добавил я, — но в марте мы обязательно должны отплыть!
Все представлялось нам неопределенным, но одно было нам ясно. Наше путешествие имело серьезную цель, и мы не желали, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках или высиживают 17 дней на верхушке флагштока.
— Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или кока-кола, — заявил Герман.
В этом вопросе мы были совершенно согласны.
Мы могли раздобыть норвежские кроны, но по эту сторону Атлантического океана они не решали проблемы. Мы могли обратиться с просьбой о субсидии, но вряд ли нам дали бы ее на доказательство спорной теории; в конце концов именно поэтому мы затеяли путешествие на плоту. Вскоре мы убедились, что ни газетные тресты, ни отдельные меценаты не решаются вложить деньги в предприятие, которое сами они и все страховые общества считали самоубийственным; но если мы вернемся живыми и невредимыми, тогда все будет по-иному.
Положение было довольно мрачным, и в течение многих дней мы не видели никакого выхода. Тогда на сцене снова появился полковник Мунте-Кос.
— Вы на мели, ребята, — сказал он. — Вот для начала чек. Я могу подождать, пока вы вернетесь с островов Южного моря.
Еще несколько человек последовали его примеру, и вскоре полученных нами взаймы сумм оказалось достаточно, чтобы мы могли снова взяться за дело без помощи посредников и других коммерсантов. Пора было лететь в Южную Америку и приступить к постройке плота.
Древние перуанские плоты строились из бальсового дерева, которое в сухом состоянии легче пробки. Бальсовые деревья растут в Перу, но только далеко от побережья, за Андами; поэтому во времена инков мореплаватели добирались вдоль берега до Эквадора и там рубили огромные бальсовые деревья у самого Тихого океана. Мы собирались поступить так же.
В наше время путешественник сталкивается с coвершенно иными проблемами, чем во времена инков. В нашем распоряжении автомобили, и самолеты, и бюро путешествий; но чтобы дело не оказалось слишком легким, у нас зато имеются препятствия, называемые границами, на которых не в меру ретивые стражи с медными пуговицами проверяют вашу личность, перерывают ваш багаж и мучают вас бесконечными анкетами, если вы благополучно пройдете все предварительные испытания. Страх перед этими людьми с медными пуговицами заставил нас прийти к выводу, что мы не можем высадиться в Южной Америке с ящиками и чемоданами, полными странных вещей, и, вежливо раскланявшись, попросить на ломаном испанском языке разрешения построить плот и отплыть на нем. Нас, наверно, упрятали бы в тюрьму.
— Нет, — сказал Герман, — мы должны иметь официальное разрешение.
Один из наших приятелей из ликвидированного триумвирата был корреспондентом при Организации Объединенных Наций; он отвез нас туда на автомобиле. Когда мы вошли в большой зал заседаний, где представители всех народов сидели рядом на скамьях, все молча слушали горячую речь черноволосого русского, который стоял перед огромной картой мира, висевшей на стене. Эта сцена произвела на нас сильное впечатление.
Нашему приятелю-корреспонденту удалось во время перерыва завладеть одним из делегатов Перу, а затем одним из представителей Эквадора. Сидя в вестибюле на мягком кожаном диване, они внимательно выслушали наш проект переплыть океан с целью подтвердить теорию о том, что создатели древней цивилизации на их родине были первыми людьми, достигшими островов Тихого океана. Оба обещали информировать о нашем плане свои правительства и гарантировали нам содействие, когда мы прибудем в Перу и Эквадор. Проходивший через приемную Трюгве Ли, услышав, что мы его соотечественники, подошел к нам, и кто-то предложил ему отправиться с нами на плоту. Но для него было достаточно бурь и на суше. Помощник секретаря Организации Объединенных Наций, доктор Бенхамин Коен из Чили, известный археолог-любитель, дал мне письмо к президенту республики Перу, который был его личным другом. В вестибюле мы встретили также норвежского посла Вильгельма фон Мюнте-Моргенстьерне, который с этого времени оказывал экспедиции неоценимую помощь.
Итак, мы купили два билета и полетели в Южную Америку. Когда четыре мощных мотора заревели один за другим, мы, совершенно обессиленные, откинулись в глубоких креслах. Трудно выразить словами то чувство облегчения, какое мы испытывали при мысли о том, что с первой частью программы покончено и что теперь мы движемся прямо навстречу приключениям.

Глава 3
В южной АМЕРИКЕ
Мы приземляемся на экваторе. — Проблема бальсовых деревьев. — На самолете в Кито. — Охотники за головами и «бандидпс». — По Андам на «виллисе». — В дебрях джунглей. — В Киведо. — Мы рубим бальсовые деревья. — Вниз по реке Паленке на плоту. — Заманчивый военный порт. — У морского министра v в Лиме. — Встреча с президентом Перу. — Появление Даниельссона. — Возвращение в Вашингтон. — Двенадцать килограммов документов. — Боевое крещение Германа. — Мы строим плот в военном порту. — Предостережения. — Накануне отплытия. — Плот назван «Кон-Тики». — Прощай, Южная Америка!
Как только самолет перелетел экватор, начался постепенный спуск сквозь молочно-белые облака, которые раньше простирались под нами, подобно ослепительной снежной пустыне в сверкающих лучах солнца. Клочковатый туман липнул к окнам самолета, затем он рассеялся и повис над нашими головами в виде облаков, а внизу показалась ярко-зеленая волнистая поверхность джунглей. Мы летели над южноамериканской республикой Эквадор и приземлились в тропическом аэропорту Гуаякиль. С куртками, жилетами и пальто на руке, столь необходимыми накануне, мы вылезли из самолета и очутились в атмосфере теплицы; отвечая на приветствия разговорчивых южан в тропической одежде, мы чувствовали, как наши рубашки прилипали к спине, подобно мокрой бумаге. Таможенные и иммиграционные чиновники обнимали нас и чуть не на руках доставили до такси, на котором мы доехали до лучшей в городе, единственной хорошей гостиницы. Там каждый из нас поспешно отыскал свою ванну и, напустив холодной воды, залез в нее.
Мы прибыли в страну, где растут бальсовые деревья, и теперь нам предстояло закупить лес для постройки плота.
Первый день мы посвятили изучению денежной системы и нескольких испанских фраз, с помощью которых мы смогли бы найти дорогу обратно в гостиницу.
На второй день мы рискнули расстаться с ваннами и совершили несколько прогулок на постепенно увеличивавшиеся расстояния. И когда Герман удовлетворил свое детское желание потрогать настоящую пальму, а я наелся до отвала фруктами, мы решили заняться покупкой бальсовых деревьев.
К несчастью, это было легче сказать, чем сделать. Конечно, мы могли приобрести достаточное количество бальсовой древесины, но не в виде необходимых нам целых бревен. Прошли времена, когда бальсовые деревья рубили тут же на побережье. Последняя война с ними покончила; их валили тысячами и отправляли на авиационные заводы, так как это очень пористая и легкая древесина. Нам сообщили, что теперь крупные бальсовые деревья растут только в джунглях внутри страны.
— В таком случае мы должны отправиться внутрь страны и сами нарубить их, — сказали мы.
— Невозможно, — заявили авторитетные люди. — Период дождей уже начался, и все дороги в джунглях непроходимы из-за разлива рек и непролазной грязи. Если вам нужны бальсовые деревья, возвращайтесь в Эквадор через полгода; тогда дожди окончатся и дороги в джунглях просохнут.
Очутившись в безвыходном положении, мы отправились к дону Густаво фон Бухвальд, бальсовому королю Эквадора, и Герман развернул эскиз плота, на котором были указаны размеры необходимых нам бревен. Щуплый, небольшого роста бальсовый король, не теряя времени, схватился за телефонную трубку и разослал своих агентов на поиски. На любом лесопильном заводе имелись доски разной толщины и отдельные короткие бревна, но ни одного подходящего бревна они не смогли отыскать. На свалке у самого дона Густаво нашлись два больших бревна, сухих, как трут, но на них мы далеко не уехали бы. Было ясно, что поиски бесполезны.
— У моего брата большая плантация бальсовых деревьев, — сказал дон Густаво. — Его зовут дон Федерико, и он живет в Киведо, небольшом поселке среди джунглей. Он снабдит вас всем, что вам нужно, как только мы сможем связаться с ним по окончании дождей. Сейчас ничего не выйдет, так как в джунглях идут дожди.
Если дон Густаво сказал, что ничего не выйдет, то и все специалисты Эквадора по бальсовым деревьям также скажут, что ничего не выйдет. Итак, мы были в Гуаякиле без единого бревна для плота и не имели возможности поехать и самим срубить деревья; такая возможность появится только через несколько месяцев, когда будет уже слишком поздно.
— Время не терпит, — сказал Герман.
— И мы должны достать бальсовые деревья, — сказал я. — Плот должен быть точной копией, иначе мы вряд ли останемся в живых.
Маленькая школьная карта, которую мы достали в гостинице, с зелеными джунглями, коричневыми горами и красными кружочками населенных пунктов, рассказала нам, что джунгли беспрерывно тянутся от берегов Тихого океана до самого подножия могучих Анд. У меня появилась мысль. Сейчас было явно невозможно добраться из прибрежного района через Джунгли до Киведо, где растут бальсовые деревья; но что, если мы попытаемся добраться до них с противоположной стороны, спустившись в чащу джунглей с обнаженных снежных цепей Анд? Это был выход, единственный, который мы видели.
На аэродроме имелся небольшой грузовой самолет, на котором нас согласились доставить в Кито, столицу этой своеобразной страны, расположенную на горном плато в Андах на высоте 3 000 метров над уровнем моря. Кое-как устроившись среди ящиков и самолетного оборудования, мы то и дело поглядывали на зеленые джунгли и сверкающие реки, пока самолет не вошел в облака. Когда мы вынырнули из них, безбрежное море клубящегося тумана скрыло долины от нашего взора, но впереди на фоне ослепительно голубого неба из облаков выступили суровые склоны гор и голые скалы.
Самолет лез прямо вверх вдоль склона гор, словно по невидимому фуникулеру, и хотя мы находились над самым экватором, перед нами тянулись сверкающие снеговые поля. Затем мы нырнули между скалами и очутились над высокогорным плато, покрытым богатой весенней растительностью; там мы приземлились близ самой своеобразной в мире столицы.
Из стапятидесятитысячного населения Кито большинство являлось чистокровными горными индейцами и метисами, так как это была столица их предков еще задолго до того, как Колумб и жители Северной Европы открыли Америку. Город имел свой особый облик благодаря старинным монастырям, где хранились бесценные художественные сокровища, и другим величественным зданиям эпохи испанского господства, которые возвышались над кровлями низких домов индейцев, построенных из необожженного кирпича. Целый лабиринт узких улиц тянулся среди глиняных стен; улички кишели горными индейцами в испещренных красными пятнами плащах и высоких шляпах собственного изделия. Одни шли на базар, погоняя нагруженных ослов, другие сидели, сгорбившись, вдоль глинобитных стен и дремали на солнцепеке. Несколько автомобилей с аристократами испанского происхождения, одетыми в тропические костюмы, проследовали один за другим, медленно двигаясь и беспрестанно сигналя, чтобы проложить себе путь среди детей, ослов и босоногих индейцев. Воздух здесь, на высоком плато, был так прозрачен, что окрестные горы казались частью уличного пейзажа и усиливали сказочность обстановки. Наш приятель по самолету Хорхе, по прозванию «сумасшедший летчик», происходил из старинной испанской семьи в Кито. Он устроил нас в забавной старомодной гостинице, а затем принялся рыскать по городу, то с нами, то один, в поисках какого-нибудь транспорта, который мог бы доставить нас через горы, а затем дальше, в джунгли — в Киведо. Вечером мы встретились в старинном испанском кафе, и Хорхе преподнес нам плохие новости: мы должны выкинуть из головы всякую мысль о поездке в Киведо. Невозможно найти ни экипажа, ни проводников для переезда через горы; уж, конечно, не могло быть и речи о путешествии в джунгли, где начались дожди и где путникам грозила опасность подвергнуться нападению, если они застрянут в грязи. Лишь в прошлом году десять американских инженеров-нефтяников были убиты отравленными стрелами в восточной части Эквадора. Здесь до сих пор живет много лесных индейцев, которые бродят абсолютно голые по джунглям и охотятся с помощью отравленных стрел.
— Некоторые из этих индейцев являются охотниками за головами, — замогильным голосом сообщил Хорхе, видя, что Герман, не обнаруживая никаких признаков беспокойства, продолжает уплетать жаркое и запивать его красным вином.
— Вы думаете, что я преувеличиваю, — продолжал он шепотом, — Но хотя это строго запрещено, у нас есть еще люди, которые зарабатывают на жизнь продажей высушенных человеческих голов. Эту торговлю невозможно пресечь, так как и по сегодняшний день лесные индейцы отрубают головы своих врагов из других бродячих племен. Они разбивают и вынимают кости черепа, а пустую кожу головы наполняют горячим песком; голова сморщивается и становится не больше кошачьей, но форма остается прежней, и черты лица сохраняются. Эти сморщенные головы врагов когда-то были ценными трофеями, теперь они являются дефицитным товаром на черном рынке. Метисы-посредники доставляют их торговцам на побережье, а те перепродают туристам по баснословным ценам.
Хорхе торжествующе посмотрел на нас. Он и не подозревал, что днем Германа и меня затащили в комнату швейцара и предложили купить две такие головы по тысяче сукре
[126] за штуку. Эти головы теперь часто подделывают, пуская в ход головы обезьян, но те, что нам показали, были самые настоящие головы чистокровных индейцев, так хорошо сохранившиеся, что можно было различить мельчайшие черты лица. Это были головы мужчины и женщины, каждая величиной с апельсин; женщина была прехорошенькая, хотя только ресницы и длинные черные волосы сохранили свои естественные размеры. Я содрогнулся при этом воспоминании, но выразил сомнение в том, что охотники за головами встречаются к западу от гор.
— Никто не может этого знать, — мрачно заявил Хорхе. — А что вы скажете, если ваш друг исчезнет, а затем на рынке появится его голова в миниатюре? Однажды так произошло с моим другом, — добавил он, пристально глядя на меня.
— Расскажите нам об этом, — попросил Герман, медленно и с не особенно большим удовольствием пережевывая жаркое.
Я аккуратно отложил в сторону вилку, и Хорхе принялся за свой рассказ. Как-то он вместе с женой жил в маленьком поселке среди джунглей, занимаясь промывкой золота и скупкой добычи других старателей. У них был друг, местный житель, который регулярно приносил им золото и менял его на товары. И вот этого друга убили в джунглях. Хорхе выследил убийцу и пригрозил, что застрелит его. Убийца был одним из тех, кого подозревали в торговле сморщенными человеческими головами, и Хорхе пообещал ему оставить его в живых, если он тотчас же отдаст голову. Убийца немедленно принес голову друга Хорхе, ставшую теперь величиной с мужской кулак. Хорхе страшно расстроился, когда снова увидел своего друга, так как тот совершенно не изменился, если не считать того, что он стал таким маленьким. Очень взволнованный, он принес маленькую голову домой жене. При виде ее жена упала в обморок, и Хорхе пришлось спрятать своего друга в чемодан. Но в джунглях было так сыро, что голова покрывалась целыми наростами зеленой плесени, и Хорхе приходилось время от времени вытаскивать ее и сушить на солнце. Она очень мило покачивалась, привязанная за волосы к бельевой веревке, а жена Хорхе падала в обморок каждый раз, как видела ее. Но однажды мышь прогрызла дыру в чемодане и основательно изуродовала голову. Хорхе был очень опечален и похоронил своего друга со всеми церемониями в маленькой ямке на аэродроме.
— Ведь это все-таки было человеческое существо, — так закончил свой рассказ Хорхе.
— Прекрасный обед, — сказал я, чтобы перевести разговор на другую тему.
Когда мы шли в темноте домой, вид Германа с низко надвинутой на уши шляпой вызывал во мне какое-то неприятное чувство. Впрочем, он просто натянул ее поглубже, чтобы защититься от холодного ночного ветра, дувшего с гор.
На следующий день мы сидели с нашим генеральным консулом Брюном и его женой в их большом загородном имении под высокими эвкалиптами. Брюн считал маловероятным, что проектируемое нами путешествие через джунгли в Киведо может повести к сколько-нибудь значительному изменению размеров наших шляп, но… в тех районах, которые мы собирались посетить, водились разбойники. Он достал вырезки из местных газет; в них сообщалось, что после наступления сухого сезона необходимо будет послать отряды солдат для уничтожения «бандидос», заполнивших прилегающие к Киведо районы. Отправиться туда теперь было бы чистым безумием, и мы ни в коем случае не достанем ни проводников, ни средств передвижения. Когда мы с ним разговаривали, по дороге промчался «виллис» американского военного атташе, и это подало нам новую идею. В сопровождении генерального консула мы отправились в американское посольство, и нам удалось повидать самого военного атташе. Это был подтянутый, жизнерадостный молодой человек в хаки и высоких сапогах; смеясь, он спросил нас, почему мы шатаемся на вершинах Анд в то время, как местные газеты сообщают, что мы должны отправиться в плавание по океану на деревянном плоту.
Мы объяснили, что деревья стоят еще на корню в киведских джунглях. А мы залезли сюда, на крышу материка, и не можем добраться до них. Мы попросили военного атташе одолжить нам либо а) самолет и два парашюта, либо б) «виллис» с водителем, который знает страну.
В первый момент военный атташе не мог произнести ни слова, пораженный нашим нахальством; затем он безнадежно покачал головой и, улыбаясь, сказал: «Ладно, если третьей возможности нет, предпочитаю вторую».
Назавтра в четверть шестого утра к подъезду гостиницы подкатил «виллис»; из него выпрыгнул капитан инженерных войск эквадорской армии и доложил, что он прибыл в наше распоряжение. Он имел предписание доставить нас в Киведо, какая бы ни была грязь. «Виллис» был забит канистрами с бензином, так как по дороге, по которой нам предстояло ехать, не было ни бензиновых колонок, ни даже следов колес. В связи с сообщениями о «бандидос» наш новый друг капитан Агурто Алексис Альварес был вооружен до зубов ножами и огнестрельным оружием. Мы же приехали в Эквадор с самыми мирными намерениями, в куртках и галстуках, чтобы купить на побережье лес за наличные деньги, и все наше имущество на «виллисе» состояло из мешка с банками консервов, если не считать наскоро купленных нами брезентовых брюк цвета хаки — по паре на каждого — и подержанного фотоаппарата. Кроме того, генеральный консул навязал нам свой большой парабеллум с полным запасом патронов для уничтожения всех, кто вздумает преградить нам путь. «Виллис» со свистом пронесся по пустым уличкам, где призрачный свет луны освещал побеленные глинобитные стены, мы выехали за город и с головокружительной скоростью помчались по хорошей песчаной дороге на юг через горы.
Хорошая дорога вдоль хребта тянулась до горной деревни Латакунга, где индейские домики без окон теснились вокруг белой деревенской церкви с пальмами на площади перед нею. Здесь мы свернули на дорогу для мулов, которая, то поднимаясь, то опускаясь, извивалась на запад через холмы и долины Анд. Мы очутились в мире, какой нам никогда не снился. Это был мир горных индейцев — к востоку от солнца и к западу от месяца
[127], вне времени и вне пространства. За все время пути мы не видели ни одной телеги, ни одного колеса. Нам попадались только босоногие пастухи в пестрых пончо, которые гнали перед собой беспорядочные стада медлительных лам, а изредка по дороге проходили целые семьи индейцев. Муж обычно ехал впереди на муле, между тем как его маленькая жена семенила сзади с целой коллекцией шляп на голове и младшим ребенком в корзине за спиной. И все время она на ходу пряла шерсть. Позади трусили предоставленные самим себе ослы и мулы, нагруженные сучьями, камышом и глиняной посудой.
Чем дальше мы подвигались, тем реже встречались нам индейцы, говорившие по-испански, и вскоре лингвистические познания Агурто стали такими же бесполезными, как и наши. Здесь и там виднелись кучки хижин, лепившихся на склонах гор; глиняные строения попадались все реже и реже, все чаще и чаще встречались хижины из веток и сухой травы. И эти постройки и коричневые от солнца люди с покрытыми сетью морщин лицами казались выросшими из самой земли под лучами палящего солнца Анд. Они являлись такой же неотъемлемой частью скал, каменных осыпей и горных пастбищ, как и сама трава горных лугов. Владевшие лишь жалким скарбом, низкорослые горные индейцы отличались железной выносливостью диких животных и детской непосредственностью первобытного народа; и чем меньше они разговаривали, тем больше они смеялись. Мы везде встречали сияющие лица с белоснежными зубами. Белый человек вряд ли мог истратить или заработать в этих местах хотя бы один шиллинг. Здесь не было ни афиш, ни дорожных знаков, и если на дорогу падала какая-нибудь жестянка или обрывок бумаги, их немедленно подбирали как полезную для хозяйства вещь.
Мы поднимались вверх по сожженным солнцем склонам без единого куста или дерева и опускались в долины, покрытые бесплодными песками, поросшими лишь кактусами, пока не взобрались, наконец, на самый гребень гор; вокруг расстилались снежные поля и дул такой пронизывающий холодный ветер, что мы должны были убавить скорость, чтобы не превратиться в ледяные сосульки; замерзая в своих легких рубашках, мы мечтали о жаре джунглей. Нам долго пришлось кружить среди гор по каменным осыпям и травянистым склонам, отыскивая дальнейшую дорогу. Но когда мы достигли западного склона, где Анды круто обрываются к подножию, верховая тропа, по которой мы двигались, дальше шла по нависшим над пропастью карнизам и со всех сторон нас окружали лишь отвесные скалы и узкие ущелья. Мы возложили все наши надежды на Агурто, который, скрючившись, сидел за рулем, изворачиваясь, и успевал вовремя свернуть всякий раз, как мы приближались к краю пропасти. Внезапно резкий порыв ветра ударил нам в лицо; мы достигли края гребня, откуда Анды рядом обрывистых уступов круто спускались к джунглям, которые лежали далеко внизу, на дне пропасти глубиной около 4 000 метров. Но нам не пришлось испытать головокружение при взгляде на это далекое море джунглей: как только мы достигли края гребня, нас окутала пелена густых облаков, непроницаемых, как дым из котла ведьмы. Но теперь дорога шла круто вниз без всяких препятствий. Все время вниз, вдоль ущелий, скал и гребней, а воздух становился все более влажным и теплым и все больше наполнялся тяжелым душным ароматом теплиц, который поднимался из расстилавшихся внизу джунглей.
А затем начался дождь. Сначала небольшой, но вскоре он забарабанил по нашему «виллису» изо всех сил: отовсюду с гор мчались потоки воды шоколадного цвета. Мы тоже чуть не плыли, спускаясь с сухого горного плато в совершенно другой мир, в котором все — и камень, и дерево, и глина — было одето мягким, пропитанным влагой покровом из мха и дерна. Вокруг росли большие листья; иногда они увеличивались до гигантских размеров и свисали, как зеленые зонтики, обдавая брызгами склоны гор. Затем появились первые редкие гонцы тропического леса, с которых длинной бахромой свисали мох и лианы. Повсюду слышалось журчание и плеск воды. По мере того как спуск становился более пологим, джунгли быстро стали обступать нас все теснее; наконец армия зеленых исполинов поглотила наш маленький «виллис», который медленно двигался, поднимая фонтаны брызг, по совершенно размокшей глинистой дороге. Воздух был влажный и теплый, тяжелый от наполнявших его ароматов растений.
Стало уже темно, когда мы на склоне хребта достигли кучки хижин, покрытых пальмовыми листьями. Совершенно промокшие под теплым дождем, мы вылезли из машины, чтобы провести ночь под крышей. Полчища блох, напавшие на нас в хижине, мы назавтра утопили в дожде. Нагруженный бананами и другими южными фруктами, наш «виллис» продолжал свой путь сквозь джунгли все ниже и ниже, хотя нам казалось, что мы уже давно достигли конца спуска. Грязь становилась более вязкой, но мы продолжали беспрепятственно двигаться, а разбойники пока не обнаруживали своего присутствия.
Лишь тогда, когда широкая мутная река, катившая свои воды сквозь джунгли, преградила нам дорогу, «виллис» остановился. Мы прочно застряли, так как берег и вверх и вниз по реке был совершенно непроходим. На небольшой прогалине стояла хижина, возле которой несколько метисов развешивали шкуру ягуара на залитой солнцем стене, а собаки и куры барахтались в грязи и забавлялись тем, что взбирались на кучи бобов какао, рассыпанных для просушки на солнце. Когда «виллис», то и дело застревая в грязи, приблизился к хижине, все сорвались со своих мест; метисы, говорившие по-испански, сообщили, что эта река называется Паленке, а Киведо находится на том берегу, как раз напротив. Никакого моста здесь не было, река быстрая и глубокая, но они готовы переправить нас вместе с автомобилем на плоту. Это курьезное сооружение лежало на берегу у самой воды. Кривые бревна — толщиною некоторые с руку, а некоторые с ногу — были скреплены между собой растительными волокнами и побегами бамбука, образуя шаткий плот, вдвое длиннее и вдвое шире нашего «виллиса».
Подложив по доске под каждое колесо и с волнением ожидая, что из этого выйдет, мы втащили машину на бревна; хотя большая часть из них погрузилась в мутную воду, все-таки плот выдерживал «виллис», и нас, и четырех полуголых мужчин шоколадного цвета, которые длинными шестами отталкивали плот от берега.
— Бальса? — в один голос спросили Герман и я.
— Бальса, — подтвердил один из парней, непочтительно пнув ногой бревна.
Течение подхватило нас и понесло вниз по реке; время от времени мужчины налегали на свои шесты и удерживали плот в нужном направлении; мы пересекли реку наискось и очутились в более спокойной воде у того берега. Такова была наша первая встреча с бальсовым деревом и первое плавание на бальсовом плоту. Мы благополучно пристали к противоположному берегу и торжественно въехали в Киведо. Два ряда просмоленных бревенчатых домов с пальмовыми крышами, на которых неподвижно сидели грифы, образовывали что-то вроде улицы, и это был весь поселок. Жители бросили свои занятия, и все, черные и коричневые, молодые и старые, высыпали кто из дверей, кто из окон. Они мчались навстречу «виллису» — грозная шумная человеческая волна. Они окружили автомобиль со всех сторон, карабкались в него и подлезали под него. Мы крепко держали свои пожитки, между тем как Агурто отчаянно крутил руль. Затем одна из шин получила прокол, и «виллис» опустился на одно колесо. Мы прибыли в Киведо и должны были претерпеть церемонию приветственных объятий.
Плантация дона Федерико находилась немного дальше вниз по реке. Когда «виллис» с Агурто, Германом и мною появился, ныряя по ухабам, на дорожке среди манговых деревьев, худощавый старый житель джунглей быстро зашагал нам навстречу. Его сопровождал племянник, Анхело, юноша, который жил с ним в лесу. Мы передали письмо от дона Густаво, и вскоре наш «виллис» стоял один во дворе. Тем временем над джунглями разразился освежающий тропический ливень. В доме дона Федерико нас ждал праздничный обед. Цыплята и молочные поросята, потрескивая, жарились на открытом огне, а мы сидели вокруг стола, заваленного тропическими фруктами, и объясняли цель своего приезда. Через затянутые сеткой окна до нас доносился шум тропического дождя и теплый сладкий запах цветущих растений.
Дон Федерико оживился, как мальчик. Ну, конечно, он видел бальсовые плоты, когда был еще ребенком. Пятьдесят лет назад, когда он жил внизу, на побережье, индейцы из Перу частенько приплывали в Гуаякиль для продажи рыбы на больших бальсовых плотах, шедших под парусом вдоль берега. Они привозили несколько тонн сушеной рыбы, загружая ею бамбуковую каюту, стоявшую посредине плота, или же с ними приплывали жены, и дети, и собаки, и домашняя птица. Такие большие бальсовые деревья, какие они употребляли для постройки плотов, теперь во время дождей найти будет трудно, так как добраться даже верхом на лошади до бальсовых плантаций, находящихся наверху в лесах, невозможно из-за половодья и непролазной грязи. Но Дон Федерико сделает все, что в его силах; быть может, найдется несколько деревьев в лесу недалеко от бунгало, а нам нужно ведь не так много.
Поздно вечером дождь на время прекратился, и мы совершили прогулку под манговыми деревьями вокруг бунгало. Здесь у дона Федерико росли всевозможные сорта диких орхидей, которые свисали с веток; в качестве горшков им служили половинки кокосовых орехов. В отличие от культурных сортов орхидей эти редкие растения обладают чудесным ароматом. Когда Герман нагнулся, чтобы понюхать один из цветков, из листвы над его головой высунулось что-то вроде длинного тонкого блестящего угря. Молниеносный удар бича Анхело, и на землю упала извивающаяся змея. Секундой позже юноша крепко прижал шею змеи к земле раздвоенной у конца палкой, а затем размозжил ей голову.
— Укус смертелен, — сказал он и в доказательство продемонстрировал нам два изогнутых ядовитых зуба.
Нам казалось, что повсюду мы видим ядовитых змей, притаившихся в листве, и мы поспешили войти в дом, захватив с собой трофей Анхело, безжизненно свисавший с палки. Герман уселся, чтобы снять кожу с зеленого чудовища, а дон Федерико принялся рассказывать фантастические истории о ядовитых змеях и удавах толщиной в тарелку, как вдруг мы увидели на стене тени двух огромных скорпионов, величиной с омаров. Бросаясь друг на друга, они вели смертельную схватку, сцепившись клешнями, изгибая заднюю часть туловища и готовясь нанести решающий удар ядовитым жалом на хвосте. Это было жуткое зрелище; только после того, как кто-то из нас переставил керосиновую лампу, мы поняли, что это она отбрасывала сверхъестественную огромную тень двух самых обыкновенных скорпионов величиной с палец, которые дрались на краю стола.
— Пусть себе дерутся, — смеясь, сказал дон Федерико. — Один уничтожит другого, а тот, кто выживет, пригодится нам, чтобы в доме не водились тараканы. Нужно только плотно закрывать кровать москитной сеткой и встряхивать одежду, прежде чем начать одеваться, и все будет в порядке. Меня не раз кусали скорпионы, и я все еще жив, — со смехом добавил старик.
Я спал хорошо, если не считать того, что просыпался с мыслью о ядовитых тварях всякий раз, когда ящерица или летучая мышь слишком громко пищала или скреблась у меня под ухом.
Мы проснулись на заре, чтобы пораньше отправиться на поиски бальсовых деревьев.
— Встряхнем-ка как следует одежду, — сказал Агурто, и при этих словах скорпион выпал из рукава его рубашки и исчез в щели пола.
Сразу после восхода солнца дон Федерико разослал своих рабочих верхом на лошадях по всем направлениям, чтобы осмотреть, не найдется ли вблизи от троп бальсовых деревьев, к которым можно было бы подступиться. Сами мы, дон Федерико, Герман и я, вскоре добрались до открытой поляны, на которой, как знал дон Федерико, росло гигантское старое дерево. Оно намного возвышалось над всеми окружавшими его деревьями, а толщина ствола составляла около метра. По полинезийскому обычаю, прежде чем начать рубить дерево, мы дали ему имя; мы назвали его Ку в честь полинезийского божества американского происхождения. Затем я взмахнул топором и вонзил его в ствол бальсового дерева, и вскоре звуки топора разнеслись по всему лесу. Но рубить дряблую бальсовую древесину — это все равно, что рубить пробку тупым топором; топор просто отскакивал, и, сделав несколько ударов, я вынужден был уступить место Герману. Топор переходил из рук в руки, летели щепки, а с нас — в духоте джунглей — струился пот в три ручья. К концу дня Ку стоял, как петух, на одной ноге, содрогаясь под нашими ударами. Затем он зашатался и тяжело рухнул, цепляясь за окружающие деревья и ломая при своем падении крупные ветви и небольшие деревца. Мы очистили ствол от сучьев и стали сдирать кору, делая зигзагообразные надрезы, как это было принято у индейцев. Вдруг Герман уронил топор и, схватившись за ногу, бешено запрыгал, словно изображал военный танец полинезийцев. Из штанины его брюк выпал блестящий муравей, величиной со скорпиона и с длинным жалом на хвосте
[128]. Голова у него была твердая, как клешня омара. Мы с большим трудом раздавили его на земле ударами каблука.
— Конго, — соболезнующе пояснил дон Федерико. — Эта маленькая тварь хуже скорпиона, но для здорового человека укус не опасен.
Нога у Германа ныла и болела несколько дней, но это не помешало ему скакать с нами на лошади по лесным тропинкам в поисках новых исполинских бальсовых деревьев. Время от времени мы слышали в девственном лесу скрип и треск и глухой шум падения. Дон Федерико с довольным видом кивал головой. Это означало, что его рабочие-метисы свалили еще одно огромное бальсовое дерево для плота. В течение недели к Ку присоединились Кане, Кама, Ило, Маури, Ра, Ранги, Папа, Таранга, Кура, Кукара и Хити — всего двенадцать могучих бальсовых деревьев, названных в честь легендарных полинезийских героев, чьи имена были когда-то привезены вместе с именем Тики из-за океана из Перу. Блестевшие от сока бревна были вывезены из леса сначала с помощью лошадей, а затем трактором дона Федерико, доставившим их к берегу реки перед бунгало.
Бревна, полные древесного сока, были далеко не такими легкими, как пробка. Они весили, конечно, по тонне каждое, и мы с большой тревогой думали о том, как они будут держаться на воде. Одно за другим мы подкатили их к краю берега; там мы к концу каждого бревна привязали веревку из прочных стеблей лиан, чтобы его не унесло течением, когда оно будет спущено в воду. Затем мы скатили бревна по одному с берега в реку. Падение каждого бревна сопровождалось огромными фонтанами брызг. Бревна кружились и плавали, погрузившись в воду до половины; они не оседали, когда мы проходили по ним. Связав бревна прочными лианами, которые повсюду свисали с верхушек дерева в джунглях, мы устроили два временных плота; один из них должен был вести другой на буксире. Затем мы погрузили на плоты запас бамбуковых стволов и лиан, которые должны были понадобиться нам впоследствии, и я с Германом вступил на плот в сопровождении двух мужчин неизвестной смешанной расы, которые не понимали нас и которых мы не понимали.
Когда мы отчалили от берега, бурлящий поток воды подхватил нас и быстро понес вниз по течению. Огибая первый мыс, мы бросили прощальный взгляд назад и сквозь брызги воды увидели наших любезных друзей, которые стояли у края берегового выступа перед бунгало и махали нам вслед. Затем мы забрались под маленький навес из зеленых банановых листьев и предоставили управляться с плотом двум коричневым специалистам, которые каждый с большим веслом в руках, устроились один на носу, а другой на корме. Они небрежными движениями без всяких усилий удерживали плот на самой быстрине, и мы, покачиваясь, неслись вниз по реке, то и дело меняя курс, чтобы обогнуть затопленные стволы деревьев и песчаные отмели.
Джунгли стояли сплошной стеной вдоль обоих берегов; попугаи и другие птицы с ярким оперением выпархивали из густой листвы, когда мы проплывали мимо. Несколько раз аллигатор бросался в реку при нашем приближении и исчезал в мутной воде. Вскоре, впрочем, мы увидели еще более замечательное чудовище. Это была игуана
[129], или гигантская ящерица величиной с крокодила, но с большим горловым мешком и гребнем вдоль спины. Она дремала на глинистом берегу, словно спала здесь с доисторических времен, и не пошевелилась, когда мы бесшумно проплыли мимо нее. Гребцы делали нам знаки, чтобы мы не стреляли. Немного времени спустя мы увидели другую игуану, длиною около метра. Она удирала по толстому суку, который свешивался над плотом. Очутившись в безопасности, игуана остановилась, сверкая на солнце своей сине-зеленой кожей, и уставилась на нас холодными змеиными глазами. Позже мы плыли мимо поросшего папоротником пригорка, и на его вершине увидели еще одну игуану, самую большую из всех. Неподвижно стоя с поднятой грудью и головой, она вырисовывалась на фоне неба, напоминая силуэт полосатого дракона, высеченного из камня. Она даже не повернула головы, когда мы огибали пригорок, а затем исчезла в джунглях.

Плывя дальше, мы почуяли запах дыма и увидели на прогалинах вдоль берега несколько хижин с соломенными крышами. Наш плот привлек пристальное внимание стоявших на берегу людей зловещего вида, которые представляли собой уродливую помесь индейцев, негров и испанцев. Их лодки, большие выдолбленные челноки, лежали на берегу, перевернутые вверх дном.
Когда наступило время обеда, мы заменили наших приятелей у рулевых весел, пока те жарили рыбу и плоды хлебного дерева на небольшом костре, разведенном на слое мокрой глины. Жареные цыплята, яйца и тропические фрукты также входили в состав нашей трапезы. А плот тем временем продолжал быстро плыть и уносил нас сквозь джунгли к океану. Какое нам теперь дело до того, что дожди затопили всю страну? Чем сильнее дожди, тем быстрее течение в реке.
Когда темнота окутала реку, на берегу начался оглушительный концерт. Жабы и лягушки, сверчки и москиты, квакая, треща и жужжа, составляли мощный многоголосый хор. Время от времени в темноте раздавался пронзительный визг дикой кошки то тут, то там слышался тревожный писк птиц, спугнутых с места ночными мародерами джунглей. Несколько раз мы видели тусклый свет огня в хижине лесных жителей и слышали крики людей и лай собак, когда мы проплывали во мраке мимо. Но большей частью тишина ночи нарушалась только лесным концертом, и мы молча сидели, любуясь звездным небом, пока сонливость и дождь не загнали нас в каюту из листьев, где мы улеглись спать, предварительно спустив предохранители револьверов.
Чем дальше плыли мы вниз по течению, тем чаще попадались нам хижины и туземные плантации, и вскоре по берегам появились настоящие деревни. Движение по реке поддерживалось здесь с помощью долбленых челноков, на которых плыли, отталкиваясь длинными шестами; тут и там мы видели маленькие бальсовые плоты, нагруженные кучами зеленых бананов.
У слияния Паленке с Рио Гуаяс вода стояла настолько высоко, что между городом Винсес и прибрежным портом Гуаякиль деловито курсировал колесный пароход. Для экономии времени Герман и я перебрались на борт парохода и поплыли на нем мимо густонаселенных плоских берегов к океану. Наши коричневые приятели должны были последовать за нами, оставаясь вдвоем на плоту.
В Гуаякиле Герман и я расстались. Он остался у устья реки Гуаяс, чтобы принять бальсовые бревна, когда они прибудут туда. Он должен был погрузить их на пароход каботажного плавания и доставить в Перу, а там приступить к постройке плота и проследить за тем, чтобы он был точной копией старинных индейских плотов. Я же на рейсовом самолете вылетел на юг, в столицу Перу, Лиму, чтобы подыскать подходящее место для постройки плота.
Самолет летел на большой высоте вдоль берега Тихого океана; с одной стороны тянулись пустынные горы Перу, а с другой далеко внизу расстилался сверкающий океан. Там предстояло нам начать свое плавание на плоту. Когда я смотрел с высоты на океан, он казался мне безграничным. Небо и море сливались на неуловимой черте горизонта далеко-далеко на западе, и я не мог отделаться от мысли, что и за горизонтом простираются многие сотни таких морских равнин, которые огибают одну пятую земного шара, прежде чем снова достигают земли — островов Полинезии. Я пытался сосредоточить свои мысли на том, что ожидает нас через несколько недель, когда мы поплывем на крошечном плоту по этому голубому беспредельному простору, но поспешно отогнал и эту мысль, так как она вызывала во мне неприятное ощущение, какое испытываешь, готовясь к прыжку с парашютом.
По прибытии в Лиму я поехал на трамвае в порт Кальяо на поиски места, где мы могли бы заняться постройкой плота. Я сразу же увидел, что все причалы были забиты судами и вдоль всего берега стояли краны и пакгаузы, таможенные склады, здания портового управления и прочие постройки. Немного дальше от гавани берег не был застроен, но был усеян таким количеством купальщиков, что эта любопытная публика в один миг растащила бы плот со всем снаряжением, как только мы отвернулись бы от него. Кальяо в настоящее время является самым крупным портом страны с семимиллионным белым и коричневым населением. Для строителей плотов времена в Перу изменились еще сильнее, чем в Эквадоре, и я видел один выход — проникнуть за высокий забор, окружавший военный порт, у железных ворот которого стояли часовые с оружием в руках, окидывавшие угрожающими и подозрительными взглядами меня и других посторонних людей, слонявшихся вдоль забора. Тот, кто сумеет попасть туда, будет находиться в полной безопасности.
В Вашингтоне я встретился с перуанским морским атташе и имел от него рекомендательное письмо. На следующий день я отправился с этим письмом в морское министерство и попросил, чтобы меня принял морской министр Мануэль Нието. Он принимал по утрам в красивом зале министерства, сверкающем зеркалами и позолотой и обставленном в стиле ампир. Я немного подождал, а затем вошел министр в парадной форме, низкий коренастый офицер, непреклонный, как Наполеон, говоривший лаконично и точно. Он спросил, что мне надо, и я ответил, что прошу, чтобы меня допустили в военный порт для постройки деревянного плота.
— Молодой человек, — сказал министр, раздраженно барабаня пальцами по столу. — Вы толкаетесь не в те двери. Я с удовольствием помогу вам, но мне нужно разрешение министра иностранных дел; само собой разумеется, что я не могу допустить иностранцев на военную территорию и разрешить им пользоваться военными мастерскими. Обратитесь письменно к министру иностранных дел. Желаю удачи.
Я с ужасом подумал о бумажках, пересылаемых с места на место и исчезающих в канцелярских дебрях. Какое счастье было жить в грубую эпоху Кон-Тики, когда не существовало таких препятствий, как письменное заявление. Попасть лично к министру иностранных дел было значительно труднее. Норвегия не имела дипломатического представительства в Перу, и наш генеральный консул Бар, всегда готовый услужить, мог устроить мне свидание только с советником министерства иностранных дел. Я боялся, что дальше этого дело не пойдет. Теперь могло пригодиться письмо доктора Коена президенту республики. И я обратился к адъютанту президента Перу с просьбой об аудиенции у его превосходительства дона Хосе Бустаменте Ривера. Через несколько дней мне сообщили, что я должен быть во дворце к двенадцати часам.
Лима представляет собой современный город с полумиллионным населением; он раскинулся на зеленой равнине у подножия пустынных гор. По своей архитектуре, а также в не меньшей степени благодаря садам и бульварам он, без сомнения, является одной из самых красивых столиц в мире — уголком современной Ривьеры или Калифорнии, оживленным красочными постройками в старинном испанском стиле. Дворец президента находится в центре города и усиленно охраняется вооруженными часовыми в яркой форме. Получить аудиенцию в Перу — дело серьезное, и подавляющее большинство жителей видело президента только на экране кино. Солдаты с блестящими патронташами провели меня вверх по лестнице, а затем по длинному коридору; в конце его трое штатских проверили мои документы и записали меня в книгу; передо мной открыли массивную дубовую дверь, и я очутился в комнате, где стоял длинный стол и несколько рядов стульев. Там меня встретил какой-то мужчина в белом костюме, попросил меня сесть, а сам исчез. Через несколько секунд распахнулась широкая дверь, и меня пригласили войти в следующую комнату, обставленную с гораздо большей роскошью. Какая-то важная фигура в безупречном мундире двинулась навстречу мне.
«Президент», — подумал я и вытянулся в струнку. Но нет. Человек в роскошном золотом мундире предложил мне сесть в старинное кресло с прямой спинкой и исчез. Я не просидел на краешке кресла и минуты, как растворилась еще одна дверь и слуга с поклоном пригласил меня в большую великолепно украшенную, позолоченную комнату с позолоченной мебелью. Слуга исчез так же внезапно, как и появился, и я в одиночестве остался сидеть на старинном диване, рассматривая анфиладу пустых комнат с открытыми настежь дверями. Было так тихо, что я слышал, как кто-то приглушенно кашлял за несколько комнат от меня. Затем послышались приближающиеся твердые шаги, я вскочил и нерешительно поклонился важному господину в форме. Но нет, это тоже был не он. Из сказанного этим господином я понял, что президент шлет мне приветствия и что он скоро освободится, как только закончится заседание совета министров. Спустя десять минут твердые шаги снова нарушили тишину, и на этот раз в комнату вошел человек с золотыми аксельбантами и эполетами. Я стремительно вскочил с дивана и низко поклонился. Человек поклонился еще ниже и повел меня через несколько комнат и вверх по лестнице, устланной толстыми коврами. Он покинул меня в крохотной комнате, в которой стояли диван и кожаное кресло. Вошел мужчина небольшого роста, в белом костюме; я покорно стоял, ожидая, что он опять меня куда-нибудь поведет. Но он никуда меня не повел, только любезно поздоровался и остался на месте. Это был президент Бустаменте Риверо.
Президент знал по-английски вдвое больше, чем я по-испански; после того как мы обменялись приветствиями и он жестом пригласил меня сесть, наш совместный запас слов был исчерпан. Знаками и жестами можно сказать многое, но нельзя с их помощью получить разрешение на постройку плота в перуанском военном порту. Мне было ясно, что президент меня не понимает, а ему самому это было еще яснее, так как через некоторое время он вышел, а затем вернулся в сопровождении министра авиации. Министр авиации, генерал Ревередо был энергичный, атлетически сложенный мужчина в форме военно-воздушных сил с крылышками на груди. Он великолепно говорил по- английски с американским акцентом.
Я попросил извинить меня за недоразумение и сказал, что хотел бы получить разрешение допустить меня не на аэродром, а в военный порт. Генерал рассмеялся и объяснил, что его пригласили сюда лишь в качестве переводчика. Шаг за шагом моя теория была изложена президенту, который внимательно слушал и задавал при посредстве генерала Ревередо дельные вопросы. Под конец он сказал:
— Если есть вероятность, что острова Тихого океана были впервые открыты людьми из Перу, то Перу заинтересовано в этой экспедиции. Скажите, чем мы можем помочь вам.
Я попросил отвести нам место на территории военного порта для постройки плота, дать нам возможность пользоваться флотскими мастерскими, предоставить помещение, где мы могли был хранить снаряжение, и дать разрешение на ввоз его в страну, разрешить пользоваться сухим доком и услугами рабочих порта для помощи нам в работе, а также дать судно, которое отбуксировало бы нас от берега, когда мы пустимся в путь.
— Что он просил? — нетерпеливо спросил президент таким тоном, что даже я понял.
— Ничего особенного, — не вдаваясь в подробности, ответил Ревередо. И президент, удовлетворившись таким ответом, кивнул в знак согласия.
Прежде чем аудиенция была окончена, Ревередо обещал, что министр иностранных дел получит личное указание от президента, а морскому министру Нието будет предоставлена полная свобода действий для оказания нам необходимой помощи.
— Да хранит вас всех бог! — произнес на прощание генерал, смеясь и покачивая головой. Вошел адъютант и проводил меня до дежурного.
В этот же день в газетах Лимы была опубликована статья о норвежской экспедиции, которая должна отплыть на плоту от берегов Перу; одновременно в них сообщалось, что шведско-финская научная экспедиция закончила свои работы по изучению жизни индейцев в джунглях на берегах Амазонки. Двое шведов, участников этой экспедиции на Амазонку, поднялись в челноке вверх по реке Перу и только что прибыли в Лиму. Одним из них был Бенгт Даниельссон из Упсальского университета, собиравшийся теперь заняться изучением горных индейцев в Перу.
Я вырезал статью. Сидя у себя в номере, я писал письмо Герману относительно места для постройки плота, как вдруг меня прервал стук в дверь. Вошел высокий загорелый парень в тропическом костюме; когда он снял белый шлем, мне бросилась в глаза ярко-рыжая борода, которая, казалось, опалила его лицо и выжгла часть волос на голове. Этот парень явился из дебрей, но было ясно, что место ему в университетской аудитории.
«Бенгт Даниельссон», — подумал я.
— Бенгт Даниельссон, — представился посетитель.
«Он узнал про плот», — подумал я и предложил ему сесть.
— Я только что узнал о ваших планах насчет плота, — произнес швед.
«И вот он пришел, чтобы разгромить мою теорию, так как он этнограф», — подумал я.
— И вот я пришел, чтобы выяснить, не могу ли я отправиться с вами на плоту, — миролюбиво сказал швед. — Я интересуюсь теорией миграции.
Мне ничего не было известно об этом человеке; я знал только, что он ученый и что он явился прямо из чащи джунглей. Но если швед решается отправиться на плоту один с пятью норвежцами, он не должен быть отвергнут. К тому же даже роскошная борода не могла скрыть его уравновешенный и веселый характер.
Бенгт стал шестым участником экспедиции, так как место было еще не занято. И он оказался единственным из нас, говорившим по-испански.
Когда через несколько дней пассажирский самолет, ровно гудя своими моторами, летел вдоль побережья на север, я снова почтительно смотрел на безграничный синий океан, расстилавшийся под нами. Казалось, что он повис и плывет в самой небесной тверди. Скоро мы вшестером собьемся в кучу, как микробы в пылинке, где-то внизу, где столько воды, что весь западный горизонт кажется переполненным ею. Мы окажемся одни в океане, не имея возможности отойти друг от друга больше чем на несколько шагов. Впрочем, пока что между нами было достаточное расстояние, Герман находился в Эквадоре в ожидании бревен. Кнут Хаугланд и Торстейн Робю только что прилетели в Нью-Йорк. Эрик Хессельберг был на борту корабля, направлявшегося из Осло в Панаму. Сам я летел в Вашингтон, а Бенгт остался в гостинице в Лиме, готовый пуститься в путь, и ждал прибытия остальных.
Все мои спутники не знали раньше друг друга, и все они были совершенно различными людьми. Поэтому в течение нескольких недель на плоту мы будем гарантированы от того, что наскучим друг другу своими рассказами. Грозовые тучи, низкое давление и ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность, чем угроза столкновения характеров шести человек, которым придется месяцами находиться вместе на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка часто бывает столь же полезна, как спасательный пояс.
В Вашингтоне все еще стояла суровая зима, холодная и снежная. Я вернулся туда в феврале. Бьёрн энергично взялся за проблему радио, и ему удалось заинтересовать американское общество радиолюбителей и договориться, что его члены будут принимать сообщения с плота. Кнут и Торстейн занимались организацией связи, которая должна была осуществляться с помощью коротковолновых передатчиков, специально сконструированных для этой цели, а частично с помощью портативных радиостанций, применявшихся во время войны участниками Сопротивления. Следовало разрешить тысячу вопросов, больших и мелких, если мы хотели выполнить во время путешествия все, что было задумано. А горы бумажек в папках все росли и росли. Военные и гражданские документы, белые, желтые и синие, на английском, испанском, французском и норвежском языках. В наш практический век даже путешествие на плоту должно было обойтись бумажной промышленности чуть ли не в целую пихту. Законы и ограничения связывали нас по рукам и по ногам; мы должны были распутывать один узел за другим.
— Готов поклясться, что вся эта переписка весит десять килограммов, — сказал как-то с отчаянием Кнут, склонившись над пишущей машинкой.
— Двенадцать, — бесстрастно уточнил Торстейн. — Я взвесил.
Моя мать, по-видимому, хорошо понимала положение, когда писала в эти драматические дни последних приготовлений: «Мне хочется одного — знать, что вы все шестеро уже благополучно находитесь на плоту!»
Затем однажды пришла срочная телеграмма из Лимы о том, что Герман был опрокинут во время купания мощной волной и выброшен на берег с серьезными ушибами и вывихнутой шеей. Он находился на излечении в одной из больниц Лимы.
К нему немедленно вылетели Торстейн Робю и Герд Волд, которая во время войны была представительницей в Лондоне одной из групп норвежского движения Сопротивления, а теперь помогала нам в Вашингтоне. Они застали Германа поправляющимся. Его полчаса продержали подвешенным на ремнях, стянутых вокруг головы, пока врачи вправляли ему первый шейный позвонок. Рентгеновский снимок показал, что позвонок имел трещину и перевернулся задом наперед. Германа спасло от смерти его великолепное здоровье; вскоре он выписался из больницы и, весь в синяках, с неповорачивавшейся шеей и ревматическими болями, снова появился в военном порту, куда были привезены бальсовые бревна, и принялся за работу. Он должен был в течение нескольких недель находиться под наблюдением врачей, и мы не были уверены, окажется ли он в состоянии отправиться с нами. Но сам он не сомневался в этом ни секунды, несмотря на первое горькое испытание в объятиях Тихого океана.
Через некоторое время прилетел из Панамы Эрик, а Кнут и я — из Вашингтона, и теперь мы все собрались в нашем отправном пункте — Лиме.
На берегу на территории военного порта лежали большие бальсовые бревна из лесов Киведо. Это была поистине трогательная встреча. Свежесрубленные круглые бревна, желтые стволы бамбука, тростник и зеленые банановые листья — весь наш строительный материал — лежали сваленные в кучи среди грозных подводных лодок и эсминцев. Шесть светлокожих северян и двадцать коричневых «матросов», в венах которых текла кровь инков, махали топорами и длинными ножами-мачете
[130], тянули за канаты и вязали узлы. Подтянутые морские офицеры в синей с золотом форме ходили мимо и с изумлением смотрели на этих бледных иностранцев и на эти растительные материалы, которые внезапно появились у них в порту.
В первый раз за столетия бальсовый плот строился в бухте Кальяо. Легенды инков утверждают, что в этих береговых водах их предки впервые научились плавать на таких плотах от исчезнувшего племени Кон-Тики, а исторические данные сообщают о том, что в более поздние времена европейцы запретили индейцам пользоваться плотами. Плавание на открытом плоту может стоить людям жизни. Потомки инков шли в ногу со временем; как и мы, они носят брюки со складкой и матроски. Бамбук и бальса принадлежат первобытному прошлому; здесь тоже все движется вперед — к броне и стали.
Ультрасовременный порт оказывал нам замечательные услуги. С Бенгтом в качестве переводчика и с Германом в качестве главного конструктора мы чувствовали себя в многочисленных плотничных и парусных мастерских как дома; для хранения нашего снаряжения мы имели в своем распоряжении половину пакгауза; нам отвели небольшой плавучий пирс, у которого мы спустили бревна в воду, когда началась постройка.

Мы отобрали девять самых толстых бревен, считая, что их будет достаточно для плота. Для того чтобы веревки, которые должны были соединить между собой бревна и скрепить весь плот, не могли соскользнуть, в бревнах были вырезаны глубокие пазы. Во всем сооружении не было ни одного костыля или гвоздя, ни одного куска стального троса. Прежде всего мы спустили девять больших бревен в воду, одно возле другого, выждали достаточно времени, чтобы они приняли естественное плавучее положение, а затем надежно связали их между собой. Самое длинное бревно, четырнадцатиметровое, было положено в средину и сильно выступало с обоих концов. По обе стороны от него были симметрично уложены остальные бревна в порядке убывающей величины, так что по бокам плот имел в длину около десяти метров, а нос выступал подобно угольнику снегоочистителя. Корма плота была обрезана по прямой, за исключением трех средних бревен, которые несколько выдавались; на этом выступе была укреплена короткая толстая колода из бальсового дерева, которая лежала поперек плота и имела гнезда для уключины рулевого весла. Когда девять бальсовых бревен были прочно связаны отдельными кусками пеньковой веревки толщиной в тридцать миллиметров, поверх них в поперечном направлении с промежутками около метра мы укрепили тонкие бальсовые бревна — ронжины
[131]. Сам плот был теперь готов, тщательно скрепленный тремя сотнями веревок различной длины, каждую из которых мы накрепко завязали прочным узлом. Сверху мы настлали палубу из расщепленных бамбуковых стволов, прикрепленных к ронжинам; палуба была покрыта циновками, сплетенными из молодых побегов бамбука. Посреди плота, несколько ближе к корме, мы построили небольшую открытую каюту из бамбуковых жердей; стены ее были сплетены из бамбуковых побегов, а крыша сделана из бамбуковых планок и глянцевитых банановых листьев, уложенных один на другой, подобно черепице. Перед каютой мы установили рядом две мачты. Они были вырублены из твердого, как железо, мангрового дерева; они стояли наклонно по отношению друг к другу, и верхушки их были связаны вместе крест-накрест. Большой четырехугольный парус был укреплен на рее, сделанной из двух бамбуковых стволов связанных вместе для прочности.
Девять больших бревен, которым предстояло нести нас по океану, были спереди заострены, как это делали индейцы, чтобы они могли легче скользить в воде, а на носу над самой поверхностью воды мы устроили очень низкий фальшборт для защиты от волн.
В нескольких местах, где между бревнами имелись большие щели, мы просунули толстые сосновые доски, всего пять штук, которые уходили в воду на полтора метра поперечной кромкой вниз под прямым углом к плоту. Они были расположены без всякой системы, имели в толщину двадцать пять миллиметров, а в ширину шестьдесят сантиметров. Они удерживались на месте с помощью клиньев и веревок и служили в качестве маленьких параллельных килей, или швертов. Такого рода кили существовали на всех бальсовых плотах во времена инков задолго до открытия Америки и предназначались для того, чтобы предохранить плоские деревянные плоты от сноса ветром и течением. Никаких поручней или ограждений вокруг плота мы не устроили, но вдоль каждого борта было положено длинное тонкое бальсовое бревно, которое обеспечивало твердую опору для ног.
Все сооружение представляло собой точную копию старинных перуанских и эквадорских судов, если не считать низкого фальшборта на носу, который, как впоследствии выяснилось, был совершенно не нужен. Что касается всяких деталей отделки, то мы, конечно, могли руководствоваться своим вкусом, если только это не отражалось на мореходных качествах нашего судна. Мы знали, что в недалеком будущем плот будет представлять собой весь наш мир и что поэтому любая мелочь нашего устройства с каждой неделей, проведенной на плоту, будет приобретать все большее значение.

Поэтому мы постарались придать нашей маленькой палубе возможно более разнообразный вид. Бамбуковый настил покрывал не весь плот: он тянулся лишь перед бамбуковой каютой и вдоль правой открытой стороны ее. Слева от каюты было что-то вроде заднего двора, заставленного крепко привязанными ящиками и предметами снаряжения; между ними и краем плота оставался лишь узкий проход. Спереди на носу и на корме, вплоть до задней стены каюты, девять огромных бревен не имели никакого настила. Таким образом, когда мы хотели обойти вокруг бамбуковой каюты, мы должны были с желтого бамбукового настила и плетеных циновок перешагнуть на круглые серые бревна на корме, а затем снова подняться на кучи груза, лежавшие с другой стороны. Расстояние было небольшое, но психологический эффект от преодоления каких-то препятствий вносил разнообразие и компенсировал ограниченность пространства, в пределах которого мы могли двигаться. На верхушке мачты мы устроили деревянную площадку — не столько для того, чтобы иметь наблюдательный пункт, когда мы будем, наконец, приближаться к земле, сколько для того, чтобы влезть на нее во время пути и смотреть на океан под другим углом зрения.
Когда плот начал принимать более или менее законченный вид и покачивался среди военных кораблей, сверкая золотистыми стволами зрелого бамбука и зеленью листвы, сам морской министр приехал осмотреть нашу работу. Мы безмерно гордились своим судном — живым воспоминанием о временах инков, — стоявшим здесь, в окружении страшных военных кораблей. Но морской министр пришел в неописуемый ужас от того, что он увидел. Я был вызван в управление военного порта и должен был подписать документ, снимавший с морского министерства всякую ответственность за то, что мы построили в его порту. Меня вызвали также к начальнику порта Кальяо, и там я подписал другой документ, в котором говорилось, что в случае, если я с людьми и грузом покину порт на плоту, ответственность за это будет лежать всецело на мне. Через некоторое время военный порт было разрешено посетить группе иностранных морских специалистов и дипломатов. Их мнение было также малообнадеживающим, и через несколько дней меня вызвал к себе посол одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. И когда я ответил утвердительно, он взглянул мне прямо в глаза и произнес зловещим, замогильным голосом: — Ваши мать и отец будут очень опечалены, когда узнают о вашей смерти.
В качестве частного лица он просил меня отказаться от путешествия, пока еще не поздно. Один адмирал, который осматривал плот, сказал ему, что мы ни в коем случае не останемся в живых. Прежде всего размеры плота неправильны. Он настолько мал, что при сильном волнении перевернется; в то же время длина его такова, что нос и корма будут находиться на двух различных волнах, и хрупкие бальсовые бревна плота с людьми и грузом сломаются, не выдержав напряжения. И что еще хуже, крупнейший в стране экспортер бальсовых деревьев сказал ему, что пористые бальсовые бревна смогут проплыть по океану только четвертую часть нужного расстояния, а затем они совершенно пропитаются водой и затонут под нами.
Все это звучало невесело, но так как мы упорной настаивали на своем, то нам была подарена библия, чтобы мы захватили ее с собой в плавание. Вообще гoворя, специалисты, осматривавшие плот, мало обнадеживали нас. Штормы, а может быть и ураганы, смоют нас за борт и уничтожат низко сидящее открытое судно, которое окажется совершенно беспомощным и будет кружиться по океану по воле ветра и волн. Даже при обычном волнении нас постоянно будет заливать соленой водой, которая разъест кожу на ногах и испортит все, что будет находиться на плоту. Если суммировать все сказанное нам поочередно различными специалистами, то получалось, что во всем плоту не было ни одной веревки, ни одного узла, ни одного размера, ни одного куска дерева, которые не должны были бы послужить причиной нашей гибели в океане. Были заключены крупные пари относительно того, сколько дней продержится плот, а один легкомысленный морской атташе побился об заклад на все количество виски, которые смогут выпить участники экспедиции до конца своей жизни, если они благополучно достигнут какого-нибудь острова в Южном море.
Хуже всего было, когда в гавань зашло норвежское судно и мы привели капитана и нескольких из его самых опытных моряков в военный порт. Мы с нетерпением ждали их критических замечаний. И наше разочарование было очень велико, когда они все сошлись на том, что тупоносому неуклюжему плоту парус не принесет никакой пользы; капитан, кроме того, считал, что в том случае, если мы будем держаться на воде, понадобится год или два для того, чтобы наш плот, увлекаемый течением Гумбольдта, пересек океан. Боцман смотрел на наши крепления и качал головой. Мы можем не беспокоиться. Не пройдет и двух недель, как все веревки перетрутся и плот развалится, ибо в море большие бревна будут все время двигаться вверх и вниз и тереться друг о друга. Если мы не заменим наши веревки стальными тросами или цепями, мы можем спокойно укладывать чемоданы и ехать домой.
Эти доводы трудно было опровергнуть. Если хоть один из них окажется правильным, то у нас нет никаких шансов на успех. Боюсь, что я не раз спрашивал себя, знаем ли мы, что делаем. Сам я ничего не мог возразить против этих предостережений, так как не был моряком. Но у меня оставался единственный козырь на руках, на котором было основано все наше предприятие. В глубине души я все время был уверен, что доисторическая цивилизация распространилась из Перу на острова Тихого океана в ту эпоху, когда плоты, подобные нашему, были единственными судами на этом побережье. Отсюда я умозаключал, что если бальсовые деревья плавали и крепления держались у Кон-Тики в 500 году нашей эры, то они будут так же вести себя и теперь, коль скоро мы, не мудрствуя лукаво, построили свой плот точно по образцу его плота. Бенгт и Герман полностью восприняли мою теорию, и пока специалисты оплакивали нас, ребята относились ко всему совершенно спокойно и прекрасно проводили время в Лиме. Как-то вечером Торстейн с тревогой спросил, меня, уверен ли я, что океанское течение идет в нужном направлении. Мы находились в это время в кино и любовались Дороти Ламур, которая вместе с гавайскими девушками танцевала в соломенной юбочке среди пальм на живописном островке Южного моря.
— Сюда мы и должны направиться, — сказал Торстейн. — И мне жаль вас, если течение идет не так, как вы утверждаете!
Когда день отплытия стал приближаться, мы пошли в обычное паспортное бюро за получением разрешения на выезд из страны. Бенгт, как переводчик, стоял в очереди первым.
— Ваша фамилия? — спросил церемонный маленький чиновник, подозрительно глядя поверх очков на огромную бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — почтительно ответил Бенгт.
Чиновник заложил в пишущую машинку длинный бланк.
— Каким пароходом вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — принялся объяснять Бенгт, нагнувшись к перепуганному маленькому человечку, — я прибыл не на пароходе, я приехал в Перу на челноке.
Онемев от удивления, чиновник посмотрел на Бенгта и напечатал «челнок» в соответствующей графе бланка.
— А с каким пароходом вы покидаете Перу?
— Опять же, видите ли, — вежливо произнес Бенгт, — я покидаю Перу не на пароходе, а на плоту.
— Как бы не так! — сердито воскликнул чиновник и раздраженно вынул из машинки бланк. — Вы будете отвечать на мои вопросы как следует?
За несколько дней до отплытия продовольствие, вода и все наше снаряжение были погружены на плот. Мы взяли продовольствие на шесть человек на четыре месяца; оно состояло из армейских рационов, упакованных в небольшие прочные картонные коробки. Герману пришла в голову мысль разогреть асфальт и облить ровным слоем каждую коробку со всех сторон. После этого мы посыпали коробки песком, чтобы они не слиплись, и тесно сложили их под бамбуковой палубой, где они заняли все пространство между девятью тонкими ронжинами, которые поддерживали палубу.
Из кристально чистого источника, находившегося высоко в горах, мы наполнили пятьдесят шесть маленьких бидонов, в которые вошло около 1 100 литров питьевой воды. Бидоны мы также прочно пристроили между ронжинами так, чтобы вокруг них все время плескалась вода океана. На бамбуковой палубе мы привязали остальное снаряжение и большие плетеные корзины, наполненные
фруктами и кокосовыми орехами.
Один угол бамбуковой каюты Кнут и Торстейн заняли под радиостанцию. В глубине каюты внизу между ронжинами мы поставили восемь ящиков, прочно прикрепив их к бревнам. Два ящика предназначались для научных инструментов и кинопленки, остальные шесть были предоставлены в наше распоряжение, по одному на каждого; это было намеком на то, что каждый может захватить с собой личных вещей столько, сколько поместится в его ящик. Эрик притащил несколько рулонов бумаги для рисования и гитару, и его ящик оказался так набит, что ему пришлось держать свои чулки в ящике Торстейна. Затем появились четыре матроса с ящиком Бенгта. Он не взял с собой ничего, кроме книг, но зато умудрился втиснуть в него 73 труда по социологии и этнографии. Поверх ящиков мы положили плетеные циновки и соломенные матрацы. Теперь мы были готовы к отплытию.
Прежде всего плот вывели на буксире за пределы военного порта и протащили на некоторое расстояние вокруг гавани, чтобы убедиться в правильном распределении груза; затем его отбуксировали через всю гавань к яхт-клубу. Там накануне нашего отплытия в присутствии приглашенных и других заинтересованных лиц должно было состояться «крещение» плота.
27 апреля был поднят норвежский флаг, а на рее развевались флаги иностранных государств, оказавших экспедиции практическую поддержку. Набережная была запружена людьми, которым хотелось посмотреть на церемонию «крещения» необыкновенного судна. Цвет кожи и черты лица многих из зрителей говорили о том, что их далекие предки плавали на бальсовых плотах вдоль этого берега. Но были здесь и потомки старинных испанских семейств во главе с представителями морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины и Кубы, бывший губернатор английских колоний в Тихом океане, шведский и бельгийский посланники и, наконец, наши друзья из маленькой норвежской колонии во главе с генеральным консулом Баром. Толпа журналистов суетилась, щелкали киноаппараты; не хватало только духового оркестра и большого барабана. Нам всем было ясно одно: если плот рассыплется на части по выходе из гавани, мы предпочтем поплыть в Полинезию каждый на отдельном бревне, но не решимся вернуться назад.
Герд Волд, секретарю экспедиции и связной между нами и материком, выпало на долю «окрестить» плот молоком кокосового ореха отчасти потому, что это гармонировало с каменным веком, а отчасти потому, что шампанское оказалось по недоразумению запрятанным на дне личного ящика Торстейна. После того как собравшимся было сообщено по-английски и по-испански, что плоту присваивается имя великого предшественника инков — солнце-короля, который полторы тысячи лет назад исчез из Перу, отправившись по океану к западу, и впоследствии появился в Полинезии, — Герд Волд приступила к церемоний «крещения» плота «Кон-Тики». Она с такой силой ударила кокосовым орехом (скорлупа которого имела трещину) о нос плота, что молоко и кусочки ядра очутились на волосах ближайших зрителей, почтительно стоявших вокруг.
Затем мы подтянули кверху бамбуковую рею и подняли парус, в центре которого наш художник Эрик нарисовал красной краской бородатое лицо Кон-Тики. Это была точная копия головы солнце-короля с высеченной из красного камня статуи, обнаруженной в разрушенном городе Тиахуанако.
— Ах, сеньор Даниельссон! — в восхищении воскликнул старший рабочий из портовой мастерской при виде бородатого лица на парусе.
Он называл Бенгта сеньором Кон-Тики в течение двух месяцев с тех пор, как мы ему показали бородатое лицо Кон-Тики на листе бумаги. И только теперь он, наконец, понял, что настоящая фамилия Бенгта была Даниельссон.
Перед отплытием мы все были приглашены к президенту на прощальную аудиенцию, а после нее совершили прогулку высоко в горы, чтобы вдосталь насмотреться на скалы и каменистые осыпи, прежде чем мы пустимся в путь по беспредельному океану. Пока шла работа по постройке плота на берегу, мы жили в пансионе среди пальмовой рощи в окрестностях Лимы; в порт Кальяо и обратно мы ездили на автомобиле министерства авиации с шофером, которого Герд удалось нанять на время подготовки экспедиции. Теперь мы попросили шофера отвезти нас прямо в горы как можно дальше, но с тем, чтобы обернуться за один день. И вот мы катили по пустынным дорогам вдоль древних оросительных каналов времен инков, пока не достигли головокружительной высоты в 4 ООО метров над мачтой нашего плота. Здесь мы просто пожирали глазами и скалы, и горные вершины, и зеленую траву, стараясь насытиться спокойной горной громадой Анд, расстилавшихся перед нами. Мы пытались убедить самих себя, что нам решительно надоели камни и твердая земля и что мы жаждем поднять свой парус и познакомиться с океаном.

Глава 4
ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ. I
Драматическое отплытие. — Мы выходим в открытое море. — Поднимается ветер. — Борьба с волнами. — Жизнь в течении Гумбольдта. — Самолету не удается разыскать нас. — Бревна впитывают воду. — Дерево и веревки. — Мы питаемся летающими рыбами. — Необыкновенный сосед по кровати. — Змеиная макрель попадает впросак. — Г лаза в океане. — Рассказ о морском привидении. — Мы встречаем самую большую в мире рыбу. — Погоня за морской черепахой.
Суматоха царила в гавани Кальяо в тот день, когда буксир должен был вывести «Кон-Тики» в открытый океан. Морской министр дал распоряжение портовому буксиру «Пуардиан Риос» вывести нас из бухты и дальше в открытое море за пределы полосы каботажного плавания — туда, куда в давно прошедшие времена выходили на рыбную ловлю индейцы на своих плотах. Газеты посвятили этой сенсации статьи под красными и черными шапками, и 28 апреля толпы народа спозаранку запрудили набережные.
Мы должны были все собраться на плоту в начале одиннадцатого, а до тех пор у каждого из нас нашлись разные дела в городе. Когда я появился на набережной, на плоту находился один Герман. Я намеренно остановил машину довольно далеко и прошел весь мол, чтобы хорошенько размять ноги напоследок перед плаванием, продолжительность которого никто не мог предсказать. Я прыгнул на плот, загроможденный в полнейшем беспорядке гроздьями бананов, корзинами и мешками с фруктами, которые были сброшены на палубу в самый последний момент и которые мы должны были уложить и привязать, как только хоть несколько придем в себя. Посреди этой горы покорно сидел Герман; его рука лежала на клетке с зеленым попугаем — прощальном подарке от какой-то дружеской души в Лиме.
— Посмотрите минутку за попугаем, — сказал Герман. — Я должен сойти на берег и выпить последний стакан пива. Буксир придет не так-то скоро.
Едва успел он исчезнуть в сутолоке набережной, как люди стали махать руками и на что-то указывать. Из-за края мола, мчась на полной скорости, показался буксир «Гуардиан Риос». Он стал на якорь по ту сторону качающегося леса мачт, которые мешали ему подойти к «Кон-Тики», и от него отвалил большой моторный катер, чтобы провести нас между яхтами. Катер был до отказа набит военными моряками — матросами и офицерами — и кинооператорами; пока отдавались приказания и щелкали камеры, прочный буксирный канат был закреплен на носу плота.
— Un momento!
[132] — закричал я в отчаянии, не вставая с места, где я сидел с попугаем. — Еще слишком рано. Надо подождать остальных — los expedicionarios
[133], — пытался я объяснить, указывая в сторону города.
Но никто не понимал меня. Офицеры только вежливо улыбались, и канат на носу плота был закреплен по всем правилам. Я отвязал канат и сбросил его в воду, сопровождая свои действия всякого рода знаками и жестами. Попугай воспользовался моментом всеобщей суматохи, чтобы высунуть клюв из клетки и повернуть щеколду дверцы; когда я обернулся, он уже весело расхаживал по бамбуковой палубе. Я попытался поймать его, но он выкрикнул несколько испанских ругательств и перелетел на кучу бананов. Следя одним глазом за матросами, которые старались снова набросить канат на нос, я пустился в дикую погоню за попугаем. Он с криком влетел в бамбуковую каюту, и там я загнал его в угол и схватил за ногу в тот самый момент, когда он пытался перелететь через меня. Когда я снова появился на палубе и запихнул мою трепетавшую добычу в клетку, матросы на берегу успели уже снять причалы плота, и он беспомощно танцевал на длинной волне, докатившейся к нам из-за мола. В отчаянии я схватил короткое весло и тщетно старался удержать плот от столкновения с деревянными сваями набережной. Затем моторный катер тронулся; один рывок — и «Кон- Тики» начал свой длинный путь. Единственным моим спутником был говорящий по-испански попугай, который с надутым видом сидел в клетке. Толпа на берегу радостно кричала и махала руками, а смуглые кинооператоры в моторном катере чуть не падали в море, изо всех сил стараясь заснять каждую деталь драматического отплытия экспедиции из Перу. Полный отчаяния, в одиночестве я стоял на плоту, высматривая пропавших спутников, но никто не появлялся. Так мы подошли к «Гуардиан Риос», который поджидал нас с поднятыми парами, готовый сняться с якоря и тронуться в путь. В мгновение ока я вскарабкался по веревочному трапу и наделал на пароходе такого шуму, что отплытие было отложено и моторный катер отправился назад к набережной. Он отсутствовал довольно долго, а затем вернулся, наполненный хорошенькими сеньоритами, но без единого человека из исчезнувшего экипажа «Кон-Тики». Все это было очень мило, но не разрешало моих затруднений; очаровательные сеньориты столпились на плоту, а катер ушел опять на новые поиски los expedicionarios noruegos
[134].
Тем временем Эрик и Бенгт, не торопясь, спускались к набережной с охапкой газет и журналов и разными мелочами в руках. Навстречу им шла толпа людей, расходившихся по домам; наконец у полицейской заставы их остановил какой-то любезный чин, который сообщил им, что смотреть больше не на что. Бенгт, грациозно размахивая сигарой, возразил полицейскому, что они пришли не в качестве зрителей; они сами должны отправиться на плоту.
— Это бесполезно, — снисходительно сказал полицейский. — «Кон-Тики» отплыл час тому назад.
— Этого не может быть, — произнес Эрик, доставая один из пакетов, — у меня здесь фонарь!
— А это вот штурман, — добавил Бенгт, — а я судовой эконом.
Они прорвались сквозь цепи, но плота действительно не было. Они в отчаянии шагали взад и вперед по молу, где и встретились с остальными участниками экспедиции, которые также нетерпеливо разыскивали исчезнувший плот. Тут они увидели подходивший катер, и вскоре мы все шестеро, наконец, соединились, и вода вокруг плота запенилась, когда «Гуардиан Риос» повел нас на буксире к открытому океану.
Было уже далеко за полдень, когда мы тронулись в путь, и «Гуардиан Риос» предстояло буксировать нас до утра, пока мы не выйдем за пределы береговых вод. Как только мы миновали мол, навстречу нам покатились крупные волны, и все остальные лодки, которые сопровождали нас, одна за другой повернули назад. Только несколько больших яхт дошли вместе с нами до выхода из бухты, чтобы посмотреть, как пойдут наши дела дальше.
«Кон-Тики» следовал за буксиром, как сердитый козел, которого тащат на веревке, и бодал носом встречные волны так, что вода заливала палубу. Это не сулило ничего хорошего — волнение на море было очень незначительным по сравнению с тем, какое могло нас ожидать в будущем. Посреди бухты буксирный канат лопнул, и наш конец его мирно опустился на дно, между тем как «Гуардиан Риос» продолжал идти вперед.
Мы бросились к борту плота, чтобы выудить конец каната, а яхты помчались дальше, пытаясь остановить пароход. Жгучие медузы величиной с лохань поднимались и опускались вместе с волнами вдоль плота и покрыли все веревки скользким слоем обжигающей студенистой массы. Когда плот накренялся на одну сторону, мы, лежа плашмя, перегибались через борт и старались дотянуться рукой до поверхности воды, но наши пальцы лишь задевали скользкий канат. Затем плот снова накренялся в другую сторону и наши головы погружались в волну, а соленая вода и огромные медузы перекатывались через наши спины. Мы плевались, ругались, вытаскивали из волос клейкие частички медуз, но когда буксир вернулся, конец каната был вытащен и подготовлен к соединению.
Мы собрались забросить его на борт буксира, как вдруг нас внезапно понесло под выступающую корму парохода, и плоту угрожала опасность быть прижатым волнам к корме и раздавленным. Позабыв обо всем, мы схватили бамбуковые жерди и весла и старались, пока не поздно, оттолкнуться. Но это нам никак не удавалось: когда плот находился во впадине между двумя волнами, мы не могли дотянуться до нависшей над нами кормы, а когда плот поднимался на волне, вся корма «Гуардиан Риос» опускалась в воду и расплющила бы нас в лепешку, если бы нас затянуло под нее. Наверху, на палубе буксира, люди метались и кричали; наконец винт заработал у самого борта плота, и в последнюю минуту поднятая винтом волна отбросила нас в сторону. Нос плота получил несколько сильных ударов и слегка изменил свою форму, но затем постепенно выровнялся.
— Когда дело начинается так отвратительно, оно должно окончиться хорошо, — сказал Герман. — Поскорей прекратилась бы эта канитель: от тряски плот скоро развалится.
«Гуардиан Риос» буксировал нас всю ночь; мы двигались медленно и почти без помех. Яхты давно распрощались с нами, последние береговые огни исчезли у нас за кормой. Изредка в темноте проплывали огни кораблей, пересекавших наш путь. Мы разбили ночь на вахты, чтобы посматривать за буксирным канатом, и всем удалось неплохо выспаться. На следующее утро, когда стало рассветать, густой туман висел над берегом Перу, между тем как перед нами на западе было совершенно чистое голубое небо. По океану шли длинные спокойные волны с небольшими гребнями; наша одежда, бревна и все, за что мы ни брались, намокло от росы. Было прохладно, и зеленая вода вокруг нас была удивительно холодной для 12° южной широты. Мы находились в течении Гумбольдта, которое несло холодные массы воды из Антарктики на север вдоль берегов Перу, а затем поворачивало на запад и пересекало океан, идя под самым экватором. Именно в этих водах Писарро
[135], Сарате
[136] и другие древние испанцы впервые встретили большие парусные плоты индейцев-инков, которые уплывали обычно на 50–60 миль от берега для ловли тунцов и золотой макрели в самом течении Гумбольдта. Весь день здесь дул ветер с берега, но к вечеру он начинал дуть в обратную сторону и помогал рыбакам вернуться домой, если они этого хотели.
Буксир стоял совсем рядом, и мы старательно удерживали плот подальше от его носа, пока спускали на воду маленькую надувную резиновую лодку. Она плавала на волнах, как футбольный мяч, и, танцуя, приблизилась к «Гуардиан Риос»; Эрик, Бенгт и я ухватились за веревочный трап и взобрались на борт.
При посредстве Бенгта в качестве переводчика нам показали на нашей карте точное положение плота. Мы находились за 50 морских миль от берега к северо-западу от Кальяо; для того чтобы нас не потопили каботажные суда, мы должны будем в течение первых нескольких ночей зажигать огни. Дальше мы не встретим ни одного судна, так как в этой части Тихого океана не проходит ни одной пароходной линии.
Мы торжественно попрощались со всеми, кто был на борту буксира; каким-то странным взглядом провожали нас, когда мы спускались на нашу лодочку и, качаясь на волнах, поплыли обратно к «Кон-Тики». Затем буксирный канат был отдан, и плот оказался предоставлен самому себе. Тридцать пять человек на борту «Гуардиан Риос» выстроились вдоль борта и махали нам до тех пор, пока мы не перестали различать их очертания. А шесть человек сидели на ящиках на плоту и провожали буксир взглядом, пока он не скрылся вдали. Лишь после того, как черный столб дыма рассеялся и исчез за горизонтом, мы покачали головой и взглянули друг на друга.
— До свидания, до свидания, — сказал Торстейн. — Теперь, ребята, пора запускать нашу машину.
Мы рассмеялись и, послюнявив пальцы, принялись определять направление ветра. Дул довольно легкий бриз, переходивший от южного к юго-восточному. Мы подняли бамбуковую рею с большим прямоугольным парусом. Он расслабленно свисал, и это придавало лицу Кон-Тики сморщенный, недовольный вид.
— Старику не нравится, — произнес Эрик, — когда он был молод, дули ветры посильнее.
— Да, здорово мы мчимся, — сказал Герман и бросил кусок бальсового дерева в воду у носа плота.
— Один, два три… тридцать девять, сорок, сорок один.
Кусок дерева все еще спокойно лежал в воде рядом с плотом; он не прошел и половины пути вдоль борта.
— Чудесно! — сказал Торстейн. — Пожалуй, эта щепка будет сопровождать нас всю дорогу.
— Надеюсь, что вечерним бризом нас не отнесет назад, — сказал Бенгт. — Прощание с Кальяо было очень забавным, но я не хотел бы, чтобы нас приветствовали там с таким быстрым возвращением.
Но вот кусок дерева миновал конец плота. Мы прокричали «ура» и принялись укладывать и закреплять все, что было сброшено на палубу в последнюю минуту. Бенгт разжег примус внутри пустого ящика, и вскоре мы наслаждались горячим какао с галетами и проделывали дырки в свежих кокосовых орехах. Бананы оказались еще не совсем спелыми.
— В этом отношении теперь все в порядке, — с довольным смехом произнес Эрик. В широких штанах из овечьей шкуры, в высокой индейской шапке на голове, с попугаем на плече, он расхаживал по палубе.
— Одно мне не нравится, — добавил он, — если мы будем и дальше неподвижно торчать здесь, то все эти малоизученные встречные течения могут снести нас как раз к прибрежным скалам.
Мы поговорили о том, не взяться ли нам за весла, но решили подождать ветра.
И ветер поднялся. Он задул с юго-востока ровно и упорно. Вскоре наш парус наполнился и выгнулся вперед, подобно вздымающейся груди, и лицо Кон-Тики вспыхнуло задором. И «Кон-Тики» начал двигаться.
— Эгей! — радостно закричали мы, повернувшись в сторону запада, и стали подтягивать штаги и ванты. Рулевое весло было опущено в воду, и расписание вахт вступило в силу. Мы бросали бумажные шарики и щепки за борт у носа и перебегали на корму, отсчитывая с часами в руках:
— Раз, два, три… восемнадцать, девятнадцать — есть!
Бумажки и щепки проплывали мимо рулевого весла и вскоре выстраивались, как нанизанные на нитку бусы, покачиваясь вверх и вниз среди волн за кормой. Мы шли вперед метр за метрам. «Кон-Тики» не разрезал воду, как остроносые гоночные яхты. Неуклюжий и широкий, тяжелый и громоздкий, он степенно двигался вперед, переваливаясь с волны на волну. Он не спешил, но, тронувшись с места, уже продолжал двигаться с непоколебимым упорством.
Теперь все наше внимание было обращено на рулевое устройство. Плот был построен в точности так, как его описывали испанцы, но в наше время не осталось в живых никого, кто мог бы преподать нам практический урок управления индейским плотом. Этот вопрос мы подробно обсуждали на берегу со специалистами, но результат оказался совершенно неудовлетворительным. Они знали не больше нашего. Как только юго-восточный ветер усилился, мы должны были удерживать плот в таком положении, чтобы ветер наполнял парус со стороны кормы. Если плот слишком сильно поворачивался боком к ветру, парус сразу же начинал полоскаться и ударял по грузу, людям и бамбуковой каюте, а весь плот поворачивался и продолжал свой путь кормой вперед. Это была тяжелая борьба; трое воевали с парусом, а остальные трое изо всех сил налегали на длинное рулевое весло, чтобы повернуть нос деревянного плота и отвести его от ветра. А после того, как нам удавалось повернуть плот, рулевому нужно было хорошенько следить, чтобы через минуту не повторилось все сначала.
Рулевое весло длиною шесть метров свободно лежало между шпеньков-уключин, вбитых в огромную колоду, прикрепленную к корме. Это было то самое рулевое весло, которым пользовались наши туземные друзья, когда мы сплавляли лес вниз по реке Паленке в Эквадоре. Длинный шест из мангрового дерева был крепок, как сталь, но так тяжел, что немедленно утонул бы, если бы мы уронили его за борт. К концу шеста с помощью веревок была прикреплена большая лопасть из сосны. Требовалась вся наша сила, чтобы неподвижно удержать длинное рулевое весло, чтобы волны ударяли о него. Наши пальцы очень быстро уставали, так как нам то и дело приходилось судорожно сжимать весло, чтобы повернуть его и придать ему такое положение, при котором лопасть стояла в воде совершенно прямо. Последнего затруднения нам удалось избежать с помощью поперечного бруска, который в качестве рычага мы привязали к рукоятке рулевого весла. А тем временем ветер крепчал.
Во вторую половину дня пассат уже дул во всю силу. Океан быстро покрылся ревущими волнами, набегавшими на нас сзади. Теперь мы впервые полностью осознали, что находимся во власти самого океана. Теперь он являлся суровой действительностью; связь с прежним миром была прервана. Благополучно все сложится или нет, будет теперь всецело зависеть от мореходных качеств бальсового плота в открытом океане. Мы знали, что отныне нет никакой надежды на встречный ветер, никаких шансов вернуться назад. Мы вошли в настоящий пассат, и с каждым днем нас будет уносить все дальше и дальше в океан. Нам оставалось только идти вперед с наполненным ветром парусом; если мы попытаемся повернуть обратно, нас все равно понесет дальше в море кормой вперед. Перед нами был только один выход — плыть по ветру, держа нос в сторону заката. Но ведь это и являлось как раз целью нашего путешествия — следовать по пути солнца, подобно тому, как это делал, по нашему мнению, Кон-Тики со своими древними солнцепоклонниками, когда их изгнали из Перу за океан.
С торжеством и облегчением мы увидели, как наш деревянный плот поднялся на первый грозный гребень волны, который, пенясь, накатился на нас. Но рулевой был совершенно не в состоянии удерживать весло в неподвижном положении, когда ревущие волны накатывались на весло и чуть не вырывали его из уключин или заносили его в сторону, и рулевой, беспомощно повиснув на нем, вертелся, как акробат. Даже вдвоем не удавалось удерживать весло, когда волны вздымались рядом и обрушивались на стоявших на корме рулевых. Нам пришла в голову мысль протянуть веревки от лопасти весла к обоим бортам плота и с помощью других веревок закрепить весло на месте в уключинах так, чтобы оно имело ограниченную свободу движения и могло сопротивляться даже наиболее сильным волнам, пока мы сами будем в состоянии держаться.
Впадины между волнами постепенно становились глубже, и мы поняли, что плывем в самой быстрой части течения Гумбольдта. Было очевидно, что волны вызваны течением, а не просто подняты ветром. Зеленая холодная вода окружала нас со всех сторон, и зубчатые горы Перу исчезли в гряде густых облаков за кормой. Когда тьма заволокла океан, началась наша первая схватка со стихиями. Мы все еще не были уверены в океане, все еще не знали, будет ли он нашим другом или врагом, когда мы окажемся с ним в тесном соприкосновении, к которому сами стремились. Окутанные мраком, мы слышали, как общий шум волн вокруг нас внезапно заглушался свистом надвигавшегося вала, и видели белый гребень, который подкрадывался к нам на уровне крыши каюты. Мы хватались за что попало и с беспокойством ожидали, когда масса воды хлынет на нас и на плот. Но всякий раз мы испытывали то же чувство удивления и облегчения. «Кон-Тики» спокойно вздымал корму и поднимался вверх, не обращая внимания на массы воды, бурлившей вдоль его бортов. Затем он снова опускался вниз и ждал следующей большой волны.
Самые крупные валы часто накатывались по два или по три подряд, а в промежутке между ними шел длинный ряд более мелких волн. В том случае, если два больших вала следовали один за другим на слишком близком расстоянии, второй вал обрушивался на корму, между тем как первый все еще держал нос плота высоко в воздухе. Поэтому мы установили в качестве непреложного закона, чтобы вахтенный рулевой обвязывал себя вокруг пояса веревкой, другой конец которой прочно прикреплялся к плоту. Ведь фальшборта на корме не было. Задача рулевых заключалась в том, чтобы держать парус всегда наполненным, не давая носу плота уклониться в сторону от волн и ветра. Мы укрепили на ящике на корме старый судовой компас, чтобы Эрик мог проверять курс и вычислять наше положение и скорость. В данное время мы не знали точно, где мы находились, так как небо было в сплошных тучах, а до самого горизонта расстилался лишь хаос валов. Вахту у руля приходилось нести двум человекам сразу; стоя рядом, они должны были вкладывать всю свою силу в борьбу со стремившимся вырваться веслом, между тем как остальные, забравшись внутрь открытой бамбуковой каюты, пытались немного соснуть. Когда надвигалась действительно крупная волна, рулевые оставляли весло на попечение веревок и, вскакивая на палубу, хватались за бамбуковую жердь, выступавшую из-под крыши каюты, а массы воды с грохотом обрушивались на них со стороны кормы и уходили между бревнами или за борт плота. Тогда вахтенные снова бросались к веслу, пока плот не успел повернуться, а парус не начал полоскаться. Если бы плот очутился боком к волнам, они легко могли бы затопить бамбуковую каюту. Когда же волны набегали на плот сзади, они сразу же исчезали между выступающими бревнами и редко достигали стены каюты. Круглые бревна на корме пропускали воду, как зубцы вилки. В этом было явное преимущество плота: чем больше щелей, тем лучше — через отверстия под нами вода уходила, но никогда не входила.
Около полуночи в северном направлении мы заметили огни проходящего корабля. В три часа утра тем же курсом прошел еще один. Мы размахивали маленьким парафиновым фонарем и подавали сигналы вспышками электрического фонаря, но с кораблей нас не увидели; огни медленно прошли к северу и исчезли в темноте. Вряд ли кто-нибудь на борту парохода мог предположить, что вблизи от них качается на волнах настоящий индейский плот. И мы, находившиеся на плоту, также не могли предположить, что это был последний корабль и последний след людей, которых мы видели по эту сторону океана.
Подобно мухам, мы цеплялись в темноте по двое за рулевое весло и чувствовали, как нас с головы до ног обдает прохладной морской водой; весло толкало так, что у нас все болело и спереди и сзади, а руки затекли от напряжения. Испытания этих первых дней и ночей были для нас хорошей школой; из новичков они превратили нас в настоящих моряков. В течение первых суток каждый из нас в строгой очередности два часа стоял у руля, а затем три часа отдыхал. Мы установили, чтобы каждый час свежий человек сменял одного из двух рулевых, который уже пробыл на вахте два часа. Чтобы совладать с рулевым веслом, во время вахты приходилось безмерно напрягать все мышцы тела. Когда рулевой уставал толкать весло, он переходил на другую сторону и принимался тянуть. Когда руки и грудь начинали болеть от толчков, мы поворачивались спиной, так что весло награждало нас синяками и спереди и сзади. Когда, наконец, наступала смена, мы в полном изнеможении заползали в каюту, обвязывали ноги веревкой и засыпали в своей просоленной одежде раньше, чем успевали забраться в спальный мешок. Почти в то же мгновение кто-то грубо дергал за веревку: три часа прошли, и надо было снова выходить и сменять одного из двух вахтенных у рулевого весла.
Следующая ночь была еще хуже; вместо того чтобы утихнуть, море стало еще более бурным. Выдержать два часа подряд борьбу с рулевым веслом оказалось не под силу; во вторую половину вахты от человека уже было мало пользы, и волны брали верх над нами, крутили нас, толкали в сторону, а вода заливала плот. Тогда мы перешли к часовой вахте у руля и полуторачасовому отдыху. Так первые шестьдесят часов прошли в беспрерывной борьбе с хаосом волн, которые беспрестанно обрушивались на нас одна за другой. Высокие волны и низкие, остроконечные волны и круглые, косые волны и волны поверх других волн. Хуже всех из нас чувствовал себя Кнут. Он был освобожден от вахт у руля, но взамен приносил жертвы Нептуну и молча мучался в углу каюты. Повесив голову, попугай угрюмо сидел в своей клетке и принимался хлопать крыльями каждый раз, как плот получал неожиданный толчок и вода с шумом ударяла в заднюю стену каюты. «Кон-Тики» качало не очень сильно. Он держался на волнах гораздо устойчивее, чем любое судно такого же размера; но было невозможно предугадать, в какую сторону накренится палуба в следующий раз, и мы так и не овладели искусством свободно двигаться по плоту, так как его не только качало, но и все время бросало.
На третью ночь море слегка утихло, хотя все еще дул сильный ветер. Около четырех часов утра из темноты неожиданно появился пенящийся вал, который настиг плот и повернул его на 180°, прежде чем рулевые осознали, что произошло. Парус забился о бамбуковую каюту, угрожая разнести ее на куски и сам разорваться на части. Пришлось всем выскочить на палубу спасать груз и подтягивать шкоты в надежде вернуть плот на правильный курс, чтобы парус мог снова наполниться и мирно выгнуться вперед. Но плот не поворачивался. Он шел вперед кормой, только и всего. Единственным результатом всей возни со снастями и рулевым веслом было лишь то, что двое из нас чуть не свалились за борт, когда их в темноте накрыло парусом. Море явно становилось спокойнее. С онемевшими от усталости конечностями, все в ушибах, с содранной кожей на ладонях и закрывающимися от сна глазами мы не стоили и ломаного гроша. Лучше было сохранить силы на случай, если погода ухудшится и потребует от нас всей нашей энергии — ведь никогда нельзя заранее знать, что тебя ожидает. Поэтому мы убрали парус и свернули его вокруг бамбуковой реи. «Кон-Тики» лежал боком к волнам и подпрыгивал на них, как пробка. Все предметы на плоту были крепко привязаны, а мы шестеро забрались в маленькую бамбуковую каюту, улеглись вповалку и заснули как убитые, стиснутые, как сардины в коробке.
Мы не предполагали, что выдержанная нами борьба была самой тяжелой за все время путешествия. Только очутившись далеко в океане, мы нашли простой и остроумный способ управления плотом, применявшийся инками.
Мы проснулись лишь поздно утром, когда попугай начал свистеть, кричать и прыгать взад и вперед по жердочке. Волны вздымались еще высоко, но теперь они шли длинными ровными валами и не громоздились так дико и беспорядочно, как накануне. Первое, что мы увидели, было солнце, которое ярко освещало желтую бамбуковую палубу и придавало океану вокруг нас веселый и дружелюбный вид. Какое нам дело до того, что волны пенятся и высоко вздымаются, если они оставляют наш плот в покое? Какое нам дело до того, что они вздымаются прямо перед нами, если мы знаем, что через секунду плот вскарабкается вверх и, словно паровой каток, пригладит пенящийся вал, а тяжелая грозная гора воды только приподымет нас в воздух и будет, ворча и журча, перекатываться под нами? Старые мастера из Перу знали, что они делали, когда отказывались от лодок с их пустотелым корпусом, который мог наполняться водой, и от слишком длинных плотов, которые не могли бы переходить с одной волны на другую. Пробковый паровой каток — вот что представлял собой бальсовый плот.
В полдень Эрик определил наше положение; оказалось, что после того как мы убрали парус, нас сильно отнесло к северу вдоль берега. Мы все еще находились в полосе течения Гумбольдта, на расстоянии ровно ста морских миль от суши. Теперь возникал серьезный вопрос, не отнесет ли нас к предательским течениям южнее островов Галапагос. Это могло бы иметь роковые последствия, так как там сильные океанские течения, движущиеся по направлению к Центральной Америке, увлекали бы нас то в одну, то в другую сторону. Но если все сложится, как мы рассчитывали, главное течение понесет нас к западу через океан, прежде чем мы заберемся слишком далеко на север, к островам Галапагос. Ветер по-прежнему дул прямо с юго-востока. Мы подняли парус, повернули плот кормой к ветру и возобновили вахты у руля.
Кнут оправился от мучительной морской болезни; он и Торстейн взобрались на качающуюся верхушку мачты и занялись экспериментами с какими-то таинственными антеннами, которые они пускали вверх, привязывая к воздушному шару или змею. Вдруг один из них крикнул из радиорубки, что он слышит морскую радиостанцию Лимы, которая вызывает нас. Нам сообщили, что самолет американского посольства вылетел с побережья, чтобы передать последний прощальный привет и посмотреть, какой вид мы имеем в океане. Вскоре мы установили прямую связь с радистом самолета, а затем совершенно неожиданно для всех нас нам удалось побеседовать с секретарем экспедиции Герд Волд, которая находилась на борту самолета. Мы указали свое положение так точно, как только могли, и в течение нескольких часов подавали радиопеленгационные сигналы. Голос из эфира звучал то громче, то слабее по мере того, как АРМИ-119 приближался и удалялся, описывая круги в поисках нашего плота. Но мы так и не услышали гула моторов и не увидели самого самолета. Не так-то легко было заметить низкий плот внизу среди волн, а с плота видимость была очень ограниченная. Наконец самолет отказался от поисков и вернулся на берег. Это была последняя попытка отыскать нас.
В следующие дни море было бурным, но шипящие волны шли с юго-востока с равными интервалами, и управлять плотом было гораздо легче. Ветер и волны плот принимал с левой задней четверти, так что рулевого меньше захлестывали волны, а плот держался более устойчиво и не вертелся. Мы с беспокойством замечали, что юго-восточный пассат и течение Гумбольдта день за днем уносят нас как раз в ту сторону, где нас поджидают встречные течения, огибающие острова Галапагос. Мы двигались на северо-запад так быстро, что наша средняя дневная скорость составляла в те дни 55–60 морских миль при рекордной скорости в 71 милю.

— А как на островах Галапагос, хорошо живется? — предусмотрительно спросил однажды Кнут и посмотрел на карту, где цепь кружков, обозначавших положение нашего плота в разное время, напоминала палец, который зловеще указывал в сторону проклятых островов Галапагос.
— Едва ли, — ответил я. — Говорят, что инка Тупак Юпанки незадолго до эпохи Колумба отплыл из Эквадора и достиг островов Галапагос, но ни он и ни один из его спутников не поселились там, так как там нет воды.
— О'кэй, — сказал Кнут. — В таком случае на черта нам идти туда. Надеюсь, мы туда и не попадем.
Теперь мы так привыкли к виду танцующих вокруг нас волн, что перестали обращать на них внимание. Стоит ли беспокоиться о том, что чуть-чуть потанцуем, имея под собой тысячи метров воды, если мы и плот все время держимся на поверхности? Нетрудно было заметить, что бальсовые бревна впитывали воду. Хуже всего обстояло дело с кормовыми ронжинами; засунув кончик пальца в их размокшую древесину, можно было услышать, как под ним хлюпала вода. Ничего не говоря спутникам, я отломал кусок намокшего дерева и бросил его за борт. Он спокойно погрузился в воду и медленно исчез в глубине. Позже я увидел, что некоторые из моих товарищей проделали то же самое, выбрав для этого время, когда им казалось, что на них никто не смотрит. Они стояли, сосредоточенно наблюдая за тем, как кусок пропитанной водой древесины постепенно погружался в зеленую воду. Перед отплытием мы отметили осадку плота, но при неспокойном море было невозможно установить, как глубоко он сидел теперь, так как бревна то на мгновение поднимались из воды, то снова глубоко опускались в нее. Но когда мы вонзали в бревно нож, то мы к нашей радости убеждались, что на глубине примерно в 25 миллиметров от поверхности дерево было сухим. Мы рассчитали, что в случае, если вода будет проникать в бревна тем же темпом, то к тому времени, когда, по нашим предположениям, мы будем приближаться к земле, плот уже не сможет держаться на поверхности воды. Но мы надеялись, что в более глубоких слоях древесный сок будет играть роль пропитывающего состава, который приостановит поглощение воды.
Была и еще одна угроза, которая тревожила наши умы на протяжении первых недель, — это веревки. Днем мы были так заняты, что мало думали о них; но когда наступала темнота и мы залезали в спальные мешки на полу каюты, у нас было больше времени на то, чтобы думать, чувствовать и прислушиваться. Лежа там, каждый на своем соломенном матраце, мы ощущали, как плетеные циновки под нами приподнимаются вместе с бревнами. Не только весь плот все время покачивался, но и все девять бревен изменяли свое положение по отношению друг к другу. Когда одно приподнималось, другое опускалось, и эти легкие колебательные движения не прекращались все время. Они были незначительными, но достаточными для того, чтобы человек чувствовал себя как бы лежащим на спине большого дышащего животного, и мы предпочитали укладываться вдоль бревен. Сильнее всего это покачивание ощущалось в течение первых двух ночей, но тогда мы были слишком усталыми, чтобы обращать на него внимание. Потом веревки слегка набухли в воде, и бревна стали вести себя спокойнее. Но все же бревна, составлявшие остов плота, никогда не представляли собой ровной поверхности, никогда не были совершенно неподвижными по отношению друг к другу. А так как эти бревна двигались вверх и вниз и поворачивались на каждом стыке, то и все двигалось вместе с ними. Бамбуковая палуба, двойная мачта, четыре плетеные стены каюты и крыша из планок и листьев были закреплены канатами и все-таки покачивались, в одном месте приподнимаясь и опускаясь в другом. Это было чуть заметное движение но все же мы ясно видели его. Если один угол каюты поднимался, другой опускался, если бамбуковые жерди на одной половине крыши изгибались в одну сторону, то на другой половине крыши они изгибались в противоположную сторону. А когда мы смотрели из каюты через открытую стену, все казалось нам еще более подвижным и неустойчивым, так как небесный свод описывал медленные крути над нами, а волны высоко подпрыгивали ему навстречу.
Веревки принимали на себя всю нагрузку. Целыми ночами мы слышали, как они скрипели, стонали, терлись о бревна и шуршали. В темноте все эти звуки сливались в единую жалобную симфонию, в которой каждая веревка тянула отдельную ноту в соответствии со своей толщиной и степенью натяжения. Каждое утро мы тщательно осматривали веревки. Кто-нибудь из нас ложился даже на край плота, свешивал голову в воду и, пока двое товарищей крепко держали его за ноги, старался разглядеть, в порядке ли веревки на подводной части плота.
Но веревки держались. Две недели, говорили нам моряки, потом все веревки перетрутся. И все же, вопреки этому единодушному мнению, мы пока не находили ни малейшего признака перетирания. И лишь тогда, когда мы были далеко в океане, нам стало ясно, в чем дело. Бальсовая древесина была так мягка, что веревки постепенно врезались в дерево, и бревна предохраняли их, вместо того чтобы перетирать.
По прошествии примерно недели океан стал спокойнее, и мы заметили, что он был синим, а не зеленым. Мы теперь плыли к запад-северо-западу, а не к северо-западу и сочли это за первый робкий признак того, что мы выбрались из берегового течения и отныне будем двигаться в сторону открытого океана.
В первый же день, как мы остались одни среди океана, мы заметили вокруг плота рыб, но тогда мы были слишком заняты рулевым веслом, чтобы думать о рыбной ловле. На второй день мы наткнулись на целый косяк сардин, а немного спустя появилась двухметровая голубая акула и, то и дело переворачиваясь своим белым брюхом вверх, поплыла за самой кормой плота, где Герман и Бенгт, стоя босиком в воде, орудовали с рулевым веслом. Некоторое время она играла вокруг нас, но скрылась, как только вооружились ручным гарпуном.
На следующий день нас навестили тунцы, бониты
[137] и золотые макрели; а когда крупная летающая рыба шлепнулась на палубу плота, мы использовали ее в качестве наживки и тотчас же вытащили двух больших золотых макрелей весом в 10 и 15 килограммов. Это был провиант на несколько дней. Во время вахты у руля мы часто видели рыб, которые были нам совершенно неизвестны, а однажды нам попалась стая дельфинов, казавшаяся бесконечной. Черные спины, торчавшие из воды одна рядом с другой у самого плота, кувыркались и подпрыгивали тут и там; с верхушки мачты мы увидели, что весь океан, насколько хватал взор, был покрыт ими. Чем больше мы приближались к экватору и чем дальше уходили от берега, тем чаще стали появляться летающие рыбы. Когда мы, наконец, вошли в синюю воду, где величественно перекатывались освещенные солнцем спокойные волны, подернутые рябью от порывов ветра, летающие рыбы проносились перед нами, как град снарядов, выпрыгивая из воды и летя по прямой линии и снова исчезая под водой, когда энергия полета иссякала.
Если мы выставляли ночью маленький керосиновый фонарь, его свет привлекал летающих рыб, больших и маленьких, и они перелетали через плот. Нередко они ударялись о бамбуковую каюту или парус и беспомощно падали на палубу. Оттолкнуться от нее, как они отталкиваются на ходу от воды, они не могли и оставались лежать, беспомощно извиваясь, похожие на пучеглазых сельдей с большими грудными плавниками. Иногда нам приходилось слышать крепкое словцо, когда холодная летучая рыба, двигаясь с изрядной скоростью, ударяла по лицу стоявшего на палубе человека. Они всегда летели быстро, головой вперед, и если они ударяли прямо в лицо, то оно начинало гореть, как от хорошей пощечины. Но потерпевшая сторона быстро забывала эту неспровоцированную агрессию; при всех своих недостатках это была морская страна чудес, где тонкие рыбные блюда со свистом прилетали к нам по воздуху. Обычно мы жарили летучих рыб к завтраку, и — зависело ли это от рыбы, от повара или от нашего аппетита — они напоминали нам, если мы счищали с них чешую, жареную форель.
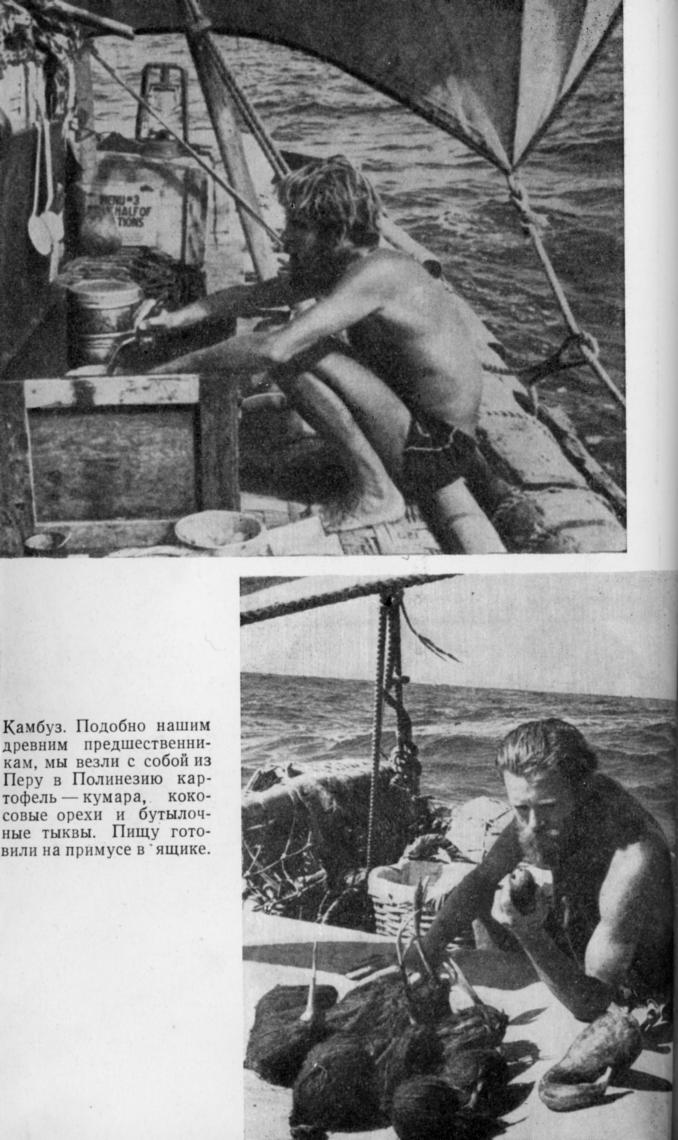
Первая обязанность кока, как только он просыпался утром, состояла в том, что он выходил на палубу и подбирал всех летучих рыб, совершивших в течение ночи посадку на плоту. Обычно их бывало не меньше полудюжины, а однажды утром мы обнаружили на плоту двадцать шесть жирных летучих рыб. Как-то раз, когда Кнут стоял и орудовал со сковородой, летучая рыба ударила его по руке; он сильно огорчился, что она не шлепнулась прямо в кипящий жир.
Торстейн только тогда полностью осознал, в каком тесном соседстве с океаном мы живем, когда, проснувшись, обнаружил на своей подушке сардину. В каюте было так тесно, что Торстейну приходилось лежать головой в дверях; и если кто-нибудь, выходя ночью, случайно задевал его по лицу, он кусал проходившего за ногу. Он схватил сардину за хвост и дал ей совершенно ясно понять, что питает искреннюю любовь ко всем сардинам. На следующую ночь мы предусмотрительно поджали под себя ноги, чтобы оставить Торстейну как можно больше места; но вскоре произошло событие, которое вынудило Торстейна перебраться спать на ящик с кухонной утварью, стоявший в радиорубке.
Это произошло через несколько ночей. Тучи заволокли все небо, и было очень темно; для того чтобы ночные вахтенные видели, куда они ступают, перелезая через него, Торстейн поставил керосиновый фонарь у самой своей головы… Около четырех часов Торстейн проснулся оттого, что фонарь перевернулся и что-то холодное и мокрое начало биться около его лица. «Летучая рыба», — подумал он и принялся шарить в темноте, чтобы выбросить ее. Он ухватился за что-то длинное и мокрое, извивавшееся, как змея, и сейчас же отдернул руку, словно ожегшись. Пока Торстейн пытался зажечь фонарь, невидимый посетитель переполз через него к Герману. Герман также вскочил, от этого проснулся и я с мыслью о кальмаре, который иногда появляется по ночам в этих водах. Когда нам удалось зажечь фонарь, мы увидели, что Герман сидит с видом победителя, крепко сжимая одной рукой шею длинной узкой рыбы, которая извивается, как угорь. Рыба имела в длину около метра и напоминала своим тонким туловищем змею; у нее были большие черные глаза и удлиненная голова с хищной пастью, полной длинных острых зубов. Зубы были остры, как ножи, и могли отгибаться назад к нёбу, чтобы пропустить в горло захваченную пищу. Герман продолжал сжимать в руках свою добычу, как вдруг изо рта хищника выскочила пучеглазая белая рыбка около двадцати сантиметров длиною. А следом за ней появилась и вторая такая же. Совершенно очевидно, это были две глубоководные рыбы, сильно пострадавшие от зубов змеиной рыбы. Тонкая кожа змеиной рыбы имела синевато-фиолетовый цвет на спине и голубовато- стальной снизу; она легко снималась целыми лоскутами под нашими пальцами.
От всего шума проснулся, наконец, и Бенгт, и мы подсунули ему под нос фонарь и длинную рыбу. Он впросонках приподнялся в своем спальном мешке и торжественно изрек:
— Нет, такой рыбы не существует.

И с этими словами спокойно повернулся и снова заснул.
Бенгт заблуждался не очень сильно. Впоследствии выяснилось, что мы шестеро, сидевшие вокруг фонаря в бамбуковой каюте, были первыми людьми, которые увидели эту рыбу в живом состоянии. На побережье Южной Америки и островов Галапагос несколько раз находили только скелеты подобной рыбы; ихтиологи назвали ее Gempylus, или змеиной макрелью, и думали, что она живет на дне океана на большой глубине, так как никто не видел ее живой. Но если она и держалась на большой глубине, то во всяком случае только днем, когда солнце слепило ее большие глаза. Ибо в темные ночи змеиная макрель разгуливала по волнам; находясь на плоту, мы имели случай в этом убедиться.
Неделю спустя после того, как эта редкая рыба угодила в спальный мешок Торстейна, к нам явился другой посетитель. Опять было четыре часа утра, И молодая луна уже зашла, так что кругом стоял мрак, но звезды сверкали. Плот легко слушался руля, и когда моя вахта окончилась, я решил пройтись вдоль борта к носу, чтобы, передав смену, посмотреть, все ли в порядке. Как всегда у вахтенных, у меня вокруг пояса была обвязана веревка; с керосиновым фонарем в руке я осторожно шел вдоль крайнего бревна, чтобы обогнуть мачту. Бревно было мокрое и скользкое, и я пришел в ярость, когда кто-то совершенно неожиданно ухватился сзади за мою веревку и стал так дергать, что я чуть не потерял равновесие. Я гневно обернулся и посветил фонарем, но никого не увидел. Затем снова дернули за веревку, и я заметил, что на палубе что-то блестит и извивается. Это оказалась еще одна змеиная макрель; на этот раз она так глубоко вонзила свои зубы в веревку, что несколько зубов сломалось, прежде чем мне удалось освободить ее. По-видимому, свет фонаря падал на извивавшуюся белую веревку, и наша гостья из глубины океана вцепилась в нее в надежде ухватить особенно длинный и изысканный лакомый кусок. Она окончила свои дни в банке с формалином.
Океан преподносит много сюрпризов тому, кто живет в квартире, расположенной на одном уровне с его поверхностью, и движется по нему медленно и бесшумно.
Случается, что охотник, который пробивался сквозь чащу леса, возвращается и говорит, что не видел никакой дичи. А другой охотник сидит на пне и ждет, и часто вокруг него начинают раздаваться шорохи и трески, и любопытные глаза выглядывают из зарослей. То же самое относится и к океану.
Обычно мы бороздим его, грохоча машинами и стуча поршнями, вспенивая воду вокруг носа корабля. Потом мы возвращаемся и говорим, что даже посреди океана не на что смотреть.
Когда мы плыли по океану, сидя у самой воды, не проходило дня, чтобы нас не навещали любознательные гости, которые сновали вокруг; некоторые из них, как, например, золотые макрели и лоцманы, так привыкли к нам, что сопровождали плот по океану, день и ночь крутясь возле него.
Когда наступала ночь и звезды мерцали в темном тропическом небе, вода вокруг нас начинала фосфоресцировать, соперничая своим сиянием со звездами. Каждый сверкающий планктонный организм так живо напоминал круглый раскаленный уголек, что мы невольно подбирали свои босые ноги, когда сверкающие шарики выбрасывало волнами на корму плота. Беря их в руки, мы могли различить, что это были ярко светящиеся гарнели
[138]. В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совеем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим гипнотизирующим взглядом — быть может, это явился сам дух моря. Часто это были большие кальмары, которые появлялись из глубины и плавали на поверхности, сверкая в темноте дьявольскими зелеными глазами, напоминающими своим блеском фосфор. А иногда это были светящиеся глаза глубоководных рыб, которые подымались на поверхность только по ночам и неподвижно лежали, уставясь на нас, очарованные тусклым светом фонаря. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота вдруг появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60–90 сантиметров, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде светящиеся шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивавшие на одно мгновение электрические лампочки.
Постепенно мы привыкли к этим подземным, или, вернее, подводным, существам, которые жили под нами, и все-таки каждый раз удивлялись, когда появлялась новая разновидность. Однажды облачной ночью около двух часов, когда рулевой с трудом мог отличить черную воду от черного неба, он заметил слабый свет под водой, который постепенно принял форму большого животного. Невозможно было определить, светился ли планктон на его теле, или фосфоресцировало само животное, но это мерцание в черной воде придавало призрачному существу неясные колеблющиеся очертания. Оно казалось то круглым, то овальным или треугольным, а затем вдруг разделилось на две части, каждая из которых стала независимо плавать взад и вперед под плотом. В конце концов этих больших светящихся призраков стало три, и они описывали под нами медленные круги. Это были настоящие чудовища, так как только видимая часть их имела в длину 6–8 метров; мы все поспешно выбежали на палубу и следили за призрачным танцем. Чудовища плыли за плотом, и это зрелище продолжалось несколько часов. Таинственные и бесшумные, наши светящиеся спутники держались довольно глубоко под водой, большей частью со стороны правого борта, где горел фонарь, но иногда они плыли прямо под плотом или появлялись с левой стороны. Судя по мерцанию света на их спинах, можно было предположить, что животные размером превосходили слонов, но это не были киты, так как они ни разу не поднялись на поверхность, чтобы подышать. Может быть, мы встретились с гигантскими скатами, которые меняют свою форму, если поворачиваются набок? Они не обращали никакого внимания, когда мы приближали фонарь к самой поверхности воды, стараясь выманить их наверх, чтобы можно было как следует рассмотреть.
И подобно всем настоящим домовым и привидениям, они исчезли в глубине с первыми проблесками зари.
Нам никогда не удалось бы получить правильное объяснение этого ночного посещения трех светящихся чудовищ, если бы решение загадки не пришло само собой, когда через полтора дня при ярком солнце к нам явился еще один посетитель. Это произошло 24 мая, когда мы дрейфовали на легкой зыби, точно на 95° западной долготы и 7° южной широты. Было около полудня, и мы выбросили за борт внутренности двух больших золотых макрелей, которых поймали рано утром. Для того чтобы освежиться, я спрыгнул с носа плота в океан и лежал в воде, Держась все время начеку, привязанный к концу веревки, как вдруг я заметил толстую бурую рыбу, длиной около двух метров, которая подплывала в прозрачной воде с явным намерением поближе познакомиться со мной. Я поспешно взобрался на край плота и сидел под горячими лучами солнца, наблюдая за медленно проплывавшей рыбой; в это мгновение раздался дикий вопль Кнута, который сидел на корме позади бамбуковой каюты. Он орал изо всех сил «акула!», пока его голос не сорвался и не перешел в фальцет. Так как акулы появлялись у плота почти ежедневно, не вызывая такого волнения, мы все поняли, что произошло нечто совершенно исключительное, и бросились к корме на помощь Кнуту.
Кнут сидел там на корточках и стирал в волне свои штаны; когда он на мгновение поднял глаза, перед ним была огромная уродливая морда, какой ни один из нас не видел за всю свою жизнь, голова настоящего морского чудовища — такая большая и такая отвратительная, что появись перед нами сам дух моря, он не произвел бы на нас столь сильного впечатления. По бокам широкой и плоской, как у лягушки, головы сидели два маленьких глаза, а вокруг жабьей пасти, шириной чуть ли не в полтора метра, шли длинные складки, свисавшее у углов рта.
Голова переходила в огромное туловище, заканчивавшееся длинным тонким хвостом с остроконечным хвостовым плавником, который стоял совершенно прямо и показывал, что это морское чудовище не принадлежало к отряду китов. Туловище казалось в воде буроватым, но и голова и тело были густо усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно двигалось, лениво плывя за нашей кормой. Оно осклабилось, как бульдог, и слегка било хвостом. Большой круглый спинной плавник выступал из воды, иногда высовывался и хвостовой плавник; а когда чудовище оказывалось во впадине между волнами, вода перекатывалась через его широкую спину, словно омывала какой-то подводный риф. Перед его широкой пастью веерообразным строем плыла целая стая полосатых, как зебра, лоцманов, а большие прилипалы и другие паразиты сидели, крепко вцепившись в огромное туловище, и путешествовали с ним в воде; все вместе они составляли любопытную коллекцию, которая разместилась вокруг чего-то, напоминавшего глубоко сидящую в воде плавучую скалу.
Десятикилограммовая золотая макрель, насаженная на шесть самых крупных рыболовных крючков, висела позади плота в качестве приманки для акул; лоцманы наткнулись на золотую макрель, потыкались носом, не трогая ее, а затем поспешили назад к своему господину и повелителю, морскому царю. Подобно механическому чудовищу, он пустил в ход свою машину и, легко скользя в воде, приблизился к золотой макрели, которая жалкой игрушкой лежала перед его пастью. Мы осторожно подтащили приманку к самому краю плота, и морское чудовище медленно последовало за нею. Оно не раскрыло рта, как будто считая, что не стоит распахивать всю дверь ради такого ничтожного кусочка, как макрель, ударявшаяся об его пасть. Когда гигант пододвинулся к самому плоту, он потерся спиной о тяжелое рулевое весло, отчего оно выскочило из воды, и теперь мы имели полную возможность изучить чудовище На самом близком расстоянии — на таком близком расстоянии, что при виде этого совершенно фантастического зрелища мы все как бы сошли с ума и, разразившись глупым смехом, принялись что-то возбужденно кричать. Сам Уолт Дисней
[139], при всей силе своего воображения, не мог бы создать более ужасающее морское чудовище, чем то, которое внезапно очутилось около нас, двигая страшными челюстями у края плота.
Чудовище оказалось китовой акулой, самой большой акулой и самой большой рыбой в мире, известной в наши дни.
Она встречается исключительно редко, но отдельные экземпляры кое-где попадались в океанах под тропиками. Китовая акула в среднем имеет в длину 15 метров и весит, по утверждению зоологов, 15 тонн. Говорят, что крупные экземпляры иногда достигают в длину 20 метров; у убитого с помощью гарпуна детеныша печень весила 300 килограммов, а в широкой пасти имелось около 3 тысяч зубов.

Чудовище было таким огромным, что, когда оно начало описывать круги вокруг плота и под ним, его голова виднелась с одной стороны, а весь хвост целиком торчал с другой. А спереди его морда казалась такой невероятно причудливой, флегматичной и глупой, что мы не могли удержаться от смеха, хотя прекрасно понимали, что хвост чудовища обладал достаточной силой, чтобы в случае нападения разнести на куски и бальсовые бревна и связывающие их веревки. Снова и снова описывала китовая акула все более суживавшиеся круги под самым плотом, а мы могли лишь наблюдать и выжидать, что произойдет дальше. Проплывая мимо кормы, акула мирно и плавно проходила под рулевым веслом и приподнимала его на воздух, между тем как лопасть весла скользила вдоль ее спины. Мы стояли кругом палубы плота с ручными гарпунами наготове, но они представлялись нам чем-то вроде зубочисток по сравнению с огромным животным, с которым нам предстояло иметь дело. Не было никаких признаков того, что китовая акула собирается покинуть нас; она кружила вокруг плота и следовала вплотную за ним, подобно преданному псу. Никому из нас не приходилось испытывать или даже предполагать, что ему придется испытать нечто подобное; все это происшествие с морским чудовищем, плававшим позади плота и под ним, казалось нам до такой степени неестественным, что мы поистине не могли отнестись к нему серьезно.
На самом деле китовая акула кружила вокруг нас не больше часа, но нам казалось, что ее визит длился целый день. Наконец Эрик, стоявший с двухметровым ручным гарпуном на углу плота, не выдержал и, подбодряемый неуместными криками, занес гарпун над своей головой. Китовая акула медленно скользила по направлению к нему и высунула свою широкую голову как раз под самым углом плота. Эрик со всей своей богатырской силой взмахнул гарпуном и вонзил его в костлявую голову акулы.
Прошло несколько секунд, прежде чем чудовище как следует поняло, что произошло. И тогда в мгновение ока мирное слабоумное животное преобразилось в гору стальных мышц. Мы услышали свистящий звук, когда веревка гарпуна пролетела над бортом, и увидели фонтан воды, когда чудовище головой вниз нырнуло в глубину. Три человека, стоявшие ближе других, были сбиты с ног; пронесшаяся в воздухе веревка задела и больно хлестнула двоих из них. Толстый канат, достаточно прочный, чтобы удержать шлюпку, зацепился за край плота, но тут же лопнул, как кусок шпагата, а через несколько секунд выброшенное древко гарпуна показалось на поверхности воды в двухстах метрах от нас. Стая испуганных лоцманов промелькнула в воде, отчаянно пытаясь догнать своего старого господина и повелителя.
Мы долго ждали, что чудовище примчится назад, подобно подводной лодке; но нам больше не пришлось увидеть китовую акулу.
Теперь мы находились в Южном экваториальном течении и двигались в западном направлении ровно в 400 милях южнее островов Галапагос. Опасность того, что нас отнесет к галапагосским течениям, миновала; все наше знакомство с этим архипелагом свелось к поклонам, которые нам передавали большие морские черепахи, забиравшиеся так далеко в океан, несомненно, с этих островов. Как-то мы увидели огромную морскую черепаху, которая барахталась в воде, высунув на поверхность голову и одну ногу. Когда поднялась зыбь, мы заметили в воде под черепахой зеленые, синие и золотистые тени и поняли, что черепаха ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с золотыми макрелями. Сражение было явно односторонним; оно состояло в том, что 12–15 большеголовых, ярко окрашенных макрелей атаковали шею и ноги черепахи, очевидно пытаясь взять ее измором, так как черепаха не в состоянии пролежать целый день на брюхе, втянув голову и ноги под щит.
Как только черепаха заметила плот, она нырнула и направилась прямо к нам, преследуемая сверкающими золотыми макрелями. Она подплыла к самому краю плота и, по-видимому, была не прочь забраться на бревно, как вдруг увидела нас. Если бы мы имели больше практики, мы без труда могли бы поймать ее веревками, пока ее большой щит медленно проплывал вдоль плота. Но мы упустили момент, слишком долго разглядывая ее, и когда петля была готова, гигантская черепаха уже миновала нос плота. Мы спустили на воду маленькую резиновую лодку, и Герман, Бенгт и Торстейн пустились вдогонку в круглой скорлупке, которая была немногим больше той, что плыла впереди. Бенгт в качестве эконома мысленно предвкушал уже мясные блюда и восхитительнейший черепаховый суп. Но чем быстрее гребли наши товарищи, тем быстрее и черепаха скользила в воде под самой поверхностью; не успели они отплыть от плота на сотню метров, как черепаха неожиданно бесследно исчезла. Во всяком случае, они сделали одно доброе дело. Когда маленькая желтая резиновая лодка направилась назад, танцуя на воде, вся стая сверкающих золотых макрелей устремилась за ней. Они кружились вокруг новой черепахи, и самые смелые пытались ухватить лопасти весел, которые погружались в воду, как черепашьи ноги. Тем временем мирная черепаха благополучно скрылась от всех своих наглых преследователей.

Глава 5
НА ПОЛПУТИ
Повседневная жизнь и эксперименты. — Питьевая вода для экипажа плота. — Батат и тыква раскрывают тайну. — Кокосовые орехи и крабы. — Юханнес. — Мы плывем по ухе. — Планктон. — Съедобная фосфоресценция. — Знакомство с китами. — Муравьи и морские уточки. — Плавающие любимцы. — Золотые макрели становятся нашими спутниками — Ловля акул. — «Кон-Тики» превращается в морское чудовище. — Акулы оставляют нам лоцманов и прилипал. — Летающие кальмары. — Неизвестные посетители. — Водолазная корзина. — С тунцами и бонитами в их стихии. — Несуществующий риф. — Тайна киля раскрыта. — Полпути.
Шли недели. Мы не видели никаких признаков корабля; не встречалось и плававших в воде предметов, которые говорили бы о том, что на свете существуют другие люди. Весь океан принадлежал нам; горизонт был открыт перед нами со всех сторон, и от самого небесного свода веяло подлинным покоем и свободой.
Воздух, казалось, звенел от пропитавшей его свежей соли, и вся незапятнанная синева, окружавшая нас, обмывала и очищала и тело и душу. Все сложные проблемы цивилизованных людей представлялись нам на плоту искусственными и призрачными, простыми измышлениями извращенного человеческого ума. Реальностью были только стихии. А стихии, по-видимому, не обращали внимания на маленький плот. Или, пожалуй, они принимали его за нечто естественное, что не нарушало гармонии океана и приспосабливалось к течению и волнам, как птица или рыба. Теперь стихии были не страшным врагом, с пеной набрасывавшимся на нас, а надежным другом, который твердо и уверенно помогал нам двигаться вперед. Ветер и волны толкали и подгоняли, а океанское течение под нами несло нас вперед к нашей цели.
Если бы в один из обычных дней, проведенных нами в океане, нам повстречался какой-нибудь корабль, с его борта было бы видно, что мы спокойно покачиваемся вверх и вниз на длинной медленно катящейся волне, увенчанной мелкими белыми гребнями, а пассат наполняет наш оранжевый парус и выгибает его в сторону Полинезии.
Находящиеся на борту увидели бы на корме плота загорелого бородатого голого человека, который тянет за перепутанные веревки, отчаянно сражаясь с длинным рулевым веслом, или — если погода хорошая — просто сидит на ящике, подремывая на горячем солнце, слегка придерживая пальцами ног рулевое весло.
Если Бенгта не было у руля, то его можно было обнаружить лежащим на животе в дверях каюты с одной из его семидесяти трех книг по социологии в руках. Кроме того, Бенгт исполнял обязанности эконома, и на его ответственности лежало составление дневного меню. Германа в любое время дня можно было видеть решительно повсюду — на верхушке мачты с метеорологическими приборами, под плотом в водолазных очках осматривающим киль или в привязанной к плоту резиновой лодке орудующим с воздушными шарами и каким-то странным измерительным аппаратом. Он был у нас начальником технической части и отвечал за метеорологические и гидрографические наблюдения.
Кнут и Торстейн всегда что-то делали со своими полусухими батареями, паяльниками и схемами. Для того чтобы их маленькая радиостанция работала среди брызг и сырости, на высоте 30 сантиметров над поверхностью воды, требовался весь опыт, приобретенный ими во время войны. Каждую ночь они по очереди посылали в эфир сведения о погоде, которые принимались случайными радиолюбителями, передававшими затем их Метеорологическому институту в Вашингтон и в другие адреса. Эрик обычно сидел, чиня паруса и сплетая концы веревок; иногда он вырезал из дерева или рисовал на бумаге наброски бородатых людей и необыкновенных рыб. А ежедневно в полдень он брал секстант и влезал на ящик, чтобы взглянуть на солнце и установить, сколько мы прошли за истекшие сутки. У меня хватало дел с судовым журналом и отчетами, с собиранием планктона, ловлей рыбы и киносъемками. У каждого была своя область, за которую он отвечал, и никто не вмешивался в работу других. Все менее приятные работы, как вахты у руля и приготовление пищи, исполнялись поочередно. Каждому приходилось проводить у рулевого весла по два часа днем и по два часа ночью. А обязанности кока каждый из нас выполнял в соответствии с расписанием дневных дежурств. На плоту было немного законов и правил: ночной вахтенный должен обвязываться веревкой, спасательная веревка должна находиться на определенном месте, в каюте нельзя есть, а «уборной» может служить только самый дальний конец кормового бревна. Если нужно было принять важное решение, мы на манер индейцев созывали военный совет и, прежде чем на чем-нибудь остановиться, сообща обсуждали вопрос.

Обычно день на борту «Кон-Тики» начинался с того, что последний ночной вахтенный тормошил кока, и тот, заспанный, вылезал на мокрую от росы палубу, залитую утренним солнцем, и принимался собирать летающих рыб. Вместо того чтобы есть рыбу сырой, как это было принято у полинезийцев и перуанцев, мы жарили ее на небольшом примусе, который стоял внутри ящика, крепко привязанного к палубе перед дверью каюты. Этот ящик был нашей кухней. Сюда обычно не задувал юго-восточный пассат, от которого в другом месте на плоту трудно было укрыться. Только в тех случаях, когда ветер и волны слишком энергично забавлялись с пламенем примуса, деревяный ящик загорался; однажды, когда кок заснул, весь ящик охватило пламенем, которое перекинулось на стену бамбуковой каюты. Но как только дым проник в каюту, огонь был сразу же погашен: на «Кон-Тики» идти за водой было недалеко.
Запаху жареной рыбы редко удавалось разбудить храпевших в каюте, так что коку приходилось тыкать их вилкой или приниматься петь сигнал побудки так фальшиво, что никто не мог этого долго выдержать. Если вблизи от плота не было плавников акул, то день начинался с непродолжительного купания в Тихом океане, после чего следовал завтрак на открытом воздухе на краю плота.
Питание было безукоризненным. Мы проводили два эксперимента: один имел отношение к интендантскому управлению XX века, второй — к Кон-Тики и V веку. Первый опыт был поставлен на Торстейне и Бенгте, питание которых состояло из специальных рационов в маленьких тонких пакетах, хранившихся в коробках, которые мы запихали между бревнами и бамбуковой палубой. Впрочем, Торстейн и Бенгт никогда не питали пристрастия к рыбе и другой морской пище. Каждые несколько недель мы развязывали веревки, прикреплявшие бамбуковую палубу, и вытаскивали новые запасы, которые затем крепко привязывали перед каютой. Плотный слой асфальта, покрывавший со всех сторон картонные коробки, оказался прекрасной защитой, между тем как герметически закупоренные жестяные банки, которые лежали рядом без упаковки, были испорчены проникшей в них морской водой, все время плескавшейся вокруг нашего продуктового склада.

У Кон-Тики, когда он впервые совершал путешествие по океану, не было ни асфальта, ни герметически закупоренных банок; тем не менее он не испытывал серьезных затруднений с продовольствием. И тогда мореплаватели питались тем, что могли захватить с собой с суши, и тем, что они могли раздобыть для себя в пути. Весьма вероятно, что Кон-Тики, отплывая от берегов Перу после поражения у озера Титикака, мог иметь в виду одну из следующих двух целей. Возможно, что он — живое воплощение солнца среди своего обожествлявшего солнце народа — рискнул пуститься прямо в океан, чтобы следовать по пути самого солнца, в надежде найти новую, более мирную страну. Другая возможность для него состояла в том, чтобы направить свои плоты вдоль побережья Южной Америки, высадиться где-нибудь севернее и основать новое царство вне пределов досягаемости для своих преследователей. Отплыв от опасных скалистых берегов, населенных враждебными племенами, он, подобно нам, оказался во власти юго-восточного пассата и течения Гумбольдта и по воле этих стихий вынужден был описать точно такой же большой полукруг прямо в сторону заката.
Каковы бы ни были планы этих солнцепоклонников, когда они покидали свою родину, они, конечно, имели с собой запас продовольствия на время путешествия. Сушеное мясо и рыба, сладкий картофель составляли главную часть их первобытной пищи. Когда в те времена люди пускались на плотах вдоль пустынного берега Перу, они брали с собой большой запас воды. Вместо глиняной посуды они большей частью пользовались огромными тыквенными бутылями, не боявшимися толчков и ударов. Еще более удобными для пользования на плоту были толстые стволы гигантского бамбука; в них просверливали все перегородки и наливали внутрь ствола воду через маленькую дырку, которую затыкали какой-нибудь втулкой, либо залепляли смолой или камедью. 30–40 толстых бамбуковых стволов можно было привязать вдоль плота под бамбуковой палубой, и там они лежали в тени, омываемые прохладной (26°Ц в экваториальном течении) морской водой. Такой запас воды вдвое превышал наш расход за все время путешествия, а его можно было и увеличить, попросту привязав еще несколько десятков бамбуков под плотом, где они ничего не весили бы и не занимали бы места.
По истечении двух месяцев мы обнаружили, что пресная вода стала затхлой и приобрела неприятный вкус. Но за это время вполне можно было миновать ту часть океана, где выпадает мало дождей, и давно очутиться в областях, в которых запас воды пополнялся бы сильными ливнями. Мы ежедневно выдавали по литру с четвертью воды на человека, и далеко не всегда эта порция бывала израсходована.
Если даже наши предшественники пускались в путь, не запасшись достаточным количеством продовольствия, они все же не испытывали больших лишений, пока двигались по океану вместе с течением, в котором рыба водилась в изобилии. За все время нашего путешествия не проходило ни одного дня, чтобы мы не видели плававших вокруг плота рыб и не могли без труда поймать их. Почти ежедневно хоть несколько летающих рыб сами являлись к нам на плот. Случалось даже, что большие бониты, замечательно вкусные, попадали на плот с набегавшими на корму волнами и бились на палубе, когда вода уходила между бревнами, как сквозь сито. Умереть от голода было невозможно.

Древние индейцы хорошо знали способ утоления жажды, к которому во время последней мировой войны прибегали многие потерпевшие кораблекрушение, — высасывание влаги из сырой рыбы. Можно также выдавливать сок, завернув кусок рыбы в какую-нибудь тряпку, а если рыба большая, то нет ничего проще, как вырезать в ее туловище несколько ямок и подождать, пока они быстро наполнятся жидкостью, выделяемой лимфатическими железами рыбы. На вкус этот напиток не очень приятен — если у вас есть для питья что-нибудь лучше, — но содержание соли в нем так незначительно, что жажда утоляется.
Потребность в питьевой воде сильно уменьшалась, если мы регулярно купались, а потом мокрые лежали в затененной каюте. Если вокруг нас величественно патрулировала акула, не давая нам возможности выкупаться по-настоящему в океане, то достаточно было просто лечь на корме на бревна, хорошенько держась за веревки пальцами рук и ног. И тогда мы принимали ванны в прозрачной воде Тихого океана, которая перекатывалась через нас каждые несколько секунд.
Когда во время жары человека мучает жажда, он обычно предполагает, что его организм требует жидкости, это часто может повести к неумеренному расходованию запаса воды без всякой пользы. В действительности в жаркие дни в тропиках можно выпить столько тепловатой воды, что она начнет подступать вам к горлу, а жажда все-таки не исчезнет. В этих случаях организм требует не жидкости, а, как это ни странно, соли. В специальные рационы, которые мы имели с собой, входили таблетки соли для регулярного приема их в особенно жаркие дни, так как с потом организм выделяет соль. Мы испытывали такую жару, когда ветер совершенно замирал, а солнце беспощадно жгло. Мы пробовали вливать в себя столько воды, что она начинала хлюпать у нас в животе, а наши глотки жадно требовали еще. В такие дни мы добавляли к нашему рациону пресной воды от 20 до 40 процентов горько-соленой морской воды и, к собственному удивлению, убеждались, что эта солоноватая вода утоляла жажду. Мы долго ощущали во рту вкус морской воды, но никогда не испытывали тошноты; и тем самым мы одновременно увеличивали свой рацион воды.
Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, шальная волна угодила в кашу и совершенно бесплатно научила нас тому, что вкус овсянки в значительной степени перебивает неприятный вкус морской воды.
Старики полинезийцы сохранили в памяти любопытные предания, согласно которым их древнейшие предки, когда они переплывали океан, имели с собой листья какого-то растения, которые они жевали для утоления жажды. Другое свойство этого растения состояло в том, что, положив кусочек его в рот, можно было пить, не испытывая тошноты, чистую морскую воду. На островах Южного моря таких растений нет; они, очевидно, росли на родине их предков. Полинезийские историки упорно настаивали на этих фактах; современные ученые заинтересовались ими и пришли к заключению, что единственным известным растением, обладающим такими свойствами, является кока, который растет только в Перу. А как доказали археологические раскопки, в доисторическом Перу это же самое растение кока, содержащее кокаин, постоянно употреблялось и инками и их исчезнувшими предшественниками. Отправляясь в утомительные путешествия по горам или в плавание по океану, они брали пачки этих листьев и много дней подряд жевали их, чтобы не испытывать жажды и усталости. Жевание листьев кока позволяло им в течение некоторого времени даже без вреда для себя пить морскую воду.
На «Кон-Тики» мы не пробовали листьев кока; у нас на передней части палубы были большие плетеные корзины, наполненные другими растениями, которые наложили глубокий отпечаток на всю жизнь островов Южного моря. Крепко привязанные корзины стояли под защитой стены каюты, и, по мере того как шло время, из них все выше и выше поднимались желтые побеги и зеленые листья. Это напоминало маленький тропический сад на деревянном плоту. Когда первые европейцы появились на островах Тихого океана, они обнаружили большие плантации сладкого картофеля на острове Пасхи, на Гавайских островах и в Новой Зеландии; тот же самый батат культивировался также и на других островах, но только в пределах Полинезии. В тех странах, которые лежали дальше на запад, он был совершенно неизвестен. Сладкий картофель являлся одним из самых важных культивируемых растений на этих далеких островах, где люди без него должны были бы питаться главным образом рыбой. С этим растением связано много полинезийских легенд. Согласно преданию, его привез не кто иной, как сам Тики, когда вместе с женой Пани явился с первоначальной родины их предков, где сладкий картофель был важным предметом питания. Новозеландские легенды рассказывают, что сладкий картофель привезли из-за океана на судах, которые не были челноками, а представляли собой «бревна, связанные вместе веревками».
Как известно, Америка, кроме Полинезии, является единственным местом на земле, где сладкий картофель рос до появления европейцев. А сладкий картофель Ipomaea batatas, привезенный Тики на острова, это тот самый картофель, который возделывался с древнейших времен индейцами в Перу. Сушеный сладкий картофель был самым главным продуктом питания во время путешествий и у индейцев древнего Перу и у полинезийцев. На островах Южного моря бататы растут только при тщательном уходе, и так как они не переносят морской воды, попытка объяснить их широкое распространение на этих изолированных островах тем, что их могло принести из Перу океанским течением на расстояние свыше 4 тысяч миль, совершенно несостоятельна. Такая попытка опровергнуть столь важный довод тем более тщетна, что, как установлено филологами, на всех раскинутых на большом пространстве островах Южного моря сладкий картофель называют «кумара», а под этим же именем «кумара» сладкий картофель был известен у древних индейцев в Перу. Название последовало за бататом через океан.
Другим очень важным возделываемым в Полинезии растением, которое мы везли с собой на «Кон-Тики», была бутылочная тыква Lagenaria vulgaris. Не менее важное значение, чем сам плод, имела оболочка тыквы, которую полинезийцы высушивали над костром и употребляли в качестве сосудов для воды. Это типичное огородное растение, которое опять-таки не могло само переплыть океан и распространиться в диком состоянии по островам, было известно и древним полинезийцам и первоначальным жителям Перу. Такие бутылочные тыквы, превращенные в сосуды для воды, мы находим в заброшенных доисторических могилах на берегах Перу; ими пользовались там рыбаки за много столетий до того, как первые люди появились на островах Тихого океана. Полинезийское название бутылочной тыквы, «кими», встречается и среди индейцев Центральной Америки, куда уходит своими корнями культура Перу.
В добавление к разным южным фруктам, съеденным нами за несколько недель, прежде чем они успели сгнить, мы имели с собой третье растение, которое наряду со сладким картофелем сыграло наибольшую роль в истории Тихого океана. У нас было двести кокосовых орехов, дававших работу нашим зубам и снабжавших нас освежающим напитком. Некоторые орехи вскоре стали прорастать, и по истечении ровно десяти недель нашего плавания у нас появилось полдюжины крошечных пальм вышиной в 30 сантиметров, побеги которых уже раскрылись и образовали плотные зеленые листья. Кокосовая пальма росла в доколумбовскую эпоху и на Панамском перешейке и в Южной Америке. Автор исторических хроник Овьедо
[140] пишет, что кокосовые пальмы росли в большом количестве на тихоокеанском побережье Перу, когда там появились испанцы. В это время кокосовые пальмы давно уже имелись на всех островах Тихого океана. Ботаники пока не имеют определенных данных относительно того, каков был путь их распространения по Тихому океану. Но одно сейчас уже установлено. Даже кокосовый орех с его знаменитой скорлупой не может перебраться через океан без помощи человека. Орехи, лежавшие у нас на палубе в корзинках, оставались съедобными и не теряли способности к прорастанию в течение всего нашего путешествия в Полинезию. Но примерно такое же количество орехов мы положили среди коробок с продовольствием под палубой, где вокруг них все время плескались волны. Эти орехи все до единого были испорчены морской водой. А ведь ни один орех не может плыть по океану быстрее, чем бальсовый плот, подгоняемый ветром. Начиналось с того, что глазок ореха пропитывался водой и размягчался, а затем через него морская вода проникала внутрь. Вдобавок целая армия сборщиков мусора следила по всему океану за тем, чтобы ни один плавающий съедобный предмет не мог перебраться из одной части света в другую.
Иногда в тихие дни среди синего океана вдали от всяких берегов мы видели белое перо птицы, плывущее рядом с нашим плотом. Одинокие буревестники и другие морские птицы, которые могут спать на воде, встречались нам за тысячи миль от ближайшей земли.
Если, подплыв к маленькому перу, мы начинали его внимательно осматривать, мы видели на нем двух-трех пассажиров, со всеми удобствами плывших по ветру. Когда «Кон-Тики», подобно какому-то Голиафу, обгонял их, пассажиры при виде нового судна, которое двигалось быстрее и было гораздо поместительнее, покидали свои места и как можно скорее перебирались по воде на плот, предоставляя перу продолжать свой путь в одиночестве. Вскоре «Кон-Тики» кишел безбилетными пассажирами. Это были маленькие морские крабы. Величиной с ноготь пальца, а иногда и значительно больше, они представляли собой лакомство для великанов на плоту, если нам удавалось поймать их. Маленькие крабы исполняли роль полицейских на поверхности океана; они долго не раздумывали, когда видели что-нибудь съедобное. Если кок прозевывал летающую рыбу, лежавшую между бревнами, то на следующий день на ней уже сидели восемь или десять маленьких крабов и угощались, вовсю работая клешнями. При нашем приближении они большей частью пугались, быстро удирали и прятались, но на корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один краб, названный нами Юханнесом, который был совершенно ручным. Вместе с попугаем, всеобщим нашим любимцем, краб Юханнес также входил в нашу компанию на плоту. Если вахтенный, сидя в солнечный день за рулем спиною к каюте, не видел рядом с собой Юханнеса, он чувствовал себя крайне одиноким среди широкого простора синего океана. В то время как другие маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на обыкновенном корабле, Юханнес, не таясь, сидел перед своей дверью, выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый выходивший на вахту приносил крошки галет или кусочек рыбы для Юханнеса, и достаточно было нагнуться над его норой, чтобы он немедленно появлялся на пороге и протягивал лапку. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который напихал себе полный рот.

Крабы облепили, подобно мухам, намокшие кокосовые орехи, которые трескались от брожения, или же подбирали планктон, выброшенный волнами на плот. А планктон, эти мельчайшие морские организмы, представлял собой неплохую пищу даже для нас, великанов, когда мы научились добывать его по стольку зараз, чтобы хватило на приличный глоток.
Эти почти невидимые планктонные организмы, которые в бесчисленном множестве плавают по океанам по воле течений, являются, без сомнения, очень питательной пищей. Если некоторые рыбы и морские птицы сами не питаются планктоном, то в таком случае они живут за счет других рыб или морских животных, которые, как бы велики они ни были, питаются им. Планктон — это общее название для тысячи видов мелких организмов, видимых и невидимых глазу, которые плавают в океане у самой поверхности. Некоторые из них являются растениями (фитопланктон), а другие — свободно плавающими рыбьими икринками или крохотными животными (зоопланктон). Животный планктон питается растительным планктоном, а растительный планктон живет за счет аммиачных, азотистокислых и азотнокислых соединений, которые образуются при разложении мертвого животного планктона. Являясь пищей друг для друга, эти два вида планктонных организмов составляют в то же время пищу для всех, кто движется в воде и над водой. Если планктонные организмы недостаточны по величине, то по количеству их вполне достаточно. В стакане богатой планктоном воды их насчитывают тысячами. Не один раз люди умирали в море от голода, потому что им не попадались рыбы такой величины, чтобы их можно было бить острогой, ловить сетью или на крючок. В таких случаях нередко бывало, что люди плыли буквально в сильно разбавленной ухе из сырой рыбы. Если бы вдобавок к крючкам и сетям у них были приспособления для процеживания ухи, среди которой они находились, они могли бы получить питательную гущу — планктон. Когда-нибудь в будущем люди начнут, пожалуй, думать о сборе планктона в море в больших масштабах, как когда-то, давным-давно, им пришла в голову мысль о сборе зерна на земле. От одного зерна пользы нет, но в больших количествах оно становится пищей.
Один ученый-гидробиолог подал нам эту идею и снабдил нас рыболовной сетью, подходящей для тех созданий, которых мы собирались ловить. «Сеть» представляла собой шелковую сетку с примерно пятьюстами ячеек на квадратный сантиметр. Она была сшита в форме воронки, широкий конец которой был закреплен вокруг железного кольца 45 миллиметров в диаметре. Сетка плыла на веревке за плотом. Как и при других видах рыбной ловли, уловы бывали различными в зависимости от времени и места. Уловы уменьшались по мере того, как вода в океане, дальше к западу, становилась теплее; наилучшие результаты у нас бывали ночью, так как многие виды планктонных организмов, по-видимому, уходят глубже в воду, когда сияет солнце.
Если бы у нас не было других способов проводить время на плоту, мы могли бы целыми
днями лежать, уткнувшись носом в планктонную сетку. Не из-за запаха, так как он был достаточно неприятным. И не потому, что это было аппетитное зрелище, так как похлебка имела отвратительный вид. А потому, что раскладывая улов на палубе и разглядывая невооруженным глазом каждое из этих мельчайших существ в отдельности, мы могли любоваться бесконечным разнообразием фантастических форм и цветов.
Большей частью это были похожие на крошечных гарнелей ракообразные (копеподы) или свободно плавающие икринки рыб, но попадались также личинки рыб и моллюски, забавные миниатюрные крабы всех цветов, медузы и множество разнообразных мелких созданий, которые могли показаться заимствованными из «Фантазии» Уолта Диснея. Одни напоминали порхающие бахромчатые привидения, вырезанные из целлофана, другие походили на крошечных красноклювых птичек с твердой раковиной вместо перьев. Не было предела расточительной изобретательности природы в мире планктона; при виде этого зрелища любой художник-сюрреалист
[141] признал бы себя побежденным.
Когда холодное течение Гумбольдта южнее экватора повернуло на запад, мы могли через каждые несколько часов вынимать из сетки по одному-два килограмма планктонной кашицы. Планктон скоплялся в сетке напоминавшими торт цветными слоями — бурыми, красными, серыми и зелеными — в зависимости от того, по каким планктонным полям мы проходили. Ночью, когда вода вокруг нас фосфоресцировала, нам казалось, что мы перебираем в мешке сверкающие драгоценные камни. Но когда мы брали их в руки, сокровища пиратов превращались в миллионы мельчайших сверкающих гарнелей и светящихся рыбьих личинок, которые горели в темноте, как куча раскаленных угольков. А когда мы перебрасывали их в ведро, спрессовавшееся месиво расплывалось, как волшебная каша из светлячков. Наш ночной улов, такой красивый издали, на близком расстоянии имел отвратительный вид. Несмотря на неприятный запах, на вкус он был сравнительно недурен, если у нас хватало мужества отправить в рот ложку этого фосфора. Если улов состоял из карликовых гарнелей, он по вкусу напоминал омара, краба или паштет из креветок. А если в основном это были икринки глубоководных рыб, то их вкус напоминал черную икру, иногда устриц. Несъедобный растительный планктон большей частью состоял из таких мелких частиц, что они вместе с водой проходили сквозь ячейки сетки, или же они были настолько крупными, что мы могли вылавливать их пальцами. «Вредной примесью» в блюде были единичные студенистые кишечнополостные, похожие на стеклянные шарики, и медузы величиной с сантиметр. Они были горькие, и их приходилось выкидывать. Все остальное можно было есть либо в натуральном виде, либо сваренным в пресной воде наподобие каши или супа. Вкусы бывают различными. Двое из нас считали, что планктон замечательно вкусен, двое считали, что он вполне хорош, а для двоих одного вида его было более чем достаточно. С точки зрения питательности планктон не уступает более крупным моллюскам; приправленный и как следует приготовленный, он, без сомнения, может служить первоклассным блюдом для всех любителей морской пищи.
То, что эти маленькие организмы содержат достаточно калорий, доказано голубыми китами, которые являются самыми крупными в мире животными, а питаются планктоном. Наш способ ловли с помощью маленькой сетки, которая часто оказывалась изжеванной голодными рыбами, показался нам жалким и примитивным, когда однажды, сидя на плоту, мы увидели, как проплывавший кит выбрасывал каскады воды, попросту процеживая планктон сквозь свои целлулоидные усы. А в один прекрасный день вся наша сетка пропала в океане.
— Почему бы вам, планктоноедам, не поступать, как он? — презрительно спросили Торстейн и Бенгт остальных, указывая на пускающего фонтаны кита. — Наполняйте просто рот и выдувайте воду сквозь усы!
Мне приходилось видеть китов издали с пароходов, и я рассматривал их чучела в музее, но никогда у меня не бывало ощущения, что эта гигантская туша является таким же настоящим теплокровным животным, как, например, лошадь или слон. Конечно, как биолог, я признавал, что кит настоящее млекопитающее. Но по своей сути он представлялся мне со всех точек зрения большой холодной рыбой. Теперь, когда огромные киты мчались к нашему плоту и плыли рядом с ним, наше впечатление было иным. Однажды мы, по обыкновению, сидели за едой у самого края плота, так близко от воды, что, для того чтобы сполоснуть кружки, нам достаточно было откинуться назад; вдруг все мы вздрогнули от неожиданности, когда позади нас кто-то тяжело задышал, как плывущая лошадь, и на поверхности появился большой кит. Он смотрел на нас и был так близко, что мы видели его дыхало, блестевшее, как начищенный ботинок. Было так странно слышать настоящее дыхание среди океана, где все живые существа лишены легких и, бесшумно извиваясь, шевелят своими жабрами, что мы поистине испытывали теплое дружеское чувство к нашему древнему отдаленному родственнику — киту, который, как и мы, забрался так далеко в океан. Вместо холодной, жабоподобной китовой акулы, у которой не хватало ума даже на то, чтобы высунуть нос и подышать свежим воздухом, на этот раз нас посетил кто-то, кто напоминал откормленного веселого бегемота из зоологического сада и сделал несколько вдохов и выдохов (на меня это произвело наиболее приятное впечатление), прежде чем погрузиться в воду и исчезнуть.
Киты посещали нас много раз. Большей частью это были маленькие морские свиньи и зубатые киты, большими стаями резвившиеся около нас на поверхности воды; но время от времени встречались и большие кашалоты или другие гигантские киты, которые плавали поодиночке или стаями в несколько штук. Иногда они проплывали, как корабли, на горизонте, то и дело выбрасывая в воздух фонтаны воды, но в других случаях они направлялись прямо на нас. В первый раз, когда большой кит изменил курс и явно намеренно направился прямо к плоту, мы приготовились к опасному столкновению. По мере того как кит приближался, всякий раз, как он высовывал голову из воды, мы все яснее слышали его тяжелое и редкое пыхтящее дыхание. Казалось, в воде с трудом двигалось огромное, толстокожее, неуклюжее сухопутное животное, столь же не похожее на рыбу, как летучая мышь не похожа на птицу. Кит подплыл к левому борту, где мы все собрались у самого края плота; один из нас сидел на верхушке мачты и кричал, что видит еще семь или восемь китов, направляющихся к нам.
Большой блестящий черный лоб первого кита показался не дальше чем в двух метрах от нас, но вдруг он погрузился в воду, и затем мы увидели, что огромная иссиня-черная спина медленно скользнула под плот как раз под нашими ногами. Некоторое время кит лежал там, темный и неподвижный, а мы затаив дыхание смотрели вниз на гигантскую изогнутую спину млекопитающего, длиной намного превосходившего весь плот. Потом оно медленно погрузилось в синеватую воду и исчезло из виду. Тем временем вокруг плота собралась вся стая, но она не обращала на нас внимания. Вероятно, люди нападали первыми на тех китов, которые употребляли во зло свою колоссальную силу и топили ударами хвоста китобойные баркасы. Все утро мы видели вокруг себя в самых неожиданных местах шумно дышавших китов, но ни разу они не толкнули ни плот, ни рулевое весло. Они вполне довольствовались тем, что спокойно резвились в освещенных солнцем волнах. Но около полудня вся стая, словно по сигналу, нырнула и исчезла навсегда.
Не только китов приходилось нам видеть у себя под плотом. Подняв камышовые циновки, на которых мы спали, мы могли сквозь щели между бревнами смотреть прямо вниз в прозрачную синюю воду. Если пролежать так некоторое время, то можно было заметить покачивавшийся грудной или хвостовой плавник, а время от времени и всю рыбу. Если бы щели были на несколько сантиметров шире, мы могли бы с полным комфортом лежать в постели с удочкой и ловить рыбу под своими матрацами.
Чаще всех увязывались за плотом золотые макрели и лоцманы. Начиная с того момента, когда первые золотые макрели присоединились к нам в течении Гумбольдта за бухтой Кальяо, не проходило дня за все время путешествия, чтобы мы не видели извивавшихся вокруг нас крупных экземпляров. Что привлекало их к плоту, мы не знали; может быть, они испытывали таинственное влечение к тому, чтобы плавать в тени, имея над собой движущуюся крышу; или же их привлекала пища, которую они находили в нашем огороде из водорослей и ракушек, бахромой свисавших со всех бревен и рулевого весла. Обрастание началось с тонкого ровного слоя зелени, но затем зеленые наросты водорослей стали увеличиваться с изумительной быстротой, так что «Кон-Тики», карабкаясь по волнам, имел вид какого-то бородатого морского божества. А среди зеленых водорослей было любимое убежище крохотных мальков и наших безбилетных пассажиров — крабов. Одно время плот заполонили муравьи. В некоторых бревнах были мелкие черные муравьи, и когда мы очутились в море и древесина стала пропитываться влагой, муравьи выползли и перебрались в спальные мешки. Они были повсюду и так кусали и мучали нас, что мы начали опасаться, как бы они не выжили нас с плота. Но постепенно, когда в океане нас стало все чаще заливать волнами, муравьи поняли, что эта обстановка не для них, и лишь несколько единичных насекомых выдержали переезд через океан. Лучше всего, наряду с крабами, чувствовали себя на плоту морские уточки
[142] длиною в 25–40 миллиметров. Они размножались сотнями, в особенности на подветренной стороне плота, и, как только мы отправляли взрослых рачков в суповой котел, молодые личинки укоренялись и принимались расти. Рачки эти обладали свежим и приятным вкусом; для салата мы набирали водоросли — он тоже был съедобен, но не так хорош. Фактически мы ни разу не видели, чтобы золотые макрели кормились в огороде, но они то и дело поворачивались своим блестящим брюхом вверх и подплывали под бревна.
Золотая макрель — тропическая рыба с блестящей окраской — обычно бывает длиной от 100 до 135 сантиметров и имеет сильно сплющенное туловище с очень высокой головой и шеей. Однажды мы вытянули на плот рыбу длиной в 143 сантиметра; ее голова имела в вышину 37 сантиметров. Расцветка золотой макрели великолепна. В воде она переливается синими и зелеными красками, как мясная муха, и сверкает золотисто-желтыми плавниками. Но когда мы вытаскивали их из воды, иногда наблюдалось странное явление. Умирая, рыба постепенно меняла окраску, становясь сначала серебристо-серой с черными пятнами, а в конце концов сплошь серебристо-белой. Это продолжалось четыре-пять минут, а затем снова медленно восстанавливалась прежняя окраска. Даже в воде золотая макрель иногда меняет, как хамелеон, свой цвет; часто мы замечали «новую разновидность» блестящих рыб медного цвета, которые при ближайшем знакомстве оказывались нашими старыми спутниками — золотыми макрелями.
Высокий лоб придавал золотой макрели сходство с бульдогом со сплющенными боками; и когда хищник бросался, как торпеда, в погоню за удирающей стаей летающих рыб, он своим лбом рассекал поверхность воды. Если золотая макрель бывала в хорошем настроении, она поворачивалась на бок, быстро проносилась вперед, подпрыгивала высоко в воздух и, как блин, плашмя шлепалась обратно; такие прыжки повторялись через одинаковые промежутки времени и каждый раз сопровождались столбом брызг. Едва она успевала погрузиться в воду, как снова появлялась для следующего прыжка и снова для следующего, перелетая через волны. Но когда она была в плохом настроении, например когда мы вытаскивали ее на плот, тогда она кусалась. Торстейн несколько дней хромал и ходил с тряпкой вокруг большого пальца ноги, так как он угодил им в рот золотой макрели, которая не преминула воспользоваться случаем сжать челюсти и впиться зубами несколько сильней, чем обычно. По возвращении на родину нам пришлось услышать, что золотые макрели иногда нападают на купающихся людей и съедают их. Это было плохим комплиментом для нас, если принять во внимание, что мы ежедневно купались среди золотых макрелей, не вызывая в них особого интереса. Все же они были опасными хищниками, так как мы находили в их желудках и кальмаров и целых летающих рыб.

Летающие рыбы были излюбленной пищей золотых макрелей. Если на поверхности воды что-то всплескивало, они опрометью бросались туда в надежде, что это летающие рыбы. Часто в дремотные утренние часы, когда мы, щурясь, вылезали из каюты и еще полусонные окунали зубную щетку в океан, мы сразу же просыпались, подскакивая от неожиданности при виде пятнадцатикилограммовой рыбы, которая молнией вылетала из-под плота и разочарованно тыкалась носом в зубную щетку. Случалось, что мы спокойно сидели за завтраком на краю плота, а в это время золотая макрель выпрыгивала из воды и с такой силой шлепалась на бок, что морская вода окатывала наши спины и попадала в еду.
Однажды, когда мы сидели за обедом, с Торстейном произошел случай, какой бывает только в самых невероятных охотничьих рассказах. Он внезапно положил вилку и опустил руку в океан; прежде чем мы поняли, что случилось, вода забурлила, и большая извивающаяся золотая макрель очутилась среди нас.
Оказывается, Торстейн схватил конец лесы, медленно проплывавшей мимо нас, на другом конце которой висела на крючке совершенно ошарашенная золотая макрель, оборвавшая лесу Эрика, когда тот рыбачил несколько дней тому назад.
Не проходило дня без того, чтобы шесть, семь золотых макрелей не сопровождали нас, кружа вокруг плота и под ним. В плохие дни их могло быть только две или три, но зато назавтра их появлялось до тридцати или сорока. Обычно достаточно было предупредить кока за двадцать минут, если мы хотели получить к обеду свежую рыбу. Тогда он привязывал кусок шпагата к короткой бамбуковой палке и насаживал на крючок половину летающей рыбы. Золотая макрель являлась в мгновение ока, в погоне за крючком бороздя головой поверхность воды, а за ней по пятам следовали еще две или три. Это была увлекательная рыбная ловля, а мясо только что пойманной золотой макрели было плотное и превосходное на вкус, напоминая одновременно треску и семгу. Оно не портилось два дня, а большего нам и не надо было, так как рыбы в океане водилось достаточно.
Знакомство с лоцманами происходило у нас иным путем. Акулы приводили их и после своей смерти оставляли нам для усыновления. Уже вскоре после нашего отплытия плот посетила первая акула. А затем они стали почти ежедневными гостьями. Иногда акула просто подплывала, чтобы осмотреть плот, и, описав вокруг один или два круга, отправлялась дальше на поиски добычи. Но чаще акулы пристраивались за кормой, как раз позади рулевого весла; там они лежали совершенно бесшумно, переводя взгляд с одного борта на другой, и лишь изредка чуть-чуть шевелили хвостом, чтобы не отстать от спокойно двигавшегося плота. Серо-голубое туловище акулы, находившейся у самой поверхности воды, в лучах солнца казалось буроватым; оно поднималось и опускалось вместе с волнами, так что спинной плавник все время угрожающе выступал из воды. Если море было бурным, то волны иногда поднимали акулу гораздо выше плота, тогда она величественно плыла к нам в сопровождении суетливой свиты маленьких лоцманов, державшихся перед ее пастью, и мы видели ее всю целиком, как в стеклянном ящике. В течение нескольких секунд нам казалось, что и акула и ее полосатые спутники вот-вот окажутся на самом плоту, но затем плот грациозно наклонялся в подветренную сторону, взбирался на гребень волны и спускался по другую сторону ее.
Вначале мы относились к акулам с большим почтением из-за их репутации и угрожающего вида. В этом заостренном туловище, представляющем собой огромный ком стальных мышц, была заключена необузданная сила, а широкая плоская голова с маленькими зелеными кошачьими глазами и громадной пастью, в которой мог поместиться футбольный мяч, говорила о безжалостной алчности. Когда человек у руля кричал «акула вдоль правого борта» или «акула вдоль левого борта», мы выскакивали на палубу, хватали ручные гарпуны и остроги и выстраивались вдоль края плота. Обычно акула бесшумно плавала вокруг нас, чуть не прижимаясь спинным плавником к бревнам. Наше уважение к акуле еще увеличилось, когда мы увидели, что остроги гнулись, как спагетти
[143], отскакивая от напоминавшей наждачную бумагу брони на спине акулы, а наконечники ручных гарпунов ломались в пылу схватки. Если нам и удавалось пронзить кожу акулы и добраться до ее мышц и хрящей, это приводило только к волнующей борьбе; вода вокруг нас кипела, но дело кончалось тем, что акула вырывалась и уходила, а на поверхности воды оставалось маленькое маслянистое пятно, постепенно расплывавшееся.
Чтобы сохранить наш последний гарпун, мы связали в пучок несколько самых крупных рыболовных крючков и засунули их в туловище золотой макрели. Затем мы спустили приманку за борт, предусмотрительно заменив лесу стальным многожильным тросиком, который мы прикрепили к концу нашей спасательной веревки. Медленно и решительно акула приблизилась; высунув голову над водой, она раскрыла свою серповидную пасть, рванув, схватила целиком золотую макрель и проглотила ее. Тут она и попалась. Завязалась битва, во время которой акула вспенила всю воду вокруг плота, но мы крепко вцепились в веревку и подтащили сопротивлявшуюся изо всех сил громадину к самым бревнам кормы; там она лежала в ожидании дальнейших событий и лишь широко разевала пасть, как бы желая запугать нас рядами своих острых, как пила, зубов. Набежавшая волна вкатила акулу на край скользких от водорослей бревен; набросив веревочную петлю на хвостовой плавник туловища, мы поспешно отбежали на почтительное расстояние и ждали, пока закончится военный танец.

В хряще первой акулы мы обнаружили наконечник нашего собственного гарпуна и вначале думали, что этим объясняется ее сравнительно слабое сопротивление. Но впоследствии мы таким же способом ловили одну акулу за другой, и каждый раз без особого труда. Как бы ни дергала и ни упиралась акула, какого колоссального труда ни стоило бы подтягивать ее в воде, она становилась совершенно беспомощной и пассивной и никогда не могла полностью использовать свою чудовищную силу, если только нам удавалось туго натягивать лесу, не уступая ни сантиметра в этой борьбе — «кто кого перетянет». Акулы, которых мы вытаскивали на плот, обычно имели в длину от двух до трех метров и среди них попадались и голубые и бурые. У последних кожа, обтягивавшая массу мышц, была очень твердой; для того чтобы пробить ее острым ножом, мы должны были ударять изо всех сил, и даже тогда нож часто отскакивал. На животе кожа была столь же непроницаема, как и на спине, и единственным уязвимым местом являлись жаберные щели за головой, по пять штук с каждой стороны.

Когда мы вытаскивали акулу, на ее туловище обычно оказывались крепко прицепившиеся черные скользкие прилипалы. С помощью овального присоска на темени плоской головы они прилеплялись так крепко, что нам не удавалось оторвать их, хотя мы изо всех сил тащили за хвост. Но прилипалы сами могли отцепиться и в одно мгновение перебраться на другое место. Если им надоедало висеть, крепко присосавшись к акуле, когда их старый хозяин не обнаруживал намерения вернуться в океан, они спрыгивали с него и исчезали в щелях плота, чтобы поплыть на поиски другой акулы. А если прилипало не находил акулы, он временно присасывался к коже какой-нибудь другой рыбы. Прилипалы бывали разные — и в палец длиной и в тридцать сантиметров. Мы пробовали повторить старый трюк полинезийцев, к которому они иногда прибегают, если им удается заполучить живого прилипалу. Они привязывают бечевку к его хвосту и пускают в воду. Прилипало старается присосаться к первой попавшейся рыбе и вцепляется в нее так крепко, что удачливый рыбак может вытащить вместе с прилипалой и рыбу, на которой тот держится. Нам удачи не было. Всякий раз, как мы выпускали прилипалу с привязанной к его хвосту бечевкой, он стремглав уплывал и крепко присасывался к одному из бревен плота, думая, что ему попалась исключительно хорошая большая акула. И там он висел, как бы сильно мы ни дергали за веревку. Постепенно у нас появилось изрядное количество таких мелких прилипал; они, покачиваясь, упрямо висели среди ракушек на бревнах плота и путешествовали с нами по Тихому океану.
Но прилипалы были глупы и уродливы и никогда не становились нашими любимцами, как их веселые товарищи — лоцманы. Лоцманы — маленькие сигарообразные, полосатые, как зебры, рыбы, которые быстро плывут стаями перед мордой акулы. Свое название они получили из-за того, что по распространенному когда-то мнению, они служили лоцманами для своего полуслепого приятеля, указывая ему путь в море. На самом деле, они просто движутся вместе с акулой и если действуют независимо от нее, то лишь в тех случаях, когда в поле их зрения попадает какая-нибудь пища. Лоцман сопровождает своего господина и повелителя до последнего мгновения. Но так как он не может прицепиться к коже гиганта, как это делают прилипалы, он приходит в полное изумление, если его старый хозяин неожиданно исчезает в воздухе и не возвращается обратно. Тогда лоцманы начинают растерянно сновать взад и вперед в поисках хозяина и всегда возвращаются и вьются у кормы плота, где исчезла акула. Время идет, но акула не возвращается, и им приходится искать для себя нового господина и повелителя. А под боком, ближе всех — сам «Кон-Тики».
Если мы ложились на край плота и свешивали голову в прозрачную воду, нижняя часть плота представлялась нам брюхом какого-то морского чудовища; рулевое весло походило на хвост, а кили выступали наподобие тупых плавников. И между ними друг подле друга плавали все усыновленные нами лоцманы, которые не обращали никакого внимания на пускавшие пузыри головы людей; разве только одна-две рыбешки быстро шарахались в сторону и тыкались нам в нос, чтобы затем опять спокойно вильнуть обратно и занять свое место в рядах неутомимых пловцов.
Наши лоцманы патрулировали двумя отрядами: большая часть плавала между килями, остальные изящным веерообразным строем держались перед самым носом плота. Время от времени они стремительно бросались в сторону, чтобы схватить какую-нибудь съедобную безделицу, проплывавшую мимо; а после наших трапез, когда мы мыли за бортом посуду, могло показаться, что вместе с объедками мы высыпали в воду целый сигаретный ящик полосатых лоцманов. Они не пропускали ни одного кусочка, не исследовав его, и если он был не растительного происхождения, то немедленно проглатывался. Эти забавные рыбки ютились под нашим крылышком с такой детской доверчивостью, что мы, подобно акулам, испытывали по отношению к ним какое-то отцовское покровительственное чувство. Лоцманы стали морскими любимцами «Кон-Тики», и было установлено «табу», запрещавшее трогать их.
Среди нашей свиты были, конечно, лоцманы, не вышедшие еще из детского возраста, ибо они имели в длину немногим больше двух сантиметров, тогда как большинство было длиной сантиметров в пятнадцать. Когда китовая акула, после того как гарпун Эрика вонзился в ее череп, умчалась с молниеносной быстротой, некоторые из сопровождавших ее лоцманов перешли на сторону победителя; они были длиной в шестьдесят сантиметров. Вскоре после ряда побед за «Кон-Тики» следовало 40–50 лоцманов, и многим из них так понравилось спокойное плавание и ежедневные объедки, что они сопровождали нас на протяжении тысяч миль.
Но иногда лоцманы оказывались вероломными. Однажды во время вахты у руля я обратил внимание на то, что к югу от нас вода внезапно забурлила, и увидел огромную стаю золотых макрелей, которые, подобно блестящим торпедам, неслись к нам. Обычно они приближались, мирно играя, то подскакивая, то шлепаясь обратно в воду плоскими боками; на этот раз они неслись с бешеной скоростью больше по воздуху, чем по воде. Синяя зыбь была взбита в белую пену судорожными движениями беспорядочно мчавшихся беглецов, а за ними, как быстроходный моторный катер, зигзагами мчалась чья-то черная спина. Золотые макрели отчаянными скачками приблизились к самому плоту; здесь они нырнули и, тесно сбившись стаей чуть не в сотню штук, метнулись к востоку, так что все море у нас за кормой засверкало яркими красками. Блестящая спина преследователя наполовину выступила над поверхностью воды, описав изящную кривую, нырнула под плот и понеслась, как торпеда, за стаей золотых макрелей. Это была дьявольски здоровенная голубая акула, длиной, пожалуй, около шести метров. Когда она исчезла, с ней ушла и часть наших лоцманов. Они нашли более привлекательного морского героя и решили присоединиться к нему.
По мнению специалистов, из всех морских животных больше всего нам следовало опасаться кальмаров, так как они могли забраться на плот. В Национальном географическом обществе в Вашингтоне нам показали отчеты и драматические снимки, сделанные при вспышках магния: из снимков явствовало, что один из районов течения Гумбольдта очень часто посещается чудовищными кальмарами, по ночам выплывающими на поверхность океана. Они так прожорливы, что если один из них вцепится в кусок мяса и окажется пойманным на крючок, немедленно появляется другой и начинает поедать своего плененного родича. У них такие щупальца, что с их помощью они приканчивают крупную акулу и оставляют безобразные рубцы на теле больших китов; а между щупальцами у них спрятан дьявольский клюв, не уступающий орлиному. Нам напоминали, что кальмары часто лежат на воде со светящимися в темноте глазами и что своими длинными щупальцами они могут проникнуть во все уголки плота, если даже им будет лень вскарабкаться на самый плот. Нам вовсе не улыбалась перспектива почувствовать, как холодные щупальца сжимают нам ночью шею и вытаскивают из спальных мешков; поэтому на случай, если бы мы вдруг проснулись от прикосновения щупалец, мы захватили с собой тяжелые ножи-мачете, по одному на каждого. Мысль о кальмарах сильнее всего тревожила нас перед отплытием, в особенности после того, как океанографы в Перу заговорили с нами на ту же тему и продемонстрировали карту, на которой наиболее опасный участок был отмечен как раз в самом течении Гумбольдта.
Долгое время мы не замечали никаких признаков этих моллюсков ни на плоту, ни в океане. Но вот однажды утром мы получили первое предупреждение, что они находятся в этих водах. Когда взошло солнце, мы обнаружили на плоту отродье кальмара в виде маленького детеныша величиной с кошку. Ночью он без всякой посторонней помощи взобрался на палубу и теперь лежал мертвый, обвив щупальцами бамбуковую жердь перед дверью каюты. Густая чернильно-черная жидкость растеклась по бамбуковой палубе и образовала лужицу вокруг кальмара. Мы исписали несколько страниц в судовом журнале этими чернилами, которые напоминали черную тушь, а затем выбросили труп детеныша за борт на радость золотым макрелям.
Мы сочли, что это незначительное происшествие предвещает появление более крупных ночных посетителей. Если детеныш мог забраться на плот, то его голодный родитель, без сомнения, способен на то же. Наши предки испытывали, вероятно, такое же чувство, когда они плавали на своих кораблях в эпоху викингов и думали о духе моря. Но следующее событие совершенно сбило нас с толку. Как-то утром мы обнаружили на коньке нашей крыши из пальмовых листьев молодого кальмара еще меньших размеров. Это сильно нас озадачило. Он не мог сам влезть туда, так как чернильные пятна виднелись только вокруг него, посредине крыши. Его не могла уронить туда морская птица, так как на нем не было никаких повреждений или следов от клюва. Мы пришли к выводу, что его забросило на крышу волной, захлестнувшей плот, хотя ни один из вахтенных не помнил, чтобы ночью была такая волна. Проходила одна ночь за другой, и мы регулярно находили на плоту новых молодых кальмаров, самый маленький из которых был величиной со средний палец.
Скоро мы привыкли к тому, что каждое утро на палубе среди летающих рыб оказывались один-два маленьких кальмара, если даже море ночью было спокойным. Эти молодые кальмары принадлежали к той самой дьявольской разновидности, о которой нам рассказывали; у них имелось восемь длинных щупалец, усеянных круглыми присосками, и два еще более длинных, с шипообразными крючками на конце. Но большие кальмары ни разу не появлялись на плоту. Темными ночами мы видели сияние фосфоресцирующих глаз, медленно плывших у самой поверхности воды; и только один-единственный раз океан вокруг нас закипел и забурлил, когда что-то вроде большого колеса всплыло наверх и перевернулось в воздухе, а некоторые из наших золотых макрелей пытались спастись бегством, в отчаянии выпрыгивая из воды. Но почему большие кальмары никогда не появлялись на плоту, хотя маленькие были нашими постоянными ночными посетителями, долго оставалось для нас полнейшей загадкой; решение мы нашли только через два месяца — два месяца, богатых опытом, — когда мы были уже вне пределов злополучного района кальмаров.
Молодые кальмары продолжали являться на плот. Одним солнечным утром мы все увидели стаю каких-то блестящих созданий, которые выпрыгивали из воды и летели по воздуху, напоминая крупные дождевые капли, между тем как море кипело от преследовавших их золотых макрелей. Сначала мы думали, что это стая летающих рыб, так как у нас на плоту побывало уже три разновидности их. Но когда они приблизились и некоторые стали перелетать через плот на высоте примерно полутора метров, одна из них ударилась о грудь Бенгта и шлепнулась на палубу. Это был маленький кальмар. Наше удивление не имело предела. Когда мы поместили его в брезентовое ведро, он продолжал отталкиваться и подскакивать вверх, но в маленьком ведре он не мог развить достаточной скорости и лишь наполовину выпрыгивал из воды. Общеизвестно, что кальмар обычно плавает по принципу ракетного самолета. Он с большой силой пропускает воду сквозь закрытую трубку, проходящую сбоку в его туловище, и таким образом может очень быстро, толчками, двигаться назад; подобрав все свои щупальца и сложив их кистью на голове, он приобретает обтекаемую, как у рыбы, форму. По бокам у него находятся две круглые толстые складки кожи, которые обычно служат для управления и спокойного плавания в воде. Но вот мы обнаружили, что беззащитные молодые кальмары, которые являются излюбленной пищей для многих крупных рыб, могут ускользать от своих преследователей, поднимаясь в воздух, подобно летающим рыбам. Они осуществили на деле принцип ракетного самолета задолго до того, как человеческий гений напал на эту идею. Они накачивают и выпускают из себя морскую воду до тех пор, пока не приобретают громадной скорости, а затем, расправив складки кожи наподобие крыльев, они отрываются под углом от поверхности воды. Как и летающие рыбы, они несутся планирующим полетом над волнами до тех пор, пока не иссякает накопленная ими скорость. После этого случая мы стали обращать на них внимание и часто видели, как они поодиночке, по двое или по трое пролетали 45–55 метров. Тот факт, что кальмар может планировать, явился новостью для всех зоологов, с которыми нам пришлось встретиться по возвращении из экспедиции.
Бывая в гостях у местных жителей тихоокеанских островов, я часто ел кальмаров. По вкусу они напоминают смесь омара и резины. Но на «Кон-Тики» кальмары занимали последнее место в нашем меню. Если они бесплатно попадали нам в руки, мы меняли их на что-нибудь другое. Обмен совершался следующим образом: мы насаживали кальмара на крючок и забрасывали его в океан, а затем вытаскивали его назад со вцепившейся в него большой рыбой. Молодые кальмары нравились даже тунцам и бонитам, а эти рыбы занимали в нашем меню почетное место.
Мы не испытывали недостатка в новых знакомствах, когда нас медленно несло по океану. В моем дневнике имеется много записей в следующем роде:
«11/5. Сегодня, когда мы сидели за ужином на краю плота, какое-то большое морское животное дважды появлялось на поверхности рядом с нами. Оно страшно плескалось, затем исчезло. Мы не имеем понятия, что это за животное.
6/6. Герман видел толстую темную рыбу с широким белым брюхом, узким хвостом и шипами. Она несколько раз выпрыгивала из воды со стороны правого борта.
16/6. С левого борта видна любопытная рыба. В длину около двух метров, максимальная ширина 30 сантиметров; удлиненная тонкая голова бурого цвета, большой спинной плавник у головы и поменьше на средине спины, мощный серповидный хвостовой плавник. Держится у поверхности, временами плавает, извиваясь, как угорь. Когда Герман и я с ручным гарпуном поплыли в резиновой лодке, она нырнула. Позже показалась опять, но вскоре нырнула и исчезла.
17/6. В полдень Эрик сидел на верхушке мачты и заметил 30–40 длинных узких рыб бурого цвета — таких же, как накануне. На этот раз они быстро приближались с левой стороны и исчезли за кормой, промелькнув в воде бурой плоской тенью.
18/6. Кнут заметил какое-то существо, похожее на змею, узкое, длиною в 60–90 сантиметров; оно виднелось в воде у самой поверхности, то разгибалось, то сгибалось, а затем нырнуло, извиваясь, как змея».
Иногда мы медленно проплывали мимо большой темной массы, которая неподвижно лежала у самой поверхности, напоминая подводную скалу площадью с комнату. По всей вероятности, это был гигантский скат с очень плохой репутацией, но он ни разу не шевельнулся, а мы ни разу не подходили настолько близко, чтобы иметь возможность ясно рассмотреть его очертания.
При наличии в воде такого разнообразного общества время для нас всегда проходило быстро. Хуже бывало, когда нам самим приходилось нырять в океан и осматривать веревки с нижней стороны плота. Однажды один из килей выпал и скользнул под плот; там он запутался в веревках, но мы не могли его достать. Лучше всех ныряли Герман и Кнут. Дважды Герман подплывал под плот и, лежа там среди золотых макрелей и лоцманов, пытался высвободить доску. Он только что вынырнул во второй раз и сидел на краю плота, чтобы перевести дыхание, как вдруг в каких-нибудь трех метрах мы заметили двухсполовинойметровую акулу, которая медленно подымалась из глубины, направляясь к кончикам пальцев его ног. Может быть, мы были по отношению к акуле несправедливы, но мы заподозрили ее в злом умысле и вонзили гарпун ей в череп. Акула почувствовала себя оскорбленной, и началась борьба, сопровождавшаяся фонтанами брызг, в результате которой акула скрылась, оставив масляное пятно на поверхности воды. А запутавшийся в веревках киль продолжал лежать под плотом.
Тогда Эрику пришла в голову мысль смастерить водолазную корзину. У нас под руками имелось мало материалов, но у нас были бамбук, веревки и старая лубяная корзина, в которой лежали кокосовые орехи. С помощью бамбука и сплетенных веревок мы нарастили верх корзины и теперь имели возможность спускаться за борт в ней. Соблазнительные ноги были спрятаны в корзине, и хотя веревочное плетение наверху оказывало лишь психологическое действие и на нас и на рыб, все же, если кто-нибудь несся на нас с враждебными намерениями, мы могли моментально скрючиться на дне корзины, а оставшиеся на палубе товарищи сразу вытащили бы нас из воды.

Водолазная корзина оказалась не только полезной, но постепенно стала для нас прекрасным местом развлечения. Она давала нам великолепную возможность для изучения плавучего аквариума, находившегося под нами.
Когда океан спокойно катил свои волны, мы по очереди залезали в корзину, и нас спускали под воду, где мы оставались, пока хватало дыхания. Внизу в воде свет как-то необычайно преображался и предметы не отбрасывали тени. Как только наши глаза оказывались под водой, источник света — в отличие от нашего надводного мира — как бы переставал существовать. Преломленные лучи доходили до нас не только сверху, но и снизу; солнце больше не сияло, оно было повсюду. Если мы смотрели вверх, на дно плота, то оно представлялось нам ярко освещенным; девять больших бревен и вся сеть веревочных креплений вместе с покачивающимися гирляндами ярко-зеленых водорослей, свисавших со всех сторон плота и с рулевого весла, — все было залито таинственным светом. Лоцманы плавали стройными рядами, напоминая зебр в рыбьей коже, а большие золотые макрели неутомимо, настороженно, быстро описывали круги, выслеживая добычу. Тут и там свет падал на разбухшую красную древесину киля, который выступал вниз из щели; на доске сидела мирная колония белых морских уточек, ритмично шевеливших бахромчатыми желтыми жабрами, вбирая в себя кислород и пищу. Если кто-нибудь приближался к ним, они поспешно захлопывали створки своих раковин с красной и желтой каймой и сидели за закрытой дверью, пока не убеждались, что опасность миновала. Здесь внизу свет отличался изумительной ясностью и действовал на нас, привыкших на палубе к тропическому солнцу, очень успокаивающе. Даже тогда, когда мы смотрели вниз в бездонную глубину океана, где царит вечная черная ночь, эта ночь являлась нам окрашенной в приятный голубой цвет, так как от нее отражались солнечные лучи. К нашему удивлению, мы, находясь у самой поверхности, могли видеть рыб, плававших далеко внизу, в глубине ясной чистой синевы. Возможно, это были бониты, но встречались и другие виды, которые плавали на такой глубине, что мы не могли их определить. Иногда они держались огромными стаями, и мы часто задавали себе вопрос, все ли океанское течение полно рыбы или эти стаи, проплывавшие внизу, в глубине, намеренно собрались под «Кон-Тики», чтобы на несколько дней составить нам компанию.
Больше всего нам нравилось опускаться в воду, когда нас посещали большие тунцы с золотыми плавниками. Иногда они приплывали к плоту большими стаями, но чаще всего являлись по двое или по трое и несколько дней подряд описывали вокруг нас спокойные круги, пока нам не удавалось приманить их на крючок. С плота они казались просто большими, неуклюжими рыбами буроватого цвета, без каких-либо особых украшений; но если мы спускались к ним в их собственную стихию, они вдруг ни с того ни с сего меняли и цвет и форму. Перемена была настолько необъяснимой, что мы несколько раз должны были подниматься на поверхность и снова определять направление, чтобы проверить, те ли это рыбы, на которых мы смотрели в воде. Большие рыбы не обращали на нас никакого внимания; они невозмутимо продолжали свои величественные маневры и принимали такую изящную форму, какой мы не наблюдали ни у одной другой рыбы, а их окраска становилась бледно-лиловой, с металлическим оттенком. Своими совершенными пропорциями и обтекаемой формой они напоминали сверкающие серебром и сталью мощные торпеды, и им достаточно было чуть-чуть пошевелить одним или двумя плавниками, чтобы их туловище весом в 70–80 килограммов с непревзойденным изяществом заскользило в воде.
Чем теснее соприкасались мы с океаном и его обитателями, тем меньше мы удивлялись и тем привычнее он становился для нас. И мы научились уважать древние первобытные народы, которые жили в тесном общении с Тихим океаном и поэтому знали такие его особенности, о которых мы не имеем представления. Конечно, мы установили теперь содержание соли в воде океана и дали тунцам и золотым макрелям латинские названия. Древние полинезийцы этого не сделали. И все же боюсь, что первобытные народы имели об океане более правильное представление, чем мы.
Здесь, в океане, почти не было путеводных вех. Волны и рыбы, солнце и звезды появлялись и исчезали. Предполагалось, что никакой суши не существует на всем протяжении в 4 300 морских миль, которые отделяют острова Южного моря от Перу. Поэтому мы очень удивились, когда, приближаясь к 100° западной долготы, обнаружили, что на карте Тихого океана, прямо впереди нас по курсу, которым мы следовали, отмечена подводная скала. Ее изобразили в виде маленького кружка, и так как карта была издана в этом году, мы заглянули в «Лоцию Южной Америки». Мы прочли: «В 1906, а затем снова в 1926 году были замечены буруны примерно в 600 милях к юго-западу от островов Галапагос, под 6°42′ южной широты, 99°43′ западной долготы. В 1927 году пароход прошел в одной миле к западу от этого пункта, но у него не заметили никаких бурунов; в 1934 году другой пароход прошел в одной миле к югу и также не обнаружил никаких следов бурунов. Моторное судно «Каури» в 1935 году при промере не достигло в этом пункте дна на глубине 300 метров».
Согласно картам плавание в этом районе все еще считалось делом сомнительным, и, так как глубоко сидящее судно, слишком близко подойдя к мели, подвергалось бы гораздо большему риску, чем наш плот, мы решили направиться прямо к месту, отмеченному на карте, и посмотреть, что там находится. Подводная скала была указана чуть-чуть севернее той точки, к которой мы, по-видимому, держали курс; поэтому мы положили руль вправо и подтянули четырехугольный парус так, что нос плота был устремлен примерно на север, а волны и ветер мы принимали с правого борта. Теперь в наши спальные мешки попадало тихоокеанской воды несколько больше обычного; к тому же и ветер в это время стал значительно свежее. Но мы с удовлетворением убедились, что «Кон-Тики» можно вполне уверенно управлять, идя даже под очень большим углом к ветру, если только мы вовсе не теряли его. В этом случае парус начинал полоскаться, и нам приходилось выполнять цирковые номера, чтобы заставить плот снова слушаться руля. В течение двух дней и ночей мы вели плот к север-северозападу. Волны вздымались высоко, и когда пассат стал неустойчивым и дул то с юго-востока, то с востока, они шли уже непрерывными рядами; но мы продолжали плыть, подымаясь и опускаясь с обрушивавшимися на нас валами. На верхушке мачты все время кто-нибудь дежурил, и когда плот поднимался на гребень, горизонт перед нами значительно расширялся. Гребни волн вздымались почти на два метра выше крыши нашей бамбуковой каюты; а если две мощные волны обрушивались на нас одновременно, то, сталкиваясь, они взлетали еще выше и превращались в шипящий водяной смерч, который мог налететь на нас с любой стороны. Когда наступила ночь, мы забаррикадировали вход в каюту ящиками с продуктами; но океан то и дело нарушал наш покой. Не успели мы заснуть, как раздался первый треск бамбуковой стены; тысяча струй воды фонтанами полилась на нас сквозь бамбуковое плетение, а пенящийся поток обрушился на ящики с продуктами, а затем внутрь каюты.
— Вызовите по телефону водопроводчика, — услышал я чей-то сонный голос, когда мы
скрючились, чтобы дать воде возможность уйти сквозь пол. Водопроводчик не пришел, и этой ночью мы, лежа в постели, приняли не одну ванну. Во время вахты Германа на плот ненароком явилась большая золотая макрель.
На следующий день волнение несколько утихло, так как пассат решил, что теперь он некоторое время будет дуть с востока. Мы сменяли друг друга на верхушке мачты, ибо можно было ожидать, что к вечеру мы достигнем того пункта, к которому направлялись. В этот день море казалось нам более оживленным, чем всегда. Может быть, это происходило только потому, что мы всматривались внимательней обычного.
После полудня мы увидели большую меч-рыбу, которая приближалась к плоту, плывя у самой поверхности. Два остроконечных плавника, торчавших из воды, отстояли друг от друга почти на два метра, а меч казался таким же длинным, как и туловище. Меч-рыба описала кривую рядом с рулевым и исчезла за гребнями волн. Когда мы сидели за обедом, изрядно приправленным соленой водой, шипящая волна подняла к самым нашим лицам большую морскую черепаху со щитом, головой и свисавшими ногами. Когда эта волна уступила место двум другим, черепаха исчезла так же внезапно, как и появилась. И на этот раз мы опять заметили, как, блестя своим зеленовато-белым брюхом, золотые макрели метались в воде под защищенным броней пресмыкающимся. Этот район океана был исключительно богат крошечными летающими рыбами длиной в два-три сантиметра, которые плыли рядом с нами большими стаями и часто попадали на плот. Мы видели также одиноких чаек-поморников, нас постоянно навещали фрегаты, которые летали взад и вперед над плотом, напоминая своим раздвоенным хвостом гигантских ласточек. Появление фрегатов обычно считается признаком близости земли, и оптимистическое настроение на плоту усиливалось.
«Может быть, здесь действительно имеется подводная скала или песчаная отмель», — думали некоторые из нас. А самые большие оптимисты говорили:
— А что, если мы обнаружим островок с зеленой травой? Кто знает, ведь здесь до нас бывало так мало людей. Тогда мы открыли бы новую землю — остров Кон-Тики!
Начиная с полудня, Эрик все чаще и чаще влезал на кухонный ящик и, прищурившись, смотрел в секстант. В 6 часов 20 минут пополудни он сообщил наше положение: 6°42′ южной широты и 99°42′ западной долготы. Мы находились на расстоянии одной мили к востоку от указанной на карте скалы. Мы опустили бамбуковую рею и скатали на палубе парус. Ветер дул с востока и должен был медленно донести нас до места. Когда солнце быстро опустилось в океан, на смену ему во всем своем великолепии появилась полная луна и осветила поверхность океана, который от горизонта до горизонта переливался чернью и серебром. Видимость с верхушки мачты была хорошая. Повсюду шли длинные валы сталкивавшихся между собой волн, но постоянных бурунов, которые указывали бы на подводную скалу или отмель, не было. Никто из нас не заходил в каюту; все стояли на палубе, пристально всматриваясь, а два-три человека наблюдали с мачты. Когда мы медленно плыли в центре отмеченного на карте района, мы все время делали промеры. К концу шелкового шнура длиной свыше 800 метров, сплетенного из 54 нитей, мы привязали все свинцовые грузила, какие только имелись у нас; если учесть даже, что из-за дрейфа плота шнур опускался не совсем отвесно, все же груз висел на глубине по меньшей мере 600 метров. А дна не было ни к востоку от указанного места, ни в центре, ни к западу от него. Окинув последним взглядом поверхность океана и окончательно убедившись, что имеем полное право считать этот район обследованным и что здесь нет никаких отмелей, мы поставили парус и повернули руль в нормальное положение, так, что ветер и волны снова оказались сзади кормы слева. И наш плот снова двинулся вперед обычным спокойным ходом. Как и прежде, волны накатывались на корму и уходили в промежутки между бревнами. Теперь мы могли спать и есть, не принимая душей, хотя океан вокруг нас разыгрался всерьез и бесновался несколько дней, а пассат дул то с востока, то с юго-востока.
Во время этого маленького путешествия к несуществующему рифу мы начали понимать, какую роль играют выдвижные кили; а когда впоследствии Герман и Кнут, нырнув вдвоем под плот, освободили пятый киль, мы узнали об этих забавных досках еще больше — узнали то, чего никто не понимал с тех пор, как сами индейцы перестали заниматься этим забытым спортом. То, что доска выполняла роль киля и давала плоту возможность двигаться под углом к ветру, было нам понятно. Но когда мы читали у древних испанских историков, что индейцы в какой-то мере «управляют» своими бальсовыми плотами в океане с помощью «своего рода выдвижных килей, которые они просовывают в щели между бревнами», это казалось совершенно непостижимым и нам и всем остальным, кто занимался этим вопросом. Ведь выдвижной киль просто вгонялся в узкую щель и был неподвижен; он не мог поворачиваться в сторону и служить рулем.
Тайна была раскрыта при следующих обстоятельствах. Дул ровный ветер, и океан снова успокоился, так что в течение нескольких дней нам не приходилось прикасаться к привязанному рулевому веслу, для того чтобы удерживать «Кон-Тики» в нужном направлении. Мы засунули выловленный киль в щель на корме, и в то же мгновение «Кон-Тики» изменил курс на несколько градусов с запада к северо-западу, а затем продолжал спокойно и ровно двигаться по новому курсу. Когда мы снова вытащили киль, плот повернул на прежний курс. Но если мы вытаскивали доску только наполовину, то и плот поворачивал на старый курс только наполовину. Простым подыманием и опусканием киля мы могли вызывать изменение курса и держаться его, не притрагиваясь к рулевому веслу. В этом и заключалась остроумная идея инков. Они разработали простую систему рычагов, в которой вследствие давления ветра на парус мачта являлась неподвижной точкой. Плечами рычага были части плота спереди от мачты и сзади от нее. Если общая поверхность килей спереди была больше, нос плота легко поворачивался к ветру, но если поверхность килей сзади была больше, корма поворачивалась к ветру. Действие ближайших к мачте килей было наиболее слабым — согласно закону о соотношении между длиной плеча и силой. Когда ветер дул с кормы, выдвижные кили переставали действовать; тогда, для того чтобы плот шел ровно, необходимо было все время работать рулевым веслом. В этом случае плот шел прямо по ветру, к тому же он оказывался немного длиннее, чем это нужно для того, чтобы легко скользить по волнам. А так как дверь каюты и место наших трапез находились с правой стороны, мы всегда стремились к тому, чтобы волны набегали на плот сзади под углом слева.
Конечно, во время дальнейшего пути рулевой мог стоять у киля, подымая и опуская его в щели, вместо того чтобы тянуть то в одну, то в другую сторону веревки рулевого весла; однако мы теперь так привыкли к веслу что предпочитали управлять им, установив с помощью килей лишь общий курс.
Следующая знаменательная веха на нашем пути была такой же невидимой, как и отмель, которая существовала только на карте.
Это произошло на сорок пятый день нашего пребывания в океане; мы прошли от 78° западной долготы до 108° и находились ровно на полпути до ближайших островов впереди. Между нами и Южной Америкой на востоке было свыше 2 тысяч миль, и такое же расстояние отделяло нас от Полинезии на западе. Ближайшей сушей были острова Галапагос к восток-северо-востоку и остров Пасхи к югу, но и до них свыше чем на 500 миль простирался беспредельный океан. Мы не видели и не могли увидеть ни одного корабля, так как по этой части Тихого океана не проходили обычные пароходные пути.
Но на самом деле мы не ощущали этих огромных расстояний; горизонт незаметно двигался вместе с нами, и наш плавучий мир оставался все время неизменным — ограниченный горизонтом круг, вздымавшийся к небесному своду, плот в центре круга и все те же звезды, из ночи в ночь медленно двигавшиеся над нами.

Глава 6
ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ. II
Забавное судно. — В резиновой лодке среди океана. — Опасная неосторожность. — Беспредельная синева. — Среди океана в бамбуковой хижине. — На меридиане острова Пасхи. — Тайна острова Пасхи. — Каменные гиганты. — Парики из красного камня. — «Длинноухие». — Тики — связующее звено. — Многозначительные географические названия. — Мы ловим акулу руками. — Попугай. — Позывные L12B. — Плавание по звездам. — Три волны. — Шторм. — Кровавая баня в океане, кровавая баня на плоту. — Человек за бортом. — Еще один шторм. — «Кон-Тики» приходит в ветхость. — Вестники из Полинезии.
Когда море бывало не очень бурным, мы часто выезжали на маленькой резиновой лодке и делали снимки. Я никогда не забуду нашего первого опыта. Океан был так спокоен, что двоим из нас захотелось спустить в воду маленькую лодку, похожую на воздушный шар, и немножко поработать веслами. Едва отплыв от плота, они перестали грести и принялись хохотать во все горло. Их относило все дальше, они то исчезали между волнами, то вновь появлялись, и каждый раз, как они бросали взгляд на нас, они так громко смеялись, что их голоса звенели над пустынным океаном. В недоумении мы оглядывались вокруг и не видели ничего комичного, если не считать наших собственных косматых, голов и бородатых лиц; но так как два товарища, находившиеся в лодке, должны были уже к этому привыкнуть, у нас зародилось подозрение, что они внезапно сошли с ума. Может быть, солнечный удар. Оба парня с трудом вскарабкались обратно на «Кон-Тики», совершенно обессиленные от смеха, и, тяжело дыша, со слезами на глазах уговаривали нас прокатиться и посмотреть самим.
Я с еще одним спутником спрыгнули в танцующую резиновую лодку; волна подхватила ее и отнесла от плота. Мы сразу же плюхнулись на сиденья лодки и дико захохотали. Нам пришлось как можно скорее взобраться обратно на плот и успокоить тех, кто не побывал еще в лодке, так как они думали, что мы оба бесповоротно рехнулись. Это мы сами и наш гордый корабль произвели такое безнадежно бредовое впечатление, когда мы впервые взглянули на все издали. До тех пор нам ни разу не приходилось видеть плот в открытом океане со стороны. Бревна исчезали даже за самыми маленькими волнами, и мы видели — если нам вообще удавалось что-нибудь увидеть — только низкую каюту с широкой дверью и ощетинившейся крышей из листьев, которая подпрыгивала среди волн. Плот напоминал старый добрый норвежский сеновал, который беспомощно плыл по течению в открытом океане, покосившийся сеновал, приютивший загорелых бородатых бродяг. Таким же непроизвольным смехом мы разразились бы, если бы увидели, что кто-то плывет за нами по океану в ванне. Даже обычная волна, перекатываясь через край плота, покрывала до половины расстояние между бортом и стеной каюты, и казалось, вот-вот она беспрепятственно хлынет в широко открытую дверь, за которой, позевывая, лежали бородачи. Затем нелепый сарай снова появлялся на поверхности, и бродяги в каюте продолжали лежать такие же сухие, волосатые и невредимые, как и прежде. Если набегала более высокая волна, то каюта, и парус, и вся мачта могли исчезнуть за горой воды, но в следующее мгновение каюта с бродягами была, конечно, опять тут как тут.

Вид был неважный, и мы с трудом понимали, почему все шло так благополучно на борту нашего своеобразного судна.
В следующий раз, когда мы отплыли в лодке чтобы хорошенько посмеяться над собой, чуть не произошло несчастье. Ветер и волнение оказались сильнее, чем мы предполагали, и «Кон-Тики» прокладывал себе дорогу в волнах с гораздо большей скоростью, чем мы могли думать. Спасая свою жизнь, мы должны были грести изо всех сил, стараясь догнать несговорчивый плот, который не мог ни остановиться и подождать, ни повернуть назад. Даже тогда, когда наши товарищи на борту «Кон-Тики» спустили парус, ветер так дул в бамбуковую каюту, что бальсовый плот несло на запад с той же скоростью, какую мы могли развить с помощью маленьких игрушечных весел в нашей круглой резиновой лодке, танцевавшей на волнах. У каждого была только одна мысль: мы должны снова быть вместе. Мы провели в океане ужасные минуты, прежде чем удалось догнать убегающий плот и, взобравшись на него, очутиться опять дома, среди товарищей.
С этого дня было строжайше запрещено отплывать в резиновой лодке, предварительно не привязав ее длинной веревкой к плоту, чтобы оставшиеся на борту могли в случае необходимости подтянуть лодку. Поэтому мы никогда не отплывали далеко от плота, за исключением тех случаев, когда ветер дул очень слабо и по океану шла лишь легкая зыбь. Когда плот находился на полпути к Полинезии, стоял как раз такой штиль, и величественный океан простирался во все стороны горизонта, изгибаясь вокруг земного шара. Теперь мы могли спокойно покидать «Кон-Тики» и уплывать в синий простор между небом и океаном. Подчас в нас закрадывалось чувство одиночества, когда мы видели, как силуэт нашего судна, удаляясь, становился все меньше и меньше, а большой парус в конце концов превращался в черный квадрат, едва различимый у горизонта. Океан уходил вдаль, синий под синим небом, а там, где вода и небо встречались, синева сливалась, и грань между ними исчезала. У нас бывало такое ощущение, словно мы висели в пространстве; нас окружал пустой синий мир; не было ничего, на чем мог бы остановиться взор, кроме тропического солнца, золотого и жаркого, которое жгло нам шею. Затем далекий парус одинокого плота на горизонте притягивал нас к себе, как магнит. Мы гребли обратно, взбирались на плот и чувствовали, что вернулись домой, в наш собственный мир, на плот, представлявшийся твердой, надежной землей. А внутри бамбуковой каюты нас ждали тень и запах бамбука и увядших пальмовых листьев. Залитой солнцем незапятнанной синевы, которую мы видели сквозь открытую стену каюты, теперь было для нас вполне достаточно. К этому зрелищу мы привыкли, и оно удовлетворяло нас до тех пор, пока беспредельная ясная синева снова не соблазняла покинуть плот.
Просто изумительно, какое психологическое действие оказывала на нас шаткая бамбуковая каюта. Она была размером 2,5 на 4 метра, и, для того чтобы уменьшить давление ветра и волн, мы построили ее такой низкой, что никто из нас не мог, выпрямившись, стоять даже под коньком крыши. Стены и крыша были сделаны из крепких бамбуковых жердей, связанных между собой и укрепленных оттяжками; они были забраны плотным плетением из расщепленных побегов бамбука. Эта обрешетка зеленого и желтого цвета с гирляндами листьев, спускавшихся с крыши, была для глаз гораздо приятней, чем каюта, выкрашенная белой краской. И несмотря на то, что бамбуковая стена с правой стороны была на одну треть своей длины открытой, а крыша и стены пропускали солнечные и лунные лучи, эта примитивная берлога вселяла в нас чувство безопасности, какого не могли бы нам дать в этих условиях белоснежные переборки и закрытые иллюминаторы. Мы попытались найти объяснение этому любопытному факту и пришли к следующему выводу. Для нашего сознания было совершенно непривычным ассоциировать крытое пальмовыми листьями бамбуковое жилище с морским путешествием. Не существовало никакой естественной гармонической связи между огромным перекатывающимся океаном и зияющей дырами пальмовой хижиной, которая плыла среди волн. Поэтому либо хижина должна казаться нам совершенно неуместной среди волн, либо волны должны казаться совершенно неуместными вокруг хижины. Пока мы находились на плоту, бамбуковая хижина с ее запахом джунглей была для нас привычной действительностью, а вздымающиеся волны представлялись чем-то мало реальным. Но если мы находились в резиновой лодке, волны и хижина менялись ролями. Бальсовые бревна, подобно чайке, всегда скользили по волнам и всегда давали выход воде, которая захлестывала корму, и это вселяло в нас непоколебимую веру в сухое место посреди плота, где находилась каюта. Чем дольше длилось путешествие, тем в большей безопасности мы чувствовали себя в нашей уютной берлоге; и мы смотрели на белые гребни волн, плясавших перед дверью, с таким чувством, словно это был волнующий фильм, который нам абсолютно ничем не угрожает. Пусть открытая стена находится всего в полутора метрах от ничем не огражденного края плота и только на полметра выше уровня воды, все же, забравшись внутрь каюты, мы чувствовали себя так, будто путешествовали по суше за много миль от моря и находились в какой-то лесной хижине, вдали от всех опасностей океана. Тут мы могли лежать на спине, смотреть вверх на забавную крышу, которая покачивалась, как ветви на ветру, и наслаждаться лесными запахами свежей древесины, бамбука и увядших пальмовых листьев.

Иногда мы отплывали в резиновой лодке, чтобы взглянуть на себя ночью. Черные как смоль волны громоздились со всех сторон, а мириады мерцающих тропических звезд слабо отражались в планктоне у поверхности воды. Мир был прост — звезды во мраке. Был ли это 1947 год до нашей эры или нашей эры, внезапно потеряло всякое значение. Мы жили, и это мы ощущали со всей остротой. Мы понимали, что жизнь была полна для людей и до наступления века техники — пожалуй, во многих отношениях полнее и богаче, чем жизнь современного человека. Время и эволюция в эти мгновения переставали существовать. Все, что в жизни человека было реальным и имело значение, сегодня оставалось таким же, каким оно было когда-то и будет всегда. Мы растворялись в абсолютном всеобщем мериле истории: бесконечная беспросветная тьма под роем звезд. Перед вами в ночи вставал из волн «Кон-Тики» и снова опускался за черные массы воды, которые вздымались между ним и нами. В лунном свете плот окутывала какая-то особая атмосфера. Толстые блестящие бревна с бахромой из водорослей, квадратные очертания черного паруса викингов, ощетинившаяся бамбуковая хижина с желтым светом керосинового фонаря позади — все это напоминало скорее картину из волшебной сказки, чем реальную действительность. Время от времени плот совершенно исчезал за черными волнами; затем он опять появлялся и резким силуэтом вырисовывался в свете звезд, а с его бревен стекали сверкающие струи воды.
Когда мы ночью смотрели на наш одинокий плот, мы без труда могли мысленно представить себе, как где-то за горизонтом, когда люди впервые прокладывали себе путь через этот океан, проплывала целая флотилия таких судов, держась веерообразным строем, чтобы было больше шансов заметить землю. Незадолго до появления испанцев инка Тупак Юпанки, который подчинил своей власти и Перу и Эквадор, в сопровождении многих тысяч людей отплыл в океан с целой армадой бальсовых плотов, на поиски островов, которые, по слухам, находились где-то в Тихом океане. Он нашел два острова; некоторые считают, что то были острова Галапагос; и после восьмимесячного отсутствия ему и его многочисленным гребцам с трудом удалось вернуться назад в Эквадор. Конечно, и Кон-Тики со своими спутниками несколькими столетиями раньше плыл таким же строем, но так как они открыли острова Полинезии, у них не было причин пытаться преодолеть обратный путь.
Когда мы снова взбирались на плот, мы часто усаживались вокруг керосинового фонаря на бамбуковой палубе и разговаривали о мореплавателях из Перу, которые полторы тысячи лет назад испытали то же самое. Фонарь отбрасывал на парус огромные тени бородатых людей, и мы думали о белых людях с бородой, следы пребывания которых мы находили в мифологии и архитектуре на всем протяжении от Мексики до Центральной Америки и в северо-западной части Южной Америки вплоть до Перу. Там таинственная цивилизация перед приходом инков исчезает, словно по мановению волшебной палочки, и так же внезапно появляется на одиноких островах на западе, к которым мы теперь приближались. Может быть, эти странствующие наставники принадлежали к древнему цивилизованному народу, который жил за Атлантическим океаном и в давно прошедшие времена переплыл его столь же простым способом, воспользовавшись западным океанским течением и пассатом, доставившими их с Канарских островов в Мексиканский залив? Конечно, это расстояние было гораздо короче, чем то, которое мы преодолеваем, а мы больше не верили, что океан является абсолютно изолирующим фактором. Многие исследователи на основании веских доводов утверждали, что великие индейские цивилизации — от ацтеков в Мексике до инков в Перу — появились в результате неожиданных миграционных волн, приходивших из-за океана с востока, в то время как американские индейцы в целом представляют собой азиатские охотничьи и рыбачьи племена, которые на протяжении 20 тысяч лет или даже более долгого времени просочились в Америку из Сибири. Нас, безусловно, должно поражать то обстоятельство, что мы не находим никаких следов постепенного развития великих цивилизаций, которые когда-то распространялись от Мексики до Перу. Чем глубже в землю уходили раскопки археологов, тем более высокую культуру они находили, пока не достигался определенный предел, который с очевидностью указывал на то, что древние цивилизации возникли, не имея никаких корней в первобытных культурах.
И цивилизации возникли там, куда подходит атлантическое течение, — посреди пустынь и джунглей в Центральной и Южной Америке, а не в областях с более умеренным климатом, где условия для развития цивилизаций и в древности и в современную эпоху были гораздо более благоприятными.
То же самое мы наблюдаем и на островах Южного моря. Самые отчетливые следы цивилизации мы находим на ближайшем к Перу острове Пасхи, хотя почва на этом незначительном островке сухая и неплодородная и хотя он отстоит от Азии дальше, чем все остальные тихоокеанские острова.
Пройдя половину пути, мы проплыли как раз такое расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу, и этот легендарный остров лежал к югу от нас. Стараясь воспроизвести обычный путь плота в океане, мы отплыли от материка в удачном месте — в средине перуанского побережья. Если бы мы отплыли несколько южнее, ближе к Тиахуанаке, разрушенной столице Кон-Тики, то мы шли бы с тем же ветром, но в более слабом течении, и оно понесло бы нас по направлению к острову Пасхи.
Когда мы миновали 110° западной долготы, мы очутились уже в полинезийской океанической области, так как полинезийский остров Пасхи был теперь к Перу ближе, чем мы. Мы находились на одном меридиане с первым аванпостом островов Южного моря, центром древнейшей островной цивилизации. По вечерам, после того как раскаленный путеводный шар спускался к горизонту и в сопровождении всех цветов спектра исчезал в океане на западе, легкий пассат воскрешал рассказы о необычайных тайнах острова Пасхи. Ночное небо сглаживало всякое представление о времени, а головы бородатых великанов опять вырисовывались на парусе.
Но далеко на юге, на острове Пасхи, стоят высеченные из камня еще более гигантские головы с остроконечной бородой и чертами лица белых людей, стоят и размышляют о тайне столетий. Так стояли они, когда первые европейцы открыли остров в 1722 году, и так стояли они двадцатью двумя полинезийскими поколениями раньше, когда предки теперешних жителей высадились из своих челноков и истребили всех попавшихся им в руки взрослых мужчин таинственного цивилизованного народа, населявшего остров. С тех пор гигантские камерные головы на острове Пасхи причисляют к самым неразрешимым тайнам древности. Тут и там на склонах холмов этого безлесного острова поднимались к небу огромные статуи — каменные колоссы, великолепные фигуры людей, высеченные из одной глыбы вышиной с трех- или четырехэтажный дом. Как могли древние люди изваять, перенести и поставить этих гигантских каменных колоссов? И, словно этого им еще было мало, они умудрились на головах некоторых статуй, на высоте двенадцати метров над землей, установить в равновесии добавочную чудовищную глыбу красного камня, напоминавшую огромный парик. Что это все означало и какими познаниями в механике обладали эти исчезнувшие зодчие, которые разрешали проблемы, достаточно трудные и для лучших современных инженеров?
В конце концов, если сопоставить все данные, то тайна острова Пасхи, пожалуй, не является неразрешимой; ключом к этой загадке могут быть люди из Перу, приплывшие на плотах. На этом острове древняя цивилизация оставила такие следы, которые не могло изгладить само время. Остров Пасхи представляет собой вершину древнего потухшего вулкана. Мощеные дороги, проложенные древними цивилизованными жителями, ведут к хорошо сохранившимся местам высадки на побережье, и это доказывает, что глубина воды вокруг острова не изменилась до наших дней. Это не остатки опустившегося материка, а крошечный заброшенный остров, который был таким же маленьким и одиноким и тогда, когда он являлся культурным центром Тихого океана.
Посредине конусообразного островка находится кратер потухшего вулкана, а на дне кратера расположены удивительные каменоломни и скульптурная мастерская. Она осталась в таком же точно виде, в каком столетия назад ее покинули древние скульпторы и зодчие, когда они поспешно бросились к восточному мысу острова, где, согласно преданию, пришельцы перебили всех взрослых мужчин-островитян. Благодаря тому, что работа художников была внезапно прервана, мы имеем теперь ясное представление об обычном рабочем дне в кратере острова Пасхи. Каменные топоры скульпторов, твердые, как кремень, лежат, брошенные у рабочих мест, и доказывают, что этот культурный народ не знал железа, как не знали его скульпторы Кон-Тики, когда они убежали из Перу, оставив после себя подобные же гигантские каменные статуи на плато в Андах. И здесь и там находят каменоломни в тех местах, где легендарные белые бородатые люди высекали прямо из склона горы каменные глыбы длиной в девять-двенадцать метров, пользуясь топорами из еще более твердого камня. И здесь и там гигантские глыбы, весившие много тонн, переносились на расстояние многих километров по неровной местности, прежде чем их устанавливали стоймя в виде громадных человеческих фигур или ставили друг на друга, создавая таинственные террасы и стены.
Много больших незаконченных статуй до сих пор лежит там, где их начали делать, — в углублениях в стене кратера на острове Пасхи; они показывают, как шла работа на различных этапах. Самая большая человеческая фигура, которая была почти готова, когда зодчим пришлось убежать, имела в длину 22 метра; если бы она была закончена и установлена, голова этого каменного колосса находилась бы на одном уровне с крышей восьмиэтажного здания. Каждая отдельная статуя была высечена из одной цельной глыбы, а рабочие ниши для скульпторов вокруг лежащей каменной фигуры показывают, что над статуей одновременно работало лишь несколько человек. Статуи на острове Пасхи лежали на спине с согнутыми в локтях руками, с кистями рук на животе, в точности похожие на каменных колоссов в Перу. Статуи отделывались в мастерской до мельчайших деталей, и лишь затем их выносили и доставляли к месту назначения. На последнем этапе работы в каменоломне гигантская фигура оставалась прикрепленной к скале лишь узкой каменной перемычкой, находившейся под спиной; затем отсекали и перемычку, предварительно подложив под статую валуны, чтобы она не скатилась.
Большое количество таких статуй было уже спущено вниз, на дно кратера; там они стояли прислоненные к склону. Но много самых огромных колоссов было вытащено наверх и доставлено за много километров по труднопроходимой местности; там их устанавливали на каменную плиту, а на голову водружали добавочную гигантскую глыбу из красной лавы. Сама эта переноска может показаться полнейшим чудом, но отрицать этот факт невозможно, как нельзя отрицать того, что исчезнувшие из Перу зодчие оставили в Андах каменных гигантов такой же величины — свидетельство их непревзойденного мастерства. Больше всего монолитов, при этом самых крупных, было обнаружено на острове Пасхи, где скульпторы выработали свой собственный стиль; однако представители той же самой исчезнувшей цивилизации воздвигли подобные же гигантские человеческие фигуры на ряде других тихоокеанских островов, ближайших к Америке, и повсюду монолиты доставлялись к священному месту из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах я слышал легенды о том, каким способом передвигали каменных гигантов; так как эти легенды в точности повторяют рассказы местных жителей о переноске каменных колонн к огромному порталу на острове Тонгатабу, то можно предположить, что тот же народ применял тот же метод и для переноски статуй на острове Пасхи.
Работа скульпторов в каменном карьере требовала много времени, но выполнялась только несколькими специалистами. Работа по доставке законченных статуй производилась быстрее, но зато для нее нужно большое количество людей. В те времена, о которых идет речь, маленький остров Пасхи был богат рыбой, а большие плантации перуанского сладкого картофеля тщательно обрабатывались. Специалисты считают, что в эти лучшие времена остров мог прокормить население в 7 или 8 тысяч человек. Для того чтобы поднять огромные статуи вверх по крутому склону кратера, вполне достаточно было тысячи человек, и 500 человек могли управиться с дальнейшей их переноской по острову.
Из луба и растительного волокна сплетали изумительно прочные канаты, и, укрепив каменный колосс на деревянных рамах, толпа тащила его на катках, сделанных из бревен и небольших валунов, которые натирались корнями таро, чтобы рамы легче скользили.
О том, что древние цивилизованные люди мастерски изготовляли веревки и канаты, убедительно говорят находки на островах Южного моря и — с еще большей несомненностью — в Перу, где первые европейцы обнаружили висячие мосты длиною в сотню метров, переброшенные через бурные потоки и ущелья и сделанные из плетеных канатов толщиной в талию взрослого мужчины.
Когда каменный колосс прибывал на предназначенное ему место, возникал новый вопрос: как его установить. Группа островитян строила из камня и песка специальную насыпь с пологим склоном с одной стороны и с крутым противоположным склоном. По пологой поверхности гигантскую фигуру втаскивали наверх, ногами вперед. Когда статуя достигала вершины насыпи, она переваливалась через острый край и соскальзывала прямо вниз так, что ее основание попадало в заранее вырытую яму. Затылок гиганта касался вершины насыпи, по ней вкатывали добавочную цилиндрическую глыбу камня и устанавливали на голове статуи, и лишь после этого насыпь разрушали. Такого рода готовые насыпи стоят в нескольких местах на острове Пасхи, ожидая огромные статуи, которые никогда не появятся. Вся эта техника была изумительна, но она не представляет собой ничего таинственного, если только мы откажемся от недооценки умственных способностей людей древности и примем во внимание, что они могли располагать большим количеством времени и рабочей силы.
Но зачем они делали эти статуи? И почему было необходимо отправляться в другую каменоломню, за семь километров от мастерской в кратере, и добывать там красный камень особого сорта, чтобы класть его на головы фигур? И в Южной Америке и на Маркизских островах часто вся статуя была сделана из этого красного камня, за которым приходилось ходить очень далеко. Красные головные уборы у людей высшего сословия были характерным признаком и в Полинезии и в Перу.
Постараемся сначала уяснить себе, кого изображали статуи. Когда первые европейцы посетили остров Пасхи, они увидели на берегу таинственных «белых людей» и, что было совершенно необычно для этих племен, среди них встречались мужчины с длинными рыжими бородами — потомки женщин и детей, принадлежавших к первоначальному населению острова и пощаженных захватчиками. Сами островитяне заявляли, что некоторые из их предков были белыми, между тем как другие имели коричневую кожу. Они точно высчитывали, что со времени прибытия последних с каких-то других полинезийских островов прошло двадцать два поколения, тогда как первые явились на больших судах с востока за целых пятьдесят семь поколений (то есть приблизительно между 400 и 500 годом нашей эры). Людей, которые пришли с востока, называли «длинноухими», так как они искусственно удлиняли свои уши, подвешивая к мочкам какие-нибудь тяжести; поэтому уши свисали у них до плеч. Эти таинственные «длинноухие» были перебиты, когда на остров явились «короткоухие»; но у всех каменных статуй на острове Пасхи были длинные, свисавшие до плеч уши, как у самих скульпторов.
А легенды инков в Перу рассказывают, что солнце-король Кон-Тики был повелителем белых людей с бородами, которых инки называли «большеухими», потому что они искусственно удлиняли свои уши, вытягивавшиеся у них до плеч. Инки подчеркивали, что заброшенные гигантские статуи в Андах были воздвигнуты именно «большеухими» людьми Кон-Тики, прежде чем те были частью истреблены, а частью обращены в бегство самими инками в битве на острове озера Титикака.
Подведем итоги: белые «большеухие» люди Кон-Тики, исчезнувшие из Перу и отправившиеся куда-то на запад, имели большой опыт по созданию колоссальных каменных статуй, а белые «длинноухие» люди Тики пришли на остров Пасхи с востока и были сведущи в том же самом искусстве, в котором они сразу по прибытии проявили себя законченными мастерами, так как на острове Пасхи нельзя обнаружить ни малейшего следа постепенного развития этого мастерства.
Сравнивая большие каменные статуи на некоторых островах Южного моря с такими же статуями в Перу, мы часто находим между ними больше сходства, чем между монолитами с разных островов Южного моря. На Маркизских островах и на Таити такие статуи известны под общим названием «тики», и там они изображают предков, прославившихся в истории островов и после смерти приравненных к богам. В этом, несомненно, заключается и объяснение странных красных шапок на головах статуй с острова Пасхи. Как уже упоминалось, на всех полинезийских островах можно было встретить отдельных людей и целые семьи, у которых были красноватого цвета волосы и светлая кожа; сами островитяне утверждали, что именно эти люди являются потомками первых белых людей, населявших острова. На некоторых островах участники религиозных празднеств красили себе кожу в белый цвет и волосы в красный, чтобы походить на своих древнейших предков. Во время ежегодной церемонии на острове Пасхи главный участник празднества отрезал себе волосы, чтобы можно было окрасить голову в красный цвет. А колоссальные шапки из красного камня на гигантских статуях острова Пасхи были высечены в форме, характерной для местного стиля прически; на них сверху был круглый узел, соответствовавший традиционному маленькому узлу, в который мужчины связывали свои волосы на макушке.
У статуй на острове Пасхи были длинные уши, потому что у самих скульпторов были длинные уши. Для париков специально подбирался красный камень, потому что у самих скульпторов были красноватые волосы. Подбородки были остроконечные и выдавались вперед, потому что сами скульпторы отращивали бороды. Лица статуй имели характерные черты белой расы — прямой узкий нос и тонкие, резко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали к малайской группе народов. И если у статуй были огромные головы и непропорционально маленькие ноги, а кисти рук были сложены на животе, то это происходило потому, что именно в таком виде зодчие привыкли делать гигантские статуи в Перу. Единственное украшение на статуях острова Пасхи состояло в поясе, который всегда обхватывал их живот. Такой же символический пояс мы находим на каждой статуе в развалинах древнего города Кон-Тики у озера Титикака. Это легендарная эмблема солнце-короля — пояс-радуга. На острове Мангарева существовал миф, согласно которому солнце-бог снял с себя радугу, которая являлась его волшебным поясом, и спустился по ней с неба на остров Мангарева, чтобы заселить его своими белокожими детьми. Когда-то на всех этих островах, как и в Перу, солнце считалось древнейшим родоначальником.
Мы часто сидели на палубе под звездным небом и без конца говорили о загадочной истории острова Пасхи, хотя наш плот уносило прямо в сердце Полинезии и у нас не было никаких шансов увидеть этот уединенный остров на самом деле, а не на карте. Но на острове Пасхи так много следов, ведущих на восток, что само его древнее название может служить ключом к разгадке.
Название «остров Пасхи» появилось на карте потому, что какой-то голландец «открыл» остров в пасхальное воскресенье. И мы забыли, что сами местные жители, уже населявшие остров, имели для своей родины более поучительные и многозначительные названия. У полинезийцев этот остров известен не меньше чем под тремя названиями.
Одним из них является Те-Пите-те-Хенуа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, по мнению самих полинезийцев являющееся самым древним, совершенно явно ставит остров Пасхи в особое положение по отношению к другим островам, лежащим дальше на запад. В восточной части острова, вблизи от легендарного места высадки первых «длинноухих», стоит тщательно обработанный каменный шар, который называют «золотой пуп» и считают также «пупом» самого острова Пасхи. То, что поэтические предки полинезийцев изваяли эмблему острова в виде пупа на восточном берегу и провозглашали ближайший к Перу остров «пупом» бесчисленных островов, расположенных дальше на запад, имело символическое значение. Если принять во внимание, что полинезийские предания говорят об открытии островов, как об их «рождении», то это является несомненным указанием, что именно остров Пасхи считался соединительным звеном между всеми островами и их первоначальной родиной.
Второе название острова Пасхи, Рапа-нуи, означает «Большая Рапа»; имеется также Рапа-ити, или «Маленькая Рапа», — другой остров такой же величины, находящийся далеко на запад от острова Пасхи. У всех народов существует вполне естественное обыкновение называть свою первоначальную родину, например, Большая Рапа, а вторую родину — Новая Рапа или Маленькая Рапа, если даже обе местности одинаковой величины. Жители Маленькой Рапы сохранили до наших дней предания, в которых говорится, что первые обитатели их острова пришли с Большой Рапы — острова Пасхи, лежащего на востоке и ближайшего к Америке. Это является прямым указанием на то, что первоначальная иммиграция шла с востока.
Третье и последнее название этого ключевого острова, Мата-Ките-Рани, означает «Глаз (который) смотрит (в) небо». На первый взгляд это может показаться странным; с не меньшим основанием, чем о сравнительно низком острове Пасхи, можно и о других возвышенных, гористых островах — как Таити, Маркизские или Гавайские острова — сказать, что они смотрят в небо. Но слово «рани» (небо) у полинезийцев имеет двойное значение. Оно означает также первоначальную родину их предков, священную землю солнце-короля, покинутое горное царство Тики. И это чрезвычайно многозначительно, что из тысячи островов, разбросанных по океану, именно самый ближайший к Америке остров Пасхи были назван глазом, который смотрит в сторону родины. Еще более поразительно то, что название Мата-Рани, означающее на языке полинезийцев «глаз неба», является родственным древнему названию местности в Перу, расположенной на тихоокеанском побережье напротив острова Пасхи, у подножья Анд, как раз там, где выше в горах находилась древняя разрушенная столица Кон-Тики.
Один только остров Пасхи давал нам достаточно тем для разговоров, когда мы сидели на палубе под звездным небом и чувствовали себя участниками всех этих доисторических событий. У нас было почти такое ощущение, словно со времен Тики мы только и делали, что плыли по волнам под солнцем и звездами в поисках земли.
Мы больше не испытывали прежнего почтения к волнам и океану. Мы знали их, знали, чего можем ждать от них, находясь на плоту. Даже акула стала для нас повседневностью; мы узнали ее нрав и обычное поведение. Мы уже больше не вспоминали о ручном гарпуне и даже не уходили с края плота, когда акула появлялась рядом. Напротив, когда она невозмутимо скользила вдоль бревен, мы даже пытались схватить ее за спинной плавник. В конце концов это превратилось в совершенно новый вид спорта — игра с акулой в «кто кого перетянет» без веревки.
Мы начали довольно скромно. Нам ничего не стоило наловить золотых макрелей в гораздо большем количестве, чем мы могли съесть. Чтобы не отказываться от любимых развлечений и в то же время не тратить зря запасов провизии, мы придумали комическую ловлю рыбы без крючка, доставлявшую одинаковое удовольствие и золотым макрелям и нам. Мы привязывали ненужных нам летающих рыб к веревке и забрасывали ее так, что они плавали по поверхности воды. Золотые макрели мчались к летающим рыбам и хватали их, а затем мы принимались тянуть каждый в свою сторону; получалось неплохое цирковое представление, так как, если одна золотая макрель выпускала веревку, на смену ей являлась другая. Мы развлекались, а золотые макрели в конце концов получали рыбу.
Затем мы начали ту же игру с акулами. К концу веревки мы привязывали кусок рыбы или чаще мешок с обеденными объедками и спускали приманку за борт. Вместо того чтобы повернуться на спину, акула высовывала голову над водой и подплывала, широко раскрыв пасть, чтобы проглотить угощение. Мы не могли удержаться от соблазна отдернуть веревку, как только акула намеревалась сомкнуть свои челюсти; обманутая акула с глупейшим терпеливым видом подплывала ближе и опять открывала пасть, чтобы схватить приманку, которая выпрыгивала у нее изо рта каждый раз, как она пыталась проглотить ее. Кончалось дело тем, что акула подплывала к самым бревнам и принималась подпрыгивать, как пес, выпрашивающий подачку, которая соблазнительно покачивалась в мешке над его носом. Это напоминало кормление разевавшего пасть бегемота в зоологическом саду, и как-то в конце июля, после трехмесячного плавания, в моем дневнике появилась следующая запись:
«Мы подружились с акулой, сопровождавшей нас сегодня. За обедом мы кормили ее остатками, которые кидали ей в открытую пасть. Когда она плыла рядом с нами, можно было подумать, что это свирепый, но сейчас добродушно и дружески настроенный пес. Приходится признать, что акулы имеют довольно забавный вид, пока вы сами не попадаете к ним в пасть. Во всяком случае, нам доставляло удовольствие, когда они плавали около нас, если только мы в это время не купались».
Однажды бамбуковая палка с мешком, в котором находилась еда для акулы, привязанная к
веревке, лежала наготове на краю плота, как вдруг набежала волна и смыла ее за борт. Бамбуковая палка плыла уже в каких-нибудь 200 метрах за кормой плота; внезапно она встала в воде торчком и сама по себе помчалась вслед за плотом, как бы любезно собираясь сама вернуться на свое место. Когда удилище, покачиваясь, приблизилось к нам, мы заметили плывшую под ним трехметровую акулу; бамбуковая палка торчала из воды, подобно перископу. Акула проглотила мешок с едой, но не перегрызла веревки. Вскоре удилище догнало нас, спокойно проплыло мимо и скрылось впереди.
Хотя мы постепенно стали смотреть на акулу совершенно иными глазами, все же наше уважение к пяти или шести рядам острых, как бритва, зубов, спрятанных в огромной ее пасти, никогда не исчезало.
Как-то Кнуту пришлось поневоле выкупаться в обществе акулы. Никому из нас ни в коем случае не разрешалось отплывать от плота — как из-за того, что плот могло унести, так и из-за акул. Но однажды было исключительно тихо, и мы вытащили уже на борт несколько акул, следовавших за нами; поэтому я разрешил быстро выкупаться в океане. Кнут нырнул и, проплыв под водой довольно большое расстояние, появился на поверхности и собирался вернуться назад. В это мгновение мы заметили с мачты, что под ним движется в воде тень, которая была больше его самого. Мы предостерегающе закричали, по возможности спокойно, чтобы не испугать, и Кнут изо всех сил заторопился к плоту. Но тень под ним принадлежала еще лучшему пловцу, который рванулся из глубины и стал нагонять Кнута. Они достигли плота одновременно. Пока Кнут взбирался на палубу, двухметровая акула проскользнула как раз под его животом и остановилась у плота. В благодарность за то, что она не откусила Кнуту ногу, мы дали ей вкусную голову золотой макрели.
Обычно жадность в акуле пробуждается не при виде добычи, а от ее запаха. Опыта ради мы садились на край плота и опускали ноги в воду, и акулы подплывали к нам на расстояние метра или полуметра, а затем спокойно поворачивались к нам хвостом. Но если вода хоть чуть-чуть окрашивалась кровью, как это бывало, когда мы потрошили рыбу, тогда акульи плавники оживали, и акулы налетали на нас, подобно мясным мухам, со всех сторон. Когда мы выбрасывали акульи потроха, хищники форменным образом сходили с ума и в слепом неистовстве метались вокруг нас. Они с жадностью пожирали требуху своего родича, а если мы опускали в воду ногу, они бросались со скоростью ракеты и даже хватали зубами бревна в том месте, где только что была нога. Бывают акулы и акулы, так как они целиком находятся во власти своего настроения.
В наших отношениях с акулами мы в конце концов дошли до такой фамильярности, что стали таскать их за хвост. Таскать животных за хвост считается не слишком интересным видом спорта, но это объясняется, пожалуй, тем, что никто не проделывал таких фокусов с акулами. На самом деле, это увлекательный спорт.
Для того чтобы хватить акулу за хвост, мы должны были сначала предложить ей какой-нибудь действительно лакомый кусок. Чтобы заполучить его, она готова высунуть голову из воды. Обычно пища ей предлагалась в танцующем мешке. Кормить акулу прямо из рук вовсе не забавно. Если из рук кормят собак или ручных медведей, они впиваются зубами в мясо и начинают рвать и терзать его, пока не откусят кусочка или не захватят весь кусок. Но если вы держите на безопасном расстоянии от головы акулы большую золотую макрель, то акула подпрыгивает, щелкает челюстями, и, хотя вы не чувствуете никакого рывка, половина макрели внезапно исчезает, и вы остаетесь сидеть с хвостом в руках. Нам стоило большого труда ножом разрезать золотую макрель на две части, а акула за какую-нибудь долю секунды еле заметным быстрым движением вбок своих челюстей с треугольными пилообразными зубами перерезала, как машинкой для резания колбасы, спинной хребет. Когда акула спокойно поворачивалась, чтобы скрыться в глубине, ее хвост колыхался над поверхностью воды, и тогда его легко было схватить. Кожа акулы на ощупь напоминает наждачную бумагу, а с нижней стороны кончика ее хвоста имеется углубление — по-видимому, для того, чтобы можно было как следует ухватиться. Если нам удавалось вцепиться в хвост в этом месте, то хватка оказывалась достаточно прочной. Затем, прежде чем акула приходила в себя, нужно было сильно рвануть и вытащить хвост акулы как можно дальше, прижав его к бревнам. Секунду или две акула ничего не соображала, а затем начинала извиваться передней частью туловища и рваться, но довольно вяло, так как без помощи хвоста она не может развить никакой скорости. Остальные плавники служат только для сохранения равновесия и в качестве руля. После нескольких безнадежных рывков, во время которых наша задача сводилась к тому, чтобы не выпустить хвоста, ошеломленная акула падала духом и становилась совершенно пассивной; так как свободно перемещающийся желудок начинал опускаться в сторону головы, то в конце концов акула впадала в состояние полного паралича. Как только акула затихала и неподвижно повисала, ожидая дальнейших событий, наступал момент, когда нужно было тащить ее изо всех сил. Нам редко удавалось вытянуть из воды тяжелую рыбу больше чем наполовину, но тут акула приходила в себя и остальное доделывала сама. Мощными рывками она поворачивала голову в нашу сторону и высовывала ее на бревна; тогда мы подтягивали ее со всей силой, на какую были способны, и оттаскивали в сторону при этом как можно быстрее, чтобы спасти свои ноги. Ибо теперь настроение у акулы было отнюдь не добродушным. Она билась и подпрыгивала на палубе и молотила хвостом по бамбуковой стене, работая им, как кувалдой. Теперь она больше не щадила своих стальных мышц. Огромная пасть была широко раскрыта, а ряды зубов щелкали и кусали вокруг все, до чего они могли добраться. Иногда военный танец заканчивался тем, что акула более или менее случайно шлепалась за борт и, претерпев столь постыдное унижение, навсегда исчезала; но чаще всего она слепо билась на бревнах кормы, и мы успевали набросить затягивающуюся петлю на ее хвост, или же она сама навеки переставала скалить свои дьявольские зубы.
Когда акула попадала к нам на палубу, наш попугай приходил в большое волнение. Он торопливо выскакивал из бамбуковой каюты и с бешеной скоростью взбирался по стене, пока не оказывался на безопасном наблюдательном пункте — на крыше из пальмовых листьев; там он сидел, покачивая головой, или же бегал взад и вперед вдоль конька крыши, крича от возбуждения. Он уже давно стал прекрасным моряком и всегда был полон юмора и веселья. Мы считали, что нас на плоту семеро — шестеро людей и зеленый попугай. Холоднокровному крабу Юханнесу приходилось все-таки довольствоваться тем, что его признавали не вполне полноправным компаньоном. По ночам попугай забирался в клетку, которая находилась под крышей каюты, но днем он важно разгуливал по палубе или висел на вантах и штагах, проделывая самые изумительные акробатические упражнения. Вначале на штагах и вантах у нас были тендеры
[144], но от них перетирались веревки, и мы заменили их обыкновенными морскими узлами. Когда штаги и ванты от действия солнца и ветра вытянулись и стали провисать, нам всем пришлось взяться за укрепление тяжелых, как железо, мачт из мангрового дерева, которые все больше и больше наклонялись и грозили запутаться в снастях и в конце концов упасть. В самый критический момент, когда мы изо всех сил тянули, попугай принялся кричать своим резким голосом:
— Тяни! Тяни! Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха! — Он заставил и нас расхохотаться, а сам смеялся до тех пор, пока не стал от радости трястись и вертеться на штагах.
Первое время наши радисты относились к попугаю недружелюбно. Случалось, что они сидели в радиорубке, забыв про все на свете, с магическими наушниками, установив связь с каким-нибудь радиолюбителем, скажем, из Оклахомы. Вдруг их наушники умолкали, и они не могли поймать больше ни звука, сколько ни старались проверять провода и вертеть кнопки. Попугай в это время занимался тем, что клевал проволоку антенны. Особенно часто это происходило в первые дни, когда антенна поднималась прямо вверх, привязанная к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Он уныло сидел у себя в клетке и два дня не притрагивался к пище, а в его помете блестели золотистые крупинки антенны. Тут наши радисты раскаялись в своих злобных пожеланиях, а попугай в своих прегрешениях; с этого дня Торстейн и Кнут стали лучшими друзьями попугая, и он всегда спал только в радиорубке. Когда попугай появился на борту, его родным языком был испанский; Бенгт утверждал, что попугай стал говорить по-испански с норвежским акцентом еще задолго до того, как научился повторять излюбленные восклицания Торстейна на сочном норвежском языке.
В течение двух месяцев веселье попугая и его яркое оперенье доставляли нам много радости, но однажды попугай спускался по штагу с верхушки мачты, и как раз в это мгновение большая волна захлестнула сзади плот. Когда мы обнаружили, что попугая нет на борту, было уже слишком поздно. Мы не видели его нигде, а «Кон-Тики» нельзя было ни повернуть, ни остановить; если какой-нибудь предмет падал за борт плота, мы не имели возможности вернуться за ним — в этом мы убедились на ряде случаев.
В первый вечер после гибели попугая у нас было подавленное настроение: мы знали, что то же самое может случиться с любым из нас, если он свалится за борт во время одинокой ночной вахты.
Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, сменили спасательную веревку, которой пользовались на ночных вахтах, и внушали друг другу, что мы не можем считать себя в безопасности только потому, что все шло хорошо в течение первых двух месяцев. Один неосторожный шаг, одно неосторожное движение — и даже среди бела дня мы можем отправиться туда, куда отправился зеленый попугай.
Несколько раз мы видели большую белую оболочку яиц кальмара, которая покачивалась на синей зыби, напоминая яйца страуса или белые черепа. Один только раз мы заметили под оболочкой извивавшегося моллюска. Мы видели белоснежные шары, плававшие вблизи от нас и сначала нам казалось, что ничего не стоит подплыть к ним в лодке и поймать их. Когда оборвалась веревка планктонной сетки и шелковая сетка осталась позади и плыла следом за плотом, мы были так же оптимистичны и спустили на воду лодочку, привязав к ней веревку, чтобы легче было вернуться. Но, к нашему удивлению, мы убедились, что ветер и волна не дают лодке подойти и что веревка, привязанная к «Кон-Тики», сильно тормозит в воде; нам ни разу не удалось подгрести к тому месту, где только что находился плот. Иногда до того предмета, который мы хотели подобрать, оставалось всего несколько метров, но тут веревка натягивалась, и «Кон-Тики» тянул нас прочь, на запад. «Что за борт упало, то пропало», — таков был вывод, к которому мы постепенно пришли и которого потом никогда не забывали до конца нашего плавания. Если мы хотели остаться в живых, надо было крепко держаться за «Кон-Тики», пока тот не уткнется носом в сушу по ту сторону океана.
После пропажи попугая радиорубка опустела; но когда на следующее утро тропическое солнце засияло над Тихим океаном, наш траур быстро окончился. В ближайшие несколько дней мы вытащили немало акул и, неизменно находя в желудке акулы среди голов тунцов и других диковинок черный изогнутый клюв, принимали его за клюв попугая. Но три ближайшем рассмотрении он каждый раз оказывался клювом переваренного кальмара.
С самого начала плавания обоим радистам хватало работы в их рубке. Как только мы очутились в течении Гумбольдта, из ящиков с батареями стала капать морская вода, и пришлось покрыть боящуюся сырости радиорубку брезентом, чтобы спасти от порчи все, что только возможно было спасти в условиях открытого моря. Потом радистам пришлось поломать голову над тем, как пристроить на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Они попытались пустить антенну вверх, привязав ее к воздушному змею, но от порыва ветра змей попросту окунулся в гребень волны и исчез. Тогда они стали пускать антенну вверх с помощью воздушного шара, но тропическое солнце выжигало дырки в шаре, так что он сморщивался и падал в океан. А затем у них возникли неприятности из-за попугая. К этому можно добавить, что лишь после двухнедельного плавания в течении Гумбольдта мы вышли из мертвой зоны Анд, в пределах которой короткие волны так же немы и безжизненны как воздух в пустом ящике из-под мыла.
Но вот однажды короткие волны неожиданно пробились, и позывные сигналы Торстейна услышал какой-то случайный радиолюбитель в Лос-Анжелосе, который возился со своим радиопередатчиком, стараясь установить связь с другим любителем в Швеции. Американец спросил, какой системы наш передатчик, и, получив исчерпывающий ответ, осведомился у Торстейна, кто он такой и где живет. Когда он услышал, что Торстейн проживает в бамбуковой каюте на плоту в Тихом океане, раздалось несколько странных пощелкиваний, и Торстейн поторопился сообщить некоторые подробности. Как только человек в эфире пришел в себя, он передал нам, что его зовут Гал, а его жену — Анна, что она по происхождению шведка и известит наши семьи о том, что мы живы и здоровы.
В этот вечер нам казалось очень странным, что совершенно чужой человек, по имени Гал, какой-то неизвестный кинооператор, один из многочисленных жителей далекого Лос-Анжелоса, был единственным в мире человеком, не считая нас самих, который знал, где мы находимся и что у нас все благополучно. Начиная с этого вечера, Гал, он же Гарольд Кемпел, и его друг Френк Кюевэс по очереди дежурили каждую ночь и ловили сигналы нашего плота, а Герман получал благодарственные телеграммы от начальника бюро погоды США за то, что дважды в сутки передавал по шифру метеорологические сведения из района, о котором сведения поступали очень редко, а сводки вовсе отсутствовали. Впоследствии Кнут и Торстейн почти каждую ночь устанавливали связь и с другими радиолюбителями, а те передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика по имени Эгиль Берг, который жил в Нутоддене
[145].
Лишь на несколько дней, когда мы находились посреди океана, наша радиостанция совершенно прекратила работу, так как в радиорубку набралось слишком много соленой воды. Наши радисты лезли вон из кожи, целыми днями и ночами возясь с винтами и паяльником, а далекие радиолюбители думали, что с плотом все кончено. Затем как-то вечером позывные LI2B понеслись в эфире, и в одно мгновение радиорубка зажужжала, подобно осиному гнезду, так как несколько сот американских коротковолновиков одновременно застучали ключами, отвечая на наш призыв. В самом деле, когда мы попадали во владения наших радистов, у нас бывало такое ощущение, словно мы сидим на осином гнезде. Все было мокрым от воды, проникавшей со всех сторон; на бальсовом бревне лежал небольшой резиновый коврик, на котором сидели радисты, но если кто-нибудь из нас дотрагивался до ключа Морзе, он немедленно чувствовал удар тока одновременно в задней части и в кончиках пальцев. А если кто-нибудь из нас, посторонних, пытался украсть карандаш из богатой всякими принадлежностями радиорубки, у него волосы на голове вставали дыбом или же с огрызка карандаша начинали сыпаться крупные искры. Только Торстейн, Кнут и попугай могли без риска лавировать в этом уголке каюты, и мы прибили кусок картона, чтобы отметить границу опасной для остальных зоны.
Однажды поздно вечером Кнут сидел в радиорубке и с чем-то возился при свете фонаря; вдруг он потянул меня за ногу и сказал, что разговаривает с парнем по имени Христиан Амундсен, который живет под самым Осло. Это был один из радиолюбительских рекордов, так как наш маленький коротковолновый передатчик с его 13 990 килоциклами в секунду мог дать не больше шести ватт, то есть приблизительно столько же, сколько дает маленький электрический фонарь. Это произошло 2 августа, и мы проплыли уже 60° в западном направлении, так что Осло находилось как раз на противоположной стороне земного шара. Королю Хокону на следующий день исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравительную телеграмму прямо с плота; а еще через день мы снова услышали Христиана, передававшего нам ответ короля, который пожелал нам дальнейшей удачи и успешного окончания путешествия.
Другой эпизод остался у нас в памяти в качестве контраста всей нашей жизни на плоту. У нас было два фотоаппарата, а Эрик захватил с собой запас химикалий для проявления снимков в пути, так что мы могли заново снять то, что получилось неудачно. После посещения китовой акулы Эрик не мог больше удержаться и как-то вечером развел химикалии в строгом соответствии с наставлениями и проявил две пленки. Негативы — все в крапинках и морщинах — напоминали изображения, полученные по бильдтелеграфу. Пленка была погублена. Мы запросили по радио совета, и наша радиограмма была принята одним коротковолновиком в Голливуде; он позвонил по телефону в фотолабораторию и вскоре вклинился в разговор и сообщил, что у нас слишком теплый проявитель и что нельзя пользоваться водой с температурой выше 16°Ц, иначе на негативах будут морщины.
Мы поблагодарили за совет и удостоверились, что самая низкая температура вокруг нас — это температура самого океанского течения, равнявшаяся примерно 27°. Но ведь Герман был инженер-холодильщик, и я в шутку предложил ему довести температуру воды до 16°. Он попросил разрешения пустить в ход маленькую бутылку угольной кислоты, оставшейся неизрасходованной после надувания резиновой лодки; затем он проделал какие-то фокусы в металлической кастрюле, покрытой спальным мешком и шерстяной фуфайкой. И вдруг щетинистая борода Германа покрылась изморозью, и он появился в каюте с кастрюлей, в которой лежал большой кусок белого льда.
Эрик снова принялся за проявление, и результаты оказались отличные.
Но хотя слова-призраки, разносимые по эфиру короткими волнами, были неизвестной роскошью в далекие дни Кон-Тики, все же океанские волны под нами оставались такими же, как и встарь, и они несли наш бальсовый плот упорно на запад, как это делали тогда, полторы тысячи лет назад.
После того как мы прошли половину нашего пути к островам Южного моря, погода стала несколько более неустойчивой, и время от времени налетали дождевые шквалы, а пассат изменил свое направление. Он неуклонно дул с юго-востока, пока мы не прошли значительной части экваториального течения; затем он стал все больше и больше отклоняться к востоку. 10 июня мы достигли самой северной точки под 6°19′ южной широты. Мы находились тогда так близко к экватору, что, казалось, нас пронесет мимо даже самых северных из Маркизских островов и мы окончательно затеряемся в океане, не обнаружив земли. Но затем пассат еще отклонился, стал дуть не с востока, а с северо-востока и понес нас по кривой к югу, к широтам мира островов.
Часто случалось, что направление ветра и волн оставалось неизменным в течение нескольких дней подряд; тогда мы совершенно забывали, чья была вахта, и вспоминали об этом только по ночам, когда вахтенный оставался один на палубе. Ибо при постоянном ветре рулевое весло крепко привязывалось, и «Кон-Тики» двигался под наполненным парусом без всякого нашего участия. В такие ночи вахтенный мог спокойно сидеть в дверях каюты и следить за звездами. Если созвездия меняли свое положение на небе, значит ему надо выйти и выяснить, сдвинулось ли весло, или отклонился ветер.
Нас самих изумляло, до чего легко было управлять плотом по звездам, после того как мы несколько недель подряд наблюдали их движение по небесному своду. По правде говоря, ночью больше и не на что было смотреть. Мы знали, где из ночи в ночь должны находиться различные созвездия; а когда мы приблизились к экватору, на северном горизонте так ясно виднелась Большая Медведица, что мы испугались, как бы не появилась и Полярная звезда, которую мы могли увидеть лишь в том случае, если бы пересекли экватор. Но как только установился северо-восточный пассат, Большая Медведица снова исчезла.
Древние полинезийцы были великими мореплавателями. Они ориентировались днем по солнцу, а ночью по звездам. Они обладали удивительными познаниями о небесных светилах. Они знали, что земля круглая, и в их языке имелись слова, обозначавшие такие сложные понятия, как экватор, северные и южные тропики. На Гавайских островах они выцарапывали карту океана на оболочке круглых бутылочных тыкв, а на некоторых других островах делали подробные карты из переплетенных сучьев, к которым для обозначения островов прикреплялись раковины, а ветки обозначали особо важные течения. Полинезийцы знали пять планет, которые они называли странствующими звездами и отличали от неподвижных звезд, имевших в их языке около 300 различных названий. В древней Полинезии хороший мореплаватель твердо знал, в какой части неба восходит та или иная звезда и где она должна находиться в различное время ночи и в различное время года. Они знали, какие звезды достигают зенита над тем или иным островом, и в этих случаях острова назывались по имени тех звезд, которые из ночи в ночь и из года в год кульминировали над ними.
Полинезийцы не только знали, что звездное небо представляет собой огромный сверкающий компас, вращающийся с востока на запад, но также понимали, что различные звезды над их головой всегда указывают, как далеко на север или на юг забрались мореплаватели. Когда полинезийцы исследовали и подчинили себе свое островное царство, охватывавшее всю ближайшую к Америке часть океана, они установили сообщение между некоторыми островами, и этими путями пользовались многие последующие поколения. Исторические предания рассказывают о том, как плавали вожди с Таити на Гавайские острова, которые находятся на 2 тысячи морских миль к северу и на несколько градусов к западу. Сначала рулевой по солнцу и звездам правил на север, пока звезды над его головой не говорили ему, что его лодка находится на широте Гавайских островов. Тогда он поворачивал под прямым углом и правил на запад, пока не появлялись птицы и облака, указывавшие ему путь к уже близким островам.
Откуда полинезийцы позаимствовали свои обширные астрономические познания и свой календарь, вычисленный с изумительной точностью? Конечно, не от меланезийцев или малайцев, которые жили на западе. Но тот же самый древний исчезнувший цивилизованный народ — «белые и бородатые люди», — который передал свою удивительную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, создал изумительно похожий календарь и обладал такими же астрономическими познаниями, о которых в Европе в те времена не могли и мечтать.
В Полинезии, как и в Перу, началом календарного года считался день, когда созвездие Плеяд впервые появляется над горизонтом, и в обеих странах это созвездие считалось покровителем земледелия.
В Перу, там, где горная страна понижается в сторону Тихого океана, до наших дней сохранились в песчаной пустыне развалины чрезвычайно древней астрономической обсерватории — памятник того же самого таинственного цивилизованного народа, который высекал каменных колоссов, воздвигал пирамиды, возделывал сладкий картофель и бутылочную тыкву и начинал год с восхода Плеяд. Кон-Тики был знаком со звездами, когда направил свой парус в Тихий океан.
2 июля ночному вахтенному не пришлось уже мирно сидеть, изучая звездное небо. После нескольких дней легкого северо-восточного пассата подул сильный ветер, и море стало бурным. Поздно вечером сияла луна и дул свежий попутный ветер. Мы измерили скорость нашего движения, подсчитав, сколько секунд потребовалось нам, чтобы обогнать щепку, брошенную в воду рядом с носом плота, и обнаружили, что мы установили рекорд. В то время как средняя скорость равнялась 12–18 «щепкам», выражаясь на принятом у нас жаргоне, на этот раз мы имели всего «6 щепок», и бурлящая струя светящейся воды бежала вслед за кормой плота.
Четыре человека храпели в бамбуковой каюте, Торстейн сидел, постукивая ключом Морзе, а я находился на вахте у руля. Перед самой полночью я заметил совершенно необычную волну, которая, опрокидываясь, надвигалась на нас прямо с кормы, закрывая весь горизонт позади, а за ней я мог тут и там различить пенящиеся гребни еще двух таких же огромных волн, следовавших по пятам за первой. Если бы мы только что не миновали это место, я был бы убежден, что вижу высокие буруны, обрушивающиеся на предательскую отмель. Как только первая волна длинной стеной подошла к нам, вздымаясь в лунном свете, я издал предупреждающий крик, резко повернул плот в наиболее выгодное положение и стал ждать дальнейших событий.
Когда первая волна нагнала нас, плот задрал корму вверх и в сторону и поднялся на гребень, который как раз в это мгновение обрушился, и все зашипело и закипело вокруг нас. Мы плыли среди хаоса бурлящей пены, между тем как сама могучая волна перекатывалась под нами. Нос взлетел вверх последним, когда волна прошла, и мы стали скользить кормою вниз в огромную впадину между волнами. Сразу же налетела, вздыбившись, следующая стена воды, и нас снова быстро подбросило вверх, а прозрачные потоки воды обрушились сзади, когда мы взлетели на гребень. Теперь плот повернуло бортом к волнам, и было совершенно невозможно быстро выправить его. Следующая волна приблизилась и поднялась из клочьев пены, подобно сверкающей стене, верхний край которой обрушился, как только она догнала нас. Когда вал накрыл плот, мне ничего не оставалось делать, как крепко ухватиться за выступавший из-под крыши каюты бамбуковый шест; так я стоял, задержав дыхание, чувствуя, как плот подбросило высоко вверх и все вокруг меня понеслось, увлекаемое шипящими пенистыми водоворотами. Через мгновение мы и «Кон-Тики» снова были над водой и спокойно скользили вниз по пологой стороне волны. А затем волны снова стали нормальными. Три огромных вала мчались впереди нас, а за кормой в свете луны мы видели цепочку кокосовых орехов, покачивавшихся на воде.
Последняя волна сильно ударила по каюте, так что Торстейн в радиорубке полетел вверх тормашками, а остальные проснулись, испуганные шумом; из-под бревен и сквозь стену в каюту хлынула вода. С левой стороны в носовой части палубы бамбуковый настил был сорван, и в этом месте зияла дыра, напоминавшая небольшую воронку от снаряда; наша водолазная корзина расплющилась о выступ носа, но все остальное оказалось неповрежденным. Откуда явились эти три большие волны, мы так никогда и не смогли с уверенностью объяснить; возможно, они были вызваны какими-то тектоническими движениями дна океана, которые для этих районов являются довольно обычными
[146].
Два дня спустя мы пережили первый шторм. Началось с того, что ветер совершенно стих и белые перистые облака, которые при пассате проплывали над вами в небесной синеве, были внезапно вытеснены черной грядой плотных туч, набежавших с юга из-за горизонта. Затем начались порывы ветра с самых неожиданных сторон, так что вахтенный Рулевой потерял всякую возможность управлять плотом. Как только нам удалось повернуть корму к новому направлению ветра и парус ровно и упруго надувался, сразу же порывы ветра налетали с другой стороны и парус терял свои гордые очертания, начинал полоскаться и хлопать по чему попало, подвергая опасности команду и груз. После этого ветер внезапно начал настойчиво дуть с той стороны, откуда надвигалась непогода. И когда черные тучи заклубились над нами, ветер усилился до свежего и постепенно перешел в настоящий ураган.
За невероятно короткий промежуток времени волны вокруг нас стали вздыматься на высоту пяти метров, а отдельные гребни с шипеньем неслись на высоте шести-восьми метров, так что они оказывались на уровне верхушки нашей мачты, когда мы опускались между двумя волнами. Все мы, согнувшись в три погибели, с трудом удерживались на палубе, а ветер сотрясал бамбуковую стену и свистел и завывал во всех снастях.
Чтобы предохранить радиорубку, мы покрывали брезентом заднюю стену и левую сторону каюты. Весь незакрепленный груз был крепко принайтован, а парус спущен и свернут вокруг бамбуковой реи. Когда небо заволокло тучами, океан стал темным и грозным и со всех сторон покрылся белыми гребнями. Длинные полосы безжизненной пены тянулись с наветренной стороны широких валов, и всюду, где волны обрушивались и разбивались, появлялись зеленые рубцы, которые еще долго пенились на иссиня-черном океане. Когда валы разбивались, их гребни уносило ветром, и над океаном соленым дождем висели брызги. Наконец начался тропический ливень, который хлестал по поверхности океана горизонтальными шквалами и скрыл все от нашего взора. Вода, стекавшая у нас с головы и бороды, имела солоноватый вкус. А мы, голые и замерзшие, скрючившись, продолжали, спотыкаясь, метаться по палубе и следить за тем, чтобы все снасти были в порядке и могли благополучно выдержать шторм. Когда мы заметили на горизонте первые признаки надвигавшегося шторма, а затем он стал приближаться к нам, на наших лицах можно было прочесть напряженное ожидание и беспокойство. Но когда он всерьез разразился над нами и «Кон-Тики» легко и бодро преодолевал все препятствия на своем пути, шторм превратился в волнующий вид спорта; мы все любовались бушевавшими вокруг нас стихиями, видя, что наш бальсовый плот, прекрасно справлявшийся с ними, все время держится, как пробка, на гребнях волн, а основная масса беснующейся воды все время проносится на десяток сантиметров ниже нас. В такую погоду океан во многом напоминает горы. У нас было такое ощущение, словно мы в бурю очутились под открытым небом на высочайшем горном плато, голом и сером. Хотя мы находились в сердце тропиков, всякий раз, как плот скользил вверх и вниз по клубящейся пустыне океана, нам казалось, что мы мчимся с горы среди сугробов снега и скал.
В такую погоду вахтенному рулевому следовало глядеть в оба. Когда самые крутые волны проходили под передней частью плота, бревна на корме совершенно выступали из воды, но в следующее мгновение снова опускались, чтобы затем вскарабкаться на новый гребень. Волны шли иногда так близко одна от другой, что задняя нагоняла нас, когда первая еще держала нос плота задранным кверху; тогда на рулевого с шумом низвергались целые потоки беспорядочно крутящейся воды, но через секунду корма поднималась, и вода исчезала, уходя между бревнами, как между зубьями вилки.
Мы подсчитали, что при обычном, спокойном море, когда самые высокие волны большей частью шли с промежутками в семь секунд, каждые сутки на нашу корму попадало около 200 тонн воды; но мы этого почти не замечали, так как вода спокойно растекалась вокруг босых ног рулевого и так же спокойно исчезала между бревнами. Но во время сильного шторма плот в течение суток принимал на свою корму больше 10 тысяч тонн воды, если считать, что каждые пять секунд на нее обрушивалось от нескольких десятков литров до двух или трех кубических метров воды, а подчас и значительно больше. Иногда волна налетала на плот с оглушительным, как удар грома, грохотом, и рулевой стоял по пояс в воде и испытывал такое ощущение, словно ему приходится идти вброд против течения по быстрой реке. Плот, казалось, на мгновение останавливался, содрогаясь, а затем огромная масса воды, придавившая его корму, уходила большими каскадами за борт.
Герман все время находился на палубе с анемометром в руке, измеряя силу ураганных шквалов, не прекращавшихся целые сутки. Затем ураган постепенно перешел в сильный ветер с редкими дождевыми шквалами, от которых океан вокруг нас продолжал бурлить. А мы при хорошем попутном ветре, переваливаясь с волны на волну, шли на запад. Для того чтобы точно измерить силу ветра, находясь внизу между вздымающимися волнами, Герман при малейшей возможности взбирался на верхушку качавшейся мачты, где ему приходилось держаться как можно крепче.
Лишь только погода несколько улучшилась, все крупные рыбы вокруг нас совершенно взбесились. Океан поблизости от плота кишел акулами, тунцами, золотыми макрелями и сравнительно немногочисленными перепуганными бонитами; все они скользили под самым плотом или в волнах рядом с ним. Среди них шла непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть. Спины крупных рыб, изгибаясь, высовывались из воды, внезапно хищники срывались с места и бросались в погоню, и вода вокруг плота не один раз густо окрашивалась кровью. Сражались главным образом тунцы и золотые макрели; последние плыли большими стаями, которые двигались гораздо быстрее, чем обычно, и держались все время настороже. Нападающей стороной были тунцы; нередко мы видели, как рыба в 70–80 килограммов весом подскакивала высоко в воздух, держа в пасти окровавленную голову макрели. В то время как отдельные золотые макрели стремглав убегали от преследовавших их по пятам тунцов, стая макрелей не отступала перед врагом, хотя некоторые из них извивались в воде с большими зияющими ранами на шее. Время от времени и акулы, казалось, приходили в слепой раж, и мы наблюдали, как они настигали и хватали больших тунцов, для которых акула является превосходящим по силе противником.
Не видно было ни одного мирного маленького лоцмана. Или их пожрали разъяренные тунцы, или они спрятались в щели под плотом, а может быть, убежали подальше от поля битвы. Мы не решались окунуть голову в воду, чтобы заглянуть под плот.
Когда я находился на корме, отдавая дань природе, я испытывал невероятное потрясение — впоследствии я не мог без смеха вспоминать об этом чувстве полной растерянности, охватившем меня. Мы привыкли к небольшим волнам в нашей уборной; но я был совершенно ошеломлен, когда неожиданно получил сильный удар сзади чем-то большим, холодным и очень тяжелым, вынырнувшим подо мной из воды и напоминавшим голову акулы. Я уже карабкался вверх по штагу с таким ощущением, что в мою заднюю часть вцепилась акула, прежде чем пришел в себя.
Герман, который повис на рулевом весле, скрючившись от хохота, рассказал мне, что большой тунец плашмя шлепнул меня по голому месту своими 70 килограммами холодной рыбьей туши. Позже, когда Герман, а затем Торстейн стояли на вахте, та же рыба пыталась вскочить на плот с набегавшими на корму волнами; дважды эта здоровенная рыба оказывалась на краю бревен, но каждый раз она снова срывалась за борт, прежде чем нам удалось схватить ее скользкое туловище.
Через некоторое время крупный ошалелый бонит попал с волной прямо на плот, и мы решили использовать его и пойманного накануне тунца для рыбной ловли, чтобы навести порядок в окружавшем нас кровавом хаосе.
Наш дневник гласит:
«Первой попалась на крючок и была вытащена на плот двухметровая акула. Как только крючок был освобожден, его проглотила двухсполовинойметровая акула, которую мы также вытащили на борт. Когда крючок был снова заброшен в воду, на него попалась еще одна двухметровая акула; мы подтянули ее на край плота, но тут она освободилась и нырнула. Крючок был сразу же снова заброшен, и его схватила двухсполовинойметровая акула, с которой у нас завязалась упорная борьба. Мы уже вытащили ее голову на бревна, как вдруг все четыре стальные жилы были перекушены и акула скрылась в глубине. Заброшен новый крючок, и мы вытянули еще одну акулу. Теперь стало опасно заниматься рыбной ловлей, стоя на скользких бревнах кормы, так как три акулы продолжали время от времени вскидывать голову и щелкать челюстями еще долго после того, как мы сочли их мертвыми. Мы оттащили акул за хвост и сложили в кучу на носовой части палубы, и вскоре после этого на крючок попал большой тунец, который задал нам больше жару, чем любая из акул, каких нам приходилось вытаскивать. Он был такой жирный и тяжелый, что никто из нас не мог поднять его за хвост.
Океан все еще кишел беснующимися рыбами. Еще одна акула схватила крючок, но вырвалась, когда мы ее уже чуть не втащили на плот. Затем мы благополучно вытащили двухметровую акулу, за ней — полутораметровую. Потом мы поймали еще одну двухметровую акулу и вытащили и ее. Когда крючок был снова заброшен, мы вытащили еще одну акулу покрупнее».
Куда бы мы ни ступали, всюду натыкались на больших акул, которые, судорожно подпрыгивая, били хвостами по палубе или ударялись о бамбуковую каюту. Когда мы начали рыбную ловлю после двух ночей шторма, мы уже были усталые и измученные и теперь буквально растерялись, не зная, какие из акул уже околели, какие еще могут, судорожно щелкая челюстями, схватить нас, если мы приблизимся, и какие только кажутся мертвыми, а на самом деле только подстерегают нас. Когда девять больших акул загромоздили всю палубу вокруг нас, мы были так утомлены от вытягивания тяжелых лес и борьбы с упиравшимися акулами, что после пяти часов изнурительного труда решили отказаться от дальнейшей ловли.
На следующий день золотых макрелей и тунцов было меньше, но акул столько же. Мы снова принялись ловить и вытаскивать их, но вскоре прекратили это занятие, так как заметили, что свежая акулья кровь, стекавшая с плота, лишь привлекает еще большее количество акул. Мы выбросили всех мертвых акул за борт и смыли кровь с палубы. Бамбуковые циновки оказались изорванными зубами и грубой кожей акул; самые окровавленные и самые порванные мы выбросили за борт и заменили их новыми золотисто-желтыми бамбуковыми циновками, несколько пачек которых было крепко привязано на передней части палубы.
Когда в этот вечер мы легли спать, стоило нам закрыть глаза, как перед нами вставали хищные раскрытые пасти акул и пятна крови. А запах акульего мяса преследовал нас. Мы могли есть акул; по вкусу они напоминали пикшу, если только мы вымачивали куски рыбы сутки в воде, чтобы удалить запах аммиака. Но бониты и тунцы были несравненно вкуснее.
Этим вечером я первый раз услышал, как один из моих спутников сказал, что хорошо было бы удобно вытянуться на зеленой траве под пальмами на каком-нибудь острове; он был бы рад увидеть что-нибудь другое вместо холодных рыб и бурного океана.
Снова наступила хорошая погода, но она была не так устойчива и надежна, как прежде. Время от времени совершенно неожиданные резкие порывы ветра приносили с собой сильные ливни, которым мы были очень рады, так как значительная часть нашего запаса воды стала портиться и по вкусу напоминала затхлую болотную воду. Когда ливень достигал наибольшей силы, мы собирали воду, стекавшую с крыши каюты, и стояли голые на палубе, наслаждаясь тем, что свежая вода смывала с нас соль.
Лоцманы снова скользили у плота на своих обычных местах; но были ли это те же самые старые приятели, которые вернулись к нам по окончании кровавой бани, или же это были новые спутники, приобретенные в горячке битвы, мы не могли сказать.
21 июля ветер неожиданно снова упал. Атмосфера была гнетущая, и стало совершенно тихо; по прежнему опыту мы знали, что это могло означать. И в самом деле, после нескольких бешеных порывов с востока, с запада и с юга ветер посвежел и стал дуть с юга, где горизонт снова заволокло черными, грозными тучами. Герман все время находился на палубе с анемометром, показывавшим уже больше пятнадцати метров в секунду, как вдруг спальный мешок Торстейна устремился за борт. События, которые разыгрались в течение ближайших нескольких секунд, заняли гораздо меньше времени, чем нужно, для того чтобы рассказать о них.
Герман, пытаясь поймать мешок на лету, оступился и свалился в воду. Среди шума волн мы услышали слабый крик о помощи и увидели голову и загребавшую воду руку Германа и одновременно какой-то неясный зеленый силуэт, крутившийся вблизи. Герман изо всех сил старался подплыть обратно к плоту, отчаянно борясь с высокими волнами, которые поднимали его и относили в сторону от левого борта. Торстейн, находившийся на корме у рулевого весла, и я, стоя на носу, первыми увидели его и похолодели от ужаса. Мы заорали во всю глотку: «Человек за бортом!» — и кинулись к ближайшей спасательной веревке. Из-за шума океана остальные не слышали крика Германа. Но теперь в одно мгновение на палубе все ожило и засуетилось. Герман был прекрасным пловцом, и хотя мы сразу поняли, что его жизнь поставлена на карту, мы все же сильно, надеялись, что ему удастся доплыть до плота, прежде чем станет уже слишком поздно.
Торстейн, стоявший ближе всех к бамбуковому цилиндру, вокруг которого была намотана веревка, предназначенная для спасательной лодки, быстро схватил его. Это был единственный раз за все время путешествия, когда веревку заело и так некстати. Все произошло в течение нескольких секунд. Герман теперь находился на одной линии с кормой плота, но в нескольких метрах от нее и мог еще надеяться на спасение, если бы ему удалось подплыть к лопасти рулевого весла и повиснуть на ней. Так как он не успел ухватиться за выступ бревен, он протянул руку к лопасти весла, но она скользнула мимо. И вот он лежал именно там, откуда, как мы знали по опыту, ничто не возвращается. Пока Бенгт и я спускали на воду лодку, Кнут и Эрик пытались бросить Герману спасательный пояс. Привязанный к длинной веревке, пояс висел всегда наготове на углу крыши каюты; но в этот раз ветер был такой сильный, что всякий раз относил спасательный пояс обратно на плот. Все попытки добросить пояс кончались неудачей, а Герман уже находился далеко позади рулевого весла и отчаянно пытался не отставать от плота, но с каждым порывом ветра расстояние увеличивалось. Он понял, что отныне разрыв будет все увеличиваться, но у него еще оставалась слабая надежда на лодку, которая теперь была уже на воде. Без веревки, которая действовала как тормоз, вероятно, было бы возможно подогнать резиновую лодку навстречу плывущему человеку; другой вопрос — удастся ли резиновой лодке когда-нибудь вернуться к «Кон-Тики». Все-таки у трех человек в резиновой лодке были какие-то шансы на спасение, у одного человека в океане — никаких.
Вдруг мы увидели, что Кнут бросился с плота и нырнул головой вниз в океан. В одной руке он держал спасательный пояс и плыл, опираясь на него. Всякий раз, как голова Германа появлялась на гребне волны, Кнут исчезал, а всякий раз, как появлялся Кнут, Германа не было. Но вот мы увидели головы обоих одновременно: они подплыли друг к другу и оба держались за спасательный пояс. Кнут махал рукой; так как тем временем мы успели втащить резиновую лодку на борт, то мы все вчетвером ухватились за веревку от спасательного пояса и стали тянуть изо всех сил, не спуская в то же время глаз с большого темного предмета, который виднелся в воде позади двух пловцов. Это таинственное животное время от времени высовывало над гребнем волны большой зеленовато-черный треугольник; он чуть не насмерть перепугал Кнута, когда тот плыл к Герману. В тот момент один лишь Герман знал, что треугольник принадлежал не
акуле и не какому-нибудь другому морскому чудовищу. Это был раздувшийся угол непромокаемого спального мешка Торстейна. Но спальный мешок недолго держался на воде после того, как мы вытащили на плот обоих наших товарищей целыми и невредимыми. Тот, кто утащил спальный мешок в глубь океана, упустил более стоящую добычу.
— Как хорошо, что я не был в нем, — сказал Торстейн и снова взялся за рулевое весло.
Впрочем, в этот вечер нам было не до веселых острот. Нас всех еще долго пробирала нервная дрожь. Но холодная дрожь смешивалась с горячим чувством радости оттого, что нас по-прежнему было шестеро на плоту.
В этот день мы наговорили Кнуту кучу приятных слов — и сам Герман и все остальные.
Однако у нас было мало времени раздумывать о том, что уже случилось; по мере того как небо над нами темнело, порывы ветра все усиливались, и до наступления ночи на нас обрушился новый шторм. Теперь привязанный к длинной веревке спасательный пояс находился на воде за кормой; если во время шквала кто-нибудь из нас опять упадет за борт, то, может быть, ему удастся ухватиться за пояс, который плыл позади рулевого весла. Когда наступила ночь, вокруг нас стояла кромешная тьма, скрывшая от нашего взора и плот и океан; бешено прыгая в темноте с волны на волну, мы слышали только, как завывал ветер в мачтах и снастях, и чувствовали, как шквалы налетали на гибкие стены бамбуковой каюты с такой силой, что, казалось, вот-вот они унесут ее за борт. Но каюта была прикрыта брезентами и хорошо укреплена оттяжками. Мы чувствовали, как «Кон-Тики» метался на пенящихся волнах и бревна, подобно клавишам рояля, двигались вверх и вниз в такт движению волн. Мы каждый раз удивлялись, что потоки воды не врываются сквозь широкие щели в полу каюты, а эти щели служили лишь мехами, через которые постоянно неслись вверх и вниз токи влажного воздуха.
Целых пять дней погода стояла неустойчивая: то дул настоящий ураган, то ветер падал до слабого. Океан был изборожден широкими долинами, окутанными дымкой от пенившихся серовато-синих волн, гребни которых казались вытянутыми в длину и сплющенными от напора ветра. Затем на пятый день на небе появились голубые просветы, и по мере того как ураган удалялся от нас, зловещие черные тучи уступали место всепобеждающему голубому небу.
Шторм наделал нам дел: рулевое весло было разбито, парус разодран, а выдвижные кили болтались и ударялись, подобно вагам, о бревна, так как все веревки, которыми они были закреплены под водой, совершенно перетерлись. Но сами мы и груз ничуть не пострадали.
После двух штормов «Кон-Тики» основательно расшатался. От напряжения при подъеме на крутые гребни волн все веревки вытянулись, а от постоянного движения бревен веревки врезались в них. Мы благодарили провидение за то, что последовали указаниям инков и отказались от стальных тросов, которые во время шторма попросту перепилили бы весь плот на мелкие куски. А если бы с самого начала у нас были совершенно сухие, обладающие высокой плавучестью бальсовые бревна, плот давно пропитался бы морской водой и погрузился бы в океан вместе с нами. Сок свежесрубленных деревьев служил пропитывающим составом и препятствовал проникновению воды в пористую бальсовую древесину. Но теперь веревки так ослабели, что опасно было ступить между двумя бревнами, так как при резком столкновении они могли раздробить ногу. На носу и на корме, где не было бамбуковой палубы, нам приходилось, сгибая колени, широко расставлять ноги, чтобы стоять сразу на двух бревнах. Корма, покрытая мокрыми водорослями, стала скользкой, как листья бананов; там, где мы обычно ходили, мы устроили среди зелени постоянную дорожку, а для вахтенного у руля положили широкую доску, и все же, когда волна подбрасывала плот, удержаться на ногах было нелегко. А по левой стороне одно из девяти огромных бревен день и ночь с глухим, хлюпающим стуком ударялось о ронжины. Новые зловещие скрипы стали издавать также веревки, которые связывали вершины двух наклонных мачт, так как гнезда для мачт были вырублены в двух разных бревнах и двигались независимо друг от друга.
Мы срастили рулевое весло, привязав к нему длинные куски тяжелого, как железо, мангрового дерева. Эрик и Бенгт починили парус, и Кон-Тики снова гордо поднял голову и выпятил грудь в сторону Полинезии, а рулевое весло танцевало за кормой в волнах, которые с наступлением хорошей погоды опять были кроткими и пологими. Но кили никогда больше не стали такими, какими были раньше; они не отзывались на давление воды со всей своей прежней силой, так как сместились и болтались под плотом ничем не закрепленные. Не имело смысла пытаться осмотреть веревки со стороны дна, так как они совершенно заросли водорослями. Обследовав всю бамбуковую палубу, мы обнаружили, что только три из основных веревок были порваны; они лежали скрюченные, прижатые к грузу, о который они перетерлись. Было совершенно очевидно, что бревна впитали в себя большое количество воды, но груз уменьшился, и это уравновешивало потерю плавучести. Большая часть провизии и питьевой воды, а также сухих батарей наших радистов была уже израсходована.
Тем не менее после последнего шторма мы были вполне убеждены, что плот не расползется и проплывет то короткое расстояние, которое отделяло нас от находившихся впереди островов. Теперь на первый план выступала другая проблема: каким образом наше путешествие закончится?
«Кон-Тики» будет непреклонно стремиться к западу, пока не упрется носом в береговые скалы или в какую-нибудь другую неподвижную преграду, которая остановит его движение. Путешествие окончится только тогда, когда вся команда, целая и невредимая, выйдет на берег одного из многочисленных полинезийских островов, лежавших впереди.
Когда миновал последний шторм, нам было совершенно неясно, куда может пристать плот. Мы находились на одинаковом расстоянии и от Маркизских островов и от архипелага Туамоту, причем не была исключена возможность того, что мы спокойнейшим образом можем пройти между этими двумя группами островов, не увидев ни той, ни другой. Ближайший остров из группы Маркизских находился в 300 милях к северо-западу, ближайший остров архипелага Туамоту — в 300 милях к юго-западу, а ветер и течение были неустойчивы, но в общем несли нас на запад, в широкие ворота океана между двумя группами островов.
Ближайший в северо-западном направлении остров был тот самый Фату-Хива, маленький, покрытый джунглями гористый островок, на котором я когда-то жил в хижине, построенной на берегу на сваях, и слушал образные рассказы старика о героическом предке — Тики. Если бы «Кон-Тики» пристал к этому же берегу, я встретил бы там много знакомых, но вряд ли самого старика. Он, наверно, давно уже скончался с твердой надеждой на встречу со своим предком Тики. Если плот направится к этой цепи гористых Маркизских островов, то высадка будет для нас нелегким делом. Острова этой группы лежат далеко друг от друга, и океан беспрепятственно обрушивается на отвесные утесы, так что нам надо будет смотреть в оба, держа путь к устьям немногочисленных долин, которые всегда заканчиваются узкой полосой пляжа.
Если же плот направится к коралловым рифам архипелага Туамоту, то там океан на большом протяжении густо усеян множеством островов. Но эта группа островов известна также под названием Низкого, или Опасного, архипелага, так как своим возникновением она обязана кораллам и состоит из предательских подводных рифов и покрытых пальмами атоллов, которые возвышаются всего на два-три метра над поверхностью воды. Опасные рифы окружают защитным кольцом каждый атолл, представляя серьезную помеху для мореплавания во всем этом районе. Но хотя атоллы Туамоту созданы кораллами, а Маркизские острова представляют собой остатки потухших вулканов, обе группы островов населены одним и тем же полинезийским народом, и королевские семьи повсюду считают Тики своим родоначальником.
Еще 3 июля, когда мы находились за тысячу миль от Полинезии, сама природа сообщила нам, — как она в свое время сообщила первобытным перуанским мореплавателям, добравшимся сюда на своих плотах, — что где-то впереди среди океана действительно находится земля. Пока мы не прошли добрую тысячу миль от берегов Перу, мы время от времени видели небольшие стаи фрегатов. Примерно на 100° западной долготы они исчезли, и нам стали попадаться только маленькие буревестники, которые живут в океане. Но 3 июля на 125° западной долготы фрегаты снова появились. Начиная с этого дня, мы часто видели небольшие стаи фрегатов; они летели высоко в небе или проносились над гребнями волн, хватая летающих рыб, которые выпрыгивали в воздух, спасаясь от золотых макрелей. Так как эти птицы прилетели не из Америки, лежавшей позади нас, то их родина должна была находиться в другой стороне — впереди.
16 июля природа дала нам еще более очевидное указание. В этот день мы вытащили трехметровую акулу, которая извергла из своего живота большую непереваренную морскую звезду, недавно проглоченную ею у берега где-то вблизи.
А на следующий день к нам прилетели первые гости непосредственно с островов Полинезии. Это было знаменательным событием на плоту, когда мы заметили на горизонте в западном направлении двух больших глупышей, которые вскоре стали низко парить над нашей мачтой. Распластав свои крылья, имевшие в размахе полтора метра, они долго кружили над нами, затем сложили крылья и сели на воду рядом с плотом. Золотые макрели сразу же бросились к этому месту и принялись назойливо вертеться вокруг больших плавающих птиц, но обе стороны не трогали друг друга. Это были первые живые вестники, принесшие нам привет из Полинезии. Вечером они не улетели, но остались на воде, и еще после полуночи мы слышали, как они с хриплыми криками кружили вокруг мачты.
Летающие рыбы, которые попадали к нам на плот, были теперь значительно крупнее и принадлежали к другому виду; я помнил их по рыболовным прогулкам, которые совершал с островитянами вдоль берегов Фату-Хивы.
В течение трех суток мы держали курс прямо на Фату-Хиву, но затем задул сильный северо-восточный ветер и отнес нас к югу, в сторону атоллов Туамоту, за пределы собственно экваториального течения, и теперь океанские течения стали вести себя ненадежно. Один день они были заметны, на другой день исчезали. Течение иногда шло, как невидимая река, разветвляясь во все стороны. Если оно было быстрое, волны становились сильнее и температура воды обычно падала на один градус. Направление и силу течения мы определяли ежедневно по разнице между вычисленным Эриком положением плота и определенным им по солнцу
[147].
На пороге Полинезии ветер сказал «пас» и передал нас тихому ответвлению течения, которое, к нашему ужасу, шло по направлению к Антарктике. Полного штиля не было — мы не испытали его ни разу за все время нашего путешествия, — и если ветер был очень слабый, мы подвешивали к мачте все наши тряпки, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было ни одного дня, когда мы двигались бы назад, в сторону Америки; наименьшее расстояние, пройденное за сутки, составляло 9 морских миль, между тем как средняя суточная скорость за все время нашего путешествия в целом равнялась 42,5 мили.
Все-таки у пассата не хватило духу покинуть нас у самой цели. Он опять приступил к исполнению своих обязанностей и принялся толкать и вести разваливающееся судно, которое готовилось вступить в новую, необыкновенную страну.
С каждым днем стаи морских птиц становились все многочисленнее и бесцельно кружили над нами во всех направлениях. Однажды вечером, когда солнце садилось в океан, мы ясно заметили, что птицы чем-то сильно взбудоражены. Они летели на запад, не обращая никакого внимания на нас и на летающих рыб. С верхушки мачты мы могли видеть, что, пролетев над нами, они все устремлялись в одном и том же направлении. Может быть, сверху они видели что-то, чего мы не видели. А может быть, ими руководил инстинкт. Во всяком случае, они летели к определенной цели, прямо домой, на ближайший остров, место их гнездовий.

Мы повернули рулевое весло и, направили наш плот точно в ту сторону, где исчезли птицы. Даже после наступления темноты мы слышали крики отставших стай, которые пролетали над нами на фоне звездного неба как раз в том направлении, которого мы теперь держались. Это была чудесная ночь; луна была почти полной — в третий раз за время плавания «Кон-Тики».
На следующий день над нами кружило еще больше птиц, но вечером мы уже не нуждались в том, чтобы они показывали нам путь. К этому времени мы заметили на горизонте странное, неподвижное облако. Другие облака казались маленькими, легкими клочками шерсти, которые появлялись на юге и, подгоняемые пассатом, проплывали по небесному своду, а затем исчезали за горизонтом на западе. Такими я когда-то видел эти уносимые пассатом облака на острове Фату-Хива, такими мы их видели над собой ночью и днем на борту «Кон-Тики». Но одинокое облако на горизонте к юго-западу от нас не двигалось, — оно просто висело в воздухе, подобно неподвижному столбу дыма, между тем как остальные облака проплывали мимо. Такие облака по-латыни называются Cumulonimbus. Полинезийцы не знали этого, но они знали, что под такими облаками находится земля. Когда тропическое солнце раскаляет песок, образуется ток теплого воздуха, который поднимается вверх, и в более холодных слоях атмосферы содержащиеся в нем водяные пары сгущаются.
Мы правили на облако, пока с заходом солнца оно не исчезло. Ветер был устойчивый, и с крепко привязанным рулевым веслом «Кон-Тики» сам, без всякого нашего участия, как это часто бывало в хорошую погоду в океане, держался своего курса. Работа вахтенного заключалась теперь в том, чтобы взбираться на верхушку мачты и как можно дольше сидеть там на площадке, за последние дни натершейся до блеска, высматривая, не появятся ли признаки близости земли.
Всю ночь над нами раздавались оглушительные крики птиц. А луна была почти полная.

Глава 7
У ОСТРОВОВ ЮЖНОГО МОРЯ
Мы видим землю. — Нас относит от Пука-Пука. — Праздничный день у рифа Ангатау. — На пороге рая. — Первые островитяне. — Новая команда «Кон-Тики». — Кнут получил увольнение на берег. — Проигранное сражение. — Нас сндва уносит в океан. — В опасных водах. — От Такуме до Рароиа. — Нас несет в «ведьмин котел». — Во власти бурунов. — Кораблекрушение. — Выброшены на коралловый риф. — Мы находим необитаемый остров.
В ночь на 30 июля «Кон-Тики» окружала какая-то новая, необыкновенная атмосфера. Может быть, оглушающие крики всевозможных морских птиц над нами создавали ощущение, что назревают какие-то события. После того как на протяжении трех месяцев мы слышали, кроме шума океана, лишь однообразный скрип безжизненных веревок, многоголосый крик птиц казался таким возбуждающим и таким земным. А луна, плывшая над нашим наблюдательным пунктом на верхушке мачты, казалась больше и круглее, чем обычно. В нашем воображении в ней отражались верхушки пальм и вся романтика теплокровного мира; над океаном с холодными рыбами луна не сияла таким желтым светом.
В шесть часов Бенгт спустился с верхушки мачты, разбудил Германа и завалился спать. Когда Герман взобрался на скрипящую качающуюся мачту, уже появились первые проблески зари. Через десять минут он снова опустился по веревочной лестнице и потащил меня за ногу.
— Выходите-ка и взгляните на ваш остров!
Лицо Германа сияло; я вскочил, а вслед за мной и Бенгт, который не успел еще заснуть. Толкаясь и мешая друг другу, мы поспешно карабкались как можно выше, пока не достигли места скрещения мачт. Вокруг нас летало множество птиц, а бледная голубовато-фиолетовая полоса на небе отражалась в океане, как последнее напоминание об уходящей ночи. Но вот весь горизонт на востоке стал окрашиваться ярким румянцем, а далеко на юго-востоке небо постепенно приобретало кроваво-красную окраску, и на его фоне вдоль края океана бледной тенью вырисовывалась небольшая черта, как бы проведенная синим карандашом.
Земля! Остров! Мы жадно пожирали его глазами, затем разбудили товарищей; полусонные, они выскочили на палубу и смотрели во все стороны, словно думали, что нос нашего плота вот-вот уткнется в берег. Летавшие с криком морские птицы создавали как бы воздушный мост между нами и отдаленным островом, который все резче выступал на горизонте, по мере того как с приближением солнца и наступлением дня, красный фон разливался по небу и переходил в золотистый. Первой нашей мыслью было, что остров находится не там, где ему полагалось. И так как остров не мог передвинуться, то, очевидно, за ночь плот унесло течением к северу. Нам достаточно было бросить один взгляд на океан, чтобы по направлению волн сразу понять, что за время темноты мы лишились всяких шансов пристать здесь. Там, где мы теперь находились, ветер уже не давал нам возможности направить плот к острову. В районе океана вокруг архипелага Туамоту было много сильных местных течений, которые, натыкаясь на землю, разветвлялись во все стороны; многие из течений меняли свое направление, встречаясь с мощными приливными течениями, двигавшимися взад и вперед через рифы и лагуны.
Мы повернули рулевое весло, хотя хорошо знали, что это бесполезно. В половине седьмого солнце взошло над океаном и стало подниматься прямо вверх, как это всегда бывает в тропиках. Остров находился от нас на расстоянии нескольких миль и представлялся нашему взгляду в виде еле выступавшей из воды полоски леса вдоль горизонта. Деревья тесно стояли за узкой светлой лентой берега, который был так низок, что через правильные промежутки времени скрывался за волнами. Согласно определениям Эрика, это был Пука-Пука, самый крайний остров архипелага Туамоту. «Лоция Тихого океана 1940 года», две наши карты и наблюдения Эрика давали четыре различных варианта координат этого острова, но так как вблизи никакой другой земли не существовало, то мы не могли сомневаться, что остров, который мы видели, был Пука-Пука.
Никто из нас не предавался бурным излияниям. Мы подтянули парус, повернули весло и молча стояли на палубе или на верхушке мачты, всматриваясь в землю, которая внезапно появилась посреди беспредельного всеобъемлющего океана. Наконец-то мы воочию убедились в том, что все эти месяцы действительно двигались, а не просто качались на волнах в центре одного и того же извечного, окаймленного горизонтом круга. Впрочем, нам казалось, что мы видим какой-то плавающий остров, неожиданно очутившийся среди синего пустынного океана, в центре которого находилось наше постоянное местожительство, и что этот остров медленно плыл по нашим владениям, направляясь к востоку. Нас всех охватило чувство глубокого удовлетворения и покоя от сознания, что мы действительно достигли Полинезии; но к этому чувству примешивалось легкое мимолетное разочарование оттого, что мы были вынуждены беспомощно смотреть на возникший перед нами, как мираж, остров и продолжать наш бесконечный путь по океану на запад.
Сразу после восхода солнца над вершинами деревьев в левой части острова поднялся густой черный столб дыма. Мы следили за ним и думали про себя, что островитяне проснулись и готовят себе завтрак. Тогда нам не пришло в голову, что жители нас заметили со своих наблюдательных постов и подавали дымом сигналы, приглашая нас высадиться. Около семи часов до нас донесся легкий запах горящего пальмового дерева, который щекотал наши просоленные ноздри. Во мне он сразу пробудил дремавшие воспоминания о костре на берегу Фату-Хивы. Спустя полчаса мы уловили запахи леса и свежесрубленного дерева. Остров стал постепенно отдаляться, теперь он находился за кормой, и время от времени с него долетали до нас легкие дуновения ветра. В течение четверти часа Герман и я стояли, вцепившись в верхушку мачты, и жадно впитывали в себя теплый запах листьев и зелени. Это была Полинезия — восхитительный, роскошный запах суши после девяноста трех соленых дней среди волн. Бенгт уже снова храпел в своем спальном мешке. Эрик и Торстейн лежали на спине в каюте, размышляя, а Кнут то и дело выбегал на палубу понюхать запах листьев, а затем что-то писал в своем дневнике.
В половине девятого Пука-Пука погрузился в океан позади нас, но еще до одиннадцати часов с верхушки мачты мы могли видеть бледную голубую полоску над восточным горизонтом. Потом и она пропала, и только высокое кучево-дождевое облако, неподвижно висевшее в небе, показывало нам, где находится Пука-Пука. Птицы исчезли. Они предпочитают держаться наветренной стороны острова, чтобы ветер помогал им, когда они будут вечером возвращаться домой с полным желудком. Золотых макрелей также почти не было видно, и нас сопровождало только несколько лоцманов, плывших под плотом.
В этот вечер Бенгт сказал, что он мечтает о столе и стуле, ибо читать, лежа то на спине, то на животе, очень утомительно. Впрочем, он рад, что нам не удалось пристать к берегу, так как он не успел еще прочесть три книги. Торстейну неожиданно захотелось яблок. А я сам проснулся ночью от совершенно отчетливого восхитительного запаха бифштекса с луком. Но оказалось, что так пахнет грязная рубаха.
На следующее утро мы увидели два новых облака, которые поднимались у горизонта, напоминая дым двух паровозов. По карте мы смогли установить, что коралловые острова, над которыми эти облака возвышались, называются Фангахина и Ангатау
[148]. Ветер дул так, что облако над Ангатау находилось от нас в более благоприятном направлении; поэтому, крепко привязав весло, мы взяли курс на Ангатау и стали наслаждаться изумительным покоем и тишиной Тихого океана. В хорошую погоду жизнь на бамбуковой палубе «Кон-Тики» была очень приятна, и мы жадно впитывали в себя всё ощущения, уверенные в близком окончании нашего путешествия, что бы ни ждало нас впереди.
В течение трех суток мы шли в направлении облака над Ангатау; погода стояла великолепная, рулевое весло само вело нас по курсу, и течение не выкидывало никаких шуток. На утро четвертого дня Торстейн в шесть часов сменил на вахте Германа, тот сказал ему, что он при свете луны как будто видел очертания низкого острова. Когда вскоре взошло солнце, Торстейн просунул голову в дверь каюты и крикнул:
— Впереди земля!
Мы все бросились на палубу, и то, что мы увидели, заставило нас поднять все наши флаги. Первым взлетел на корме норвежский флаг, за ним на верхушке мачты — французский, так как мы приближались к французской колонии. Вскоре вся наша коллекция флагов развевалась на свежем пассатном ветре — американский, английский, перуанский и шведский, не считая флага Клуба путешественников. Теперь никто из нас не мог сомневаться, что «Кон-Тики» одет как следует. На этот раз положение острова было идеальным — прямо по нашему курсу и несколько дальше от нас, чем Пука-Пука, когда он возник перед нами на утренней заре четыре дня тому назад. Лишь только солнце поднялось на небе позади нас, мы увидели высоко в туманном небе над островом светло-зеленое мерцание. Это было отражение тихой зеленой лагуны внутри кольца из рифов. Над некоторыми низкими атоллами такие миражи стоят в воздухе на высоте нескольких тысяч метров, и первобытные мореплаватели видели эти отражения за много дней до того, как сам остров показывался на горизонте.
Около десяти часов мы взялись за рулевое весло; теперь предстояло решить, к какой части острова мы будем править. Мы могли уже различить отдельные верхушки деревьев и видели ряды древесных стволов, блестевших на солнце на фоне густой тенистой листвы.
Мы знали, что где-то между нами и островом находятся опасные подводные рифы, подстерегавшие все, что приближалось к приветливому на вид острову. Беспрепятственно набегающие с востока высокие валы зыби покрывают эти рифы; и так как огромные массы воды на мелком месте задерживаются, они вздымаются к небу и с грохотом и пеной обрушиваются вниз, проносясь над острыми коралловыми рифами. Не один корабль попал в эту ловушку — был затянут на ужасные подводные рифы архипелага Туамоту и разбит вдребезги о коралловые скалы.
Со стороны моря мы не замечали никаких признаков коварной западни. Мы плыли, следуя за волнами, и видели только изогнутые сверкающие гребни, которые один за другим исчезали по направлению к острову. И рифы и вся пенящаяся дьявольская свистопляска над ними были скрыты от нас рядами широких гребней волн, громоздившихся впереди. Но у обеих оконечностей острова, и северной и южной, где береговая линия загибалась, мы видели, что в нескольких сотнях метров от земли океан представлял собой сплошную белую кипящую массу, высоко вздымавшуюся в воздухе.
Мы направили свой плот так, чтобы очутиться у границ «ведьминой кухни» у южной оконечности острова, и надеялись, что, попав туда, мы сможем плыть вдоль атолла, пока не обогнем мыс и не окажемся на подветренной стороне; во всяком случае, мы рассчитывали, прежде чем нас пронесет мимо, достичь достаточно мелкого места, где мы могли бы с помощью самодельного якоря остановиться и, выждав перемены ветра, очутиться, таким образом, под защитой острова.
Около полудня мы могли уже различить в бинокль, что растительность на берегу состояла из молодых зеленых кокосовых пальм, вершины которых тесно соприкасались и выступали над покачивавшейся живой изгородью густого подлеска, стоявшего на переднем плане. На берегу перед лесом на светлом песке тут и там лежали большие глыбы кораллов. Никаких других признаков жизни не было, если не считать белых птиц, паривших над кронами пальм.
В два часа мы подошли к острову и поплыли вдоль него у самого края неприступных рифов. По мере того как мы приближались, до нас все явственней доносился напоминавший неумолчный шум водопада рев бурунов, разбивавшихся о рифы, и вскоре этот рев стал походить на грохот бесконечного курьерского поезда, который мчался параллельно нам в нескольких ста метрах от нашего правого борта. Теперь мы могли также различить белые брызги, то и дело взлетавшие высоко в воздух за курчавыми гребнями волн сбоку от нас, там, где грохотал «поезд».
Тяжелым рулевым веслом орудовали двое; они стояли за бамбуковой каютой и поэтому не видели, что делается впереди. Эрик в качестве штурмана взобрался на кухонный ящик и давал указания обоим рулевым. Наш план состоял в том, чтобы держаться к опасным рифам как можно ближе, но на достаточно безопасном расстоянии. С вершины мачты мы все время наблюдали, не покажется ли в коралловом кольце какая-нибудь брешь или проход, через который мы могли бы попытаться проскользнуть. Течение несло нас теперь вдоль рифа и не устраивало никаких фокусов. Болтавшиеся кили давали нам возможность двигаться под углом к ветру в пределах 20° в ту или другую сторону, а ветер дул вдоль рифа.
В то время как Эрик вел плот по извилистому курсу, держась от рифов на таком расстоянии, чтобы не было опасности оказаться втянутыми в водоворот, Герман и я поплыли в резиновой лодке, привязанной на веревке. Когда плот шел правым галсом, веревка тянула и нас направо, и мы подходили так близко к грохотавшим над рифами бурунам, что нам удавалось бросить взгляд на убегавшую от нас стену воды цвета зеленого стекла; когда волны, крутясь водоворотами, откатывались назад, мы могли различить также выступавшие из воды голые рифы, которые напоминали полуразрушенную баррикаду из ржавой железной руды. Насколько хватало взгляда, мы не могли заметить вдоль берега никакого прохода. Эрик орудовал с парусом, подтягивая левое полотнище и ослабляя правое, а рулевые изо всех сил нажимали на весло, и «Кон-Тики» снова менял курс и, переваливаясь, уходил из опасной зоны до следующего поворота на другой галс.
Всякий раз, когда «Кон-Тики» приближался к рифам и снова отдалялся от них, у Германа и у меня, сидевших в привязанной к плоту лодочке, замирало сердце, ибо мы оказывались настолько близко к рифам, что начинали чувствовать, как ритм волн учащался и становился все более нервным и грозным. И всякий раз мы были уверены, что теперь Эрик слишком увлекся, что теперь нет никакой надежды вывести «Кон-Тики» из полосы бурунов, которые тянули нас к дьявольским красным рифам. Но всякий раз Эрик ловким маневром поворачивал плот, и «Кон-Тики» снова благополучно уходил в сторону открытого океана, удаляясь от предательских водоворотов. Все это время мы плыли вдоль острова на таком близком расстоянии, что видели мельчайшие подробности на берегу; и эта райская красота была для нас недоступна из-за пенящейся преграды.
Около трех часов пальмовый лес на берегу расступился, и сквозь широкий просвет мы увидели синюю зеркально-гладкую лагуну. Но кольцо рифов оставалось таким же сплошным, как и раньше, и так же зловеще скалило из пены свои кроваво-красные зубы. Прохода не было, и пальмовый лес снова сомкнулся, а мы продолжали тащиться вдоль острова, подгоняемые попутным ветром. Позже пальмовый лес стал все больше и больше редеть, и нашим взорам открылась внутренняя часть кораллового острова. Перед нами, напоминая большое тихое горное озеро, лежала прекраснейшая светлая морская лагуна, окруженная покачивающимися кокосовыми пальмами и сверкающими пляжами. Упоительный остров зеленых пальм образовал широкое мягкое песчаное кольцо вокруг гостеприимной лагуны, а второе кольцо окружало весь остров ржаво-красным мечом, охранявшим «врата рая».
Весь день мы лавировали вдоль Ангатау и любовались красотой острова, находившегося совсем близко, чуть не за дверью нашей каюты. Солнце освещало кроны пальм, и все на острове казалось райским и радостным. Так как постепенно наши маневры превратились в привычное дело, Эрик достал свою гитару и, стоя на палубе в перуанской шляпе с большими полями, играл и распевал сентиментальные песни Южного моря, а Бенгт заканчивал на краю палубы все приготовления к прекрасному обеду. Мы разбили старый кокосовый орех, который везли из Перу, и выпили за здоровье молодых свежих орехов, свисавших с деревьев на острове. Вся атмосфера этого дня — покой над лесом светло-зеленых пальм, которые глубоко пустили корни в землю и сияли в лучах солнца, покой над белыми птицами, парившими вокруг вершин пальм, покой над зеркально-гладкой лагуной и мягким песчаным берегом и ярость красных рифов, канонада и барабанный грохот в воздухе — все это производило потрясающее впечатление на нас шестерых, появившихся здесь из океана. Это впечатление никогда не изгладится из нашей памяти. Теперь не было никаких сомнений, что мы достигли другой стороны; перед нами был самый настоящий остров Южного моря. Пристанем мы к нему или нет, во всяком случае, мы достигли Полинезии; необъятный простор океана навсегда остался позади нас.
Вышло так, что этот праздничный день у Ангатау оказался девяносто седьмым днем нашего путешествия. Как это ни странно, но по нашим расчетам в Нью-Йорке как раз девяносто семь дней составляли тот минимально необходимый срок, за который при теоретически идеальных условиях мы могли достигнуть ближайших островов Полинезии.
Около пяти часов мы миновали две крытые пальмовыми листьями хижины, стоявшие на берегу среди деревьев. Ни дыма, ни других признаков жизни мы не видели.
В половине шестого мы снова двигались по направлению к рифам; мы приближались к западной оконечности острова, и необходимо было в последний раз осмотреться в надежде отыскать какой-нибудь проход. Солнце стояло уже так низко, что слепило нас, когда мы смотрели вперед; но там, где океан ударялся о рифы, в нескольких ста метрах, за крайним мысом острова, мы увидели в воздухе маленькую радугу. Теперь очертания мыса отчетливо вырисовывались перед нами. А на берегу в глубине мы заметили кучку неподвижных черных пятен. Внезапно одно из них медленно направилось к воде, а несколько других быстро устремились к опушке леса. Это были люди! Мы плыли вдоль рифов так близко, как только могли; ветер совершенно стих, и мы чувствовали, что вот-вот мы окажемся с подветренной стороны острова. Тут мы увидели, что на воду спустили пирогу, два человека прыгнули в нее и принялись грести по ту сторону рифа. Проплыв некоторое расстояние, они повернули пирогу в сторону открытого океана; мы увидели, как волны высоко подбросили ее в воздух, когда она пролетала в проходе между рифами, направляясь прямо к нам.
Итак, проход между рифами находился здесь; это была наша единственная надежда. Теперь мы могли рассмотреть также всю деревню, расположенную в пальмовой роще. Но тени стали уже удлиняться.
Сидевшие в пироге люди помахали нам рукой. Мы энергично замахали в ответ, и они налегли на весла. Это была полинезийская пирога с балансиром, и две коричневые фигуры в майках гребли, сидя лицом вперед. Теперь опять начнутся лингвистические затруднения. Из всех находившихся на плоту только я со времени моего пребывания на Фату-Хиве помнил несколько слов на диалекте жителей Маркизских островов, но полинезийский язык легко забыть из-за недостатка практики в наших северных краях.
Поэтому когда пирога ударилась о борт плота и двое островитян вскочили на палубу, мы испытали некоторое облегчение, так как один из них с широкой улыбкой на лице протянул коричневую руку и воскликнул по-английски:
— Добрый вечер!
— Добрый вечер, — в изумлении ответил я. — Вы говорите по-английски?
Мужчина снова улыбнулся и кивнул головой.
— Добрый вечер, — повторил он. — Добрый вечер.
Это был весь его запас иностранных слов, внушавший ему чувство глубокого превосходства над его более скромным приятелем, который держался на втором плане и широко улыбался в полном восхищении от ученого товарища.
— Ангатау? — спросил я, указывая в сторону острова.
— Х'Ангатау, — сказал мужчина, утвердительно кивнув головой.
Эрик гордо кивнул. Он оказался прав; мы находились там, где должны были находиться по его определениям.
— Маимаи хее иута, — попытался я начать разговор.
По тем сведениям, что я приобрел на Фату-Хиве, это должно было приблизительно означать: «Хотим высадиться на берег».
Оба островитянина указали в сторону невидимого прохода в рифе, и мы повернули рулевое весло, собираясь попытать счастья. В это мгновение с острова задули более резкие порывы ветра. Над лагуной нависла небольшая дождевая туча. Ветер угрожал унести нас прочь от рифа, и мы поняли, что с помощью рулевого весла мы не сможем заставить «Кон-Тики» лавировать против ветра под достаточно большим углом и достигнуть устья прохода в рифе. Мы попытались нащупать дно, но якорный канат оказался слишком коротким. Теперь нам оставалось прибегнуть к веслам, и притом как можно скорей, прежде чем мы очутимся во власти ветра. С молниеносной быстротой мы спустили парус, и каждый из нас вооружился большим веслом. Я хотел дать по веслу и обоим островитянам, которые стояли, наслаждаясь полученными от нас сигаретами.
Островитяне только энергично трясли головой и со смущенным видом указывали направление. Я старался знаками дать им понять, что мы все должны грести, и повторял слова. «Хотим высадиться на берег». Тогда более развитой из двух приятелей нагнулся, покрутил в воздухе правой рукой и сказал:
— Брррррррр!..
Не было никакого сомнения, что он советовал нам запустить двигатель. Островитяне думали, что они находятся на палубе какого-то необыкновенного тяжело груженного судна. Мы повели их на корму и предложили ощупать снизу бревна и убедиться, что у нас нет винта. Они были ошеломлены, вытащили изо рта сигареты и бросились к борту плота; теперь с каждой стороны сидело по четыре гребца, загребая веслами воду. В это время солнце опустилось прямо в океан за мысом, и порывы ветра с острова усилились. Похоже было на то, что мы совершенно не двигались. Островитяне с испуганным видом спрыгнули обратно в пирогу и исчезли. Стало темно, мы снова были одни и изо всех сил гребли, чтобы нас не отнесло опять в океан.
Когда мрак окутал весь остров, из-за рифа, танцуя на волнах, появились четыре пироги, и вскоре толпа полинезийцев взобралась на борт; все они хотели пожать нам руки и получить сигареты. С этими парнями на борту, хорошо знавшими местные условия, мы не подвергались никакой опасности; они не допустят, чтобы нас унесло опять в океан и чтобы мы скрылись из глаз: итак, сегодня вечером мы будем на берегу!
Мы быстро закрепили на носу «Кон-Тики» канаты, протянутые к корме каждой из пирог, и четыре устойчивые лодки с балансиром поплыли веерообразным строем, наподобие собачьей упряжки, перед деревянным плотом. Кнут спрыгнул в резиновую лодку и примкнул к упряжке, а мы с веслами в руках расположились на двух наружных бревнах «Кон-Тики». И вот впервые за все время нашего плавания началась борьба с восточным ветром, который так долго был для нас попутным.
Луна еще не взошла, стояла кромешная тьма, и дул свежий ветер. На берегу жители деревни набрали хворосту и зажгли большой костер, чтобы показать нам, в каком направлении находится проход через рифы. Мы плыли в темноте среди грохота бурунов, который напоминал беспрестанный рев водопада и на первых порах становился все громче и громче.
Мы не видели гребцов, которые тянули нас, плывя в лодках перед нами, но мы слышали, как они во все горло распевали лихие воинственные песни на полинезийском языке. Мы слышали, что Кнут был с ними, так как всякий раз, когда полинезийские мелодии стихали, до нас доносился одинокий голос Кнута, певшего норвежские народные песни в сопровождении полинезийского хора. Чтобы увеличить какофонию, и мы на плоту затянули: «У младенца Тома Брауна был прыщик на носу»; и все мы, белые и коричневые, со смехом и песнями налегали на весла.
Мы были в приподнятом настроении. Девяносто семь дней. Добрались до Полинезии. Сегодня вечером в деревне будет праздник. Островитяне весело прыгали и кричали. Суда приставали к Ангатау только раз в год, когда скупщики копры приходили на шхуне с Таити за ядрами кокосовых орехов. Поэтому сегодня вечером действительно будет праздник вокруг костра.
Но свирепый ветер продолжал упорно дуть. Мы старались так, что у нас болели все мышцы. Мы не сдавали своих позиций, но огонь костра ничуть не приближался, а грохот бурунов оставался все таким же, как и раньше. Постепенно пение замерло. Все стихло. Гребцы делали все, что могли, и даже больше. Огонь не двигался, он только прыгал вверх и вниз, когда мы поднимались и опускались на волнах. Прошло три часа, и было уже девять часов вечера. Постепенно нас стало сносить. Мы устали.
Мы дали островитянам понять, что нужна еще помощь с земли. Они объяснили нам, что на берегу народу много, но на всем острове только вот эти четыре мореходные пироги.
Тут из темноты вынырнул Кнут на своей лодке. У него появилась мысль: он может в резиновой лодке добраться до берега и привезти еще островитян. В случае необходимости в лодке могут, скрючившись, уместиться пять-шесть человек.
Это было слишком рискованно. Кнут не знал местности. В этой кромешной тьме он ни в коем случае не сможет добраться до прохода в коралловом рифе. Тогда Кнут предложил захватить с собой предводителя островитян, который мог бы указывать ему дорогу. Я считал и этот план небезопасным, так как местным жителям никогда не приходилось проводить неуклюжую резиновую лодку через узкий и опасный проход. Но я попросил Кнута привезти к нам предводителя, который греб на пироге, находившейся где-то в темноте впереди нас, чтобы узнать его мнение о создавшемся положении. Было совершенно ясно, что мы дольше не сможем удерживаться и нас отнесет назад.
Кнут исчез во мраке, отправившись на поиски предводителя. Прошло некоторое время, но Кнут с предводителем не возвращались; мы принялись громко звать их, но в ответ услышали впереди лишь разноголосые восклицания полинезийцев. Кнут исчез в темноте. Тогда мы поняли, что произошло. В спешке, шуме и суматохе Кнут неправильно понял меня и отправился вместе с предводителем к берегу. Наши крики были бесполезны, ибо там, где теперь находился Кнут, все остальные звуки заглушались грохотом разбивавшихся о преграду бурунов.
Один из нас схватил фонарь для сигнализации азбукой Морзе, быстро влез на верхушку мачты и стал передавать: «Возвращайтесь. Возвращайтесь».
Но никто не вернулся.
Два человека отсутствовали, третий все время находился на верхушке мачты, сигналя, и нас сильнее стало относить назад, и мы все больше и больше чувствовали, что на самом деле устали. Мы бросали в воду щепки и убеждались, что медленно, но верно движемся не в ту сторону, куда надо. Огонь костра уменьшился, шум бурунов стал тише. И чем дальше мы отходили от защищавшего нас пальмового леса, тем в большей власти извечного восточного ветра мы оказывались. Теперь мы опять поняли это. Теперь было почти то же, что бывало в океане. Постепенно мы осознали, что все надежды рухнули. Нас уносило в океан. Но мы должны по-прежнему грести изо всех сил. Мы должны по мере возможности замедлить движение назад, пока Кнут — живой и невредимый — не окажется вновь на плоту.
Прошло пять минут. Десять минут. Полчаса. Огонь костра продолжал уменьшаться; время от времени, когда мы оказывались между двумя волнами, он совершенно исчезал. Шум бурунов превратился в отдаленный шепот. Взошла луна; мы видели мерцание ее диска за вершинами пальм на берегу, но небо казалась подернутым туманной дымкой и было наполовину затянуто облаками.
Мы слышали, что островитяне начали перешептываться. Вдруг мы заметили, что с одной из пирог канат был сброшен в воду, а сама пирога исчезла. В остальных трех пирогах люди устали и были испуганы; они гребли уже не в полную силу. «Кон-Тики» продолжало уносить в открытый океан.
Вскоре остальные три каната ослабели, и три пироги ударились о борт плота. Один из островитян поднялся на палубу и, покачав головой, тихо сказал;
— Иута (к берегу).
Он с беспокойством посмотрел на огонь костра, который теперь подолгу не был виден и лишь время от времени вспыхивал яркой искрой. Нас быстро уносило. Буруны умолкли; только океан ревел, как обычно, и все снасти «Кон-Тики» скрипели и стонали.
Мы щедро угостили островитян сигаретами, и я наскоро нацарапал записку, которую они должны были захватить с собой и передать Кнуту, если они найдут его. В записке говорилось:
«Возьмите с собой двух островитян в пироге, а резиновую лодку приведите на буксире. Не возвращайтесь в резиновой лодке один».
Мы рассчитывали на то, что доброжелательно настроенные островитяне согласятся взять Кнута с собой в пироге, если, конечно, они вообще сочтут благоразумным пуститься в
океан; а если они решат, что это слишком опасно, то со стороны Кнута было бы безумием рискнуть поплыть в океан в резиновой лодке в надежде догнать убегающий плот.
Островитяне взяли записку, спрыгнули в пироги и исчезли в ночи. Последнее, что мы слышали, был резкий голос нашего первого приятеля, вежливо кричавшего из темноты:
— Добрый вечер!
До нас донесся одобрительный шепот его товарищей, не обладавших столь богатыми лингвистическими познаниями, а затем все смолкло; ни один звук больше не долетал до нас, словно мы все еще находились на расстоянии двух тысяч миль от ближайшей земли.
Грести нам вчетвером здесь, в открытом океане, без всякой защиты от ветра было бесполезно, но мы продолжали подавать световые сигналы с верхушки мачты. Мы больше не решались передавать «возвращайтесь»; теперь мы регулярно посылали только сноп света. Было совершенно темно. Лишь изредка луна пробивалась из-за туч. Должно быть, мы находились под поднимавшимся над Ангатау кучево-дождевым облаком.
К десяти часам мы потеряли всякую надежду снова увидеть Кнута. Мы молча сидели на краю плота и жевали галеты; по очереди мы подавали сигналы, взбираясь на мачту, которая без широкого паруса столовой Кон-Тики казалась теперь простым бревном.
Мы решили подавать сигналы всю ночь, так как не знали, где находится Кнут. Мы отказывались верить, что он погиб в бурунах. Кнут никогда не терялся, приходилось ли ему иметь дело с тяжелой водой или с бурунами; он, конечно, жив. Но как чертовски неприятно оставлять его одного среди полинезийцев на лежащем в стороне от всяких путей тихоокеанском островке. Отвратительная история! После всего нашего длинного путешествия мы только и сумели ненадолго приблизиться к уединенному островку Южного моря, высадить на него одного человека и снова отплыть. Стоило лишь первым полинезийцам, улыбаясь, явиться к нам на плот, как им пришлось поспешно убежать, чтобы не последовать за «Кон-Тики» в его диком, неудержимом стремлении на запад. Дьявольское положение. А веревки в эту ночь так ужасно скрипели. Никому из нас не хотелось спать.
Было половина одиннадцатого. Бенгт спустился с качающейся мачты, и его должен был сменить следующий. Вдруг мы все вздрогнули. В окутанном темнотой океане мы ясно услышали голоса. Вот опять. Говорили по-полинезийски. Во всю силу своих легких мы закричали в черную ночь. Послышался ответный крик; среди других голосов мы различили голос Кнута! Мы чуть не лишились рассудка от радости; усталости как не бывало; у нас словно гора свалилась с плеч. Какое имеет значение, что нас отнесло от Ангатау? В океане есть и другие острова. Теперь, когда мы все шестеро снова собрались на плоту, девять бальсовых бревен, так полюбившие путешествовать, могут плыть куда им угодно.
Три пироги с балансиром вынырнули из темноты, скользя по волнам, и Кнут первым вскочил на палубу доброго старого «Кон-Тики», а вслед за ним шесть коричневых мужчин. Объясняться было некогда; островитяне должны получить подарки и как можно скорей пуститься в опасный путь обратно к острову. Огня на берегу не было видно, на небе почти ни одной звезды; им придется в темноте грести против ветра и волн, пока они не увидят света костра. Мы щедро наделили их продуктами, сигаретами и другими подарками, и каждый из них при прощании горячо пожал нам руку.
Островитяне выражали явное беспокойство о нас; они указывали на запад, давая нам понять, что мы движемся в сторону опасных рифов. Предводитель со слезами на глазах нежно поцеловал меня в подбородок, что заставило меня поблагодарить провидение за свою бороду. Затем они сели в пироги, а мы шестеро остались на плоту снова вместе и снова одни.
Мы предоставили плот самому себе и стали слушать рассказ Кнута.
Предполагая, что он выполняет мое поручение, Кнут плыл в лодке к берегу вместе с предводителем островитян. Тот, орудуя маленькими веслами, греб по направлению к проходу в рифе. Вдруг Кнут, к своему удивлению, увидел световые сигналы с «Кон-Тики», предлагавшие ему вернуться. Он знаками дал понять гребцу, что надо повернуть, но тот не послушался; тогда Кнут сам схватился за весла, но островитянин вырвал их; вокруг уже грохотали буруны, и вступать в борьбу было бессмысленно. Лодка проскочила через проход в рифе и пошла по ту сторону его, пока волна не вынесла ее на большую коралловую глыбу на самом острове. Толпа полинезийцев схватила резиновую лодку и вытащила ее высоко на берег, а Кнут стоял один под пальмами, окруженный огромной толпой островитян, болтавших на каком-то непонятном языке. Коричневые, с голыми ногами мужчины, женщины и дети всех возрастов обступили его и ощупывали материал его рубашки и брюк. Сами они были одеты в старые истрепанные костюмы европейского фасона, но белых людей на острове не было.
Кнут отобрал нескольких самых проворных на вид парней и знаками предложил им отправиться вместе с ним в резиновой лодке. Но тут, переваливаясь, подошел какой-то большой жирный мужчина; Кнут решил, что это вождь, так как он носил старую форменную фуражку и разговаривал громко и авторитетно. Все расступались перед ним. Кнут объяснил по-норвежски и по-английски, что ему нужны люди, чтобы вернуться на плот, пока его не унесло. Вождь сиял улыбкой, но ничего не понял, и вся толпа с криками потащила Кнута, несмотря на его самые горячие протесты, в деревню. Там его встретили собаки и свиньи; хорошенькие девушки Южного моря принесли ему свежие фрукты. Было ясно, что островитяне старались сделать пребывание Кнута на острове как можно более приятным, но Кнут не поддавался соблазну; он с грустью думал о плоте, который уплывал куда-то на запад.
Намерения островитян были очевидны. Они жаждали нашего общества, и они знали, что обычно на судне белых людей имеется куча хороших вещей. Если бы им удалось удержать Кнута на берегу, то и остальной экипаж странного судна, конечно, также явился бы. Ни один корабль не покинет белого человека на стоящем в стороне от морских путей острове.
После ряда забавных эпизодов Кнуту удалось уйти, и, окруженный поклонниками обоего пола, он быстро направился к своей лодке. Его слова на всех известных ему языках и жесты были совершенно недвусмысленные; островитяне поняли, что Кнут должен вернуться и вернется на скрывшееся где-то в ночи странное судно, которое так спешило, что должно было без задержки двигаться дальше.
Тогда островитяне пошли на хитрость: они знаками объяснили Кнуту, что остальные его товарищи пристали к острову по другую сторону мыса. Несколько минут Кнут не знал, что делать, но тут на берегу, где женщины и дети поддерживали костер, послышались громкие голоса. Это вернулись три пироги, и гребцы принесли Кнуту записку. Он оказался в отчаянном положении. В записке было распоряжение не выходить в океан одному, а все островитяне решительно отказывались отправиться с ним.
Среди полинезийцев разгорелся ожесточенный громкий спор. Те, кто выходил на пирогах и видел плот, прекрасно понимали, что задерживать Кнута в надежде заполучить на берег и остальных совершенно бесполезно. Кончилось тем, что обещания и угрозы Кнута, для выражения которых он прибегнул к общепонятному языку жестов, побудили экипаж трех пирог согласиться отправиться с ним в океан вдогонку за «Кон-Тики». И они пустились в окутанный тропической ночью океан, ведя на буксире танцевавшую на волнах резиновую лодку, а островитяне неподвижно стояли у угасавшего костра и смотрели вслед своему новому белокурому другу, который так же быстро исчез, как и появился.
Когда пироги поднимались на волнах, Кнут и его спутники видели далеко в океане тусклые световые сигналы с плота. Длинные, узкие полинезийские пироги, снабженные для устойчивости заостренными балансирами, разрезали воду, как ножи, но Кнуту показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он опять почувствовал под ногами толстые круглые бревна «Кон-Тики».
— Хорошо провели время на берегу? — с завистью спросил Торстейн.
— О, если бы вы только видели девушек-островитянок! — поддразнил его Кнут.
Мы не стали поднимать парус и спускать весло за борт, а забрались все шестеро в бамбуковую каюту и спали, как коралловые глыбы на берегу Ангатау. В течение трех дней мы плыли по океану, не видя никакой земли.
Нас несло прямо к зловещим рифам, которые окружали острова Такуме и Рароиа и на протяжении 40–50 миль перегораживали океан впереди нас. Мы предпринимали отчаянные попытки избежать этих опасных рифов, пройдя севернее; все шло как будто бы хорошо, пока однажды ночью вахтенный не вбежал в каюту и не вызвал нас всех на палубу.
Ветер переменился. Нас несло прямо на риф Такуме. Начался дождь, и видимость была очень плохая. До рифа оставалось недалеко.
Среди ночи мы собрали военный совет. Теперь дело шло о спасении жизни. Обогнуть риф с севера не было уже никакой надежды, мы должны попытаться пройти с южной стороны. Мы подтянули парус, повернули весло и пустились в опасное плавание, имея за кормой неустойчивый северный ветер. Если восточный ветер снова задует до того, как мы успеем миновать весь длинный пятидесятимильный барьер рифов, мы очутимся среди бурунов в полной их власти.
Мы договорились обо всем, что надо будет предпринять, если авария станет неизбежной. Во что бы то ни стало мы должны оставаться на борту «Кон-Тики». Мы не должны взбираться на мачту, откуда нас стряхнет, как гнилые фрукты, а должны крепко держаться за шкоты и ванты мачты, когда волны будут перекатываться через нас. Мы положили на палубу ничем не закрепленный резиновый плот и привязали к нему маленький водонепроницаемый радиопередатчик, небольшое количество продовольствия, бутылки с водой и запас медикаментов. Резиновый плот прибьет к берегу независимо от нас, и он очень пригодится, если нам самим удастся благополучно, но с пустыми руками перебраться через риф. На корме «Кон-Тики» мы привязали длинную веревку с буем, который также будет прибит к берегу; с ее помощью мы сможем попытаться подтянуть деревянный плот, если он застрянет на рифе. После этого мы легли спать.
Пока дул северный ветер, мы медленно, но верно скользили вдоль барьера коралловых рифов, скрывавшихся в засаде за горизонтом. Но вот как-то после полудня ветер стих, а когда он возобновился, то дул уже с востока. По определению Эрика, мы в это время забрались уже так далеко на юг, что имелась некоторая надежда миновать самую южную оконечность рифа Рароиа. Мы должны попытаться обогнуть ее и укрыться за ней, прежде чем направиться дальше, к следующим рифам.
Когда наступил вечер, исполнилось сто дней нашего плавания по океану. Поздно ночью я проснулся с каким-то странным тревожным чувством. Было что- то необычное в движении волн. Ход «Кон-Тики» был совсем не таким, каким он должен был бы быть в этих условиях. Мы стали очень чувствительны к изменениям в ритме движения бревен. Я сразу же подумал о явлениях обратного движения воды от берега, к которому мы приближались, и то и дело выходил на палубу и взбирался на мачту. Ничего не было видно, кроме океана. Но я не мог спокойно спать. Время шло.
На рассвете, около шести часов, Торстейн поспешно спустился с верхушки мачты. Далеко впереди он увидел целый ряд маленьких, поросших пальмами островов. Первым делом мы повернули рулевое весло так, чтобы нос плота отвернул как можно больше к югу. То, что видел Торстейн, были, вероятно, маленькие коралловые острова, которые, подобно нанизанным на нитку жемчужинам, лежат позади рифа Рароиа. Должно быть, нас подхватило течение, шедшее к северу.
В 7 часов 30 минут цепь поросших пальмами островов показалась вдоль всего горизонта к западу. Самый южный из них находился примерно впереди по нашему курсу; таким образом, вдоль всего горизонта справа от нас тянулись острова с купами пальм, к северу превращавшиеся в крохотные точки. До ближайшего острова было четыре или пять миль.
Осмотр с вершины мачты показал, что хотя нос плота направлен к крайнему острову в цепи, боковой снос был настолько велик, что мы шли не в том направлении, какое указывал нос. Мы двигались по диагонали прямо к рифу. Если бы кили были закреплены, у нас осталась бы еще какая-то надежда проскочить. Но акулы плыли за самой кормой плота, и мы не могли нырнуть под плот и укрепить болтавшиеся кили новыми канатами.
Мы поняли, что нам осталось провести на «Кон- Тики» лишь несколько часов. Их следовало использовать для подготовки к неизбежному крушению на коралловом рифе. Мы решили, что должен делать каждый из нас, когда этот момент наступит; каждый знал круг своих обязанностей; мы не будем метаться, наступая друг другу на ноги, когда катастрофа наступит и счет будет идти на секунды. «Кон-Тики» поднимался и опускался, а ветер нес нас на риф. Уже не было сомнения, что беспорядочное нагромождение волн впереди нас вызвано рифами — часть волн шла вперед, а другие, разбившись о вставшую на их пути преграду, стремительно откатывались назад.
Мы все еще шли с развернутым парусом в надежде, что даже теперь нам удастся проскользнуть мимо рифов. Когда сносимый течением плот постепенно стал приближаться к ним, мы увидели с мачты, что вся цепь поросших пальмами островков соединена коралловыми рифами, местами выступавшими над водой, а местами скрытыми под нею; эти рифы казались чем-то вроде мола, о который волны разбивались, крутясь белой пеной и высоко вздымаясь в воздух. Овальный атолл Рароиа имеет в диаметре 25 миль, не считая примыкающих рифов Такуме. Вся его более длинная сторона тянулась с севера на юг, и мы приближались к ней с востока. Сам риф, простиравшийся сплошной линией от горизонта до горизонта, отстоял от нас всего на несколько сот метров, а за ним лежали идиллические островки, кольцом окружавшие тихую внутреннюю лагуну.
Со смешанным чувством наблюдали мы, как вдоль всего горизонта перед нами синие волны Тихого океана взлетали высоко в воздух и разлетались мелкими брызгами. Я знал, что нас ожидало; я раньше бывал на архипелаге Туамоту и, стоя в безопасности на берегу, наблюдал за грандиозным зрелищем на востоке, где прибой открытого океана разбивался о рифы. В южном направлении продолжали постепенно показываться все новые рифы и острова. Мы, должно быть, находились у самой средины кораллового барьера.
На «Кон-Тики» все было подготовлено к окончанию путешествия. Все ценное было снесено в каюту и привязано. Документы и дневники мы запаковали в непромокаемые мешки вместе с пленками и другими вещами, которые могли пострадать от воды. Бамбуковую каюту мы покрыли брезентами и привязали их особо прочными веревками. Когда мы поняли, что никаких надежд не осталось, мы вскрыли бамбуковую палубу и ножами-мачете перерезали все веревки, которые удерживали кили под плотом. Вытащить кили было нелегко, так как они обросли толстым слоем ракушек. Когда нам это удалось, мы тем самым уменьшили осадку плота; она равнялась теперь только толщине нижней части бревен, и нас легче могло перенести через риф. Лишенный килей, со спущенным парусом, плот окончательно повернулся боком и находился всецело во власти ветра и волн.
Самую длинную из имевшихся у нас веревок мы привязали к самодельному якорю и прикрепили ее к основанию левой мачты; когда якорь будет брошен за борт, «Кон-Тики» вступит в полосу прибоя кормой вперед. Сам якорь состоял из пустых бидонов для воды, наполненных негодными батареями от радиопередатчика и металлическим ломом; из бидонов крест- накрест торчали толстые палки мангрового дерева.
Приказ номер один, который был первым и последним, гласил: «Оставаться на плоту!» При любых обстоятельствах мы должны крепко цепляться за что попало на борту плота и предоставить девяти большим бревнам выдерживать давление рифов. У нас самих будет вполне достаточно дела, когда нам придется сопротивляться напору воды. Если мы прыгнем за борт, мы станем беспомощными жертвами водоворотов, которые будут бросать нас взад и вперед через острые коралловые скалы. Резиновый плот на крутых волнах опрокинется или же разорвется в клочья о рифы, так как под нашей тяжестью он будет глубоко сидеть в воде. Но деревянные бревна раньше или позже будут выброшены на берег, и мы вместе с ними, если только нам удастся продержаться.
Затем всему экипажу было предложено надеть ботинки — в первый раз за сто дней — и иметь наготове спасательные пояса. От последних, впрочем, проку будет мало; если кто-нибудь свалится в воду, то он не утонет, а его будет ударять о рифы, пока не разобьет насмерть. У нас оставалось еще время, чтобы положить в карманы паспорта и немного уцелевших долларов. Но нас беспокоил не недостаток времени.
Наступили тревожные часы, когда мы беспомощно плыли боком, шаг за шагом приближаясь к рифу. На плоту было на редкость тихо; мы все, молча или обмениваясь лаконичными фразами, то влезали в каюту, то снова выходили на бамбуковую палубу и занимались своим делом. Серьезное выражение наших лиц доказывало, насколько хорошо все понимали, что нас ожидает, а отсутствие нервозности свидетельствовало о непоколебимой вере в плот, которую мы все постепенно приобрели. Если он перенес нас через океан, то он доставит нас живыми и на берег.
В каюте, забитой привязанными коробками с продуктами и другим грузом, царил полнейший хаос. Торстейну с трудом удалось освободить для себя место в радиорубке, где оставался коротковолновый передатчик, на котором он продолжал работать. Мы теперь находились на расстоянии свыше 4 тысяч миль от нашей старой базы в Кальяо, откуда Перуанское военно-морское училище поддерживало с нами постоянную связь, и еще дальше — от Гала и Френка и других радиолюбителей в Соединенных Штатах. Но по воле случая накануне мы установили связь с завзятым любителем-коротковолновиком, который жил на Раротонге, одном из островов архипелага Кука; наши радисты, вопреки всем обыкновениям, договорились опять связаться с ним рано утром. И все время, пока нас ближе и ближе сносило к рифу, Торстейн сидел, стуча ключом, и вызывал Раротонгу.
Записи в судовом журнале «Кон-Тики» гласят:
«8.15. Мы медленно приближаемся к земле. Теперь мы уже различаем невооруженным глазом отдельные пальмы с правого борта.
8.45. Ветер отклонился в еще более неблагоприятном для нас направлении, так что никакой надежды миновать риф нет. На плоту никакой нервозности, но на палубе идут лихорадочные приготовления. На рифе перед нами виднеется что-то, напоминающее остов разбитого парусника, но, может быть, это только куча плавника.
9.45. Ветер несет нас прямо на предпоследний остров, но на пути нас ждет риф. Теперь мы ясно видим весь коралловый риф; здесь он представляет собой испещренный белым и красным барьер, который выступает из воды и опоясывает все острова. Вдоль всего рифа белый пенящийся прибой взлетает к небу. Бенгт подает нам хороший горячий завтрак — последнюю нашу трапезу перед великим событием! На рифе лежит остов разбитого судна. Мы подошли теперь так близко, что видим за рифом сверкающую лагуну и можем различить очертания других островов по ту сторону ее».
Когда эта запись была окончена, глухое ворчание бурунов снова приблизилось; оно раздавалось вдоль всего рифа и наполняло воздух чем-то вроде тревожной барабанной дроби, которая возвещала приближение волнующего конца плавания.
«9.50. Теперь совсем близко. Нас несет вдоль рифа. До него всего около ста метров. Торстейн разговаривает с человеком с Раротонги. Все готово. Теперь пора упаковать журнал. Все настроены бодро: кажется, дело плохо, но мы преодолеем и эту преграду!»
Спустя несколько минут якорь полетел на борт и зацепился за дно; «Кон-Тики» описал полукруг и повернулся кормой к бурунам. Якорь удерживал нас в течение нескольких бесценных минут, пока Торстейн, как сумасшедший, выстукивал ключом. Ему опять удалось связаться с Раротонгой. Буруны грохотали, и океан-яростно вздымался и опускался. Весь экипаж был занят на палубе, а Торстейн вел разговор. Он сообщил, что нас несет на риф Рароиа. Он попросил Раротонгу слушать нас на той же волне каждый час. Если по истечении 36 часов от нас не поступит никаких известий, пусть Раротонга поставит в известность норвежское посольство в Вашингтоне. Последние слова Торстейна были: «О'кэй. Осталось 50 метров. Начинается. До свидания». Затем он выключил радиостанцию, Кнут запечатал документы, и оба поспешили выбраться на палубу и присоединиться к остальным, так как стало уже ясно, что якорь начинает сдавать.
Волны становились все выше и выше, а впадины между ними все глубже, и мы чувствовали, как плот бросало вверх и вниз, вверх и вниз все сильней и сильней. Я прокричал прежний приказ:
— Держитесь, не думайте о грузе, держитесь!
Мы были теперь так близко к низвергающемуся водопаду, что больше не слышали беспрерывного настойчивого рева вдоль всего рифа. Теперь мы слышали только отдельные громовые раскаты каждый раз, как ближайший бурун с грохотом налетал на скалы.
Все стояли наготове; каждый крепко ухватился за веревку, которую он считал более надежной. Только Эрик в последний момент полез в каюту; он не успел еще выполнить одного пункта программы — он не нашел своих ботинок!
Никто не стоял на корме, так как именно кормой плот должен был удариться о риф. Не были надежны и два прочных штага, которые шли от верхушки мачты к корме; если мачта рухнет, то те, кто будет держаться за них, окажутся висящими за плотом над рифом. Герман, Бенгт и Торстейн влезли на ящики, привязанные перед стеной каюты; Герман вцепился в оттяжки, шедшие от конька крыши, а двое других держались за свисающие с мачты шкоты, с помощью которых мы когда-то ставили парус. Кнут и я предпочли штаг, который шел от носа к верхушке мачты; если даже мачта, каюта и все остальное полетит за борт, думали мы, все-таки веревка, идущая от носа, останется на плоту, так как мы были обращены теперь носом к волнам.
Когда мы поняли, что находимся во власти волн, мы обрезали якорный канат, и нас понесло. Волна поднялась прямо под нами, и мы почувствовали, как «Кон-Тики» взлетает в воздух. Наступил решающий момент; мы мчались с захватывающей дух скоростью на гребне волны, и наше расшатанное судно скрипело и стонало, содрогаясь под ногами. От возбуждения в нас бурлила кровь. Я помню, что, не придумав ничего лучшего, я махал рукой и во все горло орал «ура». Это доставляло некоторое облегчение и, во всяком случае, не причиняло вреда. Мои товарищи, конечно, думали, что я сошел с ума, но и они все сияли восторженными улыбками. Мы продолжали нестись вперед с бешено мчавшейся волной; это было боевое крещение «Кон-Тики»; все должно быть в порядке и будет в порядке.
Но наше приподнятое настроение вскоре упало. Позади сверкающей стеной из зеленого стекла высоко поднялась новая волна; когда плот опускался, она уже накатывалась на нас, и в то самое мгновение, как я увидел ее высоко над собой, я почувствовал сильный удар, и потоки воды покрыли меня с головой. Я чувствовал, как все мое тело с такой огромной силой засасывает в водоворот, что вынужден был напрячь каждый мускул и все время думать об одном — держаться, держаться! Мне кажется, что в таком отчаянном положении скорей руки оторвутся от плеч, чем мозг даст команду разжать пальцы, хотя бы результат такого упорства представлялся совершенно очевидным. Затем я почувствовал, что гора воды стала уходить, и мое тело освободилось от дьявольской хватки. Когда вся гора с оглушительным ревом и грохотом пронеслась дальше, я снова увидел Кнута, который висел рядом со мной, вцепившись в веревку и скрючившись. Сзади большая волна казалась почти плоской и серой; мчась вперед, она перекатилась через конек крыши каюты, выступавший над водой; там мы увидели трех наших товарищей, которые висели, прижатые к крыше каюты прошедшей над ними волной.
Мы все еще держались на воде.
Я расслабил на одно мгновение мышцы, а затем снова обхватил руками и ногами крепкую веревку. Кнут соскользнул вниз и, прыгнув, как тигр, присоединился к тем, кто стоял на ящиках под защитой каюты. Я услышал их подбадривающие крики, но в тот же момент увидел новую зеленую стену, которая встала из океана и, высоко вздымаясь, двигалась на нас. Я предостерегающе закричал и, вися на веревке, сжался в возможно более маленький и твердый комок. А в следующую секунду над нами снова был ад, и «Кон-Тики» совершенно исчез под массой воды. Волна тащила и толкала меня, со всей своей силой обрушиваясь на несчастный маленький комок человеческого тела. Вторая волна промчалась над нами, а затем третья — такая же.
Тут я услышал торжествующий крик Кнута, который теперь висел на веревочной лестнице:
— Взгляните на плот, он держится!
После трех волн только двойная мачта и каюта чуть покосились. Снова нас охватило чувство торжества над стихиями, и возбуждение от победы придало нам новые силы.
Затем я увидел следующую волну, которая, вздымаясь выше всех остальных, двигалась на нас, и, снова криком предупредив остальных, поспешно взобрался как можно выше на штаг и крепко повис на нем. Затем меня отнесло куда-то в сторону, и я исчез среди зеленой стены, которая высоко возвышалась над нами; товарищи; находившиеся дальше к корме и видевшие, как я исчез первым, определили высоту волны почти в восемь метров, а пенящийся гребень летел на пять метров выше той части водяной стены, в которой я исчез. Затем огромный вал настиг и их, и у всех нас была одна мысль — держаться, держаться, держаться!
На этот раз мы, должно быть, ударились о риф. Сам я чувствовал только, как изменилось натяжение штага, который, казалось, то резко изгибался, то вдруг ослабевал. Но, вися на нем, я не мог сказать, откуда доносился грохот ударов — сверху или снизу. Мы находились под водой лишь несколько секунд, но они потребовали от нас такой силы, какой в обычных условиях наше тело не обладает. В человеческом организме заключена сила, превышающая силу одних только мышц. Я решил, что если мне суждено умереть, то я умру в этом положении, повиснув узлом на штаге. Волна с грохотом налетела, пронеслась над нами и ушла, и когда ее рев слышался уже где-то рядом, мы увидели ужасное зрелище. «Кон-Тики» совершенно преобразился, как по мановению волшебной палочки. Того судна, которое мы знали в океане на протяжении недель и месяцев, больше не существовало; за несколько секунд наш уютный дом был разбит вдребезги, превратился в развалины.
На плоту я увидел только одного человека. Он лежал плашмя поперек конька крыши каюты, лицом вниз, вытянув руки в стороны, сама каюта была смята, как карточный домик, и сдвинулась к корме и правому борту. Этой неподвижной фигурой был Герман. Никаких других признаков жизни я не заметил, а горы воды продолжали с ревом мчаться рядом через риф. Тяжелая правая мачта была сломана, как спичка, и верхняя часть ее при падении продавила крышу каюты так, что теперь мачта со всеми снастями низко нависла над рифом с правой стороны. На корме рулевую колоду повернуло вдоль, а ронжину сломало; рулевое весло разбилось на куски. На носу фальшборт был сломан, как ящик из-под сигар, а вся палуба сорвана и, как мокрая бумага, прижата вместе с ящиками, бидонами, брезентами и другим грузом к передней стене каюты. Бамбуковые палки и обрывки веревок торчали повсюду, и все вместе производило впечатление полного хаоса.
Я весь похолодел от ужаса. Какой толк в том, что я выдержал? Если я потеряю хоть одного из товарищей здесь, у самой цели, все пойдет прахом; а сейчас, после последней схватки с волнами, я видел только одного человека. В это мгновение за бортом плота показалась скрюченная фигура Торстейна. Он висел, как обезьяна, на снастях мачты; ему удалось снова влезть на бревна и ползком взобраться на обломки, нагроможденные перед каютой. Теперь и Герман повернул голову и заставил себя улыбнуться, чтобы успокоить меня; но он не двигался. Я громко закричал в слабой надежде обнаружить местонахождение остальных и услышал спокойный голос Бенгта, который ответил, что вся команда на борту. Они лежали, держась за веревки, позади баррикады из упругого настила палубы, который переплелся самым причудливым образом.
Все это произошло в течение нескольких секунд, когда «Кон-Тики» обратным течением выносило назад из кромешного ада. Новая волна надвигалась на него. В последний раз я крикнул во все горло, стараясь перекрыть грохот: «Цепляйтесь!» — и это было все, что оставалось делать и мне; я повис на веревке и исчез под массой воды, которая нахлынула и пронеслась в течение двух-трех секунд, казавшихся бесконечными. Я чувствовал, что мои силы иссякают. Я видел, как концы бревен с шумом ударялись об острый уступ кораллового рифа, но не могли перебраться через него. Затем нас опять вынесло назад. Я видел также двух человек, которые лежали, распростершись поперек конька крыши, но никто из нас больше не улыбался. Я услышал, как позади хаотической груды бамбука спокойный голос произнес:
— Дело не пойдет.
Я и сам чувствовал себя обескураженным. Так как верхушки мачты все больше и больше наклонялась над правым бортом, я оказался висящим за плотом на слабо натянутой веревке. Надвигалась следующая волна. Когда она прошла, я почувствовал себя смертельно усталым, и у меня было одно желание: взобраться на бревна и улечься позади баррикады. Когда обратная волна отступила, я в первый раз увидел обнажившийся зубчатый красный риф под нами и заметил, что Торстейн, согнувшись пополам, стоит на блестящих красных кораллах и держится за пучок оборванных веревок, свисавших с мачты. Кнут, который стоял на корме, собирался также спрыгнуть. Я закричал, что все должны оставаться на бревнах, и Торстейн, которого унесло за борт напором воды, с ловкостью кошки прыгнул обратно на плот.
Еще две или три волны прокатились над нами, но они были не такие сильные. Что тогда происходило, я не знаю; я помню только, что вода, пенясь, налетала и отступала, а я сам опускался все ниже и ниже к красному рифу, на котором мы засели. Затем до нас стали долетать только крутящиеся гребни пены, пропитанной солеными брызгами, и я оказался в состоянии взобраться на плот; там мы все перешли на кормовой конец бревен, который выше всего выступал над рифом.
В это мгновение Кнут согнулся и прыгнул на риф, держа в руке свободный конец веревки, которая лежала на корме. Пока обратная волна отступала, он пробежал, пригнувшись, около тридцати метров по рифу и спокойно стоял, держась за конец веревки, когда следующая волна с пеной устремилась к нему, разбилась и широким потоком отхлынула обратно от плоского рифа.
Затем из полуразрушенной каюты выполз Эрик, ботинки были на нем. Если бы все поступили, как он, мы отделались бы дешево. Так как каюту не унесло за борт, а она оказалась придавленной и почти расплющенной под закрывавшими ее сверху брезентами, Эрик спокойно лежал, вытянувшись среди груза; он слышал, как над ним то и дело грохотали оглушительные раскаты, и видел, как пригибались книзу смятые бамбуковые стены. Когда упала мачта, Бенгт получил легкое сотрясение мозга, но ему удалось вползти в разрушенную каюту и улечься рядом с Эриком. Нам всем следовало бы лежать там, если бы мы могли заранее знать, как крепко будут держаться бесчисленные веревки и бамбуковое плетение, прижатые к основным бревнам давлением воды.
Эрик стоял наготове на кормовых бревнах, и, когда волна отхлынула, он подпрыгнул и также перебрался на риф. Следующая очередь была Германа, затем Бенгта. Каждый раз плот подталкивало чуть-чуть дальше, и, когда настала очередь Торстейна и моя, плот уже так прочно сидел на рифах, что не было необходимости покидать его. Все приступили к спасательным работам.
Мы теперь находились в двух десятках метров от того дьявольского уступа рифа, около которого и за которым разбивались катившиеся один за другим длинные валы бурунов. Коралловые полипы позаботились о том, чтобы построить атолл таким высоким, что лишь самые верхушки бурунов могли перелетать мимо нас и пополнять свежей морской водой лагуну, изобиловавшую рыбой. Здесь, с внутренней стороны рифа, было царство кораллов, и они отличались самой причудливой формой и окраской.

Отойдя на порядочное расстояние вдоль рифа, мои товарищи обнаружили резиновый плот, который лежал, покачиваясь, наполненный водой. Они вылили из него воду и подтащили его обратно к разбитому плоту; тут мы до отказа нагрузили его самым необходимым — радиостанцией, продовольствием и бутылями с водой. Все это мы перетащили через риф и сложили в кучу на самую верхушку огромной коралловой глыбы, которая одиноко возвышалась на внутренней стороне рифа, напоминая огромный метеорит. Затем мы отправились обратно к месту крушения за новым грузом. Разве могли мы знать, какой вышины достигнут волны, когда на нас устремятся приливные течения?
На мелководье с внутренней стороны рифа мы заметали какой-то предмет, ярко блестевший на солнце. Когда мы вброд подошли, чтобы поднять его, мы увидели, к нашему удивлению, две пустые консервные банки. Это оказалось не совсем то, на что мы надеялись; еще больше мы поразились, когда увидели, что маленькие банки были совершенно светлые и лишь недавно открыты, а этикетки на них с надписью «ананас» были в точности такие, как на банках из новых полевых рационов, которые мы сами испытывали по поручению интендантского управления. Конечно, это были наши собственные банки из-под ананасов, выброшенные после последней трапезы на борту «Кон-Тики». Мы все время плыли вслед за ними до самого рифа.
Мы стояли на острых шероховатых коралловых глыбах и, ступая по неровному дну, брели в воде то по щиколотку, то по грудь — в зависимости от глубины русел и каналов среди рифов. Анемоны и кораллы придавали всему рифу вид какого-то скалистого сада с мхами, кактусами и окаменелыми растениями, красными, зелеными, желтыми и белыми. Все цвета были здесь представлены либо кораллами, либо водорослями, либо раковинами и морскими моллюсками, либо фантастическими рыбами, которые извивались повсюду вокруг нас. В более глубоких каналах в прозрачной воде мы видели небольших акул длиною в метр с лишним, подкрадывавшихся к нам. Но стоило шлепнуть по воде ладонью, как они поворачивали в сторону и отплывали на почтительное расстояние.
Там, где мы были выброшены на риф, нас окружали лишь лужи воды с кое-где выступавшими островками влажных кораллов, а дальше простиралась спокойная синяя лагуна. Шел отлив, и все новые коралловые островки выступали из воды, а прибой, беспрерывно грохотавший вдоль рифа, стал ниже, как бы опустившись на один этаж. Что произойдет здесь, на узком рифе, когда начнется прилив, трудно было сказать. Нам надо уходить.
Риф, напоминая наполовину погруженную в воду крепостную стену, тянулся к северу и к югу от нас. У южного края виднелся длинный остров, густо поросший лесом из пальм. А к северу, вблизи от нас, на расстоянии 600–700 метров находился другой, но значительно меньший остров, также поросший пальмами. Он лежал с внутренней стороны рифа; верхушки пальм поднимались к небу, а белоснежные песчаные пляжи спускались к тихой лагуне. Весь островок походил на огромную зеленую корзину цветов или на миниатюрный рай. На этом острове мы и остановили свой выбор.
Герман стоял рядом со мной, и широкая улыбка сияла на его бородатом лице. Он не произнес ни слова, только протянул руку и тихо засмеялся. «Кон-Тики» все еще сидел на наружной стороне рифа, и брызги прибоя перелетали через него. Он был инвалидом, но почетным инвалидом. На палубе все было исковеркано, но девять бальсовых бревен из киведских джунглей в Эквадоре были по-прежнему совершенно целы. Они спасли нам жизнь. Океан поживился немногим из нашего груза, а то, что мы сложили внутри каюты, осталось в полной сохранности. Мы сами сняли с плота все, что представляло какую-нибудь ценность, и теперь наше имущество лежало в безопасности на вершине огромной накаленной солнцем скалы на внутренней стороне рифа.
С тех пор как я спрыгнул с плота, мне поистине не хватало наших лоцманов, которые раньше скользили в воде впереди нас. Теперь большие бальсовые бревна лежали поверх рифа, погруженные в воду на каких-нибудь 15 сантиметров, и под носом плота извивались коричневые морские моллюски. Лоцманы исчезли. Золотые макрели исчезли. Лишь неизвестные плоские рыбы с павлиньей окраской и тупым хвостом деловито скользили взад и вперед между бревнами. Мы прибыли в новый мир. Юханнес покинул свою дыру. Он, без сомнения, нашел здесь другое убежище.
Я в последний раз осмотрелся на плоту и заметил крошечную пальму в сплющенной корзине. Из глазка кокосового ореха выступал стебель длиной в 45 сантиметров, а снизу торчали два корня. Я зашагал вброд к острову, держа в руке этот орех. За несколько шагов впереди от себя я увидел Кнута, который весело брел по воде к берегу, держа под мышкой модель плота; он смастерил ее во время путешествия, затратив немало времени. Вскоре мы обогнали Бенгта. Он был превосходный эконом. С шишкой на лбу, с мокрой бородой, с которой капала морская вода, он шел согнувшись и подталкивал ящик, который принимался танцевать перед ним всякий раз, как в лагуну попадал поток воды от разбившихся у наружной стороны рифа бурунов. Он гордо приоткрыл крышку ящика. Это был кухонный ящик, а в нем примус и кухонные принадлежности в полном порядке.
Я никогда не забуду этого перехода по рифам к чудесному острову, поросшему пальмами, который становился все больше по мере того, как мы приближались к нему. Когда я добрался до солнечного песчаного берега, я сбросил ботинки и шел, зарываясь пальцами ног в теплый, абсолютно сухой песок. Мне как бы доставлял наслаждение вид каждого следа, оставшегося на девственном песчаном берегу, уходившем вверх к пальмовой роще. Вскоре кроны пальм сомкнулись над моей головой, а я все шел вперед к центру крошечного острова. Зеленые кокосовые орехи висели под макушками пальм, а какие-то пышные кусты были густо усеяны белоснежными цветами, которые пахли так сладко и упоительно, что у меня стала кружиться голова. Две совершенно ручные крачки порхали над моими плечами. Они были такие белые и легкие, что напоминали крохотные вытянутые облачка. Маленькие ящерицы выскальзывали из-под ног; самыми главными обитателями острова были большие кроваво-красные раки-отшельники, медленно ползавшие во всех направлениях с украденными раковинами улиток величиной с яйцо, в которых была спрятана их мягкая задняя половина тела.
Я был совершенно потрясен. Я стал на колени и запустил пальцы глубоко в сухой теплый песок.
Путешествие окончилось. Мы все были живы. Мы высадились на маленький необитаемый остров Южного моря. И что за остров! Торстейн подошел ко мне, сбросил мешок, растянулся на песке и, лежа на спине, смотрел на верхушки пальм и на легких, как пушинки, белых птиц, которые бесшумно кружились над нами. Вскоре мы все шестеро лежали здесь. Герман, всегда полный энергии, вскарабкался на небольшую пальму и сбросил гроздь зеленых кокосовых орехов. Нашими ножами-мачете мы срезали их мягкие верхушки, как будто это были яйца, и, запрокинув головы, стали пить самый восхитительный в мире освежающий напиток — сладкое холодное молоко молодого, незрелого плода кокосовой пальмы. С наружной стороны рифа снова доносился монотонный барабанный бой стражи, охранявшей «ворота рая».
— В чистилище было несколько сыровато, — сказал Бенгт, — но рай примерно таков, каким я его себе представлял.
Мы блаженно растянулись на земле и улыбались белым пассатным облакам, проплывавшим на запад высоко над вершинами пальм. Теперь мы больше не следовали беспомощно за облаками; теперь мы лежали на твердой земле неподвижного острова, в настоящей Полинезии.
И пока мы лежали, растянувшись, буруны у рифа грохотали, как поезд, — туда и сюда, туда и сюда, вдоль всего горизонта.
Бенгт был прав: мы попали в рай.

Глава 8
СРЕДИ ПОЛИНЕЗИЙЦЕВ
Немножко робинзонады. — Мы боимся, что нас начнут искать. — Все в порядке, «Кон-Тики»! — Остатки еще одного кораблекрушения. — Необитаемые острова. — Сражение с морскими угрями. — Полинезийцы находят нас. — Духи на рифе. — Посол к вождю. — Вождь навещает нас. — «Кон-Тики» опознан. — Высокий прилив. — Путешествие нашего судна по суше. — Вчетвером на острове. — Островитяне приезжают за нами. — Прием в деревне. — Предки из страны, где восходит солнце. — Полинезийские пляски. — Лечение по эфиру. — Мы получаем королевские имена. — Еще одно кораблекрушение. — «Тамара» спасает «Маоае». — На Таити. — Встреча на набережной. — Нас принимают с почетом. — Шесть венков.
Наш островок был необитаемым. Скоро мы уже знали каждую купу пальм и каждый участок берега, так как остров имел в поперечнике около 200 метров. Самая высокая точка лежала меньше чем на два метра над уровнем лагуны.
Над нашими головами на верхушках пальм висели большие гроздья зеленых кокосовых орехов, толстая скорлупа которых предохраняла содержавшееся внутри холодное молоко от тропического солнца, так что в течение первых недель мы не будем испытывать жажды. Имелись также спелые кокосовые орехи, полчища раков-отшельников, а в лагуне — рыба всевозможных сортов; у нас ни в чем не будет недостатка.
На северном берегу острова мы нашли остатки старого некрашеного деревянного креста, наполовину засыпанного коралловым песком. Отсюда, если смотреть в северном направлении вдоль рифа, можно было различить разбитый остов судна, который мы впервые увидели с более близкого расстояния, когда нас проносило мимо него. Еще дальше к северу в синеватой дымке виднелись верхушки пальм другого маленького острова. Значительно ближе было до густо поросшего деревьями острова, который находился на юге. Ни на одном из этих островов мы не замечали признаков жизни, но пока что у нас были другие заботы.
Робинзон Хессельберг в большой соломенной шляпе подошел прихрамывая; он принес целую кучу расползавшихся раков-отшельников. Кнут зажег костер из валежника, и вскоре мы ели раков, а на сладкое пили какао с кокосовым молоком.
— Как хорошо чувствуешь себя на берегу, не правда ли, ребята? — восхищенно сказал Кнут.
Он уже раз испытал во время путешествия это ощущение. При этих словах он споткнулся и вылил полчайника кипятку на голые ноги Бенгта. Мы все не очень твердо стояли на ногах в этот первый день пребывания на берегу после 101 дня, проведенного на плоту; иногда среди пальмовых стволов нас вдруг пошатывало, так как мы отставляли ногу, чтобы встретить волну, которая не приходила.
Когда Бенгт вручил нам наши обеденные приборы, Эрик широко улыбнулся. Я вспомнил, что по окончании последней трапезы на плоту я, как обычно, перегнулся через борт и
вымыл посуду, между тем как Эрик, взглянув на риф, сказал: «Сегодня, пожалуй, я не стану утруждать себя мытьем». Когда он увидел свою посуду в кухонном ящике, она была такая же чистая, как моя.
После еды мы всласть повалялись на земле, а затем принялись за сборку намокшей радиостанции; это надо было сделать побыстрее, чтобы Торстейн и Кнут смогли вступить в эфир прежде, чем человек с Раротонги передаст сообщение о нашем печальном конце.
Большая часть нашего радиооборудования была уже принесена на берег; среди предметов, нагроможденных на рифе, Бенгт нашел ящик и ухватился за него. Тотчас же он высоко подпрыгнул от удара электрического тока; можно было не сомневаться, что содержимое ящика имело отношение к радиотехнике. Пока наши радисты развинчивали, соединяли и собирали аппаратуру, остальные взялись за разбивку лагеря.
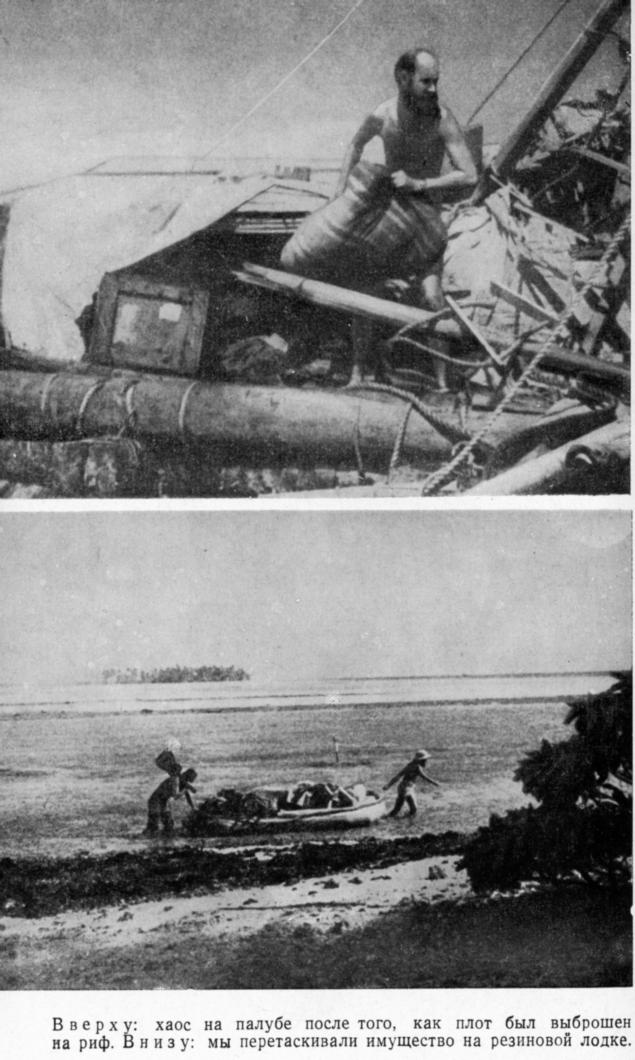
Около места, где нас выбросило на риф, мы нашли тяжелый, пропитанный водой парус и притащили его на берег. Мы натянули парус между двумя толстыми пальмами на маленькой лужайке, с которой открывался вид на лагуну; два других угла мы укрепили на бамбуковых жердях, приплывших с места крушения. Густая изгородь из буйно цветущих кустов подпирала парус, так что у нас была крыша и три стены; перед нашим взором расстилалась сверкающая лагуна, а воздух вокруг нас был полон вкрадчивого аромата цветов. Приятно было очутиться здесь. Мы все удовлетворенно посмеивались и наслаждались покоем; каждый устроил себе постель из свежих пальмовых листьев, предварительно убрав обломки ветвей кораллов, которые совершенно некстати торчали из песка. До наступления ночи мы приготовили очень удобное место для сна, а у себя над головой мы видели бородатое лицо доброго старого Кон-Тики. Он больше не выпячивал свою грудь под напором восточного ветра. Теперь он неподвижно лежал на спине и смотрел на звезды, которые мерцали над Полинезией.
На кустах вокруг нас висели мокрые флаги и спальные мешки, а намокшая одежда лежала и сохла на песке. Еще один день на этом солнечном острове, и все хорошенько высохнет. Даже радистам пришлось прекратить свою работу в ожидании, что на следующий день солнце высушит их аппаратуру. Мы сняли с кустов спальные мешки и залезли в них, хвастливо споря о том, у кого самый сухой мешок. Победителем был признан Бенгт: когда он повернулся, его мешок не захлюпал. Силы небесные, до чего хорошо было иметь возможность заснуть!
Когда мы проснулись на заре, парус оказался провисшим и наполненным чистой прозрачной дождевой водой. Бенгт позаботился об этом неожиданном даре, а затем не спеша спустился к лагуне и выбросил на берег несколько забавных рыб, которых он заманил в каналы, прорытые им в песке.
Ночью у Германа разболелась шея и спина в тех местах, которые он повредил себе перед отплытием из Лимы, а у Эрика был приступ давно не повторявшегося прострела. В остальном наша прогулка через риф имела удивительно легкие последствия: мы отделались царапинами и незначительными ранами, только Бенгт, которого упавшая мачта ударила по лбу, получил легкое сотрясение. Самый забавный вид был у меня: руки и ноги были покрыты иссиня-черными синяками — с такой силой я сжимал ими веревку.
Ни один из нас, впрочем, не чувствовал себя настолько плохо, чтобы вид сверкающей прозрачной лагуны не соблазнил его наскоро выкупаться перед завтраком. Лагуна была огромна. Вдали она была синяя и от пассата покрывалась рябью; и она была так широка, что мы едва могли различить ряд окутанных голубой дымкой, поросших пальмами островов, которые окаймляли атолл с противоположной стороны. Но здесь, на подветренной стороне островов, пассат мирно шелестел в перистых листьях пальм, которые слегка покачивались, а лагуна лежала внизу, как неподвижное зеркало, и отражала всю их красоту. Горько-соленая вода была чистой и прозрачной; ярко окрашенные кораллы на глубине почти трех метров казались лежащими так близко к поверхности, что мы боялись порезать себе о них ноги при купанье. В воде кишели чудеснейшие разновидности рыб самой разнообразной окраски. Перед нами раскрывался изумительный мир, полный развлечений. Вода была в меру прохладна, чтобы освежать, а воздух сух и нагрет солнцем до приятной теплоты. Но сегодня нужно было скорей вылезать на берег: Раротонга передаст тревожные сообщения, если до конца дня с плота не поступит никаких известий.
Катушки и другие детали радиопередатчика были разложены на совершенно сухих коралловых плитах и сохли на тропическом солнце, а Торстейн и Кнут соединяли и завинчивали. Прошло все утро, и обстановка становилась все более и более напряженной. Мы забросили все остальные дела и окружили наших радистов в надежде, что сумеем им чем-нибудь помочь. Мы должны быть в эфире до десяти часов вечера. К этому времени истечет тридцатишестичасовой срок, и радиолюбитель с Раротонги передаст призывы о высылке самолета и спасательных экспедиций.
Настал полдень, затем вечер, и солнце зашло. Хватило бы только выдержки у человека на Раротонге! Семь часов, восемь, девять. Напряжение достигло предела. Ни признака жизни в передатчике, но приемник NC-173 стал оживать у самого основания шкалы, где слабо звучала какая-то музыка. Но на любительском диапазоне ничего не было слышно. Постепенно, однако, звуки начали пробиваться — вероятно, все зависело от сырой обмотки, которая просыхала с одного конца. Передатчик все еще был мертв — повсюду короткие замыкания и искры.
Оставалось меньше часа. Ничего не выйдет! Передатчик вышел из строя, и мы решили снова испробовать маленький подпольный передатчик, которым пользовались во время войны. Несколько попыток мы уже делали в течение дня, но безрезультатно. Может быть, он теперь немного подсох? Все батареи были совершенно испорчены, и для получения тока нам приходилось крутить маленькую ручную динамку. Это была нелегкая работа, и мы четверо, профаны в радиотехнике, в течение всего дня сидели и крутили эту адскую штуку.
Тридцать шесть часов должны были скоро истечь. Я помню, как кто-то шептал: «семь минут», «пять минут», и затем больше никто не смотрел на часы. Передатчик был по-прежнему нем, но приемник что-то бормотал уже близко к нужной нам волне. Вдруг он затрещал на волне любителя с Раротонги, и мы решили, что он ведет разговор с радиостанцией на Таити. Вскоре мы уловили следующий отрывок радиограммы, переданной с Раротонги:
«…ни одного самолета по эту сторону островов Самоа. Я совершенно уверен…»
Затем все снова затихло. Напряжение стало невыносимым. Что они там затевают? Неужели они уже посылают самолет и спасательные экспедиции? Теперь, без сомнения, сообщения о нас разносятся по эфиру во все стороны.
Оба радиста продолжали лихорадочно работать. С их лиц стекал такой же обильный пот, как и с лица того, кто крутил рукоятку динамки. Электрические колебания постепенно стали появляться в контуре антенны передатчика, и Торстейн в экстазе указывал на стрелку, медленно подымавшуюся по шкале, когда он нажимал ключ Морзе. Дело шло на лад!
Мы, как безумные, крутили рукоятку, а Торстейн вызывал Раротонгу. Никто не слышал нас. Еще раз. Теперь опять пробудился приемник, но Раротонга нас не слышала. Мы вызывали Гала и Френка в Лос-Анжелосе и морское училище в Лиме, но никто не слышал нас.
Тогда Торстейн послал сигнал CQ: иначе говоря, он вызывал все станции в мире, которые могли услышать нас на нашей любительской короткой волне.
Это дало некоторый результат. Теперь чей-то слабый голос из эфира стал тихо вызывать нас. Мы повторили сигнал и сказали, что слышим его. Тогда тихий голос из эфира произнес:
— Меня зовут Поль, я живу в Колорадо; как вас зовут и где вы живете?
Это был какой-то радиолюбитель. Мы продолжали крутить ручку, а Торстейн схватил ключ и ответил:
— Это «Кон-Тики», нас выбросило на необитаемый остров в Тихом океане.
Поль совершенно не поверил этому сообщению. Он думал, что какой-то коротковолновик из соседнего квартала разыгрывает его, и больше не появлялся в эфире. В отчаянии мы рвали на себе волосы. Вот мы сидим здесь, под пальмами, звездной ночью на необитаемом острове, и никто не верит нашим словам.
Торстейн не сдавался; он снова взялся за ключ и беспрерывно передавал: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Мы во что бы то ни стало должны приостановить подготовку всех этих спасательных экспедиций в разных концах Тихого океана.
Вдруг мы услышали в приемнике, как кто-то довольно тихо спросил:
— Если все в порядке, то зачем волноваться?

Затем эфир снова умолк. И это было все.
В полном отчаянии мы готовы были подпрыгнуть до верхушек пальм и стрясти с них все кокосовые орехи, и трудно сказать, что мы предприняли бы, если бы внезапно нас не услышали сразу и Раротонга и старина Гал. По словам Гала, он плакал от радости, услышав снова позывные L12B. Вся шумиха немедленно прекратилась; мы опять были одни, и никто нас не тревожил на нашем острове Южного моря. Совершенно измученные, мы улеглись спать на наши постели из пальмовых листьев.
На следующий день мы никуда не торопились и в полную меру наслаждались жизнью. Одни купались, другие рыбачили или бродили по рифу в поисках любопытных морских животных; самые энергичные приводили в порядок лагерь и украшали его окрестности. На берегу, откуда виден был «Кон-Тики», на опушке пальмовой рощи мы выкопали яму, выложили ее листьями и посадили проросший кокосовый орех, привезенный из Перу. Рядом, как раз напротив того места, где «Кон-Тики» наскочил на риф, мы построили пирамиду из коралловых глыб.
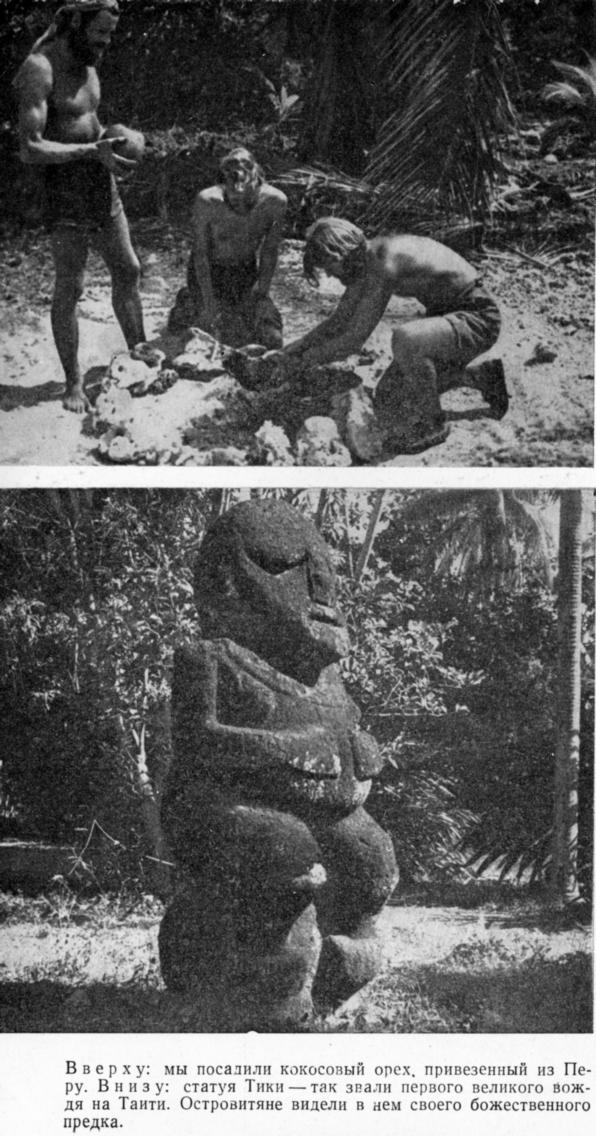
За ночь прибой продвинул «Кон-Тики» еще ближе к лагуне, и теперь, окруженный лишь несколькими лужами, он лежал почти целиком над водой, среди больших коралловых глыб далеко от наружного края рифа.
Прогревшись как следует в горячем песке, Эрик и Герман чувствовали себя гораздо лучше и захотели отправиться вдоль рифа на юг в надежде, что им удастся перебраться на большой остров, находившийся в той стороне. Я предупредил, чтобы они остерегались акул, а еще больше угрей
[149], и они захватили с собой длинные ножи-мачете, засунув их за пояс. Коралловые рифы являются убежищем страшных угрей с длинными ядовитыми зубами, которыми они легко могут оторвать человеку ногу. При нападении они двигаются, извиваясь с молниеносной быстротой, и внушают панический ужас местным жителям, которые не боятся плавать рядом с акулой.
Эрик и Герман прошли вброд значительное расстояние по рифу на юг, но местами попадались более глубокие русла, по которым вода шла в этом направлении, и тогда им приходилось прыгать в воду и плыть. Они благополучно достигли большого острова и вброд перешли на берег. Длинный и узкий остров, покрытый пальмовым лесом, уходил дальше на юг; его солнечные пляжи были защищены от ветра рифом. Эрик и Герман продолжали идти вдоль острова, пока не достигли южной оконечности. Отсюда риф, покрытый белой пеной, шел дальше на юг к другим островам. Здесь наши исследователи нашли разбитый остов большого корабля; у него было четыре мачты, и он лежал на берегу, разделенный на две части. Эта был старый испанский парусник, груженный рельсами, и ржавые рельсы были разбросаны вдоль рифа. Эрик и Герман вернулись по другой стороне острова, но ни одного следа на песке им обнаружить не удалось.
На обратном пути через риф они тo и дело вспугивали каких-то странных рыб и пытались поймать некоторых из них; внезапно на них напало не меньше восьми крупных угрей. Эрик и Герман увидели в прозрачной воде, как те приближались, и вскочили на большую коралловую глыбу; угри стали извиваться вокруг нее. Скользкие чудовища толщиной с мужскую голень были усеяны зелеными и черными пятнами, напоминая ядовитых змей; на маленькой голове блестели злые змеиные глаза, а зубы, острые, как шило, имели в длину два-три сантиметра. Когда маленькие покачивавшиеся головки, извиваясь, приблизились, Эрик и Герман взмахнули ножами; голова одного угря была отрублена, другой был ранен. Кровь в воде привлекла целую стаю молодых голубых акул, которые набросились на мертвого и раненого угрей, а Эрику и Герману удалось перепрыгнуть на другую коралловую глыбу и уйти.
В этот же день я шел вброд к нашему острову, как вдруг кто-то молниеносным движением вцепился с обеих сторон в мою лодыжку и крепко повис на ней. Это оказался осьминог. Он был не крупный, но трудно передать то ужасное ощущение, которое я испытывал, когда холодные щупальца обвили мою ногу и на меня смотрели злобные маленькие глаза, торчавшие на багрово-красном слизистом мешке, представлявшем собой тело осьминога. Я изо всех сил дрыгнул ногой, и осьминог, который не имел в длину и метра, последовал за ней, но щупалец не разжал. По-видимому, его привлекала повязка на моей ноге. Я рывками двигался к берегу с прицепившимся к ноге отвратительным созданием. Лишь тогда, когда я достиг края сухого песка, осьминог отпустил меня и стал медленно отступать по мелководью; его щупальца были вытянуты в направлении берега, и он не спускал с него глаз, как бы готовый к новому нападению, если я того пожелаю. Когда я бросил в осьминога несколько крупных кусков коралла, он поспешно скрылся.
Разнообразные приключения среди рифов придавали только пикантность нашему блаженному существованию на островке. Но мы не собирались провести там всю свою жизнь, и пора было подумать, как вернуться в обычный мир. По истечении недели «Кон-Тики» пробил себе дорогу до средины кораллового барьера, где теперь лежал, прочно застряв на обнаженных рифах. Большие бревна, стараясь проложить себе путь вперед к лагуне, растолкали и обломали крупные глыбы коралла, но теперь деревянный плот засел недвижимо, и сколько мы его ни тащили и ни толкали, все было бесполезно. Если бы нам только удалось спустить разбитый плот в лагуну, мы могли бы, во всяком случае, срастить мачту и оснастить его достаточно для того, чтобы, плывя по ветру, пересечь мирную лагуну и посмотреть что окажется по ту сторону ее. Если какой-нибудь из островов был населен, то скорее всего тот, который находился далеко на горизонте к западу, где атолл изгибается к подветренной стороне.
Шли дни.
И вот однажды утром кто-то из наших прибежал сломя голову и сообщил, что видел белый парус на лагуне. С более возвышенного места у опушки пальмовой рощи мы могли различить крохотное белое пятнышко, которое отчетливо выделялось на фоне опалово-синей лагуны. Совершенно очевидно, это была парусная лодка, только что отплывшая от противоположного берега. Мы видели, как она повернула на другой галс. Вскоре показался еще один парус.
В течение всего утра они постепенно приближались и увеличивались в размере. Они шли прямо к нам. Мы подняли на верхушку пальмы французский флаг и размахивали нашим норвежским флагом, привязанным к шесту. Один парус находился уже так близко, что мы могли различить под ним полинезийскую пирогу с балансиром. Оснастка ее была более современного типа. Две коричневые фигуры стояли в пироге и смотрели на нас. Мы замахали руками. Они помахали в ответ и подплыли прямо к берегу по мелководью.
— Иа ора на, — приветствовали мы их на полинезийском языке.
— Иа ора на! — хором крикнули они в ответ, и один выпрыгнул из пироги и потащил ее за собой, идя в воде по песчаному дну прямо к нам.
Оба гостя были в европейской одежде, но их хорошо сложенные тела были коричневыми. Ноги у них были голые, а на голове для защиты от солнца они носили самодельные соломенные шляпы. Полинезийцы добрались до берега и несколько неуверенно стали приближаться к нам; но когда мы все до очереди, улыбаясь, пожали им руки, они засияли широкими улыбками, обнажив два ряда ослепительно белых зубов; эти улыбки говорили больше, чем слова.
Наше приветствие на полинезийском языке удивило и приободрило наших гостей, введя их в такое же заблуждение, в каком оказались мы сами, когда их соплеменник с Ангатау кричал нам по-английски «добрый вечер». Они принялись что-то быстро и горячо рассказывать нам по-полинезийски, и прошло немало времени, прежде чем они поняли, что их излияния совершенно не достигают цели. Тогда они умолкли и лишь дружелюбно посмеивались, указывая на другую пирогу, которая теперь приближалась.
В ней было три человека, и когда они вброд достигли берега и поздоровались с нами, то оказалось, что один из них немного говорит по-французски. Мы узнали, что на одном из островов по ту сторону лагуны находится полинезийская деревня и что жители ее как-то видели ночью наш костер. В рифе Рароиа имеется всего один-единственный проход, ведущий к островам, которые окружают лагуну; и так как этот проход расположен у самой деревни, то всякого, кто приблизится к островам, лежащим за рифом, жители деревни должны были бы обязательно заметить. Поэтому старики в деревне пришли к заключению, что огонь, который они видели на рифе к востоку, не мог быть делом человеческих рук, а являлся чем-то сверхъестественным. Это лишило островитян всякого желания переплыть лагуну и самим посмотреть, что произошло. Но затем к их острову прибило приплывший по лагуне сломанный ящик, и на нем были нарисованы какие-то знаки. Двое из островитян, которые побывали на Таити и знали азбуку, разобрали надпись и прочли слово «Тики», написанное большими черными буквами на доске. Теперь больше не оставалось никаких сомнений, что на рифе появились духи, так как Тики, — они все знали это, — был давным-давно умерший родоначальник их собственного народа. Но через некоторое время по лагуне приплыли банки с сухарями, сигаретами, кокосовые орехи и коробка со старым ботинком; тогда они все поняли, что на восточной стороне рифа произошло кораблекрушение, и вождь отправил две пироги на поиски уцелевших людей, чей костер на острове они видели.
По настоянию своих товарищей островитянин, говоривший по-французски, спросил, почему на доске, которая приплыла по лагуне, было написано «Тики». Мы объяснили, что «Кон-Тики» было написано на всем нашем снаряжении и что это название судна, на котором мы приплыли.
Наши новые друзья громкими восклицаниями выражали свое изумление, когда услышали, что никто не погиб при кораблекрушении и что плоский разбитый остов, лежавший на рифе, был действительно тем судном, на котором мы прибыли. Они хотели сразу же посадить нас всех в пироги и доставить в деревню. Мы поблагодарили и отказались, так как хотели остаться до тех пор, пока не снимем «Кон-Тики» с рифа. Они с ужасом смотрели на неуклюжее сооружение, застрявшее на рифе; конечно, мы не должны и мечтать о том, что нам удастся снова спустить на воду этот исковерканный остов! В конце концов посланец решительно заявил, что мы должны отправиться с ними; вождь дал им строгий приказ без нас не возвращаться.
Тогда мы решили, что один из нас поедет с островитянами в качестве посла для переговоров с вождем, а затем вернется и расскажет нам, какова обстановка на том острове. Мы не бросим плота на рифе и не можем оставить все снаряжение на нашем маленьком острове. Бенгт отправился с островитянами. Обе пироги столкнули с песчаного берега, и вскоре они, подгоняемые свежим ветром, исчезли на западе.
На следующий день на горизонте показались бесчисленные белые паруса. Казалось, теперь островитяне явились за нами на всех судах, какие у них были.
Вся флотилия повернула в нашу сторону, и когда она приблизилась, мы увидели на передней пироге среди коричневых фигур старину Бенгта, который размахивал шляпой. Он крикнул нам, что с ним находится сам вождь, и мы почтительно выстроились на берегу, чтобы встретить подходивших вброд гостей.
Бенгт очень торжественно представил нас вождю.
— Вождя зовут, — сказал Бенгт, — Тепиураиарии Териифаатау, но он поймет, кого мы имеем в виду, если мы будем называть его Тека.
Мы и стали называть его Тека.

Вождь Тека был высокий стройный полинезиец с глазами, говорившими о недюжинном уме. Он был знатным человеком, потомком старого королевского рода на Таити и являлся вождем обоих островов: и Рароиа и Такуме. Он учился в школе на Таити, знал французский язык и умел читать и писать. Он сказал мне, что столица Норвегии называется Христиания
[150], и спросил, не знаю ли я Бинга Кросби
[151]. Он сообщил нам также, что в течение последних десяти лет всего три иностранных судна заходили на Рароиа, но их деревню несколько раз в год посещают шхуны местных торговцев копрой с Гаити, которые привозят товары и забирают ядра кокосовых орехов. Они уже несколько недель поджидают такую шхуну, так что она может явиться в любое время.
Отчет Бенгта вкратце сводился к тому, что на Рароиа не было ни школы, ни радио, ни белых людей; но 127 полинезийцев, живущих в деревне, сделали все, что могли, чтобы устроить нас со всеми удобствами, и подготовили торжественный прием.
Первым делом вождь пожелал осмотреть судно, которое доставило нас живыми на риф. Мы отправились вброд к «Кон-Тики», сопровождаемые вереницей островитян. Когда мы приблизились, полинезийцы внезапно остановились и стали обмениваться замечаниями, громко крича все зараз. Теперь можно было ясно видеть бревна «Кон-Тики», и один из островитян воскликнул:
— Это не лодка, это
пае-пае!
—
Пае-пае! — повторили все его товарищи хором.
Поднимая брызги, они бросились бегом по рифу и взобрались на «Кон-Тики». Они лазили повсюду, возбужденные, как дети, ощупывали бревна, бамбуковое плетение и веревки. Вождь был в таком же приподнятом настроении, как и остальные; он вернулся к нам и несколько раз повторил:
— «Тики» не лодка, это
пае-пае. — В его голосе звучало удивление и любопытство.
Пае-пае на полинезийском языке означает «плот» и «помост», а на острове Пасхи это же слово употребляется для обозначения местных лодок. Вождь рассказал нам, что теперь таких пае-пае больше не существует, но самые старые люди в деревне рассказывают древние предания о пае-пае. Все полинезийцы наперебой восхищались огромными бальсовыми бревнами, но от веревок они презрительно отворачивались. Такие веревки под действием соленой воды и солнца не выдержат и несколько месяцев. И островитяне с гордостью показывали нам снасти своих пирог; они сами сплели их из волокон кокосового ореха, и такие веревки безотказно служат пять лет.
Когда мы вернулись обратно на наш маленький остров, мы с общего согласия назвали его «Фенуа Кон-Тики», или «Остров Кон-Тики». Это название мы все могли произнести, но полинезийцам очень тяжело давалось произношение наших коротких северных имен. Они пришли в восторг, когда я сказал им, что они могут называть меня Тераи Матеата, так как великий вождь Таити дал мне это имя, «усыновив» меня во время моего первого путешествия в эти края.
Островитяне притащили из пирог домашнюю птицу, яйца и плоды хлебного дерева, другие с помощью трехзубой остроги набили в лагуне несколько крупных рыб, и вокруг лагерного костра началось пиршество. Мы должны были рассказать обо всех наших приключениях на пае-пае в океане, и рассказ о китовой акуле нам пришлось повторять все снова и снова. И каждый раз, когда дело доходило до того, как Эрик вонзил гарпун в череп акулы, слушатели издавали восторженные крики. Полинезийцы с первого взгляда узнавали всех рыб, зарисованных Эриком, и немедленно сообщали нам, как они называются на их языке. Но они никогда не видели ни китовой акулы, ни змеиной макрели и ничего не слышали о них.
Когда наступил вечер, мы, к величайшему удовольствию всех собравшихся, включили радио. Больше всего им понравилась церковная музыка, но затем, к нашему удивлению, мы поймали передававшуюся из Америки настоящую полинезийскую танцевальную музыку. Тогда самые веселые из островитян принялись покачивать руками, согнутыми над головой, и вскоре все наши гости вскочили на ноги и пустились в пляс в такт музыке. С наступлением ночи все улеглись на берегу вокруг костра. Для островитян это было такое же приключение, как и для нас.
Когда мы проснулись на следующее утро, полинезийцы уже встали и жарили свеженаловленную рыбу; шесть только что вскрытых кокосовых орехов были приготовлены для утоления нашей утренней жажды.
В этот день грохот у рифа был громче обычного; ветер усилился, и буруны высоко взлетали в воздух там, за остовом нашего судна.
— Сегодня «Тики» придет в лагуну, — сказал вождь, показывая на разбитый плот. — Прилив будет высокий.
Около одиннадцати часов вода, проходя мимо нас, стала проникать в лагуну. Лагуна начала наполняться, как огромный бассейн, и уровень воды вокруг всего острова поднимался. Позже из океана хлынули целые потоки. Вода шла валами, которые поднимались все выше, и покрыла большую часть рифа. Потоки воды проносились вдоль обеих сторон острова. Они отрывали крупные глыбы кораллов и наносили большие песчаные отмели, которые затем исчезали, подобно сдутой ветром муке, а в другом месте появлялись новые отмели. Отдельные бамбуковые жерди с разбитого плота проплыли мимо нас, и «Кон-Тики» стал шевелиться. Все, что лежало у берега, пришлось перетащить в глубь острова, чтобы спасти от прилива. Вскоре из-под воды виднелись лишь самые высокие выступы рифа, и все берега вокруг нашего острова исчезли, а океан подступал все ближе к лужайкам плоского, как блин, острова. Становилось жутковато. Казалось, весь океан наступает на нас. «Кон-Тики» повернулся на 180° и двинулся с места, но скоро опять застрял среди других коралловых глыб.
Полинезийцы бросились вводу и, то плывя, то идя вброд среди водоворотов, двигаясь от одной отмели до другой, добрались до плота. Кнут и Эрик сопровождали их. На плоту лежали приготовленные веревки, и когда он поднялся над последними коралловыми глыбами и сошел с рифа, островитяне прыгнули за борт и пытались удержать его. Они не знали «Кон-Тики» и его неукротимого стремления двигаться на запад. Плот тащил их за собой совершенно беспомощных, и вскоре он уже с приличной скоростью двигался через риф и дальше по лагуне. Достигнув более тихой воды, «Кон-Тики», казалось, слегка растерялся и стал оглядываться, как бы высматривая дальнейшие возможности. Прежде чем он двинулся дальше и обнаружил выход из лагуны, островитянам удалось обмотать конец веревки вокруг пальмы на берегу. И вот «Кон-Тики» остался в лагуне на крепкой привязи. Судно, которого не могли остановить никакие преграды, проложило себе путь через баррикаду и вступило во внутреннюю лагуну острова Рароиа.
Воодушевляемые воинственными кликами с бодрым припевом «ке-ке-те-хуру-хуру», мы соединенными усилиями подтащили «Кон-Тики» к берегу острова, носившего его имя. Прилив достиг высоты, которая на 120 сантиметров превышала нормальный уровень воды. Мы думали, что весь остров будет затоплен.
Подгоняемые ветром волны вздымались по всей лагуне, и в узкие, захлестываемые водой пироги мы смогли поместить лишь незначительную часть нашего снаряжения. Полинезийцам надо было как можно скорей возвращаться в деревню; Бенгт и Герман отправились с ними, чтобы попытаться помочь маленькому мальчику, который умирал в одной из хижин в деревне. У мальчика был гнойный нарыв на голове, а у нас имелся пенициллин.
Следующий день мы провели на острове Кон-Тики вчетвером. Восточный ветер дул теперь с такой силой, что островитяне не могли добраться до нас через лагуну, усеянную острыми коралловыми рифами и мелями. Вода за ночь несколько спала, но теперь волны опять яростно набегали длинными, мчавшимися уступами валами.
На следующий день ветер стал тише. Мы смогли нырнуть под плот и удостовериться, что девять бревен были в целости; острые выступы рифов лишь соскоблили несколько сантиметров с их нижней стороны. Веревки ушли так глубоко в пазы, что только четыре из них оказались перерезанными кораллами. Мы принялись наводить порядок на плоту. После того как мы убрали с палубы весь хлам, расправили, как гармонь, каюту, срастили и поставили мачту, наше гордое судно приобрело более приличный вид.
Днем на горизонте снова показались паруса; островитяне приехали за нами и за остальным грузом. Герман и Бенгт были с ними; они рассказали нам, что в деревне готовятся большие празднества. Когда мы прибудем на тот остров, мы не должны выходить из пирог, пока сам вождь не даст на это разрешения.
При свежем попутном ветре мы пересекли лагуну, которая здесь имела в ширину шесть миль. Мы с искренней грустью смотрели на знакомые пальмы острова Кон-Тики, покачивавшиеся верхушки которых посылали нам прощальный привет; но вскоре отдельных деревьев уже нельзя было различить, а затем и весь остров превратился в узкую полоску земли, похожую на все остальные островки, раскинувшиеся вдоль восточного рифа. А впереди все отчетливей вырисовывались более крупные острова. На одном из них мы увидели мол и дым, поднимавшийся над хижинами среди пальм.
Деревня казалась совершенно вымершей; не видно было ни одной души. Что там затевается? На берегу за молом из коралловых глыб стояли две одинокие фигуры: одна — высокая и худощавая, другая — огромная и толстая, как бочка. Когда мы приблизились, мы почтительно поздоровались с обоими. Это были вождь Тека и его заместитель Тупухое. Нам всем с первого взгляда понравилась широкая сердечная улыбка Тупухое. Тека был умница и дипломат, а Тупухое был чистейшее дитя природы, прямодушный человек, какие не часто встречаются, полный юмора и первобытного здравого смысла. Могучим телосложением и величественными чертами лица он в точности соответствовал образу полинезийского вождя, созданному нашим воображением. И в самом деле, Тупухое раньше был полновластным вождем острова, но постепенно Тека занял первенствующее положение, так как он умел говорить по-французски, считать и писать, и поэтому владельцы шхун, приходивших с Таити за копрой, больше не обсчитывали жителей деревни.
Тека объяснил нам, что мы должны все вместе проследовать в деревню к дому для собраний, и когда все сошли на берег, торжественная процессия отправилась туда; Герман шел впереди с флагом, развевавшимся на древке гарпуна, а за ним — я между двумя вождями.
В деревне все говорило о торговле копрой с Таити; доски и гофрированное железо было привезено на шхунах. Некоторые хижины были построены в причудливом старинном стиле из сучьев и сплетенных пальмовых листьев, другие были сколочены на гвоздях из досок и напоминали маленькие тропические бунгало. Большой дощатый дом, стоявший в стороне среди пальм, представлял собой новый дом для собраний; там должны были поселиться мы, шестеро европейцев. Через маленькую заднюю дверь мы с флагом вошли в дом и сразу вышли из него на широкие ступени перед фасадом. Перед нами на площадке стояли все жители деревни, способные двигаться, включая женщин и детей любого возраста. У всех был чрезвычайно серьезный вид; даже наши веселые приятели по острову Кон-Тики стояли в рядах вместе с остальными и делали вид, что не узнают нас.
Когда мы вышли на ступени, все собравшиеся одновременно раскрыли рты и запели… «Марсельезу»! Тека, знавший слова, запевал, и дело шло довольно гладко, несмотря на то, что несколько старух сильно фальшивили на высоких нотах. Жители деревни здорово поработали над разучиванием «Марсельезы». Французский и норвежский флаги были подняты перед террасой, и на этом закончился официальный прием нас вождем Текой; он медленно отошел в сторону, и теперь толстый Тупухое выступил вперед и стал руководить церемонией.
Тупухое быстро подал знак, по которому все с жаром запели новую песню. На этот раз дело шло лучше, так как мелодия была их собственная, да и слова были на их родном языке, а петь свои плясовые песни они умеют. Мелодия при всей своей трогательной простоте звучала так чарующе, что у нас пробежали мурашки по спине, словно само Южное море с рокотом надвигалось на нас. Несколько человек запевали, а через определенные интервалы вступал весь хор; мелодия менялась, но слова, все время оставались одни и те же:
«Добрый день, Тераи Матеата и твои люди, пришедшие по океану на
пае-пае к нам на Рароиа; да, добрый день, оставайтесь подольше среди нас, и пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Нам пришлось попросить их спеть эту песню еще раз, и островитяне все больше и больше оживлялись, по мере того как они переставали стесняться. Затем Тупухое попросил меня рассказать в нескольких словах народу, почему мы прибыли из-за океана на пае-пае; все хотят услышать об этом. Я должен говорить по-французски, а Тека будет по частям переводить.
Предо мной стояла и ожидала моих слов толпа необразованных, но очень умных коричневых людей. Я рассказал им, что мне пришлось раньше побывать среди их соплеменников здесь, на островах Южного моря, и что я слышал об их первом вожде, Тики, который привел их предков на эти острова из какой-то таинственной страны, местонахождения которой теперь никто не знает. Но в далекой стране, называемой Перу, говорил я, правил когда-то могущественный вождь, носивший имя Тики. Народ называл его Кон-Тики или Солнце-Тики, потому что, по его словам, он был потомком солнца. В конце концов Тики и часть его сторонников покинули свою страну на больших пае-пае поэтому мы шестеро думали, что это был тот же самый Тики, который пришел на эти острова. Так как никто не поверил бы, что на
пае-пае можно переплыть океан, мы сами отплыли на
пае-пае из Перу; и вот мы здесь; значит, переплыть можно было. После того как Тека перевел мою краткую речь, Тупухое пришел в большое возбуждение и в каком-то экстазе выскочил вперед и стал перед толпою. Он громко кричал по-полинезийски, размахивал руками, указывал на небо и на нас, и в его стремительной речи все время повторялось слово Тики. Он говорил так быстро, что трудно было уследить за смыслом, но все собравшиеся ловили каждое слово и были явно взволнованы. Тека, напротив, имел весьма смущенный вид, когда ему пришлось приступить к переводу.
Тупухое говорил о том, что его отец, и дед, и прадеды рассказывали о Тики, и, по их словам, Тики был первым вождем, который теперь находится на небе.
Но потом пришли белые люди и сказали, что предания их предков ложь. Тики никогда не существовал. Он вовсе не на небе, так как там Иегова. Тики был языческим богом, и они больше не должны верить в него. А теперь мы шестеро приплыли к ним по океану на пае-пае. Мы первые белые люди, признающие, что их отцы говорили правду. Тики действительно жил, но теперь он умер и находится на небе.
Испуганный мыслью, что я могу разрушить все труды миссионеров, я поспешил выступить вперед и объяснил, что Тики действительно жил — в этом не может быть сомнений — и что он давно умер. Но находится ли он теперь на небе или в аду, знает один только Иегова, так как Иегова был всегда на небе, а Тики был смертным человеком, великим вождем, как Тека и Тупухое, может быть, даже еще более великим.
Мои слова развеселили и удовлетворили полинезийцев; они кивали головой, одобрительно бормотали, и это ясно показывало, что мое объяснение пришлось им по вкусу. Тики когда-то жил, это было главное. Если он теперь находится в аду, то больше всех печалиться этим должен он сам; Тупухое высказал даже предположение, что в этом случае, пожалуй, больше надежды встретиться с ним опять.
Три старика протолкались вперед и пожелали пожать нам руки. Без сомнения, это они сохраняли в народе воспоминания о Тики. Вождь сказал нам, что один из стариков знает бесчисленное множество преданий и исторических баллад из времен далеких предков. Я спросил старика, нет ли в преданиях каких-либо намеков на то, с какой стороны пришел Тики. Нет, ни один из стариков не мог вспомнить, чтобы ему приходилось слышать об этом. Но после долгого усердного размышления самый старый из трех сказал, что Тики сопровождал близкий родственник, по имени Мауи, а в балладе о Мауи говорилось, что он пришел на острова из Пура, а слово «пура» означает ту часть неба, где восходит солнце. Если Мауи пришел из Пура, сказал старик, то, конечно, и Тики пришел из того же места, а мы шестеро также пришли на пае-пае из Пура, это совершенно ясно.
Я рассказал старым островитянам, что на небольшом уединенном острове, называемом Мангарева, расположенном ближе к острову Пасхи, жители никогда не знали лодок и вплоть до наших дней продолжали плавать по океану на больших
пае-пае. Об этом старики не слыхали, но они знали, что их предки также пользовались большими
пае-пае, которые постепенно вышли из употребления и теперь известны только по названию и по преданиям. В отдаленные древние времена, добавил самый старый из островитян, они назывались
«ронго-ронго», но теперь такого слова в языке больше не существует. Но название «ронго-ронго» упоминается в самых старинных легендах.
Это название заинтересовало меня, так как Ронго — на некоторых островах произносят Лоно — было имя одного из наиболее известных легендарных предков полинезийцев. В рассказах о нем подчеркивалось, что у него была белая кожа и светлые волосы. Когда капитан Кук впервые посетил Гавайские острова, жители встретили его с распростертыми объятиями, так как они приняли его за своего белого сородича Ронго, который отсутствовал много поколений, а теперь вернулся с родины их предков на этом большом парусном судне. А на острове Пасхи, словом «ронго-ронго» называли загадочные иероглифы, тайна которых была погребена вместе с последним «длинноухим», умевшим писать!
Между тем как старики хотели обсуждать вопрос о Тики и
ронго-ронго, молодым не терпелось послушать о китовой акуле и путешествии по океану. Но угощение было уже готово, а Тека устал переводить.
Теперь всем жителям деревни было разрешено подойти и пожать руку каждому из нас. Мужчины бормотали «иа-ора-на» и чуть не вывихивали нам руку, девушки старались протиснуться вперед и здоровались с нами кокетливо и застенчиво, а старухи лепетали и хихикали, указывая на наши бороды и белую кожу. Все лица сияли дружеским расположением, так что всякие лингвистические недоразумения не имели никакого значения. Если островитяне говорили нам что-нибудь совершенно непонятное по-полинезийски, мы отвечали им тем же по-норвежски, и все очень веселились. Первое полинезийское слово, которое мы выучили, было «нравится»; если к тому же можно было указать на то, что нам нравилось, и рассчитывать сразу же получить это, то все было очень просто. Если же при слове «нравится» морщили нос, то это означало «не нравится», и на этой основе мы, могли вполне хорошо объясняться.
Как только мы перезнакомились со всеми 127 жителями деревни, был поставлен длинный стол для обоих вождей и нас, шестерых, и деревенские девушки стали приносить самые изысканные кушанья. Пока одни расставляли все на столе, подошли другие и повесили венки из цветов нам на шею, а венки поменьше надели нам на голову. Цветы испускали томный аромат, а их прохладное прикосновение в жару было очень приятно. Так начался праздник в нашу честь, который продолжался несколько недель, пока мы не покинули острова. Глаза у нас широко раскрылись и рот наполнился слюной при виде столов, заставленных жареными молочными поросятами, цыплятами, жареными утками, свежими омарами, полинезийскими рыбными блюдами, плодами хлебного и дынного дерева, молоком кокосовых орехов. И в то время как мы набросились на еду, толпа развлекала нас полинезийскими песнями, а молодые девушки танцевали вокруг стола. Мои товарищи смеялись и были в полном восторге; вид мы имели самый нелепый, когда сидели за столом с развевающимися бородами и с венками из цветов на голове, уписывая за обе щеки, как умирающие с голоду люди. Оба вождя, как и мы, не скрывали своего удовольствия.
После еды началась полинезийская пляска в грандиозном масштабе. Жители деревни хотели показать нам местные народные танцы. Нас, шестерых, Теку и Тупухое усадили на табуретки в первом ряду, затем появились два гитариста, присели на корточки и забренчали на своих инструментах настоящие мелодии Южного моря. Сквозь кольцо зрителей, также сидевших на корточках и певших, скользя и извиваясь, в круг вступили две цепи танцующих мужчин и женщин с шелестящими юбочками из пальмовых листьев вокруг бедер. Живым и энергичным запевалой была на редкость тучная вахине
[152], у которой одна рука была откушена акулой. Вначале танцоры держались несколько театрально и напряженно; но когда они увидели, что белые люди с
пае-пае не воротят носа от народных танцев их прародителей, пляска стала все больше и больше оживляться. К ней присоединилась и часть пожилых; у всех было великолепное чувство ритма, и они знали танцы, которых в обычных случаях уже, конечно, не танцуют. А когда солнце опустилось в Тихий океан, пляска среди пальм стала принимать еще более бурный характер, и аплодисменты зрителей становились все более дружными. Танцоры забыли, что на них смотрят шесть чужестранцев; теперь мы, шестеро, были людьми их народа, наслаждавшимися зрелищем вместе с ними.
Репертуар был бесконечным: одна очаровательная мимическая сцена следовала за другой. Наконец толпа юношей уселась на корточки, образовав тесный круг как раз перед нами, и по знаку Тупухое принялась ритмично отбивать такт ладонями по земле — сначала медленно, затем быстрее; когда ритм стал совершенно безупречным, неожиданно вступил барабанщик и принялся аккомпанировать им, с бешеной скоростью ударяя двумя палками по сухому выдолбленному чурбану, который издавал сильный резкий звук. После того как ритм достиг нужного темпа, раздалось пение и в круг стремительно прыгнула девушка с венком из цветов вокруг шеи и цветами за ухом. Босиком, согнув колени, она двигалась в такт музыке, ритмично покачивая бедрами и закинув руки над головой в настоящем полинезийском стиле. Она танцевала великолепно, и вскоре все зрители отбивали ритм, хлопая ладонями по земле. Еще одна девушка вскочила в круг, а за ней третья. Они двигались с изумительной гибкостью, строго следуя ритму, и скользили в танце одна вокруг другой, как грациозные тени. Глухие удары руками по земле, пение и веселый бой деревянного барабана одновременно убыстряли свой темп все больше и больше, а танец становился все более и более исступленным, а зрители завывали от восторга и отбивали такт, хлопая ладонями по земле.

Это была жизнь Южного моря, какой ее знали в старые дни. Звезды мерцали, и пальмы покачивались. Ночь была теплая и длинная, наполненная запахом цветов и пением цикад. Тупухое широко улыбнулся и хлопнул меня по
плечу.
— Маитаи? — спросил он.
— Да, маитаи, — ответил я.
— Маитаи? — спросил он всех остальных.
— Маитаи, — с энтузиазмом ответили все, и это было действительно так.
— Маитаи, — произнес Тупухое, кивая головой и указывая на себя; он также был очень доволен.
Даже Тека считал, что праздник вышел очень удачный; в первый раз, сказал он, белые люди присутствуют на их танцах на Рароиа. Быстрее и быстрее, быстрее и быстрее становилась дробь барабана, хлопанье в ладоши, пение и танцы. Но вот одна из танцевавших девушек перестала двигаться по кругу и, стоя на месте, начала вся извиваться в бешеном темпе, вытянув руки в сторону Германа. Герман посмеивался в бороду; он не знал, как ему следует к этому отнестись.
— Поддержите нашу марку, — шепнул я ему, — вы ведь хороший танцор.
И, к бесконечному восхищению толпы, Герман вскочил в круг и, согнувшись чуть не пополам, принялся добросовестно выделывать, извиваясь всем телом, сложные па полинезийского танца. Ликование стало всеобщим. Вскоре Бенгт и Торстейн пустились в пляс; пот струился по их лицам, когда они трудились изо всех сил, стараясь не отставать от аккомпанемента, ритм которого все ускорялся и ускорялся, темп стал таким бешеным, что теперь слышны были только звуки барабана, слившиеся в одно протяжное гудение, а три настоящие полинезийские танцовщицы в такт музыке дрожали как осиновые листья; наконец девушки опустились на землю и бой барабана резко оборвался.
Теперь героями вечера были мы. Энтузиазм зрителей не имел предела.
Следующим номером программы являлся танец птиц, представлявший собой одну из древнейших церемоний на Рароиа. Мужчины и женщины двумя рядами прыгали в ритмичном танце, изображая под руководством главного танцора стаи птиц. Главный танцор носил титул вождя птиц и делал забавные телодвижения, но в общем танце участия не принимал. Когда танец птиц окончился, Тупухое объяснил, что он был исполнен в честь нашего плота и что теперь его следует повторить, но главного танцора должен сменить я. Так как мне казалось, что основная задача главного танцора состояла в том, чтобы испускать дикие вопли и кружиться, виляя задом и размахивая руками над головой, я надвинул поглубже на голову свой венок, и вышел на сцену. Извиваясь в танце, я видел, как хохотал старый Тупухое, чуть не падая с табуретки; музыка стала ослабевать, так как певцы и музыканты последовали примеру Тупухое.
Теперь танцевать хотели все, старые и молодые, и вскоре барабанщик и музыканты, бившие руками по земле, снова оказались на своих местах и заиграли вступление к огненной полинезийской пляске. Сначала в круг вскочили девушки и принялись плясать, все ускоряя и ускоряя ритм; они приглашали всех нас по очереди принять участие в танце, к которому постепенно присоединялось все больше и больше мужчин и женщин, топавших ногами и извивавшихся все быстрей и быстрей.
Но Эрика никак не удавалось расшевелить. От ветра и сырости на плоту у него был рецидив прострела, и он сидел, как старый шкипер, бородатый и неподвижный, попыхивая трубкой. Его не могли сдвинуть с места девушки-танцовщицы, пытавшиеся заманить гостя в крут. На нем были широкие штаны из овчины, которые он надевал по ночам в самое холодное время, когда мы плыли в течении Гумбольдта; сидя под пальмами, обнаженный по пояс, с большой бородой, в овчинных штанах, он в точности походил на Робинзона Крузо. Одна хорошенькая девушка за другой старались снискать его расположение, но тщетно. Он продолжал сидеть с венком на лохматой голове, важно попыхивая трубкой.
Но вот зрелая матрона с могучими мышцами вступила в круг, проделала несколько более или менее грациозных па, а затем решительно двинулась к Эрику. Он с беспокойством смотрел на нее, но амазонка, обворожительно улыбаясь, решительно схватила его за руку и стащила с табуретки. Комические штаны Эрика были сшиты мехом внутрь, и сзади они немного распоролись, так что торчал белый клок шерсти, напоминавший кроличий хвост. Эрик шел за своей дамой очень неохотно и, прихрамывая, вступил в круг; в одной руке он держал трубку, а другую прижимал к тому месту, где у него болело от прострела. Когда он попытался сделать несколько прыжков, ему пришлось отпустить штаны, чтобы поправить угрожавший падением венок, а затем, с покосившимся на сторону венком, он должен был снова ухватиться за свои штаны, которые под собственной тяжестью стали соскальзывать с него. У его полной дамы, топтавшейся в танце перед ним, был не менее забавный вид, и мы смеялись так, что слезы стекали с наших бород. Вскоре все остальные танцоры остановились, и взрывы хохота разносились по пальмовой роще, а танцор Эрик и женщина-тяжеловес продолжали грациозно кружиться. Наконец и им пришлось остановиться, так как и певцы и музыканты не в силах были продолжать и держались за бока от смеха.
Праздник продолжался до утра, когда нам было разрешено немного отдохнуть; но прежде мы должны были снова пожать руки всем 127 островитянам. В течение всего нашего пребывания на острове мы каждое утро и каждый вечер пожимали руки всем жителям. Шесть постелей были собраны по всем хижинам деревни и положены рядом вдоль стены дома для собраний; на них мы спали, улегшись в ряд, как семь маленьких гномов из сказки
[153], и над нашими головами висели сладко пахнувшие венки.
На следующий день состояние шестилетнего мальчика, у которого был нарыв на голове, сильно ухудшилось. Температура у него поднялась до 41 градуса, и нарыв на макушке головы стал величиной с мужской кулак и болезненно пульсировал.
Тека сообщил, что немало ребят уже погибло от этой болезни и что если никто из нас не сможет придумать какое-нибудь лечение, то мальчик не протянет и нескольких дней. У нас были новые препараты пенициллина в форме таблеток, но мы не знали, какую дозу надо давать маленькому ребенку. Если мы начнем лечить мальчика и он умрет, это, возможно, будет иметь серьезные последствия для всех нас.
Кнут и Торстейн снова распаковали радиостанцию и натянули антенну между самыми высокими кокосовыми пальмами. Когда наступил вечер, мы опять связались с нашими невидимыми друзьями, Галом и Френком, которые сидели у себя в комнате в Лос-Анжелосе. Френк соединился по телефону с врачом, и мы с помощью ключа Морзе передали все симптомы болезни мальчика и список лекарств, имевшихся у нас в аптечке. Френк передал нам ответ доктора, и в этот же вечер мы отправились в хижину, где метался в жару маленький Хаумата, а половина деревни плакала и причитала над ним.
Герман и Кнут должны были заняться лечением, а остальным хватало хлопот с жителями деревни, которые стремились попасть в хижину. Когда мы пришли с острым ножом и попросили вскипятить воду, мать мальчика впала в истерику. Волосы на голове мальчика были сбриты и нарыв вскрыт. Гной брызнул чуть не под потолок, и несколько взволнованных островитян ворвались в хижину; их пришлось выгнать. Тут было не до шуток. После того как рана была очищена и продезинфицирована, на голову мальчика наложили повязку, и мы приступили к лечению пенициллином. В течение двух суток мальчику давали пенициллин каждые четыре часа; температура держалась очень высокая, и выделение гноя не прекращалось. И каждый вечер мы консультировались с врачом из Лос-Анжелоса. Затем температура у мальчика сразу упала, гной сменился плазмой, и начался процесс заживления; мальчик улыбался и просил показать ему картинки с изображением необыкновенного мира белых людей, в котором существовали автомобили, коровы и дома в несколько этажей.
Неделю спустя Хаумата играл на берегу с другими детьми; первое время на голове у него была большая повязка, а затем ему разрешили ее снять.
Теперь, когда все кончилось удачно, в деревне без конца обнаруживались больные. У всех болели зубы или было расстройство желудка, и у всех, старых и молодых, были чирьи в самых различных местах. Мы отсылали больных к доктору Кнуту и доктору Герману, которые назначали диеты и щедро раздавали пилюли и мази, имевшиеся в нашей аптечке. Некоторые вылечились, хуже никому не стало, и когда аптечка оказалась пустой, мы приготовляли кашицу из какао и овсяной муки, которая чудесно помогала истеричным женщинам.
Мы прожили среди наших коричневых поклонников несколько дней, и праздничные торжества достигли своего апогея, вылившись в новую церемонию. Мы должны были стать почетными гражданами Рароиа и получить полинезийские имена. Сам я не должен больше оставаться Тераи Матеата: так могли меня называть на Таити, но не здесь, среди них.
Посреди площади для нас поставили шесть табуреток, и вся деревня собралась пораньше, чтобы занять хорошие места вокруг нас. Тека с важным видом сидел вместе со всеми; он был настоящим вождем, но только не в тех случаях, когда дело шло о старинных местных церемониях. Тогда на первый план выступал Тупухое.
Все сидели в ожидании молча и с очень серьезным видом, между тем как огромный тучный Тупухое торжественно и медленно приближался с крепкой узловатой дубинкой в руке. Он был весь проникнут торжественностью этого момента, и все не спускали с него глаз, когда он, погруженный в размышления, подошел и занял свое место перед нами. Он был прирожденным вождем, блестящим оратором и актером.
Он обернулся к главным певцам, барабанщикам и руководителям танцев, взмахом своей узловатой дубинки указал на каждого из них по очереди и тихим размеренным голосом отдал им короткие приказания. Затем он повернулся опять к нам и вдруг широко раскрыл свои большие глаза; огромные белки сверкали на его выразительном медно-коричневом лице так же ярко, как и зубы. Он поднял свою узловатую дубинку, и с его губ посыпались слова, как горох из мешка; он произносил древние обрядовые формулы на старинном, забытом диалекте, который понимали только старики.
Затем он сообщил нам, пользуясь услугами Теки для перевода, что имя первого короля, обосновавшегося на их острове, было Тикароа и что он царствовал над этим же атоллом с севера до юга, с востока до запада и вверх до неба, расстилающегося над головами людей. И пока хор исполнял старинную балладу о короле Тикароа, Тупухое положил свою большую руку мне на грудь и, поворачивая меня к зрителям, объявил, что даст мне имя Вароа Тикароа, то есть Дух Тикароа.
Когда пение стихло, наступила очередь Германа и Бенгта.
Большая коричневая рука коснулась поочередно их груди, и они получили имена Тупухое-Итетахуа и Топакино. Так звали двух древних героев, которые вступили в бой с морским чудовищем и убили его у прохода в рифе Рароиа.
Барабанщик несколько раз энергично ударил в барабан, и двое здоровенных мужчин выскочили вперед с повязкой вокруг бедер и с длинным копьем в каждой руке. Высоко поднимая колени к самой груди, держа копья острием вверх, поворачивая голову из стороны в сторону, они принялись быстро маршировать, отбивая ногами такт. Когда снова раздался бой барабана, они высоко подпрыгнули и, строго соблюдая ритм, принялись изображать легендарную битву по всем правилам балетного искусства. Вся интермедия была короткой и быстрой и изображала битву героев с морским чудовищем. Затем с пением и церемониями было дано имя Торстейну; его назвали Мароаке — по имени древнего короля этой деревни, а Эрик и Кнут получили имена Тане-Матарау и Тефаунуи в честь двух мореплавателей и морских героев древности. Длинная монотонная речь, сопровождавшая присвоение им имен, произносилась с головокружительной быстротой; безостановочный поток слов был рассчитан одновременно на то, чтобы произвести впечатление и позабавить.
Церемония была закончена. Среди полинезийцев на Рароиа опять появились белые бородатые вожди. Из толпы выступили две цепи танцовщиков и танцовщиц в плетеных соломенных юбочках, с покачивающимися лубяными коронами на голове. Танцуя, они приблизились к нам и переложили короны со своих голов на наши; нам пришлось также надеть на себя шелестящие соломенные юбочки, и празднества продолжались.
Однажды ночью увенчанные цветами радисты связались с радиолюбителем на Раротонге, который передал нам сообщение с Таити. Это был сердечный привет от губернатора французских тихоокеанских колоний.
По распоряжению из Парижа он послал правительственную шхуну «Тамара», которая должна доставить нас на Таити, так что нам не придется ждать копровой шхуны, срока прихода которой никто не знал. Таити был центрам французских колоний и единственным островом, имевшим постоянную связь с внешним миром. Мы должны добраться до Таити и там сесть на пароход, совершающий регулярные рейсы, который доставит нас домой, на родину.
На Рароиа продолжались празднества. Как-то вечером с океана донеслись какие-то странные завывания; дозорные спустились с вершин пальм и сообщили, что у входа в лагуну находится какое-то судно. Мы бросились бегом через пальмовый лес к берегу с подветренной стороны острова. Там мы стали смотреть на океан в направлении, противоположном тому, откуда мы пришли на «Кон-Тики». С этой стороны, защищенной от ветра всем атоллом и рифом, буруны были значительно ниже.
Как раз у входа в лагуну со стороны океана мы увидели огни корабля. Небо было ясное и звездное, и мы могли различить очертания широкой двухмачтовой шхуны. Это и есть судно губернатора, пришедшее за нами? Почему оно не входит?
Островитяне проявляли признаки все возраставшего беспокойства. Теперь увидели и мы, что судно имело большой крен и ему грозила опасность опрокинуться. Оно сидело на мели на невидимом подводном рифе.
Торстейн схватил фонарь и просигналил:
— Que bateau?
[154]
— «Маоае», — передали нам в ответ.
«Маоае» была копровая шхуна, курсировавшая между островами. Она держала путь на Рароиа за копрой. Капитан и команда шхуны были полинезийцы, и они знали о рифах на подступах к лагуне. Но в темноте их подвело течение. Счастье было, что шхуна находилась с подветренной стороны острова и что погода была тихая, но течение за пределами лагуны было достаточно коварным. Крен «Маоае» увеличивался и увеличивался, и команда спустила шлюпку. Матросы закрепили крепкие канаты на верхушках мачт, а свободные концы канатов доставили в шлюпке на берег, где островитяне обвязали их вокруг стволов кокосовых пальм, чтобы шхуна не опрокинулась. Матросы с другими канатами остановились на шлюпке за проходом в рифе в надежде, что им удастся снять «Маоае» с мели, когда начнется прилив и вода устремится из лагуны. Жители деревни спустили на воду все свои пироги и принялись спасать груз копры. На борту шхуны было девяносто тонн этого ценного товара. Мешки с копрой партия за партией перевозились с раскачивавшейся шхуны на берег.
Вода поднялась, но «Маоае» все еще сидела на мели, раскачиваясь и ударяясь о коралловые рифы, пока не получила пробоины. Когда наступил рассвет, шхуна находилась еще в худшем положении, чем раньше. Команда ничего не могла поделать; не стоило и пытаться стащить с рифа тяжелое судно, водоизмещением в 150 тонн, с помощью шлюпки и пирог островитян. Если шхуна будет и дальше лежать там же, ударяясь о риф, она развалится на части; а если переменится погода, ее унесет к атоллу, и в прибое разобьет в щепу.
На «Маоае» радио не было, но у нас оно имелось. Однако если бы мы и вызвали спасательное судно с Таити, то к тому времени, когда оно пришло бы, «Маоае» давно превратилось бы в обломки. И все же второй раз в течение месяца, риф Рароиа упустил свою добычу.
В тот же день около полудня шхуна «Тамара» показалась на горизонте на западе. Она была послана за нами, чтобы забрать нас с Рароиа, и находившиеся на ее борту были немало удивлены, увидев вместо плота две мачты большой шхуны, которая беспомощно сидела на рифе, накренившись и раскачиваясь.
На борту «Тамары» был французский чиновник, управляющий островами Туамоту и Тубуаи, Фредерик Анн, которого губернатор направил с Таити встретить нас. На «Тамаре» находились также француз-кинооператор и француз-радист, но капитан и команда были полинезийцы. Сам Анн, француз по происхождению, родился на Таити и был великолепным моряком. Он принял на себя командование судном с согласия капитана-таитянина, который был рад освободиться от ответственности в этих опасных водах. Пока «Тамара» ловко лавировала среди бесчисленных подводных рифов и водоворотов, обе шхуны были соединены прочными канатами, и Анн приступил к искусным и рискованным маневрам, а прибой между тем грозил выбросить оба судна на один и тот же коралловый риф.
Когда прилив достиг наибольшей высоты, «Маоае» сошла с рифа, и «Тамара» отбуксировала ее на глубокое место. Но теперь через пробоину вода стала заливать «Маоае», и ее пришлось как можно скорей увести в лагуну на мелководье. В течение трех дней «Маоае» стояла у деревни полузатопленная, и все помпы работали круглые сутки. Лучшие искатели жемчуга из числа наших друзей-островитян ныряли под шхуну со свинцовыми листами и гвоздями и заделали самые большие пробоины, так что «Маоае» с работающими помпами могла в сопровождении «Тамары» добраться до дока на Таити.
Когда «Маоае» была готова к отплытию, Анн провел «Тамару» между покрытыми кораллами мелководьями в лагунах к острову Кон-Тики. Плот был взят на буксир, а затем «Тамара» отправилась обратно к выходу с «Кон-Тики» на буксире; а «Маоае» шла вслед за ней на таком близком расстоянии, чтобы можно было снять команду, если в океане прибыль воды в трюме возьмет верх над помпами.
Наше прощание с Рароиа было более чем грустным. Все, кто мог двигаться, были на молу; они играли и пели наши любимые мелодии, когда судовая шлюпка увозила нас на «Тамару».
Огромный Тупухое возвышался в центре, держа за руку маленького Хаумата. Хаумата плакал, слезы текли и по щекам могучего вождя. У всех стоявших на молу были слезы на глазах, но они продолжали петь и играть еще долго-долго после того, как шум бурунов, набегавших на риф, заглушил для нас все остальные звуки.
Эти чистые сердцем люди, которые стояли на молу и пели, теряли шестерых друзей, а мы, безмолвно стоявшие на борту «Тамары», пока мол не скрылся за пальмами, а пальмы не исчезли в океане, теряли 127 друзей. В ушах у нас продолжала звенеть прихотливая мелодия:
«…пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Через четыре дня перед нами возник из океана остров Таити. Он не походил на нить жемчужин с кронами пальм. Дикие зубчатые синие горы вздымались к небу, и вершины их были окутаны облаками, напоминавшими венки.
По мере того как мы приближались, на синих горах обнаружились зеленые склоны. Пышная растительность юга зелеными пятнами сбегала по рыже-красным холмам и утесам, которые переходили в глубокие ущелья и долины, спускавшиеся к морю. Когда берег был уже совсем близко, мы увидели стройные пальмы, плотно обступавшие все долины и весь берег позади золотистого пляжа. Остров Таити был когда-то образован вулканами. Теперь они потухли, и коралловые полипы постепенно воздвигли защитный риф вокруг острова, чтобы океан не мог разрушить его.
Рано утром мы прошли пролив между рифами и очутились в бухте Папеэте. Перед нами возвышались церковные шпили и красные крыши домов, наполовину скрытые листвой гигантских деревьев и верхушками пальм. Папеэте — столица Таити, единственный город во французских владениях в Океании. Это был город развлечений, резиденция правительства и центр всех морских путей в восточной части Тихого океана.
Когда мы вошли в бухту, жители Таити стояли на берегу плотной яркой живой стеной и ожидали нас. Новости распространяются на Таити с быстротой ветра, и каждому хотелось посмотреть на пае-пае, который прибыл из Америки.
«Кон-Тики» было отведено почетное место у морского бульвара; мэр Папеэте приветствовал нас, а маленькая полинезийская девочка преподнесла нам от имени Полинезийского общества огромный букет таитянских полевых цветов. Затем подошли молодые девушки и надели нам на шею сладко пахнувшие венки из белых цветов, приветствуя нас с прибытием на Таити, жемчужину Южного моря.
Я искал в толпе знакомое лицо, лицо моего приемного отца на Таити, вождя Терииероо, являвшегося главой 17 местных вождей острова. Конечно, он был тут. Высокий и грузный, живой и веселый, как в старые дни, он вынырнул из толпы, крича «Тераи Матеата!» и улыбаясь всем своим широким лицом. Он стал стариком, но у него был все тот же представительный вид прирожденного вождя.
— Поздно ты явился, — сказал он, улыбаясь, — но ты явился с хорошими новостями. Твой пае-пае поистине принес на Таити синее небо (тераи матеата), так как мы теперь знаем, откуда пришли наши отцы.
Губернатор устроил прием в своем дворце, был званый вечер в городской ратуше, приглашения сыпались на нас со всех концов гостеприимного острова.
Как и в прежние дни, вождь Терииероо устроил большое празднество у себя в доме в долине Папено, который я так хорошо знал; и так как Таити не Рароиа, то здесь была проделана новая церемония наделения таитянскими именами тех, кто раньше их не имел.
Это были баззаботные дни; солнце ярко светило, в небе медленно проплывали легкие облака. Мы купались в лагуне, лазили по горам и танцевали полинезийские танцы на траве под пальмами. Дни проходили и превращались в недели. Похоже было на то, что недели превратятся в месяцы, прежде чем придет корабль, который отвезет нас домой к ожидавшим нас делам.
Затем была получена радиограмма из Норвегии, в которой сообщалось, что судовладелец Ларс Кристенсен дал предписание судну «Тор I» водоизмещением в 4 тысячи тонн направиться с Самоа на Таити, чтобы захватить участников экспедиции и доставить их в Америку.
Однажды рано утром большой норвежский пароход вошел в бухту Папеэте, и французский военный катер отбуксировал «Кон-Тики» к борту его огромного соотечественника; тот протянул длинную стальную руку и поднял своего маленького родственника на палубу. Громкие завывания сирены разнеслись по поросшему пальмами острову. Коричневые и белые люди толпились на набережной Папеэте и бесконечной вереницей взбирались на борт корабля с прощальными подарками и венками. Мы стояли у поручней и вытягивали, как жирафы, шеи, чтобы высвободить подбородок из венков, которые один за другим надевали на нас.
— Если вы хотите вернуться на Таити, — прокричал вождь Терииероо, когда над островом разнесся последний гудок, — вы должны, после того как пароход тронется, бросить венок в лагуну!
Концы были отданы, заревели двигатели, винт забурлил в воде, ставшей зеленой, и мы медленно отошли от набережной.
Красные крыши вскоре исчезли за пальмами, пальмы растворились в синеве гор, которые постепенно, как тени, опускались за горизонтом в океан.
Волны ходили по синему океану. Теперь до них было далеко. Белые пассатные облака проплывали по синему небу. Мы уже не двигались в одну сторону с ними. Теперь мы не повиновались природе. Мы находились на пути к XX веку, до которого было так далеко.
Но мы, шестеро, стоявшие на палубе около наших девяти огромных бальсовых бревен, были все живы. А на лагуне в Таити шесть белых венков лежали на воде, и ласковые волны то прибивали их к берегу, то относили назад.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Успешный результат экспедиции на «Кон-Тики» не доказал правильности моей миграционной теории как таковой. Мы доказали лишь, что южноамериканский бальсовый плот обладает качествами, о которых современные ученые раньше не знали, и что тихоокеанские острова расположены в пределах досягаемости для доисторических судов, отплывающих из Перу. Первобытные народы были способны предпринимать далекие путешествия по открытому океану. В вопросе океанических миграций расстояние не является решающим фактором, если только направления ветра и течения в общем совпадают и остаются неизменными днем и ночью в течение круглого года. Пассаты дуют на запад, и экваториальные течения тоже идут на запад вследствие вращения Земли, и на протяжении всей истории человечества Земля вращается в одну и ту же сторону.
Тур Хейердал
«Ра»
Глава 1
Один ребус, два ответа и никакого решения

Ветер качает тростинку.
Мы обламываем ее.
Она лежит на воде и не тонет. Посади лягушку – выдержит.
Ветер колышет 200 тысяч тростинок, вдоль берега простерся сплошной зеленый луг.
Мы срезаем тростинки. Вяжем большие снопы. Кладем на воду. И становимся на них. Русский, уроженец Чада, мексиканец, египтянин, американец, итальянец и я – норвежец. С нами обезьянка и тьма кудахтающих кур. Мы пойдем в Америку. Пока что мы в Египте. Ветер несет песок, кругом сушь, кругом Сахара.
Абдулла заверяет меня, что снопы будут держаться на воде. Я объясняю ему, что до Америки далеко. Он слышал, что в Америке не любят черную кожу. Я стараюсь его убедить, что это не так. Он не знает, в какой стороне Америка. Но мы до нее доберемся, если ветер дует туда. Снопы нас не подведут, только бы веревки выдержали, говорит он. Только бы веревки выдержали. Выдержат или нет?
Кто-то потряс меня за плечо, я проснулся. Абдулла.
– Три часа, – докладывает он. – Мы опять начинаем работать.
Палатка горячая от солнца. Я сел и, прищурив глаза, выглянул наружу. Там владычествовал сухой зной и слепящее солнце Сахары. Солнце, солнце, солнце. Накаленная солнцем плоскость смыкалась со сводом несравненной синевы, косые лучи озаряли сухое безоблачное небо над миром золотисто-серого песка. На фоне неба акульими зубами торчали три большие и две малые пирамиды. Незыблемые, неизменные, стоят они так с той далекой поры, когда человек был неотъемлемым от природы и созидал природу.
А в пологой ложбине, на песке около пирамид, желтело нечто, вырванное из тока времени, созданное вчера, созданное пять тысяч лет назад: корабль в песках, этакий Ноев ковчег, севший на мель в сахарской пустыне, далеко от водорослей и волн. Рядом стояли два верблюда. Они что-то жевали. Что? Может быть, обрезки нашей ладьи, «бумажной» ладьи. Ведь ее сделали из папируса
[155]. Золотистые стебли связали в снопы, из этих снопов собрали лодку – вот она, с высоким носом и кормой, словно лунный серп на фоне неба.
Абдулла уже спускался в лощину. Два чернущих будума в просторных белых тогах карабкались на ладью, ярко одетые египтяне волокли снопы папируса. Работать так работать!
– Бут! Бут! – кричал Абдулла. – Еще папируса!
Я вышел на горячий песок, пошатываясь, как будто очнулся после тысячелетнего сна. Все эти люди работали для меня, это мне взбрело в голову возродить искусство строительства лодок, которые фараон Хеопс и его потомки уже начали забывать, когда возводили могучие пирамиды – те самые, что теперь, будто горная гряда, отделяли возникшую из тьмы веков строительную площадку от бурлящих водоворотов двадцатого века на улицах Каира, раскинувшегося в зеленой нильской долине.
Нас окружал сплошной песок. Жаркий песок, пирамиды, снова песок и стога просушенной солнцем травы – хрупкого, горючего папируса; рабочие тащили его к смоляно-черным африканцам и те, сидя на желтом полумесяце, затягивали веревочные петли руками, зубами и ногами. Они строили лодку, папирусную лодку.
Кадай называли ее на своем языке – языке племени будума – эти ребята. Ловкие пальцы и крепкие зубы вязали узлы так, что сразу видно мастеров своего дела.
Бумажным корабликом назвали нашу лодку сотрудники Института папируса в Каире, которые размачивают эти растения в воде и превращают колотушками в хрупкую бумагу, чтобы туристы и научные работники могли своими глазами увидеть, на чем писали иероглифами свои труды первые в истории человечества ученые.
Стебель папируса – сочный и мягкий, ребенок может его согнуть и сломать. Высушенный, он обламывается, как спичка, и горит, как бумага.
На песке у моих ног лежал безжалостно скрученный, весь изломанный сухой стебель. Его швырнул здесь старый араб, сперва возмущенно смял, потом бросил, плюнул и презрительно показал на него пальцем. Дескать, что это за материал, он не держит гвоздя, как к нему мачты крепить! Искушенный лодочный мастер, этот араб приехал на автобусе из Порт-Саида, чтобы принять заказ на мачту и такелаж для нашей лодки. И до того осерчал, что следующим же автобусом укатил обратно к морю. Что за насмешки над честным тружеником! Или нынешние совсем уже не знают, что нужно для настоящей лодки? Напрасно ему объясняли, что именно такие лодки в большом количестве изображены в склепах древних строителей пирамид, похороненных в здешней пустыне.
– Ну и что?! Там и не такое намалевано, есть и люди с птичьей головой, и крылатые змеи! А папирус, сами убедитесь, – это же трава, мягкие стебли, ни гвоздь вколотить, ни шуруп завинтить. Стог сена. Бумажная ладья. Попрошу оплатить обратный проезд.

И уехал. Но ведь лодке нужна мачта... Наши чернокожие друзья с озера Чад в сердце Африки клялись, что этот мастер – олух, он, наверно, никогда не видел настоящей
кадай, их вяжут из этого самого папируса. Правда, мачт на
кадай не ставят, да и к чему нам мачта, когда все люди веслами гребут. Озеро Чад огромное, неужели океан больше! И друзья невозмутимо продолжали связывать вместе снопы папируса. Тут они могли хоть кого поучить. А этот араб из Порт-Саида – просто невежда, он же в глаза не видел
кадай.
Я вернулся в палатку и достал из портфеля зарисовки и фотографии древних египетских фресок и моделей. Вот папирусные лодки – ни гвоздей, ни костылей. Под мачту поверх папируса уложена и укреплена веревками широкая, прочная деревянная пята, нижняя часть мачты вставлена в нее и крепко с ней связана... Я отложил зарисовки и лег на сваленные около палатки веревки. Здесь не так жарко, можно поразмыслить... Итак, что я, собственно, затеял, и какие у меня основания считать, что на такой лодке можно было выйти из дельты Нила в море? По чести говоря, моя догадка опирается скорее на интуицию, чем на конкретные факты.
Когда я задумал построить из бальсовых бревен плот «Кон-Тики», у меня были совсем другие отправные точки.
Я в жизни не видел бальсы и никогда не ходил на парусной лодке, не говоря уже о плоте, но у меня была гипотеза, были веские данные и логический вывод. Теперь нет ни того, ни другого, ни третьего. В тот раз я был вооружен объемистой рукописью, полной надежных, на мой взгляд, свидетельств того, что представители древнейшей культуры Перу задолго до какого-либо другого народа достигли островов Полинезии. Было известно, что у древних перуанцев к понятию «морское судно» ближе всего подходил бальсовый плот. Отсюда я делал вывод, что этот плот был вполне мореходным и мог благополучно перенести людей и культурные растения через океан из Перу в Полинезию. Вот и все аргументы, однако вывод подтвердился.
Теперь дело обстоит иначе. Я вовсе не предполагаю, что египтяне принесли свою культуру на далекие острова или континенты. Многие считают, что задолго до Колумба древние египтяне достигали тропической Америки. Я такой гипотезы не выдвигаю, у меня нет свидетельств ни за, ни против. К тому же и в Месопотамии тоже строили пирамиды. Я увлечен проблемой, но не вижу убедительного ответа. В этой мозаике науке недостает еще слишком многих кусочков. Огромный пробел в хронологии, необъяснимые противоречия, да и путь через океан неизмеримо больше пути через Нил...
Для передвижения по воде у древних египтян первоначально были только лодки из папируса. Потом у них появились длинные парусные суда; выходить на этих судах в море в большую волну было опасно, зато они идеально подходили для всяких перевозок и путешествий по тихому Нилу. В нескольких сотнях метров от моей палатки, у самой пирамиды Хеопса, мой египетский друг Ахмед Юсеф, улыбчивый бородач, как раз занимался сборкой одного из великолепных деревянных кораблей фараона.
Совсем недавно археологи установили, что вокруг пирамиды с каждой стороны были закопаны корабли, итого четыре. Они сохранялись в герметичных камерах глубоко под землей, прикрытые сверху большими каменными плитами. Пока что вскрыта только одна камера, в ней обнаружены сотни толстых кедровых досок, и древесина такая же крепкая, какой была при захоронении свыше 4600 лет назад, за 2700 лет до нашей эры. Главный хранитель египетских древностей самолично продевал в тысячи дырочек новые веревки взамен сгнивших. Заново сшитый корабль получился больше сорока трех метров в длину, с удивительно изящными обводами, вполне способный размерами и красотой поспорить с ладьями викингов, которые начали бороздить Северное море, Атлантический океан и Средиземное море несколькими тысячелетиями позже. Только в одном эти два типа судов существенно отличались друг от друга: ладьи викингов были рассчитаны на нелегкий поединок с океанской волной, а корабль Хеопса предназначался для парадных выездов на тихом Ниле.
След, оставленный на дереве веревками, говорит о том, что древний корабль немало послужил, это не была так называемая «солнечная ладья», построенная для последнего плавания фараона. Но корпус сделан так, что он был бы разрушен при первой же встрече с высокими морскими волнами. Это очень странно. Ведь строгие, совершенные обводы корабля Хеопса не вяжутся с представлением о речном судне; мастерски набранный корпус с высоким носом и кормой, казалось бы, во всем обличает морской корабль, нарочно сделанный так, чтобы переваливать через прибой и крутую волну. Конечно, это не случайно, тут есть над чем призадуматься. Фараон, живший на тихом берегу Нила почти 5 тысяч лет назад, построил ладью, которая выдерживала только легкую речную рябь, хотя обводам ее могли бы позавидовать лучшие мореходные нации мира. Хрупкое речное судно сделано по образцу, созданному народом с давним, большим опытом морских плаваний.
В чем же дело? Одно из двух. Либо плавные обводы морского корабля были творением египетских мореплавателей той самой поры, когда другие гениальные египтяне уже создали письменность, астрономию, строили пирамиды, делали операции на черепе, изготовляли мумии. Либо кораблестроители фараона учились в других странах. Похоже, что последнее вернее. В Египте нет кедра, материал для корабля Хеопса был привезен из лесов Ливана. А в Ливане жили финикийцы, опытные кораблестроители, избороздившие все Средиземное море на своих судах. Их главный порт Библ, один из древнейших городов мира, ввозил из Египта папирус, ведь здесь был центр изготовления книг, отсюда само название Библ или Бибел, то есть книга. Во времена, когда строилась пирамида Хеопса, между Египтом и Библом велась оживленная торговля, так, может быть, у финикийцев корабельщики фараона позаимствовали конструкцию своих судов? Может быть.
Все дело в том, что нам очень мало известно о внешнем облике финикийских кораблей. Во всяком случае они вряд ли были папироформными, то есть сделанными по образцу папирусной ладьи. Ведь папирус не рос в Ливане, а ладья фараона Хеопса была папироформной. Все крупные деревянные суда времен фараонов были папироформными, их очертания напоминали папирусную ладью.
Тут мы подошли к самому главному. Образцом для корабля Хеопса послужила папирусная лодка. Именно ей были присущи характерные черты морского судна. Нос и корму делали высокими, изогнутыми вверх, выше чем на ладьях викингов, чтобы судно переваливало через морскую волну и прибой, а не для того, чтобы оно приминало мелкую рябь на реке. Папирусная лодка передала свою форму деревянному кораблю, а не наоборот. И конструкция папирусной лодки уже полностью сложилась к тому времени, когда по велению первых фараонов на стенах гробниц изображали их мифических божественных предков. Причем когда легендарные зачинатели фараонова рода – бог солнца и птицечеловеки – изображены на кораблях, то это не финикийские деревянные корабли, не плоты и не речные плоскодонки, а серповидные папирусные ладьи, форму которых в точности повторили строители корабля Хеопса, вплоть до изгибающегося внутрь высокого ахтерштевня, увенчанного символом цветка папируса.
Чтобы построить ладью так, как строили египтяне, когда Средиземноморская культура на берегах Нила делала свои первые шаги, нужен не топор и знание плотницкого ремесла, а нож для резки папируса и веревка. Ножом и веревками были оснащены африканцы Мусса, Умар и Абдулла, которые в эту минуту вязали у подножия пирамид Хеопса, Хафра и Мен-Кау-Ра папирусную лодку такого же вида, как древние ладьи, изображенные на стенах гробниц в пустыне по соседству с нашей строительной площадкой.
Зачем? Что я хотел доказать? Да ничего, ровным счетом ничего. Я хотел только выяснить – выяснить, можно ли на такой лодке выходить в море. Правы ли специалисты, считающие, что финикийцы сами ходили за папирусом в Египет, потому что египтяне с их папирусными лодками не могли плавать за пределами дельты Нила. Или, может быть, древнейшие египтяне были опытными судостроителями и мореплавателями, прежде чем осели на месте и стали ваятелями, фараонами, мумиями. Я хотел выяснить, способна ли папирусная лодка пройти по морю 400 километров – путь от Египта до Ливана. Выяснить, не может ли лодка из папируса пройти еще дальше, от одного материка до другого. Выяснить, не может ли она дойти до Америки...
Зачем? Да затем, что никто не знает, кто же первым достиг Америки. В учебниках написано, что это был Колумб. Но Колумб не открыл Америку. Он был повторным открывателем. Чрезвычайно смелый и проницательный человек, он вышел на кораблях в неведомое, твердо убежденный, что Земля круглая, и он не свалится с ее края. Имя Колумба знаменует перелом в истории, он изменил образ жизни целой части света, дал толчок рождению могущественных государств, и со временем там, где раньше были только леса и кустарники, выросли небоскребы. Но не Колумб открыл Америку. Он проложил туда дорогу для других, однако это было уже в 1492 году нашей эры.
Когда же Америка была открыта? Это никому не известно. Первый человек, ступивший на американскую землю, не был знаком с понятием летоисчисления. У него не было календаря. Не было письма. При своих ограниченных географических представлениях он и не подозревал, что достиг нового материка, где еще не бывало людей.
Первый представитель Homo sapiens, пришедший в Америку, был кочующий охотник и рыболов. Подобно своим отцам и дедам, он бродил вдоль суровых берегов арктической Сибири и в один прекрасный день очутился на восточном берегу полностью или частично скованного льдом Берингова пролива, не подозревая, что до него в здешней тундре топтали сугробы только дикие звери. Мы не знаем сегодня, пересек ли он Берингов пролив пешком по льду или на утлой лодчонке. Знаем только, что первый человек, умерший на американской земле, родился в арктической Азии. И еще нам известно, что открыватель Америки не знал ни металла, ни ткачества, что он прикрывал свое тело звериными шкурами или обработанной колотушками корой, что его оружие и орудия труда были сделаны из кости и камня, ведь это был человек каменного века.
Мы не можем точно сказать, когда потомки первооткрывателей Америки начали распространяться через Аляску на юг в Северную, Среднюю и Южную Америку. Одни полагают, что заселение Нового Света началось около 15 тысяч лет до нашей эры, другие утверждают и доказывают, что эту цифру можно по меньшей мере удвоить. Но все сходятся на том, что воротами в Америку были ледяные просторы Арктики, и первыми в них вошли бродячие орды, коим суждено было стать предками многочисленных и чрезвычайно разнообразных этнических групп, которых мы привыкли именовать «американскими индейцами».
Узкий пролив между арктической Азией и Аляской продолжал оставаться доступным для кочующих племен, и многие находки говорят за то, что первобытные общины и потом переходили из Сибири в Америку и обратно. А цепочка Алеутских островов и Куро-Сиво к югу от нее служили мостом для тех, у кого были лодки. От Аляски на севере до Огненной Земли на юге новые поколения поселялись в иглу и вигвамах, в хижинах и пещерах, ведь в Новом Свете есть все разновидности климата и географической среды. Эндогамные браки при изоляции, новые переселения и смешанные браки – все это, вместе взятое, способствовало возникновению множества различных индейских племен Америки, резко отличающихся между собой, и не только лицом и телосложением: они подчас говорили на языках, которые даже не назовешь родственными, и вели совершенно разный образ жизни.
И вот тут-то наконец появился Колумб. 12 октября 1492 года он сошел на берег Сан-Сальвадора со своим знаменем и крестом, а за ним явились Кортес, Писарро и прочие испанские конкистадоры. Никто никогда не отнимет у Колумба его заслуги, это он распахнул ворота Америки для всех нас, кому не пришлось идти в нее по льду. Но мы, европейцы, как-то уж очень легко забываем, что на берегу его встречали тысячи людей. Что на континенте за островами, на которых он высадился, гостей ждали высокоразвитые государства. Тамошние ученые поведали испанцам, что сюда и раньше приходили из-за океана белые бородатые люди, что эти пришельцы посвятили их во все секреты цивилизации, что испанцев давно ожидают, ведь представители заморской культуры обещали их предкам вернуться.
И правда, в этой части Америки жили отнюдь не те первобытные охотники и рыболовы, которые первоначально пришли в Новый Свет из сибирской тундры. Напротив, в тропической полосе с ее далеко не бодрящим климатом, куда доставили испанцев пассатные ветры и могучее океанское течение, их встретили высокообразованные люди. Они сами делали книги из бумаги, изучали астрономию, историю, врачебное искусство. Они читали и писали, пользуясь собственным письмом. У них были настоящие школы и научные обсерватории. В астрономии и географии они достигли замечательных успехов: точно рассчитали движение небесных тел, вычислили положение экватора, эклиптики, северного и южного тропиков, различали звезды и планеты. Сложный календарь этих людей был точнее того, который знали в Европе во времена Колумба; их летоисчисление – год 0 майя – начиналось, в пересчете на наш календарь, 3113 годом до нашей эры. Где позволял климат, врачи весьма умело бальзамировали знатных покойников, и подобно древним египтянам они делали трепанацию черепа – искусство, которым врачи Европы еще не владели и сто, и двести лет спустя после того, как Колумб пересек океан
[156].
Просвещенные и непросвещенные граждане жили в выстроенных по плану городах с ровными улицами, водостоком, канализацией, рыночными
площадями, спортивными площадками, школами и дворцами. Тут нельзя было увидеть палаток и шалашей, горожане изготовляли кирпич из глины с соломой, такой же, как в странах Средиземноморья, и строили настоящие дома в два и больше этажей. В домах побогаче были залы с колоннами, а стены украшались барельефами и замечательными фресками; у художников были яркие и прочные краски. Широко применялись ткацкие станки; испанцы увидели гобелены и плащи, которые композицией узоров и тонкостью изготовления превосходили все, что они знали на своей родине. Искусные гончары лепили вазы и блюда, кувшины и кубки, людей, животных, разные бытовые сценки, и мастерство их ничуть не уступало лучшим произведениям классических культур Старого Света. А золотые и серебряные изделия здешних ювелиров технически и эстетически стояли так высоко, что испанские «открыватели», потеряв от радости голову и совесть вместе с ней, схватились за меч...
Над крышами домов из сырцового кирпича высились огромные ступенчатые пирамиды, храмы, могучие изваяния священных правителей; мощеные дороги, хитроумные акведуки и мосты изменили лицо края. Нескончаемые земледельческие террасы с искусственным орошением давали обильный урожай корнеплодов, местных злаков, овощей, фруктов, лекарственных и других культурных растений. Даже хлопчатник был окультурен селекционерами и возделывался на больших площадях. Местные жители пряли шерсть и хлопок, красили пряжу и делали ткани, нередко превосходившие качеством лучшие ткани Европы.
Так кто же кого открыл? Те, кто стояли на суше и смотрели на приближающиеся суда, или те, кто, стоя на палубе, разглядывали людей на берегу? Священный правитель слышал от своих дедов, что он происходит от Солнца через белых бородатых людей, которые явились на паланкинах с зонтом и опахалом. Музыканты правителя играли на флейтах и трубах, били в барабаны, звенели серебряными колокольчиками. Его сопровождала личная охрана и многотысячная регулярная армия; разведчики обнаружили горсточку испанцев, которые сошли с кораблей на сушу и двинулись внутрь страны, к столице.
С могущественным царством ацтеков в Мексике произошло то же, что с огромной империей инков в Южной Америке. Горстка бородатых, белокожих испанцев захватила обширные государства, что называется, без единого выстрела. И все потому, что ученые и жрецы в этих странах сохранили иероглифические записи и религиозные предания: будто бы белые бородатые люди принесли их предкам блага культуры, а потом ушли дальше, в чужие края, но обещали вернуться назад
[157].
Сами индейцы были безбородые, как и все люди с желтовато-коричневой кожей, проникшие на материк с севера. А испанцы, которых они «открыли» у себя на берегу, были белокожие и бородатые, как и все культурные герои местных преданий, и могущественнейшие самодержцы того времени от души приветствовали их «возвращение» в Мексику и Перу.
Но недолго длилось знакомство остального мира с великими цивилизациями Нового Света, от империй ацтеков и майя на севере до царства инков на юге, которые протянулись, словно бусины на нитке, не выходя за тропики в те части Америки, где в наше время особенно наглядно проявились инициатива и трудолюбие человека. Занавес, поднятый Христофором Колумбом, был очень быстро опущен теми, кто последовал за ним. Всего несколько десятилетий – и полнокровные государства с замечательной культурой рухнули. Частью уничтоженные, частью воспринявшие другие элементы, они обрели новые формы, причем мы, европейцы, охотно приписываем себе заслугу создания всего позитивного, что принято связывать с культурой, а какие-то экзотические минусы относим к наследию доколумбовой поры. И все потому, что алчные до золота конкистадоры, преступно прячась за крест, сумели задернуть занавес раньше, чем кто-либо успел как следует уразуметь, что они нашли на другом конце земного шара.
Так что же происходило в Мексике и Перу до того, как Колумб явился в Америку? Можно ли считать первобытного человека из арктической тундры единоличным зачинателем всего того, что обнаружили испанцы? Или имелись другие пути в Древнюю Америку? Может быть, и в Америке, как всюду на земном шаре, еще до Колумба происходило смешение племен? Может быть, потомки переселенцев из Арктической Азии встречали мореплавателей на берегу Мексиканского залива в те далекие времена, когда цивилизация из Африки и Малой Азии распространилась на берега варварской Европы?
Вот в чем вопрос. А ответ? Нет. Конечно, нет. Пожалуй, нет. Пожалуй... Жесткая веревка терла мне спину, и я сел. Пожалуй. Проклятый вопрос. Я лег удобнее. И не видно решения, сколько ни ломай голову. Мысли вращались в замкнутом кругу. Если древние цивилизации Америки всецело сложились в Мексике или Перу, естественно ждать, что археологи обнаружат следы их постепенного развития. Но в каком бы из исторических центров Мексики или Перу ни производили раскопки, они показывают, что цивилизация явилась в сложившемся виде, а уже дальше развивался тот или иной местный вариант. Завязки обнаружить пока не удается. Казалось бы, все ясно: импорт. Заморское влияние. Но ведь великие культуры расцвели в Новом Свете за несколько веков до нашей эры, если верны нынешние теории, а к этому времени прошло около двух тысяч лет, как перестала существовать соответствующая культура в Египте.
Так зачем же строить папирусную лодку? Мысли полетели дальше. Через Америку в Тихий океан. Там я чувствовал себя более уверенно. Сколько лет отдано исследованиям и полевым работам в этой области. В Египет я впервые прибыл простым туристом четыре года назад и увидел в Долине царей настенные изображения папирусных лодок. Лодки показались мне знакомыми. Примерно такие же рисовали на своих кувшинах строители пирамид Северного Перу во времена расцвета их культуры, задолго до заселения Полинезии. У самых больших перуанских камышовых лодок на этих изображениях двойная палуба. На нижней палубе – множество кувшинов с водой и прочий груз, а также маленькие фигурки людей; на верхней палубе обычно стоит земной наместник бога Солнца, священный правитель. Его огромную фигуру окружают люди с птичьей головой, которые нередко тянут за веревки, ускоряя движение ладьи. На папирусных лодках, изображенных на стенах египетских гробниц, тоже показан сверхъестественного роста земной наместник бога Солнца, священный правитель – фараон, его тоже окружают маленькие фигурки, и мифические птицечеловеки тянут за веревки.
Похоже, что есть какая-то необъяснимая связь между камышовыми лодками и людьми с птичьей головой. Ведь и в Тихом океане, на макушке самого высокого вулкана острова Пасхи, в древнем ритуальном селении с солнечной обсерваторией главный мотив рельефов и фресок – неразлучное трио: маска бога Солнца, камышовые лодки под парусами и птицечеловеки. Остров Пасхи, Перу, Египет. Можно ли представить себе более обособленные друг от друга районы? И можно ли сыскать лучшее доказательство того, что люди в совершенно разных местах независимо друг от друга изобретают одно и то же? Вот только странно, что исконные жители Пасхи называли солнце «ра». И это не случайность, ведь на других островах Полинезии солнце тоже называлось «ра». «Ра» – и в Египте так именовалось солнце. Трудно найти в религии древних египтян более важное слово: «Ра» – солнце, солнечный бог, прародитель фараонов. Это он плавал на папирусной лодке, окруженный птицечеловеками. И на острове Пасхи, и в Перу, и в Древнем Египте воздвигали в честь земных наместников бога Солнца монолитные изваяния ростом с дом. А также высекали каменные плиты величиной с железнодорожный вагон и сооружали ступенчатые пирамиды, согласуя их положение с движением солнца по небу. Тоже в честь «Ра», которого во всех этих трех местах почитали как прародителя. Что это – случайность, или тут кроется какая-то взаимосвязь?
Сто лет назад, когда паруса гордо реяли над морями, считалось, что никакие дали не останавливали древних в их странствиях: ведь сумели же Магеллан, капитан Кук и многие другие, пользуясь только силой ветра, обогнуть земной шар. Но мы изобрели винт и реактивный двигатель, для каждого нового поколения наша планета становилась все меньше и меньше, и возникло представление, что прежде, чем дальше от наших дней, тем больше мир должен был казаться людям, а до Колумба и вовсе мыслился необъятным и непроходимым.
На всякого, кто учился в школе, производит магическое действие дата – 1492 год. Год, когда Колумб достиг Америки. И когда земля стала круглой. Раньше ее мыслили плоской, и океан был плоским, поэтому все, влекомое ветрами и течениями, неизбежно должно было свалиться с края в бездну. Вернее говоря, земля и до Колумба была круглой, но не совсем, а вроде половинки яйца. Так или иначе, если уплыть достаточно далеко в океан, все равно упадешь с края земли.
До 1492 года ни одна камышинка не могла проплыть над бездной в неведомую даль. После того как Колумб сделал нашу планету шаром, с нее уже ничто не сваливалось. Теперь все уплывающее в Атлантику прибивало к возникшим из морской пучины новым берегам. К тем же островам, куда прибило Колумба, или к тропическому побережью сразу за ними. Колумб стал своего рода Святым Петром, открывшим ворота в Новый Свет. За ним последовали тысячи каравелл и других парусных суденышек. А в XX веке любители приключений гуртом пересекают Атлантический океан на шлюпках, надувных лодках, амфибиях и байдарках.
Патент покорителя Атлантики выдан Колумбу. До него в Америку можно было попасть лишь пешком – в мокасинах или без них – вдоль заснеженной кромки льда из пустынных дебрей Сибири через морозную Арктику. Здесь, на севере, нельзя было сажать хлопок и строить кирпичные дома, на этот счет никаких разногласий нет. Но как те же люди, достигнув сонных тропиков, надумали разводить хлопчатник, дающий волокно для пряжи и тканей? И как они в жарком климате надумали мешать глину с соломой и лепить кирпичи, чтобы строить настоящие дома? Здесь кончается согласие. Здесь начинается спор между теми, кто искал ответа на эти вопросы.
Одним из последних, кто запросто отправлял древних в кругосветные плавания, был англичанин Перси Смит. В культурах Мексики и Перу он находил столько общих с культурой Древнего Египта специфических черт, что предполагал контакты через океан. А обнаружив те же удивительные совпадения на Пасхе и ближайших к Перу островах, он взял линейку и атлас мира и соединил прямой линией Египет через Красное море, Индийский и Тихий океаны с Полинезией и Южной Америкой. Вот как солнцепоклонники пришли в Америку, написал он. Через остров Пасхи.
Другие ставили перед собой глобус и качали головой. На круглом глобусе видно, что Тихий океан охватывает почти половину окружности земли, занимая чуть не целое полушарие. Проплыв на восток 4 тысячи километров, египетские мореплаватели подошли бы к Индии. И от острова Пасхи их бы еще отделяла ровно половина земной окружности. А южноамериканские мореплаватели, отчалив от берегов империи инков и пройдя на запад 4 тысячи километров, уже достигли бы острова Пасхи. На плоту «Кон-Тики», построенном по инкскому образцу, мы прошли от Перу на запад 8 тысяч километров и на полпути пересекли долготу Пасхи.
Остров Пасхи... Самый уединенный обитаемый остров в мире. Ближайшая страна – Перу, а не Египет. Остров Пасхи... Осаждаемый волнами ком застывшей лавы, где около тысячи заброшенных изваяний молча созерцали небо, когда люди нашей расы наконец проникли в эту область и «открыли» остров в 1722 году. Островом Пасхи назвали мы его потому, что впервые увидели его в день пасхи. «Пуп Вселенной» назвали его полинезийцы, когда пришли сюда на долбленках и обнаружили, что остров уже заселен еще более древними мореплавателями. Теми самыми, которые высекли на груди своих каменных истуканов большие камышовые лодки с мачтами и парусами. Теми самыми, чьи серповидные лодки из камыша изображены в древнейшем культовом селении острова Пасхи, где скалы расписаны солнечными символами и фигурками птицечеловеков, где наблюдали «ра» и поклонялись Солнцу, где жители собирались на ритуал птицечеловека, когда смельчаки выходили в море на маленьких камышовых лодках. Пока европейцы в 1868 году не ввели свое христианство, положив конец тысячелетнему обычаю.
Камышовые лодки острова Пасхи. Мысли перестали метаться. Все стало на свои места. На этом острове родился мой интерес к камышовым лодкам. Может быть, именно здесь кончилась их история. Но для меня здесь все началось.
Впервые я увидел камышовые лодки задолго до того, как попал на Пасху. Я ходил на них, когда изучал других каменных исполинов, покинутых своими созидателями на горном плато вокруг озера Титикака в Андах. Меня поразила их грузоподъемность, ведь на таких лодках некогда перевозили многотонные глыбы в древний город Тиауанако. Но тогда я воспринял эту своеобразную конструкцию скорее как курьез. Как и все, кто читал про империю инков, я знал, что камышовые лодки озера Титикака – всего лишь рудимент доколумбовых лодок, которыми пользовались на всем побережье Перу, когда испанцы пришли на Тихий океан. Они применялись тогда и дальше на север, вплоть до Мексики и Калифорнии. Самые маленькие лодки, напоминавшие слоновый бивень, выдерживали только одного человека, он плыл на них, лежа по пояс в воде. На самых больших, о которых пишут испанцы, была команда до двенадцати человек, а если несколько лодок связывали вместе, на них можно было перевозить по морю лошадей и рогатый скот
[158]. Я знал также, что камышовая лодка в Перу так же стара, как бальсовый плот, больше того, она была известна уже во времена древнейшей доинкской культуры: камышовые лодки в море – обычный мотив в искусстве строителей первых пирамид на севере Перу, мастеров народа мочика.
Когда я задумал строить «Кон-Тики», мне надо было выбирать. В древней империи инков знали морские суда трех родов. Бальсовые плоты из бревен, обычно срубленных в Эквадоре, камышовые лодки из снопов камыша тотора, растущего дико по берегам горных озер и выращиваемого на орошаемых землях засушливого побережья, наконец, понтоны – два связанных плугом бурдюка из тюленьих шкур.
Бурдюки через несколько дней теряли плавучесть, индейцам приходилось снова их надувать, плавая рядом в воде. Меня такой способ ничуть не прельщал. Камышовая лодка тоже не внушала мне особого доверия. Камыш, солома – это нечто хрупкое, слабое; одно дело, когда в безвыходном положении хватаешься за фигуральную соломину, но взаправду выходить на соломе в море – слуга покорный. Так я рассуждал тогда. И все были со мной согласны. Если уж плыть, то на бальсовом плоту, крепкой платформе из легких бревен. Так и вышло. Бальсовый плот прошел испытание и обнаружил поразительные мореходные качества. А камышовая лодка была отвергнута и забыта. На время.
Глава 2
Почему камышовая лодка?
Остров Пасхи и Перу

Это было на острове Пасхи в 1955 году. Восточный берег. Под рокот прибоя четыре брата, четыре старика с кожей, похожей на сморщенный табачный лист, мелкими шажками вбежали в бурлящую воду, неся маленькое суденышко, формой близкое к банану. Солнце рассыпало блики на синих волнах, позолотило лодчонку. Престарелые крепыши вытолкнули лодку за вспененную полосу, вскочили на нее и, часто-часто работая веслами, рассекли обрушившийся гребень. Не успела вырасти новая волна, как они перевалили через нее, словно на качелях, и через следующую тоже, и вот уже вышли за прибой. В лодке было так же сухо, как до встречи с валами. Вся вода в ту же минуту ушла через тысячу щелей в днище. Ни высоких бортов, ни полого корпуса. Толстые связки, на которых сидели гребцы, образовали плоскую палубу, только впереди и сзади лодка-плот, сужаясь, загибалась вверх, чтобы лучше справляться с волной. Золотистым лебедем она переваливала через гребни.
Сто лет на острове Пасхи не спускали на воду таких лодок. Старики связали ее, чтобы показать нам, на чем их деды выходили в море ловить рыбу. Миниатюрная модель известных по изображениям огромных судов поры расцвета культуры острова Пасхи. И весьма внушительная, если сравнить с похожими на бивень одноместными пора, на которых состязались кандидаты на звание птицечеловека.
Островитяне благоговейно смотрели, как четыре старых рыбака идут в океан на лодке, так хорошо всем знакомой по сказаниям предков, лодке, означающей для здешних людей примерно то же, что для американцев «Мэйфлауэр» или для нас, северян, ладья викингов.
Утлое суденышко извивалось, будто надувной матрас, вверх-вниз, вправо-влево, применяясь к волнам и не давая им намочить команду. И когда смуглая четверка на золотистой лодке обогнула мыс, на котором мы в эти дни поднимали первого из поверженных каменных исполинов острова Пасхи, можно было слышать, как люди постарше с горящими глазами говорят о том, что вот, мол, оживает далекое прошлое острова.
А для меня ожили суда далекой страны за горизонтом на востоке... Лодки острова Пасхи поразительно напоминали лодки озера Титикака, но еще больше – серповидные суда из камыша, реалистически воспроизведенные в керамике древней культуры мочика на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Волны, которые разбивались о берег у наших ног, шли с той стороны. И ведь я сам пересек здесь океан с востока на запад, влекомый постоянным круговоротом воды. Как тут не призадуматься...
В мертвом кратере вулкана Рано Рараку шесть человек погрузили в кромку озерной трясины восьмиметровый стальной бур. Множество незавершенных статуй на склонах вокруг кратерного озера свидетельствовало о том, что ваятели неожиданно прервали работу. Некоторые истуканы были почти готовы, только спина прочно соединялась с коренной породой. Они лежали с закрытыми глазами, сложив руки на животе, будто их заколдовала недобрая фея из сказки про принцессу Шиповничек. Другие каменные богатыри были отделены от породы и воздвигнуты стоймя, чтобы ваятели могли обтесать спину, сделать ее такой же изящной и гладкой, как остальные части статуи. Так и стоят они по карнизам, некоторые по подбородок в осколочном материале из каменоломен. Чуть наклонясь, сжав тонкие губы, они словно критически поглядывали, что там творят на берегу озера шесть гномов из живой плоти.
Длинное стальное копье дюйм за дюймом уходило в вязкую кашицу. Десятки тысяч лет на дне потухшего вулкана скапливались дождевая вода и ил, и возникло голубое зеркальное озеро, в котором отражается небо. И кажется, что белые пассатные облака вечной чередой скользят через кратер с востока на запад, исчезая в зеленых зарослях камыша. Три кратерных озера в камышовом венке – единственные источники пресной воды на острове Пасхи. Пасхальцы добывают в них питьевую воду с тех самых пор, как свели огнем первичный лес и превратили весь край в голую степь, после чего ручьи один за другим ушли в пористую вулканическую породу и пропали.
Об этом поведала кашица, извлеченная нами из озерной трясины. Бур заканчивался вращающимся ножом и маленькой полостью, которая захватывала ил, глину или песок, смотря по тому, из чего состоял очередной пласт. Чем глубже погружался бур, тем дальше мы проникали в прошлое.
Кромка трясины была словно книга, лежащая последней страницей вверх, а первой – вниз. Потом начиналась затвердевшая лава и вулканический шлак – свидетели той поры, когда остров поднялся со дна океана, извергая пламя. На эту безжизненную подстилку ложилась глина и ил, когда вулкан потух и края кратера начали разрушаться. Постепенно в донных осадках собиралось все больше цветочной пыльцы. Она герметически сохранялась, и теперь специалист-палинолог, изучая структуру отложений, может рассказать, в какой последовательности на новорожденный остров с помощью течений, ветров, птиц и людей попадали папоротники, кустарники и деревья. Ведь у каждого растения своя пыльца; под микроскопом ее крупинки напоминают причудливейшие плоды и ягоды.
Детективы укрываются под разными прозвищами. Некоторые, чтобы им не докучали любопытные, называют себя палеоботаниками. Они сидят и анализируют крупинки пыльцы так же тщательно, как другие детективы – отпечатки пальцев. Добытые нами комочки грязи мы раскладывали по нумерованным пробиркам, чтобы потом передать их в отдел ботанического сыска в Стокгольме. Так нам удалось кое-что разузнать о забытом прошлом острова Пасхи, о том, откуда мог прийти загадочный народ, который на заре истории неприметно для всех воздвиг здесь свои исполинские монументы.
Пыльца рассказала, что этот голый и бесплодный в представлении европейцев остров, богатый лишь истуканами и каменоломнями, от природы был наделен пышной растительностью – кустами, пальмами и другими деревьями. Но затем сюда задолго до европейцев прибыли мастера каменотесного дела. Они подожгли лес. Зола и копоть сыпались на кратерное озеро, оставив след в донных отложениях. Выше этого слоя пыльца лесных деревьев резко идет на убыль. Пришельцы сводили лес, расчищая место для американского батата, составлявшего их главную пищу. Им нужно было также место для их каменных домов и для широких культовых площадок, где сооружали ступенчатые платформы из огромных обтесанных плит, напоминающие культовые сооружения древнего Перу и египетского масштаба. Они уничтожали пальмы на склонах вулканов, снимали дерн и землю, добираясь до корневой породы, чтобы вытесывать из нее гладкие плиты и монолитные статуи покойных правителей-жрецов. Срубленные деревья их не интересовали, потому что первые обитатели острова Пасхи привыкли строить из камня, камень был для них привычным материалом, тяжеленные плиты весом в шесть, восемь, десять слонов и высотой с дом тащили через весь остров, ставили на торец, укладывали друг на друга и подгоняли, сооружая замечательные мегалитические стены, подобные которым можно увидеть только в Перу, Мексике да в странах древних солнцепоклонников Внутреннего Средиземноморья, на другом конце земного шара.
И не только об этом рассказали детективы, изучив доставленные нами комочки грязи. Усердные покорители целины, хотя истребили изначальную растительность острова, привезли взамен батат, который был неизвестен в нашей части света, пока Колумб не обнаружил его в Америке. Об этом мы знали и раньше. Островитяне называют батат «кумара», как и коренные жители значительной части древней инкской империи. Но лепешечки ила сохранили следы другого растения, еще более важного для морского народа.
Камыш. Камыш тотора.
Выше слоев с золой от лесных пожаров идут другие слои, желтые от спрессованной пыльцы камыша тотора, перемешанной с прочными волокнами стеблей. Большие участки кратерного озера покрыты сплошным плавучим ковром из сгнившего камыша. Кроме тоторы только одно водное растение оставило свою пыльцу в донных отложениях, начиная с пласта, в котором пепел знаменует прибытие людей на остров. Глубже пыльца пресноводных растений не встречена. До прихода человека в кратерных озерах Пасхи ничего не росло, поверхность их была совершенно чистой.
Чем не материал для детектива! Нетрудно догадаться, что оба пресноводных растения попали сюда из-за океана вместе с человеком. Ведь речь идет о важных культурах, одна из которых применялась в медицине, другая использовалась как строительный материал, и ни та, ни другая не могла быть принесена морскими течениями, ветрами или птицами, потому что обе размножаются только корневыми отростками. Чтобы они могли появиться в трех кратерных озерах на уединенном острове Пасхи, их должны были посадить там люди, которые привезли корневища из своего родного края. Теперь оставалось лишь пройти по следу. Оба вида встречаются только на американском материке, их нет больше нигде на свете. Камыш тотора – Scirpus tatora – был одной из главных культур в хозяйстве древних обитателей засушливого приморья инкской империи; они разводили его на орошаемых участках и применяли для лодок, кровли, циновок, корзин и веревок. Второе растение, горец – Polygonum acuminatum, – использовалось индейцами Южной Америки как лекарство. И для островитян оба растения играли такую же роль.
Держа в руке кусок легкого, высушенного солнцем камыша тотора, я смотрел на четырех полинезийцев, которые перемахивали через волны в открытом море так же лихо, как скакали верхом на конях по суше. Присутствие этого американского пресноводного растения в трех кратерных озерах на самом уединенном острове мира давно считалось одной из великих загадок ботаники Тихого океана. А загадка, похоже, решается очень просто. Может быть, древние мореплаватели из Перу пересекли океан не только на бальсовых плотах, может быть, среди них были мастера вязать камышовые лодки, и они привезли корневища, чтобы обеспечить себя строительным материалом.
Когда мы помогли старикам вытащить на берег их серповидную лодку, я окончательно утвердился в мысли, что люди древнейшей культуры острова унаследовали свои характерные суда от древних строителей перуанских пирамид.
Пять лет спустя я встретился на конгрессе в Гавайском университете с ведущими специалистами по археологии Тихоокеанской области. Пять лет мои товарищи по экспедиции, эксперты в разных областях науки обрабатывали материал, собранный в ходе наших раскопок на Пасхе. Скелеты и каменные орудия, образцы крови, пыльца и остатки костров – все было важно для детективов от науки, которые пытались выяснить, что происходило на самом уединенном острове в мире задолго до того, как Колумб приплыл в Америку и тем самым открыл европейцам путь в Тихий океан. Мои сотрудники доложили конгрессу итоги наших работ на острове Пасхи.
И вот я сижу за одним столом с другими учеными и вместе с ними подписываю документ, резолюцию конгресса. А в резолюции говорится, что наряду с Юго-Восточной Азией Южная Америка была родиной народов и культур, которые до европейцев пришли на острова Тихого океана. Никаких возражений с моей стороны. Ведь своим плаванием на плоту из Перу я как раз хотел показать, что Полинезия могла быть заселена с двух сторон. Такая догадка родилась у меня задолго до «Кон-Тики», еще когда я приехал на Маркизские острова, чтобы пожить на полинезийский лад, и на восточном берегу Фату-Хивы слушал у костра рассказы старика Теи Тетуа под гул могучих волн, которые вместе с облаками день и ночь, день и ночь шли в одну сторону – от Америки к островам.
Три тысячи ученых заслушали резолюцию и единогласно одобрили ее. Я покидал X Международный тихоокеанский конгресс с поручением содействовать дальнейшим раскопкам на ближних к Южной Америке островах. В свою очередь археологи-тихоокеанисты впервые включили в круг своих интересов приморье Южной Америки. Открылись ворота между Перу и Полинезией, кончился однобокий взгляд на Тихий океан.
Но камышовая лодка снова была забыта.
И вдруг ее извлекли из забвения самым неожиданным образом, в самой неожиданной связи. В январском номере научного журнала «Американская древность» за 1966 год один известный исследователь из Калифорнийского университета указал, что камышовые лодки древнего Перу похожи на папирусные лодки древнего Египта. Причем лодки не единственная черта, позволяющая говорить о поразительном сходстве этих двух культур. В статье приводился список шестидесяти очень специфических черт, не имеющих широкого мирового распространения, но одинаково характерных для древнейших культур Восточного Средиземноморья (включая Месопотамию и Египет), с одной стороны, и доколумбовых культур Перу – с другой. Камышовая лодка была лишь одним из шестидесяти перечисленных элементов.
Обычно, когда в культуре далеких друг от друга обособленных районов обнаруживают одну или две однотипных черты, наука называет это случайностью, ведь люди во всех концах света настолько схожи, что вполне естественно, если какие-то их изобретения совпадут. Но когда налицо целый набор разнообразнейших совпадений, притом настолько специфичных, что этот комплекс встречается только в двух определенных районах земного шара, опасно совсем исключать возможность контакта между этими двумя центрами культуры. Список шестидесяти специфических параллелей в журнале был как раз таким случаем, сигналом, призывающим к осторожности.
Статья в «Американской древности» поразила не только меня. И не только потому, что перечень элементов выглядел внушительно и давал пищу для размышлений. Больше всего удивляло, что его составил изоляционист. Автор статьи прослыл одним из самых рьяных поборников гипотезы о полной изоляции Америки до Колумба, полагающих, что люди могли попасть в Новый Свет только по льду на севере. И он вдруг публикует перечень, которому позавидовал бы Перси Смит и вся его старая школа диффузионистов. Шестьдесят специфических культурных параллелей между древним Перу и Египтом.
Напрашивался вывод. И автор статьи делал его. Дескать, Египет лежит в Восточной Африке, а Перу – на западе Южной Америки, их разделяют два материка и Атлантический океан. Два народа, которые делали лодки из камыша, не могли сообщаться через океан, из чего следует, что шестьдесят культурных параллелей должны были возникнуть независимо, из чисто практических соображений они не могли явиться следствием морских плаваний человека. Мораль: уважаемые диффузионисты, верящие, что Америка получала импульсы извне до 1492 года, прекратите поиски параллелей, ибо сим доказано, что эти параллели ничего не доказывают.
Научные противники изоляционистов, то есть диффузионисты, возмутились. Их коробило от такой логики. Они были твердо убеждены, что Центральная Америка и Перу еще в древности восприняли импульсы через океан. Но через какой именно? И на каких лодках? Волны дискуссии продолжали бушевать. Вопрос оставался открытым.
В том же 1966 году устроители XXXVII Международного конгресса американистов решили свести для научного единоборства представителей обоих спорящих лагерей. Каждые два года съезжаются специалисты по древней истории Америки; очередной конгресс должен был собраться в Аргентине, и меня попросили организовать симпозиум по вопросу: были или не были контакты через океан с Америкой до Колумба?
Двери аудитории закрываются, симпозиум открывается. Составитель перечня шестидесяти параллелей приглашен, но не явился. Диффузионисты, считающие, что контакт был, представлены докладчиками с трех континентов. Изоляционисты тоже хорошо представлены, но только среди слушателей. У них такая тактика: сначала выслушать противника, потом сокрушать его аргументы. Они предпочитают оборону, мудро предоставляя собирать доказательства тем, кто считает, что люди достигли Америки морским путем до Колумба. У диффузионистов никогда не было недостатка в аргументах, но доказательства отсутствовали. Значит, заключали изоляционисты, океан не был преодолен.
Одним из яблок раздора были исландские королевские саги, сказания викингов, подробно записанные их историками задолго до рождения Колумба. Никто не отрицал, что норвежские викинги заселили сперва Исландию, потом все юго-западное побережье Гренландии. К тому времени, когда Колумб поднял паруса, они жили там постоянно 500 лет. Это подтверждают многочисленные могилы и развалины хуторов, шестнадцати церквей, двух монастырей и усадьбы епископа, который поддерживал связь с папой римским, используя регулярное морское сообщение с Норвегией. Колония платила дань норвежскому королю.
Путь от Норвегии до поселений викингов в Гренландии через Северную Атлантику равен пути от Африки до Бразилии через Южную Атлантику. От Гренландии оставалось совсем немного до американского материка. Изоляционисты говорили, что этот последний отрезок не удалось одолеть.
Он был преодолен, утверждали древние саги. Бьярне Херюлфссон первым пересек пролив на своей ладье, пересек нечаянно, сбившись с курса в тумане. Однако он не стал причаливать к неведомым берегам, а повернул назад, в Гренландию. Вскоре его корабль купил Лейв Эйрикссон, сын Эйрика Рыжего, того самого, который открыл Гренландию. Около 1002 года Лейв с командой из тридцати пяти человек вышел из Гренландии на юго-запад. Отряд Лейва первым высадился на берег новой земли, названной ими Винландом, построил там дома, перезимовал и только потом вернулся в Гренландию. На следующий год брат Лейва, Турвалд Эйрикссон, пересек пролив и поселился со своими людьми в домах, оставленных Лейвом. Через два года, исследуя лесистые берега, он был убит стрелой в схватке с коренными жителями. Тридцать дружинников похоронили его в Винланде и ушли домой, в Гренландию. Затем в Винланд на двух кораблях отправился Турфинн Карлсэвне вместе со своей женой Гюдрид и многочисленной командой. С ними была дочь Эйрика Рыжего, Фрейдис; на этот раз норманны взяли с собой скот, намереваясь прочно обосноваться в новом краю. Гюдрид родила в Винланде сына – Снорре. Однако участившиеся нападения многочисленных отрядов «скрелингов» (индейцев) в конце концов вынудили поселенцев уйти. Понеся большие потери, они бросили свои усадьбы и вернулись кто в Гренландию, кто в Европу.
Рукописные саги изобилуют реалистичными деталями. Берега и пути кораблей описаны так подробно, что нельзя сомневаться: да, викинги открыли Винланд и пытались обжить новую страну в первые десять-пятнадцать лет после 1000 года.
Но где находился Винланд? Докажите, что Винланд – это Америка, твердили изоляционисты много лет. И вот – сенсация: XXXVII Конгресс американистов получил доказательства.
Место, где викинги около 1000 года высадились на берег и построили свои дома, – Ланс-о-Мидоуз на северной оконечности Ньюфаундленда. Здесь до наших дней под дерном сохранились следы типичного норманнского жилья. Остатки древесного угля позволили произвести радиоуглеродную датировку с десятикратной проверкой. Она показала, что дома появились как раз в то время, о котором говорится в сагах.
Индейцы не знали до Колумба железа, а здесь нашли остатки железных гвоздей, нашли болотную руду в примитивной кузнице. Северные индейцы не знали ткачества, а тут лежало под дерном типично норманнское пряслице из стеатита.
Открыл все это известный норвежский специалист по Гренландии, историк Хельге Ингстад. Он отыскал заветное место, тщательно изучив древние исландские записи. А раскопками руководила его жена, археолог Анна Стина Ингстад; ей помогали видные американские археологи. Против фактов нечего было возразить. Викинги побывали на Ньюфаундленде. Они первыми дошли до Америки через Атлантический океан.
Но, говорили изоляционисты, викинги пришли и ушли, не оставив никакого следа, кроме обросших травой земляных валов. Их посещение никак не повлияло на ход истории, индейцы прогнали норманнов и зажили по-старому. Согласно сагам, они успели получить от викингов лишь несколько кусков красной материи раньше, чем кровавые схватки положили конец всякой меновой торговле.
Да, норманны не осели прочно в Америке. И все-таки на севере человек достиг Нового Света и с востока, и с запада до того, как Колумб прошел через океан в тропических широтах.
В Южной Атлантике изоляционисты взяли верх. Здесь развернулась главная баталия. Никто не мог предъявить осязаемых доказательств того, что мореплаватели достигали Мексики до испанцев. К письменным источникам коренных жителей Мексики относились еще более пренебрежительно, чем к сагам викингов. Их сказания о доколумбовых пришельцах – белых бородатых людях – нельзя было подтвердить. И штурм диффузионистов был отбит так же легко, как прежде. Культурные параллели на востоке я западе были для их противников пустым звуком. Поединок закончился тем, что изоляционисты сохранили прочные позиции. И ведь у них был важный аргумент, с которым нельзя было не соглашаться: если народ древней культуры с мореходным опытом пересек океан и научил индейцев писать на бумаге и строить дома из кирпича, он должен был также научить их строить суда. Невозможно, чтобы люди, умеющие воздвигать пирамиды, одолели океан, не умея строить кораблей. Египтяне за 2700 лет до нашей эры уже строили настоящие деревянные корабли с полым корпусом, палубным настилом и каютами из струганных досок, а индейцы до этого так и не додумались. Во всем Новом Свете до Колумба делали только камышовые лодки, плоты, долбленки да каноэ из кожи. Против этого факта нечего было возразить. Настоящее судостроение возникло в Новом Свете только с появлением Колумба и его товарищей.
Камышовые лодки, плоты, долбленки. Опять они... Бальсовый плот вполне мореходен, но на нем можно было плыть только из Америки, а не в нее, потому что до прихода испанцев бальса не росла в других частях света. Зато камыш, осока, тростник росли повсюду. И уж, конечно, на Ниле и в Малой Азии.
– Ивон, – сказал я жене, – надо будет отправиться в Анды, еще раз посмотреть на американские камышовые лодки.
Мы пригласили с собой супругов Ингстад: пусть убедятся, что не одни викинги умели строить изящные суда. Не успел закрыться конгресс, как мы вылетели в Ла-Пас в Боливии и на следующий день уже были на берегу Титикаки, небесно-голубого озера на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря, вокруг которого еще на две с лишним тысячи метров вздымаются вверх снежные пики. На прилегающем к озеру плато лежали развалины Тиауанако, культурного центра и самой могущественной столицы Южной Америки доинкской поры: пирамида Акапана, мегалитические стены, огромные каменные статуи неведомых священных правителей. А на озере, маневрируя на сильном ветру, ходили лодки рыбаков из племени аймара. Издали виден лишь наполненный ветром парус, на большинстве лодок – из ветхой парусины, но кое-кто, оставшись верным старой традиции, поднял на двуногой мачте большую циновку из золотистого камыша тотора. Три лодки шли полным ходом прямо на нас, вот уже видно индейцев в полосатых остроконечных шапочках, и можно рассмотреть конструкцию лодки. Изумительно. Мастерская работа. Каждая камышинка уложена предельно тщательно, симметрия безупречная, изящные, плавные обводы; сигары из камыша связаны настолько туго, что больше похожи на надутые воздухом понтоны или позолоченные бревна, у которых оба конца заострены и загнуты вверх, будто носок деревянного башмака. Стремительно рассекая воду, лодки вошли в просвет в камышах и с ходу врезались в илистое дно. Причалив таким способом, индейцы вброд дошли до берега со своим уловом.
Лодки этого своеобразного типа и в наши дни вяжут тысячами во всех концах огромного внутреннего моря. Точно так же они выглядели 400 лет назад, когда сюда пришли испанцы и обнаружили заброшенные развалины Тиауанако, увидели сориентированную по Солнцу пирамиду и каменных истуканов, созданных, по словам индейцев аймара, на заре времен народом виракоча, белокожими бородатыми людьми под предводительством Кон-Тики-Виракочи, солнечного наместника на земле. Сперва виракоча поселились на острове Солнца. Предание сообщает, что они связали первые камышовые лодки. Легенда, записанная испанцами четыре века назад, по-прежнему жива среди индейцев озера Титикака. Сколько раз меня тут величали «виракоча» – так аймара здесь по сей день называют белых.
Как же все это понимать?..

Вот они снова передо мной – огромные глыбы весом от пятидесяти до ста тонн, обтесанные и пригнанные друг к другу с точностью до долей миллиметра. И изящные, как произведение искусства, лодки из камыша бороздят озеро сегодня, как они его бороздили в ту далекую пору, когда на таких же судах возили с той стороны камень из потухшего вулкана Капиа для пирамиды Акапана. Нет никаких причин сомневаться, что современная наука права, допуская связь между этой погибшей культурой и другими центрами древних американских культур, следы которых протянулись цепочкой через глухие дебри от Мексики до перуанского нагорья. До того как гигантские доинкские сооружения Тиауанако превратились в развалины, здесь была столица одной из самых могущественных империй мира, чье влияние распространялось на всю территорию нынешнего Перу и на прилегающие части Эквадора, Боливии, Чили, Бразилии и Аргентины. Приморская полоса длиной не меньше двух тысяч трехсот километров испытала влияние искусства и религии, исходящее из имперской столицы на берегу горного озера; и все эти тысячи километров тогда, как и теперь, омывались могучим океанским течением, которое доставило плот «Кон-Тики» прямо в Полинезию. Черепки керамики, характерной для приморской культуры Тиауанако, найдены на Галапагосских островах, в тысяче километров от материка, а древнейшие статуи, найденные археологами в почве острова Пасхи, очень схожи с тиауанакскими образцами. То же можно сказать о камышовых лодках. Не приходится сомневаться, что культура острова Пасхи – только ветвь, возможно последняя, верхняя ветвь могучего дерева. Но где его корень? Здесь, в Америке? Или по ту сторону Атлантики? Кто прав, изоляционисты или диффузионисты? На конгрессе их голоса прозвучали одинаково неубедительно. Как руководитель симпозиума, я занял нейтральную позицию. Хотя в одном был совершенно уверен: и те и другие недооценивали тиауанакскую лодку. Не так уж плоха камышовая лодка, если жива по сей день, после четырехвекового контакта с европейской культурой.
Ладно, деревянные корабли знали только по одну сторону Атлантического океана. Но суда из стеблей водных растений вязали и там и тут – это же одна из шестидесяти черт сходства. Искусство строить такие лодки исстари было известно в Египте и Перу. Только в этих двух странах? Нет. Здесь мне виделся маленький изъян в рассуждениях исследователей: камышовые лодки не были таким обособленным явлением, как остальные пятьдесят девять сходных элементов культуры в перечне. Почти никто не изучал их распространение в прошлом. Но кое-какие сведения я все же нашел. В частности, лодками из камыша и папируса пользовались в Месопотамии, на островах Средиземного моря, на атлантическом побережье Марокко южнее Гибралтара и в древней Мексике. А путь от Марокко до Мексики уже не выглядел таким неодолимым и немыслимым, как расстояние между крайними точками – Египтом и Перу.
И я решил построить лодку из папируса.
Глава 3
К индейцам кактусового леса.
Мексика

Море. Кактусы. Клочок моря в просвете между колючими исполинами. Сказочный мир. Стою, словно лилипутик, и, задрав голову, рассматриваю макушки зеленых великанов. То словно органные трубы, то многорукие подсвечники возвышаются над царством раскормленных толстяков и дородных верзил. А
ведь почва у меня под ногами – всего лишь сухая корка спекшегося, бесплодного песка. Ни травы, ни цветов, если не считать красные и желтые соцветия между шипами на могучих мускулах зеленых богатырей. Планета кактусов... У ног великанов стояли, лежали, извивались колючие шары, колбасы, коленчатые валы. В лучах вечернего солнца они напоминали то балансирующие друг на друге тарелки и вилки эквилибриста, то ощетинившиеся гвоздями старые подметки, то куски колючей проволоки, то извивающиеся кошачьи хвосты. Лес был безмолвен и недвижим. Не шуршали даже листья на единичных экземплярах узловатого железного дерева, которые изгибались и так и сяк, спасаясь от вездесущих шипов.
Пустынный заяц беззвучно выскочил из густых теней на солнце, посидел, подняв торчком длинные уши, поглядел в одну, в другую сторону и поспешил дальше. Крохотный полосатый бурундучок стремглав пересек его путь, вдруг замер на месте, подняв кверху хвостик, и тут же засеменил прочь через заколдованный лес, – будто косматый мячик покатился. На самой высокой ветке зеленого тройного канделябра, вознесенный над всем светом, сидел орел. Он сидел неподвижно, пока я не подошел вплотную к стволу, и только тогда тихо расправил крылья и поплыл над волшебным лесом. Казалось, не орел скользит по воздуху – я вместе с кактусами ухожу назад, а он теряется вдали, пригвожденный к небосводу. И тишина кругом, лишь мои подошвы хрустят, давя песчаную корку и проваливаясь в потайные норки земляных крыс, змей и прочих тварей пустыни. Только что в этом царстве безмолвия мой слух уловил другой звук, совсем негромкий, однако не менее впечатляющий, чем грозное рыканье льва. Словно кто-то тряхнул коробку со спичками. Зловещий сигнал тревоги на универсальном языке самой природы. Услышав его, даже тот, кто никогда не видел гремучей змеи, живо отскочит в сторону. С трепещущим в воздухе языком и сверкающими глазами змея приготовилась к атаке и покачивала поднятым вверх хвостом. Сухие, будто сделанные из светлого пластика кольца трещотки сердито подрагивали. Я лихорадочно искал взглядом палку или хотя бы ветку, чтобы расправиться с гадиной. Но кругом стояли одни кактусы, а их колючие мясистые побеги ломались, как огурец, когда я пытался ими пришибить извивающуюся гадину. Я основательно наплясался, прежде чем нашел твердый высохший стебель и смог оглушить змею. Не давая ей очнуться, я довел расправу до конца, и только хвост гремучей змеи продолжал судорожно вздрагивать.
В этом краю кактусов мы очутились в поисках лодочных мастеров. Хоть бы одно настоящее дерево, чтобы с него можно было высмотреть дорогу! Мой мексиканский друг Рамон Браво ушел куда-то налево искать скалу для обзора, а его жена Анжелика и наш друг Герман Карраско остались ждать в джипе, там, где мы – в который раз! – потеряли колею. Мне посчастливилось: я наконец-то увидел море. Место приметное, рядом со мной высился этакий живой монумент – кактус в виде трезубца Нептуна, толстенный, хоть прячься за него. Это на нем сидел орел. Ему сверху, наверно, были видны и берег, и в другой стороне – иссеченные рыжие скалы, вдоль которых мы тряслись на нашей машине, пока поминутно разветвляющаяся колея не затерялась совсем в кактусовом лесу. А я видел только серебристые блики солнца на водной глади да голубеющие вдали горы за заливом. Вполне достаточно, чтобы наметить курс. И мы покатили дальше по заколдованному лесу, спеша достичь цели до захода солнца.
Неожиданно кактусы расступились, сменившись низким вечнозеленым кустарником, и нашему взору предстало море и открытый девственный пляж с бахромой тихо плещущихся волн. Пять черных китовых спин, стремительно рассекая воду, шли прямо на нас. В последнюю секунду они нырнули, зато в воздух взмыл целый каскад мелкой рыбешки, и с минуту вода у берега буквально кипела, пока серебристая мелюзга не рассеялась.
Нас окружала нетронутая природа. Впереди – Калифорнийский залив, сзади и по бокам – Сонорская пустыня.
Волнистая голубая полоска гор по ту сторону залива обозначала протянувшийся на тысячу с лишним километров полуостров Нижняя Калифорния. На нашем берегу, сколько хватало глаз, не было видно ни построек, ни еще каких-либо следов человека, и мы вернулись в кактусовый лес. Поищем севернее...
Наконец в ту самую минуту, когда солнце укрылось за горами на западе и на море легла черная тень, нашим глазам предстала индейская деревушка. Архитектурный стиль, который утвердился здесь, когда последние представители некогда могущественного племени сери приобщились к европейской культуре, никак нельзя было назвать романтическим. Человек шестьдесят, примерно десяток семей, обосновались на голом песчаном мысу Пунта-Хуэка, украсив его соответственным количеством лачуг из железа и толя. Размеры жилья только-только позволяли лечь навытяжку на песчаном полу. Строительный материал, как и горы битого стекла и жестяных банок за лачугами, позволяли судить, что получают индейцы за черепах, которых ловят живьем и держат в садке на берегу.
Наше появление никого особенно не взволновало. Большинство продолжало заниматься своими делами: одни сидели, переговариваясь, другие прогуливались между лачугами в нарядах из ярких лент, самодельных брошей и покупных, по-цыгански пестрых тканей, скомпонованных на индейский лад. У мужчин до самого крестца свисали черные косицы. Лица женщин были симметрично расписаны узорами из черточек и точек, сочетающими дикую пикантность и вечную красоту. Так красились в далеком прошлом, а теперь этот грим, похоже, может стать ультрасовременной модой.
Миловидная женщина в длинном платье сидела в окружении своих подруг; они растирали в чашечках естественные краски, а одна вооружилась обыкновенной губной помадой, которая очень подходила для того, чтобы рисовать черточки на подбородке. Жену Рамона, восхищенно смотревшую на всю эту процедуру, решительно поманили рукой, усадили на песок и украсили ее лицо таким же узором. К нам подошли два старика в сопровождении гурьбы ребятишек. Они узнали Рамона, тотчас ребятишки сбегали за Чучу, который был переводчиком и проводником Рамона в прошлый раз, когда тот приезжал сюда снимать тюленей и прочих животных в заливе. Чучу явился со всей семьей, и радости не было конца.
Рамон привез друга, который хочет посмотреть на их камышовые лодки? Но никто из племени сери больше не вяжет
аскам. Где лодка, которую Рамон видел два года назад? Эта как раз была последняя. В соседней деревне теперь тоже нет
аскам, власти выделили на каждую деревню по деревянной лодке с подвесным мотором. Какой-то голый карапуз, внимательно слушавший наш разговор, убежал и вернулся с игрушечной моделью торпедного катера из желтого пластика.
Спустилась ночь, нам одолжили несколько картонок, и мы сделали себе из них постель на полу сарая, где хранились рыболовные снасти. Ворочаясь на жестком ложе, я слышал монотонные голоса индейцев, они всю ночь о чем-то толковали у своих костров и легли спать лишь под утро, за час до того, как мы поднялись.
Еще не зарделись на солнце макушки кактусов, а наша четверка уже сидела в кольце индейцев, глядя на тихий залив. Никто не произносил ни слова. Все только смотрели. Наконец Чучу неторопливо встал, спустился к воде и забросил небольшую сеть. В две закидки он прямо у берега поймал четыре крупных рыбы. Два мальчугана с острогами в одно мгновение удвоили улов. Завтрак обеспечен. Остальные продолжали сидеть. Других событий в этот день явно не предвиделось.
– Вы не сделаете для меня
аскам? – осторожно спросил я.
– Мучо травахо («Много работы»), – последовал дружный ответ.
Их знание испанского явно исчерпывалось этими словами, дальше требовался переводчик. Чучу пришел на помощь.
– Я заплачу, – пообещал я. – Получите товары или песо.
– Мучо травахо, – повторили они.
Я надбавил цену. Индейцы промолчали. Надбавил еще.
– Далеко идти за камышом, – нерешительно сказал Чучу.
– Мы пойдем с вами, – я встал.
Четверо индейцев согласились отправиться за камышом: Чучу, двое из его братьев и сын одного из них. Только старший брат, Каитано, знал, где растет камыш: на озере. На Исла-Тибурон, Акульем острове, вон он в лучах восходящего солнца, по ту сторону залива.
Пригодился подвесной мотор, предоставленный властями. И вот мы уже идем к горизонту, рассекая мелкую волну. Я недоумевал: неужели ближе нет камыша?
– Это камыш пресноводный, – объяснил Каитано. – Он на здешнем берегу не может расти. Надо добираться до озера.
Впереди из воды выросли крутые пики Исла-Тибурон. Остров изрядный, площадь больше тысячи квадратных километров, его даже на карте мира видно. Мы причалили к белому песчаному пляжу, дальше до розовеющих гор простиралась ровная полоса земли с кустарником и единичными кактусами-великанами. На берегу, глядя на нас, неподвижно стоял олень-беррендо с горделиво поднятой головой, увенчанной великолепными рогами. Скорей камеру сюда, только без шума, чтобы увековечить его, пока он не обратился в бегство! Олень продолжал стоять недвижимо. Мы подкрались ближе. Еще ближе. Я шел первым, держась в кадре. Только бы не спугнуть... В эту минуту олень тронулся с места. Гордо, решительно он пошел вперед, нагнул шею и легонько уперся мне головой в живот, просунув рога у меня под мышками. Я попробовал его оттолкнуть, чтобы можно было снять путные кадры. Куда там, олень хотел сниматься именно так, и сколько я его ни толкал, как ни силился прекратить этот унизительный спектакль, все напрасно, ласковый олень то отступал, то снова напирал, ни на секунду не отпуская меня, но и не причиняя мне боли. Дурацкое положение, неожиданный оборот нашей киноохоты. И лишь когда я почесал оленя за ухом, он от удивления отнял голову и воззрился на меня огромными глазами. Воспользовавшись случаем, я шаг за шагом отступил к двуногим, вместе с которыми сошел на берег.
Мы вытащили лодку на песок подальше от воды и зашагали по равнине. Где же озеро в рамке из камыша? Увы, кругом был только песок с лабиринтом из вечнозеленого кустарника и кактусов. Никакого намека на тропу. Одни лишь олени, зайцы, ящерицы, змеи и всякие мелкие твари оставили свой след. Акулий остров необитаем с той поры, как индейцев сери принудительно переселили на материк.
Каитано еще помнил, как это было.
Мы шли, шли... Направо, налево, прямо, отыскивая проходы в зарослях, курсом на горы.
– Где же озеро? – спрашивал то один, то другой из нас.
– Вон там, – показывал носом Каитано. Мы продолжали шагать дальше. Море осталось где-то далеко позади. Зато горы подступали все ближе. Вот и подножие. Полдень, солнце печет макушку, а у нас ни воды, ни продуктов.
– Ну где озеро, пить хочется, – пробурчал Герман.
– Вон там, – Каитано показал носом вверх.
Мы начали карабкаться по заполненному каменной осыпью кулуару в рыжеватом склоне. Внизу нам встречались одни зайцы да ящерицы, здесь же мы то и дело спугивали баранов и оленей, которые явно не были нам рады в отличие от чудака на пляже. Несколько раз мне попались черепки от индейских кувшинов. Не иначе, тут споткнулся кто-то из ходивших по воду.
Выше, выше... Даже не верилось, что на сухой-пресухой горе, где растет один кактус, может быть озеро.
Вдруг Каитано остановился и показал вперед, теперь уже рукой. Мы стояли на скатившихся сверху глыбах, перед нами простиралась заваленная камнем выемка, а на противоположном склоне расщелина в красной породе вела в котлован, где в лучах солнца выделялось зеленое пятно, которое сочностью и яркостью тона превосходило все кактусы и прочие растения засушливой прибрежной полосы. Камыш!
Усталые, мучимые жаждой, мы прибавили шагу. Море синело далеко внизу, и мы мечтали поскорее нырнуть в озеро и вдоволь напиться. Я приметил искусственную кладку на двух-трех карнизах – это поработали люди. Добравшись до зеленой чащи, Каитано начал прорубать себе путь секачом, и вскоре его смуглая спина с черной косичкой пропала в высоком, выше человеческого роста, камыше.
– Где озеро? – спросил я, догнав его.
В густых зарослях было видно не дальше вытянутой руки. Каитано стоял, глядя себе под ноги. Он показал носом вниз, на черный влажный перегной. Мы подтолкнули его, спеша поскорее выйти к озеру. Каитано нехотя пригнулся и нырнул в темный туннель, проложенный в чаще животными, которые ходили здесь на водопой. Туннель заканчивался полостью, достаточно большой, чтобы вместить почти всех нас. Чувствовалась близость воды. Мшистые камни были словно холодные губки, а между ними, в ямке шириной с умывальный таз, поблескивала лужица, затянутая зеленой ряской. Я уже хотел присесть в лужицу, чтобы немного освежиться, но меня вдруг осенила догадка... Кажется, лучше не мутить эту воду!
– Где озеро? – спросил я.
– Здесь, – сказал Каитано, показывая на лужу. Мы промолчали. Все мы вдруг ощутили страшную жажду теперь, когда обещанное озеро вдруг растаяло, как мираж. Осторожно выловив ряску, набрали горстью воды – только-только всем смочить горло. Оставшейся мутной жижей смазали воспаленную кожу, потом погрузили ноги в ил, чтобы использовать всю влагу до последней капли.
Что ни говори, здесь, в тени, было на диво свежо и приятно, и жизнь сразу стала восхитительной. Наибольшую радость доставляют сильные контрасты: капелька ила и клочок тени после перехода по пескам подарили нам больше блаженства, чем обед с шампанским после поездки на трамвае.
Индейцы поглядывали, щурясь, на солнечный диск, который едва просвечивал сквозь плотный полог стеблей над нами. Они думали о долгом пути домой, и двое из них, отойдя от лужи, начали срезать своими секачами самые длинные стебли. Тем временем мы прилегли на траву отдохнуть.
Поучительный поход! Ведь я, подобно другим ученым, думал, что для индейцев сери было естественно строить лодки из камыша. Считал, что в Сонорской пустыне не хватало древесины, зато камыша в приморье видимо-невидимо. А выходит совсем другое. Индейцы сери делали такие лодки вовсе не потому, что камыш был у них под рукой. Вон куда им пришлось забираться, на гору на далеком острове, чтобы по берегам родника высадить растение, стебли которого служили материалом для лодок. Видно, строительство камышовых лодок было в племени давней традицией, собственной или заимствованной извне. Без этого зачем им ходить сюда за камышом, они вполне могли делать каркасы для лодок из веток железного дерева и обтягивать их кожей. Тюленьи шкуры превосходный материал для лодки, а на южном, скалистом берегу Акульего острова тюленей видимо-невидимо. Кто-то другой, пришедший из области, где было много камыша, надоумил индейцев сери строить камышовые лодки. Кто?
Мы пошли вниз; четверо индейцев – впереди, каждый с кипой камыша на плече, за ними остальные, неся штативы и киноаппаратуру. Спускаясь по каменистому склону, я то и дело замечал оброненные индейцами стебли. Внизу наши проводники разбрелись, а затем мы почему-то оказались впереди. Чтобы не заблудиться, я отыскал наши старые следы и зашагал по ним, выписывая зигзаги. Индейцы упорно шли сзади, ссылаясь на тяжелую ношу, хотя мне показалось, что охапки уже стали меньше...
День подошел к концу, когда мы отыскали лодку. Зная, что после захода солнца увидим костры на Пунта-Хуэка, мы терпеливо ждали четверку индейцев. А вот и они тишком вышли на берег. Последним, смущенно улыбаясь, брел Чучу, неся на плече 3 (три) стебля камыша. Остальные ничего не несли.
– Мучо травахо, – пробормотал один из индейцев. Другой одобрительно кивнул и вытер лицо косичкой. Чучу осторожно положил в лодку свои три стебля. Каитано, четвертый индеец, уже сидел в лодке и ждал, когда его повезут домой.
Мои мексиканские друзья были страшно огорчены и откровенно возмущались. Три стебля – итог целого дня голодного странствия по безводному острову. Мы-то рассчитывали найти камыш на самом берегу. Но я отчасти был даже доволен. Из трех камышинок не свяжешь лодки, зато они рассказали мне кое-что поважней. Я узнал, что не в Сонорской пустыне надо искать родину камышовых лодок.
Старики обрушили град насмешек на Чучу и его помощников, когда он сбросил свой груз на землю около лачуги. Особенно негодовала одна голосистая древняя бабуся. Отведя душу, она доковыляла до своей лачуги и что-то крикнула, стоя лицом к двери. Через минуту на пороге показался дряхлый слепец в синих очках. Подчиняясь властной супруге, он нехотя вышел, разогнул спину, и мы поняли, что некогда это был статный богатырь с красивым лицом. Индейцы сери выделяются среди других племен Мексики; после первой встречи с жителями Акульего острова испанцы описывали их как великанов.
Старик со старухой зашли за лачугу – здесь, на куче мусора, лежала камышовая лодка! Похожие на бамбук тонкие стебли посерели от старости, от них осталась почти одна труха, веревки сгнили, но лодка еще сохраняла свою форму. Мы помогли отнести ее к двери: старик решил показать, что настоящий сын племени сери умеет вязать
аскам. Нам объяснили, что этот ветеран – бывший вождь племени.
На другой день он на рассвете приступил к работе, вооружившись веревкой собственного изготовления и длинной деревянной иглой, отполированной долгим употреблением. Этой иглой слепец ощупью сшил свою лодку заново, придав изящный изгиб поникшему носу. Это ли не удача – мусорная куча подарила нам то самое, ради чего мы сюда добирались.
Последнюю камышовую лодку племени сери, – а то и всей Мексики, – отнесли к заливу. Каитано с сыном, захватив весла и деревянное копье с веревкой, вскочили на нее и уселись поудобнее. Оба умели обращаться с веслами, и смуглые спины с черными косицами быстро исчезли вдали. Когда длинная, узкая лодка вернулась, между гребцами лежала, размахивая ластами, здоровенная морская черепаха. Сухой, прелый камыш пропитался водой, и мелкие волны захлестывали лодку, но она продолжала держаться на поверхности.
Итак, Мексика. Кто научил индейцев сери специфическому искусству вязать камышовые лодки? Кто-то из их многочисленных соседей. Некогда такие лодки окружали их со всех сторон, от инкской империи на юге до Калифорнии на севере, они были даже на озерах самой Мексики. Еще в начале прошлого века французский художник Л. Шори зарисовал трех индейцев с веслами на камышовой лодке у лесистого берега в гавани Сан-Франциско. Лодки из камыша были известны в восьми штатах Мексики.
С грустью я смотрел, как улов Каитано отнесли в черепаший садок, а последнюю
аскам индейцев сери отправили на свалку за лачугой бывшего вождя. Там она и осталась, знаменуя конец последней главы в ненаписанной книге о безвозвратно забытой истории камышовых лодок Средней Америки.
Глава 4
Среди бедуинов и будума в сердце Африки.
В республику Чад за лодочными мастерами

Африка... У какого еще материка такое живописное имя! Слышишь его, и сразу представляется край: зеленая стена тропического леса, огромные листья, они раздвигаются, и в кадр входит караван, статные африканцы с ношей на голове. Плавными скачками пересекают экран жирафы и павианы. Рокочут тамтамы. Рыкают львы. Я никогда не бывал в глубине Африки, видел ее как бы через иллюминатор, сидя в темном зале кино, да засушенной между переплетами книг.
И вот я сам очутился в Африке. В сердце Центральной Африки. Маленький номер гостиницы в Форт-Лами – столице республики Чад. Предельно далеко от океана. Этакий парадокс, ведь мой приезд сюда – первый этап в подготовке задуманного мной плавания через Атлантику на лодке древнего типа. А какая здесь вода, только тихая река. Вон она, из окна видно. Зеленые берега, красная глина отмелей, бурый поток. Солнце играло свои цветовые гаммы. Мокрые рыбаки с черно-лаковой кожей тянули сеть, стоя по колено в воде; ловушки для рыбы были сделаны из воткнутых в дно тонких пластин бамбука.
Накануне я видел на отмели выше по течению семерку ленивых бегемотов. Здесь, около столицы, они охраняются законом. Крокодилы почти истреблены, так как их кожа шла на экспорт. Вот уже полгода, с конца дождевого сезона, не выпадало дождей, и река обмелела настолько, что сейчас по ней ходили только плоскодонные долбленки.
Мерно течет на север рожденная в лесах Шари, но ее тихие воды не доходят до океана. Выйдя из необозримых дебрей на юге, река пересекает саванну и полупустыню и вливается у южных рубежей Сахары в обширное озеро Чад. А тут зной такой, что вода испаряется так же быстро, как прибывает. Разные реки впадают в Чад, а стока нет, из озера воде путь один – вверх, к безоблачному голубому небосводу, который жадно впитывает незримые испарения.
Туда-то, на это озеро, я и хотел попасть. Но если найти его на карте легко, то добраться к нему куда труднее. Озеро Чад все равно что голубое сердце Африки, хотя на всех картах оно выглядит по-разному: то круглое, как тарелка, то кривое, как рыболовный крючок, то изрезанное, будто дубовый лист. Наиболее добросовестные карты обозначают его пунктиром, ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого внутреннего моря. Тысячи плавучих островов беспорядочно дрейфуют по его поверхности, сталкиваются друг с другом, срастаются, причаливают к берегу, образуя полуострова, снова распадаются, и плывут в разные концы, к неведомой цели. Средняя площадь озера – 25 тысяч квадратных километров, но нередко оно усыхает наполовину, ведь вся-то глубина его от одного до пяти, самое большее шести метров. В северной части озеро местами такое мелкое, что обширные участки поросли осокой, вернее, папирусом. Папирусом обросло и большинство островов, участвующих в вечной гонке по озеру.
В республике Чад нет железной дороги. Нет и шоссе, действующего круглый год. Здесь рай для охотников и для тех, кто мечтает увидеть клочок земли, который не был бы зеркалом наших собственных вездесущих будней. В столице есть первоклассные отели, аптеки, бары и современные административные здания, где корпят клерки, большинство с параллельными шрамами на щеках или на лбу – знак племенной принадлежности. Широкие асфальтированные проспекты (по бокам – садики с французскими бунгало колониальной поры, которая кончилась в 1960 году), достигнув арабских домишек предместья, переходят в изрытые колдобинами песчаные улочки, а их в свою очередь сменяют караванные дороги, теряющиеся вдали между единичными негритянскими хижинами. Когда начинаются дожди, нужен конь или самолет, чтобы попасть в глубинные области. Зато по реке тогда можно дойти на лодках вплоть до торговых факторий по соседству с устьем Шари.
Три дня назад я пролетел над Средиземным морем и Сахарой на французском самолете, который следует на юг Африки, а раз в неделю делает посадку в Форт-Лами. Самолеты доставляют в республику то, чего нельзя везти на верблюдах. Автомашины, экскаваторы, холодильники, бензин, даже омары и свежая говядина для шеф-повара в «Ла Чадиенн» – все прибывает по воздуху.
И мы тоже вышли из самолета – три путника, нагруженные киноаппаратурой и меновыми товарами для африканских лодочных мастеров, с которыми надеялись познакомиться. Меня сопровождали два кинооператора: француз Мишель и итальянец Джианфранко. Мы собирались изучать и снимать, как здесь вяжут лодки. В путевых очерках о Центральной Африке мне попалась интересная фотография: несколько африканцев у воды, и рядом своеобразное суденышко такого же типа, как хорошо знакомые мне по Южной Америке и острову Пасхи камышовые лодки. Снимок был сделан на озере Чад, и автор статьи подчеркивал разительное сходство лодки из Африки с лодками, которые с незапамятных времен вяжут индейцы озера Титикака в горах Перу. В Египте древнейший вид африканской лодки давно исчез, здесь же, в сердце материка, он дожил до наших дней.
Из области Верхнего Нила проходит через горы древний караванный путь в Чад, известный также как трансафриканский работорговый путь. Я знал, что антропологи по ряду признаков связывали некоторые группы жителей Чадской области с обитателями Нильской долины. Чад – африканский тигель, жгучие лучи тропического солнца освещают тут причудливую смесь народов, и только специалист не запутается в местных племенах и языках. Но не надо быть специалистом, чтобы видеть, что Чад образует не только географический, но и этнический переход между песчаными дюнами Сахары на севере и глухими тропическими лесами на юге. Если северную часть страны занимают бедуины и другие арабы, то южная населена негроидами. А встречаются они на центральных равнинах и в столице Форт-Лами, где вместе стараются создать единую нацию из племен, волей случая временно оказавшихся в пределах одной французской колонии.
Освежившись под душем в кондиционированных номерах отеля, мы влезли в раскаленное такси и поехали в Управление туризма. Широкая главная улица кишела машинами, велосипедами, пешеходами. В сплошном потоке африканцев мелькали белые лица французских чиновников и поселенцев, которые решили остаться в Форт-Лами после провозглашения республики.
Начальник Управления туризма был белый. Мы объяснили ему, что хотели бы узнать, как лучше добраться до озера Чад, ведь на карте нет ни железной дороги, ни шоссе. Начальник управления развернул свою красочную карту, разложил на столе снимки львов и всякого зверья и сообщил, что вся эта дичь – в нашем распоряжении за умеренную мзду, правда, для охоты надо выехать на юг, в другую сторону от озера Чад. Мы возразили, что нам нужно озеро, только там мы сможем увидеть папирусные лодки. Начальник сложил карту. Если нас не устраивает то, что он нам предложил, он ничем не может помочь. С этими словами он бесстрастно развернул свое пузо в сторону внутреннего кабинета и ретировался туда. Я вынул из паспорта пестрящее печатями рекомендательное письмо норвежского министра иностранных дел и попросил чернокожего клерка отнести его шефу. Снова в дверях показался начальственный живот, и нас любезно осведомили, что до озера невозможно добраться, пока не поднимется уровень воды в реке. К тому же папирус растет около Бола на северо-восточном берегу, а туда и вовсе можно попасть лишь самолетом. Может быть, я согласен взять напрокат самолет?
Да, согласен, если нет другого выхода.
Начальник управления схватил телефонную трубку. В стране было два одномоторных самолета, и оба стояли в ангаре на ремонте. Имелся еще один пассажирский самолет, двухмоторный, но ему требовалась для посадки 800-метровая дорожка, а посадочная полоса в Боле – всего 600 метров. К тому же, добавил начальник, чтобы снимать, нужно разрешение властей. Да еще в республике в эти дни неспокойно. Арабы в областях на пути к Болу – мусульмане, они не в ладах с возглавляющими правительство христианами. Так что сейчас опасно лететь на север. Чтобы мы не сомневались в его доброжелательности к нам, начальник Управления туризма дал нам машину и водителя: можно объехать Форт-Лами и разузнать у сведущих людей про обстановку у озера.
Мы получили от него адрес веселого плечистого француза с татуировкой на руках, который изучал возможности пополнения запасов рыбы и развития современного промысла на озере Чад. Он рассказал, что к болским зарослям папируса можно добраться только на джипе через пустыню с восточной стороны озера. То же самое сказал врач-француз, он же укротитель зверей и заядлый путешественник. И оба они подтвердили слова начальника Управления туризма о том, что в том краю неспокойно. Выяснилось, что на озере есть большой катер, который объезжает берега, скупая один местный злак, но где этот катер сейчас, неизвестно.
Франция – одна из немногих стран, поддерживающих дипломатические отношения с республикой Чад. Мишель представил нас в посольстве, но посол был новый, приехал всего месяц назад, и никто из его сотрудников не бывал на озере.
Третий день в Форт-Лами, а мы все ходим из конторы в контору, из бунгало в бунгало, знакомимся с любезными людьми, они потчуют нас кофе, холодным пивом или виски и дают адреса других людей, которые, может быть, сумеют нам помочь. И вот круг замкнулся, нас уже снова направляют к начальнику Управления туризма и всем тем, к кому мы обращались в первый день.
Ладно, попробуем сами добраться до Бола на джипе... Власти дали официальное разрешение. В Боле находилась единственная на все озеро радиостанция, и министерство внутренних дел обещало на всякий случай предупредить о нашем визите болского шерифа. Оставалось получить в министерстве информации справку, что нам разрешено снимать. Как и в других ведомствах, главные посты здесь занимали преимущественно местные жители. Прочтя бумагу, которую секретарша написала под диктовку, министр схватился за голову и громко расхохотался.
– Этот человек археолог, ар-хе-о-лог, – он кивнул на меня и вернул ей бумагу. – Исправьте на ар-хе-о-лог, не то мусульмане там отрубят ему голову!
Я осторожно заглянул через плечо курчавой красавицы. Официальный язык в республике – общий для всех здешних племен – французский. И девушка ухитрилась из «археолога» сделать «архиепископа», хотя эти слова не так уж и похожи во французском языке.
Ошибку исправили, а министр лишний раз пояснил нам, что лучше не впутываться в местные религиозные распри.
Получив надлежащие документы и двух чернокожих шоферов, один из которых, Баба, по его словам, бывал в Боле, мы рано утром, до восхода солнца двинулись в путь. Ехали на двух джипах – мало ли что случится в пустыне, – и эта мера себя вполне оправдала. В первой машине у нас была сплошь желтая карта с красными черточками под названиями Форт-Лами, Массакори, Али-фари, Каир, Нгура, Иссеир, Бол. Первые деревни мы отыскали без труда. У обочины стояли надежные указатели, а плотно утрамбованный песок позволял развивать больше 100 километров в час; правда, и такая скорость не спасала нас от пыли, облака которой вздымались из-под колес до самых звезд.
На ближайших к столице участках трудились машины и бригады рабочих, они прокладывали настоящее шоссе на твердой основе, чтобы и в дождь можно было проехать.
Километров 200 мы уже отмахали, когда взошло солнце. Дальше дорога с каждым поворотом становилась все уже, и вскоре все следы двадцатого века остались далеко позади.
Как только мы выехали из столицы, городская застройка сменилась круглыми хижинами с соломенной кровлей, по большей части заброшенными, потом пошли соединенные малоезженной колеей и караванными тропами редкие деревни, глинобитные арабские лачуги, где вместе ютились люди, козы, верблюды и ослы. А там и вовсе пошло сплошное безлюдье.
Это началась пустыня. Южная кромка Сахары. Последний виденный нами термометр показывал около 50° в тени. Здесь же на десятки километров вокруг не было ни градусников, ни тени. Позади осталась саванна с веерными пальмами и сухими деревьями, остались настоящие рощицы, где газели, кабаны и обезьяны бросались наутек при виде машины, и разлетались пестрые тропические птицы, и только жирные цесарки нехотя освобождали колею. Теперь кругом лежал песок, будто снег на голом нагорье, плавные складки рельефа были занесены песчаными сугробами, дюнами, и только жидкие кустики тут и там пропороли иссушенную солнцем безбрежную гладь.
Солнце. Оно стояло прямо над нами, высекая блеск из металла. Джип до того накалился, что страшно прикоснуться к дверцам. От зноя слипались ноздри. Мельчайшая вездесущая пыль насытила жаркий воздух пустыни.
Мы поминутно увязали в глубоких дюнах, и тогда один джип тянул другой стальным тросом, а под колеса мы клали горячие листы железа. Моторы не выдержали жары, сначала один забастовал, за ним второй. Но Баба и его приятель были отличные механики, в их руках отвертка и гаечный ключ справлялись с любыми неполадками.
Где песок поплотнее, мы мчались с головокружительной скоростью. Нередко все следы колеи исчезали, и мы описывали большие дуги, пока Баба не заключал, что выбрался опять на верный путь. Так мы натолкнулись на глухую деревушку, не показанную на нашей карте. В глубокой рытвине около первых домиков оба джипа забуксовали, пришлось нам снова вылезать и браться за лопаты.
С разных концов медленно, не торопясь, подходили один за другим закутанные в серое арабы в белых чалмах. Они пристально глядели на нас, и, никому не приходило в голову поздороваться и предложить свою помощь.
Никакой реакции на наши улыбки и приветствия. Ни одной женщины. Суровые мужчины с орлиным взглядом окружили нас плотным кольцом. Кожа темная, как у негроидов, но четкие черты лица, изогнутый нос и тонкие губы выдавали арабов. Трудная жизнь в пустыне наложила свой отпечаток на облик и душу здешних людей. Похоже, милости тут не жди. И телефона нет... Внешний мир был представлен только нашими джипами, которые прочно увязли в песке.
Подложены железные листы. Баба и его приятель сидят за рулем и без толку гоняют моторы, из-под буксующих колес летит песок. Арабы стоят неподвижно, затаились в себе, словно напряженно ждут чего-то. Кажется, лучше не мешкать, самому сделать первый шаг. У одного из них был начальственный вид, я вежливо протянул ему две лопаты и знаком попросил выделить нам кого-нибудь в помощь. Он на секунду опешил, потом схватил лопаты и крикнул что-то двоим. Мы сделали жест остальным, чтобы подтолкнули, и вот уже главарь рядом со мной уперся плечом в джип, и со всех сторон напирают желающие помочь.
Мы пожали руки, сказали «спасибо» и ринулись дальше во всю прыть наших колес, волоча за собой через деревню и по верблюжьей тропе густое облако пыли.
Под вечер мы неожиданно увидели в пустыне еще одну, с виду столь же нелюбезную деревню. Наши джипы с трудом протискивались через толпы людей и скопление верблюдов, ослов и коз на рыночной площади. Угрюмые, молчаливые арабы напирали на машины, сверля нас взглядом, как будто хотели прочитать наши мысли и выяснить, не присланы ли мы властями вводить христианство или собирать налог. Чувствуя, что мы отнюдь не желанные гости, мы, не задерживаясь, понеслись дальше.
Хотя дело шло к вечеру, нас душила жара. Баба жаловался на головную боль, пассажиры второго джипа наглотались пыли и все больше отставали. Вода в канистре только обжигала губы и вызывала тошноту, вместо того чтобы утолять жажду.
В виденных нами деревнях фруктов не было, только калебасы с бурой оазисной водой да кувшины с козьим молоком. За целый день мы не приметили на своем пути ни пустой бутылки, ни консервной банки, ни клочка бумаги. Лишь на выезде из столицы в одном месте около шоссе лежали осколки стекла. Все здесь собственного изготовления: одежда, упряжь, постройки. На дорогах длинные вереницы тяжело нагруженных осликов, арабы верхом на высоких верблюдах, да семенящие за верблюдами женщины с кувшинами и корзинами на голове. Излишки домашнего производства отправляют на рынок в соседнюю деревню. Мы словно попали в другой, обособленный мир, нетронутый, независимый, обеспечивающий себя всем необходимым. Пропади наша цивилизация, а они знай себе будут жить дальше так же безбедно, так же скромно и неприхотливо, – верные традиции, тесно связанные с природой.
И вот вдали показалось озеро. Голубое, с холодным стальным отливом зеркало неба за кромкой ярко-зеленой поросли сочного папируса. С гребня песчаной дюны оно смотрелось, как мираж, хотелось выскочить из машины, побежать туда, пробиться сквозь зеленый барьер, броситься в эту немыслимо голубую воду, сделать добрый глоток и нырнуть, освежить воспаленную кожу, отмыть от насохших корок песка уши, ноздри, веки, поры, отмыться с головы до ног и снова пить, пить, пить... Тринадцать часов в джипе, мы с трудом разогнули затекшие ноги и уже хотели ступить на землю, но Баба нас остановил. Лучше не покидать машину. Лучше подождать до Бола. Деревня лежит на самом берегу; если поспешим, поспеем туда засветло. В пустыне ночью небезопасно.
До чего же нам трудно было удержаться! Вода, рукой подать, небесно-голубая вода, такая соблазнительно прекрасная в своей холодной наготе за зеленой шторой. А ты садись на место, давясь пылью, и трясись дальше в раскаленном джипе. Баба развернул железную коробку кругом, скатился с дюны вниз, и снова потянулся песок, песок... Снова пустыня.
А Баба сделал доброе дело. Когда наши джипы уже перед самым закатом по утрамбованной караванами дороге, связывающей Бол с деревнями на востоке, въехали в городишко, пересекли безлюдную базарную площадь и остановились на берегу за домами и мы приготовились прямо в одежде прыгнуть в воду, послышался чей-то предостерегающий возглас. Молодой серьезный француз с бородкой, член работающего на озере исследовательского отряда, сухо довел до нашего сведения, что здесь не стоит купаться: озеро кишит паразитами, они в несколько минут пробуравят нам кожу.
Мы посмотрели на Бабу. Он пожал плечами, на которых тоже лежал слой пыли, и вернулся к машине.
Да, упоительно красивое озеро Чад – обитель одной из самых коварных тварей Африки – шистозомы. Так называют крохотное чудовище, точнее его личинку, представляющую собой тонкого, почти невидимого червячка длиной с миллиметр, который с ходу пробуравливает кожу, поселяется в организме и буквально пожирает человека изнутри.
Мы поблагодарили за предупреждение и спросили, где же можно помыться. Он сокрушенно покачал головой. Здесь всю воду берут в озере, ее надо кипятить или хотя бы несколько дней выдержать, прежде чем употреблять.
Местные жители держались поодаль, пока из белого домика не вышел человек богатырского роста, который в сопровождении маленького эскорта направился к нам. Сразу было видно начальника; это и в самом деле оказался исполняющий обязанности шерифа. Сам шериф куда-то выехал по делам, и никто в Боле не был предупрежден о нашем визите. Кто мы, где наши документы? Вице-шериф Адум Рамадан мучился зубной болью и явно был не в духе. К тому же на его попечении находилось все население Бола, две тысячи человек, и каждый десятый считал себя вождем. Словом, хлопот полон рот.
Мишель дал ему аспирина и объяснил, что нам нужно где-то устроиться на ночь, мы приехали из самого Форт-Лами и нигде в пути не отдыхали.
– Быстро ехали, – сухо заметил Адум Рамадан, пропустив мимо ушей слова о ночлеге.
Его интересовало другое: почему же все-таки не было радиограммы из Форт-Лами, ведь радиостанция в порядке?
Велев одному из своих людей проводить нас в стоящий на берегу цементный сарай, жертва зубной боли исчез с остальным эскортом в сгущающемся мраке.
Мы вошли в сарай. Это была местная общедоступная гостиница: заходи и устраивайся, как можешь. Длинный коридор, по бокам – каморки, похожие на открытые стойла и набитые спящими людьми, через которых нам приходилось перешагивать.
В одном конце коридора помещался умывальник, правда, без воды, если не считать мыльную жидкость в двадцатисантиметровой ямке в земляном полу. Мы хотели было накачать чистой воды, но передумали, когда увидели, что труба проведена из озера, зараженного шистозомой. Пришлось ложиться, так и не смыв с себя желтый налет.
Только наш проводник подмел пол, на котором мы собирались расстелить спальные мешки, как снова появился вице-шериф, и на этот раз его широкое лицо освещала добродушная улыбка. Зуб прошел. Если Мишель отдаст ему остаток лекарства, нам принесут из дома шерифа три кровати!
Едва озеро осветили лучи восходящего солнца, как нас разбудили негромкие голоса арабов, которые, стоя на коленях лицом к Мекке и касаясь челом земли, читали свои молитвы. Другие постояльцы развели маленькие костры из сухого папируса и молча готовили себе чай. Нас пригласили на завтрак к вице-шерифу. Он пребывал в отличном настроении и запретил нам трогать свои припасы: пока мы гостим в Боле, будем есть у него. Надо сказать, что у него была превосходная в своем роде кухня, только жевать надо было осмотрительно, чтобы на зубах не скрипел вездесущии песок.
В этот день я впервые в жизни увидел папирусную лодку. Она плавно прошла мимо меня по зеркальной глади заколдованного озера, которое за ночь уже успело изменить свой вид. Когда мы приехали накануне, прямо напротив сарая темнел большой низкий остров, теперь он бесследно исчез, зато появилось сразу три других острова. Меньший из них у меня на глазах скользил вправо, и за ним даже тянулось что-то вроде кильватерной струи. Он напоминал аранжированную искусной рукой цветочную корзину с толстым букетом пушистых золотых соцветий – посередине длинные цветки, по краям стебли покороче, изящно склоненные над голубой водой, отражающей нежные желтые метелки и зеленые цветоножки. Эстетическую законченность композиции придавали торчащие из дерновины цветочки, листики и вьюнки. Плавучий остров из сплетенных корней и волокон двигался степенно и бесшумно без всяких там весел и моторов. А рядом, легко обгоняя эту цветочную корзину, уверенно шла папирусная лодка с двумя африканцами в белых тогах. Они стояли прямо, как оловянные солдатики, работая длинными шестами. Желтая лодка и стройные мужчины тоже отражались в озере, и опрокинутая картинка напомнила мне другие камышовые лодки, которые и впрямь плыли вверх ногами по отношению к нам на противоположном конце земного шара, на озере Титикака в Южной Америке. Причем лодки Титикаки так похожи на чадские, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения.
Я жаждал сам походить на такой лодке и узнать, как их делают. Ведь мало просто связать вместе папирус, как бог на душу положит, надо знать секрет, чтобы получилась нужная форма.
Шериф устроил нам торжественную аудиенцию у султана М'Булу М'Бами, местного религиозного главы и самого могущественного человека на много километров вокруг. Сам шериф и его заместитель были с юга страны, их прислали из Форт-Лами для охраны политических интересов христианского правительства, а султан из местного племени будума опирался на мусульманское население области.
Плечистый шериф поражал своим могучим телосложением; султан же был худой и долговязый, полных два метра росту, закутанный в белый бурнус, только и видно, что орлиный нос да острые глаза.
Каждый из местных вождей сбрасывал сандалии, прежде чем ступить на площадку перед глинобитным домиком султана, где происходила аудиенция. Затем участники торжественного приема выстроились по краям большой песчаной площади посередине деревни – парадного манежа, где султан должен был гарцевать на своем пылком белом коне в честь гостей. Двое, держа коня под уздцы, все время заставляли его дыбиться, сам султан сидел неподвижно в седле, а кругом, обмахивая повелителя легкими шалями, бегали девицы в ярких нарядах. Когда кончился этот хоровод, сопровождаемый барабанным боем и пением рожков, мимо нас лихим галопом промчались всадники. Они размахивали мечами и издавали хриплые вопли, а один из
них несколько раз проскакал перед нами совсем близко, чуть не по нашим ногам, с грозными ужимками и завыванием вращая саблей у нас над головой. Я осторожно спросил шерифа, как это понимать. Он ответил, что всадник просто куражится. Но Баба добавил, что воин выражает свою антипатию к нам, не мусульманам. Правда, султан такого чувства не выказывал, напротив, он очень заинтересовался, когда услышал, что мы хотим научиться делать папирусные лодки. И направил нас к своему родственнику, статному африканцу по имени Умар М'Булу, который жил в одной из конусовидных соломенных хижин квартала будума. Только шериф и его заместитель занимали белые бунгало, увитые красными цветами бугенвиллеи. Будума и канембу жили в круглых хижинах из соломы, а арабы, составляющие большинство населения районного центра Бол, – в низких глинобитных домиках.
Бритоголовый Умар был черный, как ночь, высокий и стройный, со сверкающими в улыбке глазищами и большими зубами. Кроме родного языка он говорил на арабском, голос у него был приветливый и негромкий, и разговаривая, он почти все время улыбался. Рыбак по профессии, он не стал мешкать ни минуты, когда Баба, обратившись к нему по-арабски, попросил его связать лодку из папируса. Выдернул из стены своей хижины длинный нож-мачете, забросил на плечо полу голубой тоги и зашагал впереди нас к озеру. Вот он нагнулся, и под черной кожей заиграли мышцы, когда длинный нож стал подсекать высокий папирус у самого корня. Один за другим ложились на край трясины длинные мягкие стебли. К Умару присоединился добровольный помощник, его сводный брат Мусса Булуми. Он был постарше, поменьше ростом, тоже бритоголовый, однако без королевской осанки Умара. Мусса знал лишь язык будума, но одинаково весело улыбался, когда Баба обращался к нему по-арабски, Мишель по-французски, Джианфранко по-итальянски или я по-норвежски. И он еще проворнее Умара косил папирус.
Заготовив большущие охапки зеленых стеблей, их оттащили от воды и сложили на земле. Предстоял урок вязки лодок.
Поблизости стояли две больших папирусных лодки человек на двенадцать. Мы начертили на песке лодку поменьше, метра на четыре, чтобы можно было погрузить ее на крышу джипа. На помощь были призваны еще два соплеменника Умара и Муссы. Они сели на песок под деревом и принялись соскребать мякоть с кожистых листьев пальмы дум. Тугие белые жилки разделялись при этом на тонкие нити, из этих нитей между ладонью и бедром скручивали веревочки, а из веревочек потом сплетали толстые веревки. И вот уже Умар и Мусса начали вязку; остальные двое едва поспевали снабжать их веревками.
Длина стеблей была два метра с лишком, толщина у корня – четыре-пять сантиметров. В разрезе папирус представляет треугольник с закругленными углами; он не пустотелый и не коленчатый, как бамбук, сплошной стебель состоит из напоминающей белый пенопласт губчатой массы, обтянутой гладкой кожицей.
Для начала Умар взял стебель и расщепил его вдоль на четыре части, но не до конца. В развилок он всунул комлем вперед четыре целых стебля и продолжал затем вставлять между ними новые стебли, получалась утолщающаяся сигара. Стебли туго-натуго перевязывали веревками; Умар и Мусса, держа в зубах каждый свой конец петли, затягивали ее руками и зубами, так что мышцы на руках и шее вздувались черными буграми. Очевидно, сжать губчатый срез стеблей так плотно нужно было, чтобы закрылись все поры. Достигнув в диаметре примерно полуметра, конус переходил в ровный цилиндр, получился этакий огромный карандаш. Его положили острым концом на чурбан, и мастера стали прыгать по снопу и притаптывать его, пока он не изогнулся вроде слонового бивня. Так была придана нужная форма носу, после этого первый конус нарастили с боков еще двумя, покороче, причем привязывали стебли по одному, так что все три конуса были очень плотно сращены между собой.
Когда лодка достигла в длину черты, которую мы провели на земле, она, по сути дела, была готова и представляла собой вполне симметричную конструкцию, кроме кормы, где папирус торчал, как прутья в метле; при желании ее можно было бы наращивать до бесконечности. Проблему с кормой Умар и Мусса решили простейшим способом. Взяли нож подлинней и отсекли все лишнее, как обрезают горбушку у колбасы. После чего папирусная лодка с загнутым вверх острым носом и широкой обрубленной кормой была готова к спуску на воду. Строители управились с работой в один день.
–
Кадай, – улыбнулся Мусса и погладил готовое изделие своих рук.
Так будума называют лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить. Может быть, сами додумались. А может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила. Так или иначе на Чаде древняя конструкция сохранилась всюду, где только есть папирус, даже в тех частях озера, которые принадлежат республикам Нигер и Нигерия. Традиционные приемы строительства везде одни и те же, и везде лодка выглядит одинаково, разница может быть только в длине и ширине.
В просвете среди папируса, где мы спустили на воду нашу лодку цвета зеленой травы, были также причалены к берегу четыре долбленки из могучих стволов, очевидно, принесенных из леса рекой Шари во время паводка. Мы воспользовались ими, как мостками, проходя к своей
кадай. Умар презрительным жестом выразил свое отношение к неустойчивым долбленкам, похожим на длинные полузатопленные корыта. Дескать, канембу не будума, не умеют вязать
кадай...

Я уже приготовился прыгнуть на нашу
кадай, которая лежала на воде кривым зеленым огурцом, когда увидел Абдуллу. Это была моя первая встреча с ним. В самую нужную минуту он явился вдруг, как дух из лампы Аладдина.
– Бонжур, мсье, – поздоровался он. – Меня зовут Абдулла, я говорю по-французски и по-арабски. Вам не нужен переводчик?
Конечно, нужен! Разве я без перевода узнаю что-нибудь толком от Умара и Муссы, когда мы выйдем втроем на озеро на нашем плодоовощном изделии?
Завернутый в длинную белую тогу, с осанкой Цезаря, Абдулла держался очень деликатно. Голова у него была так же гладко выбрита, как у Умара и Муссы, лицо – чернее ночи, со лба на нос спускался длинный шрам. Впрочем, этот знак племенной принадлежности производил скорее приятное, чем отталкивающее впечатление. Добавьте живые умные глаза, постоянно изогнутые в искренней улыбке губы и ровный ряд белых зубов, которые то и дело обнажались в радостном смехе. Сразу видно неподдельного сына природы, внимательного помощника и веселого товарища. Абдулла Джибрин уже достал откуда-то два грубо обтесанных двойных весла и подал мне одно из них.
Под жужжание кинокамеры, увековечивающей итог эксперимента, мы один за другим заняли места на узкой папирусной лодке. И нечаянно оказались свидетелями интересной картины.
Был базарный день, и в Бол из пустыни и с островов собрались тысячи людей в колоритных нарядах. На рыночной площади кипела жизнь, не видно земли от женщин, мужчин и детей, которые проталкивались мимо друг друга, неся на голове кувшины, подносы и корзины с пряностями, соломой, шкурами, орехами, сушеными кореньями, местными злаками. Лица в шрамах, обнаженные груди, голосящие младенцы... Глаза – умные, угрюмые, кокетливые... К благоуханию пряностей примешивался запах навоза, сушеной рыбы, козьей шерсти, пота, кислого молока. Солнце нещадно пекло, жужжали полчища мух, но их заглушали кричащие, бормочущие, тараторящие люди, которые яростно торговались на трех различных языках под мычание, рев и блеяние сотен коров и тысяч ослов, коз и верблюдов, и громче всего звучали мерные удары кувалд по звонкому металлу там, где кузнецы ковали наконечники для копий и кинжалы.
И вот от этого муравейника отделилась группа черных фигур, которые криком и палками погнали к озеру стадо коров с большущими кривыми рогами. Подойдя к воде, они разделись и поплыли следом за своим скотом, пристроив узелок с одеждой на голове. Похоже, что среди местных жителей многие в отличие от европейцев невосприимчивы к шистозоме. Многие, но не все. И для здешних эта болезнь, превращающая человека в развалину, настоящий бич.
Пастухи плыли на остроконечных поплавках, одни из которых были сделаны из дерева, напоминающего бальсу, другие связаны из папируса, в точности как одноместные лодочки из камыша, знакомые мне по Перу и острову Пасхи. Они быстро удалялись от берега, уже только и видно торчащие рядом с носом поплавка черные головы с узлами на макушке, а впереди – рой рогов, плывущих к длинному острову вдалеке. Абдулла объяснил, что эти будума купили скот на базаре и теперь перегоняют его на свой остров. Белый песчаный пляж и пальмы дум свидетельствовали, что остров не плавучий. Зато с другого конца в пролив как раз входили два папирусных островка с развевающимися цветками.
Тем временем мы сами отчалили и пошли на веслах вдоль берега. Через Абдуллу мы узнали от Умара, что многие семьи будума живут на плавучих островах. Умар и Мусса сами родились на таком острове, причем Мусса и сейчас там живет, а в Бол приехал продать рыбу. Озеро богато рыбой, самая крупная – больше человека. Есть также крокодилы и бегемоты, правда, их теперь мало осталось.
Коровы и прочий скот вместе со своими хозяевами странствуют на плавучих островах по всему озеру, и нередко таможенники Нигерии становятся в тупик, когда из Республики Чад, не покидая родной земли, прибывает какая-нибудь семья будума со своими коровами и другим имуществом. С пастбища на пастбище скот обычно перегоняют вплавь, но на рыбную ловлю и в далекие путешествия будума выходят на папирусных лодках. Мы уже слышали в Боле, что иногда из папируса вяжут лодки, способные взять и 40 тонн груза, и больше. По словам Муссы, он однажды помогал строить
кадай, на которой перевезли через озеро восемьдесят голов скота. А еще была
кадай, так на ней поместилось сразу двести человек.
Как ни неправдоподобно звучали все эти рассказы о грузоподъемности
кадай, я готов был поверить в них, очутившись сам вместе с Муссой, Умаром и Абдуллой в наскоро связанной по моей просьбе лодчонке. Совсем узкая, хоть верхом садись, она тем не менее не прогибалась у нас под ногами и шла очень устойчиво, с осадкой не больше, чем у резиновой надувной лодки. Издали такая голубая, вода была отнюдь не прозрачной вблизи, и я бы не хотел шлепнуться в этот шистозомный суп. Тем более что возле зарослей папируса было легче всего заразиться, ведь личинка выходит из тела улитки, живущей на стеблях. А тут Умару и Муссе зачем-то понадобилось поменяться местами. Они протиснулись мимо Абдуллы и меня, придерживая нас руками, чтобы не столкнуть за борт, и лодка хоть бы качнулась.
Подойдя к большему из двух плавучих островов, мы увидели в зарослях старую, полусгнившую папирусную лодку. Ее палуба погрузилась вровень с водой, многие веревки совсем распались, и, однако, даже эта развалина выдержала мой вес, когда я осторожно перешел на нее. Сколько же времени этой
кадай? Что-нибудь около года, ответил Умар. Сказать точнее он, естественно, не мог. Так или иначе старушка еще держалась на воде.
Мы целый день ходили на веслах между папирусными островами и не могли на них налюбоваться. Одолжив
кадай покрупней, которая была причалена рядом с долбленками, нас догнали мои товарищи. Потом подошли рыбаки на двух лодках, и мы принялись ставить сеть, глядя, как плещутся огромные рыбы капитен. Но вот и вечер настал, кончился мой первый день на борту папирусного судна.
...Стоим втроем у караван-сарая, глядим на сверкающее звездное небо. Другие, не столь дальние странники, давно уже спят вповалку на полу, а мы только что вернулись из гостей, ходили в скромную лачугу американца Билла Холисея, который осчастливил нас душем из подвешенной на дереве железной бочки с самодельной лейкой. Путешествуя один в пустыне в разгар религиозных распрей, Билл по-своему помогал примирению сторон. Там, где было особенно худо с водой, он бурил колодцы, и как только появлялась вода, у мусульман пропадала охота убивать христиан. Теперь он занимался бурением в арабских и в негритянских кварталах Бола.
После омовения мы словно заново родились на свет, и захотелось еще подышать чистым воздухом, прежде чем забираться в душную конуру. Конечно, лучше всего было бы спать на воле, но по ночам здесь выходят на охоту ядовитые змеи.
Жаркая, темная, безлунная тропическая ночь, заманчиво мерцают далекие звезды... Тишина, только звенят цикады, да в зарослях папируса квакают полчища лягушек. Пустыня мертва, словно и нет ее, нет и селений, канули в ночной мрак. Последний взгляд на звезды, и мы уже хотели войти в низкую дверь караван-сарая, когда я вдруг что-то услышал и остановил своих товарищей. Мы прислушались.
Из пустыни доносился далекий, едва уловимый рокот барабанов и дрожащий тонкий голосок какого-то духового инструмента. Весь Восток воплотился в этих звуках, как будто мелодию сочинил сам песок, а исполнял ее теплый ночной воздух. И нигде ни огня, но я не мог ложиться, не увидев диковинного зрелища, несомненно связанного с этим таинственным концертом.
Звуки терялись вдалеке. Я попробовал уговорить своих товарищей пойти со мной, однако их такая прогулка не соблазняла, им хотелось спать. На всякий случай я сунул в карман фонарик. Тут ведь надо подкрасться незаметно, ни к чему тащить с собой большой фонарь с аккумулятором, когда хочешь посмотреть на что-то так, чтобы никому не помешать и чтобы тебе не помешали. С другой стороны, я столько всего наслушался, что совсем без фонарика тоже не хотелось идти. Мало ли что...
Темно, хоть глаз выколи. Я сориентировался по звездам, чтобы отыскать потом караван-сарай, который сразу пропал во мраке, стоило мне сделать несколько шагов. По мелкому песку я шел почти бесшумно, главное было поднимать повыше ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь бугорок.
Иду, иду, а барабан все так же далеко. Вдруг путь мне преградила глиняная стена. Деревня. Арабская лачуга. Придерживаясь руками за стену, я дошел до угла и повернул, идя на звук. Долго не было никаких преград, потом мои руки уткнулись в изгородь из папируса. Притаившиеся во тьме дома не выдавали себя ни одним лучом света. Огороженная с двух сторон широкая песчаная улица вела прямо туда, откуда все отчетливее доносилась музыка. И я различил на фоне звезд круглые очертания крыш; ниже была сплошная чернота. Пошел побыстрее. И тут же споткнулся обо что-то большое, косматое и живое. Громко прозвучал хриплый горловой крик, меня грубо швырнули на землю. Я потревожил спящего верблюда. И даже теперь не разглядел его, только по хрусту суставов понял, что он удаляется.
Я замер в напряженном ожидании, но дома словно вымерли, ни огонька, ни звука. Только музыка явственно отдавалась в ночи. Барабаны и что-то вроде рожка или свирели. Я двинулся дальше с вытянутыми вперед руками и пересек так всю деревню. Теперь музыка звучала где-то совсем близко. Глаза различили тусклый свет керосинового фонаря. Дома остались за моей спиной, а впереди какие-то тени мелькали нескончаемой чередой, заслоняя свет. Дальше шло открытое пространство, очевидно, здесь начиналась сама пустыня. Бесшумно обогнув последнюю преграду – глиняный дувал, – я разглядел множество человеческих фигур. Это были стоящие и сидящие зрители; я переступил через ребятишек, которые, сидя на корточках возле дувала, смотрели, как завороженные, туда, где светил фонарь. Никто не обратил на меня внимания. Пожалуй, лучше всего остаться около стены, где меня не видно, и не двигаться, затеряться среди всех этих закутанных в бурнусы людей, неотрывно смотрящих на нескончаемое шествие силуэтов.
И тут же я сообразил, что это не шествие, а танец, мужской хоровод. Идя по кругу, танцоры часто перебирали ногами, наклонялись, опускали руки к земле и снова поднимали их к небу под колдовские звуки рожков и дробь барабанов. В широком кольце танцующих можно было рассмотреть музыкантов. И там происходило еще что-то, мелькали две женские фигуры, то они вроде сидели, качаясь, на каких-то стульях, то их будто кто-то волочил по кругу за волосы, спиной вперед. Я щурился, вертел головой и так и сяк, пытаясь разобрать, что там делается, но тут все мое внимание сосредоточилось на новой детали. Один человек отделился от хоровода и, не переставая танцевать, направился ко мне. В руке он держал короткий меч, которым взмахивал под музыку.
Откуда я взял, что он ко мне идет, разве можно меня рассмотреть в темноте? Но нет, никакого сомнения, он именно меня приметил... И вот уже меч сверкает перед моим носом. Я принудил себя улыбнуться, дескать, шутка есть шутка, я все понимаю. Однако ответной улыбки не было. Суровый араб, пританцовывая, продолжал размахивать своим мечом. Уголком глаза я видел, что вокруг фонаря по-прежнему вращается кольцо танцующих, только этот чудак напирал на меня. Я снова попробовал улыбнуться, но потом до меня дошло, что улыбаться тут нечему, я попал в дурацкое, унизительное положение. Острие меча то грозило отсечь мне нос, то вонзалось в дувал около моей головы.
Я лихорадочно соображал, как мне быть. Перехватить меч рукой? Останусь без пальцев. До самого танцора мне не дотянуться. Он как-то нетвердо ступал, словно находился в трансе. Пьян? Но я не видел, чтобы здесь пили вино. Накурился наркотика? Кто мне ответит, кто научит, что делать, пока меч не расписал мне лицо.
И тут, подчиняясь шестому чувству, я вдруг пустился на такую штуку, что сам усомнился в своем рассудке. Видели бы меня сейчас мои родные, они решили бы, что я свихнулся. Я начал танцевать, да, да, танцевать. Сперва на месте, чтобы не напороться на меч. Похоже, араб опешил, во всяком случае он на миг как будто сбился с такта, но тут же опять запрыгал, и мы, танцуя вместе, двинулись к фонарю – он задом наперед, я за ним. Участники хоровода механически расступились, пропуская нас в круг, и никто не реагировал на наше появление, я же так старался поточнее повторять движения танцоров, что уже не различал особо ни моего партнера с мечом, ни кого-либо из остальных. А когда ко мне вернулась способность наблюдать, я уже слился с широким кольцом танцующих арабов, будума и канембу и видел только четырех музыкантов, которые стояли, приплясывая, у самого фонаря. Танец был совсем несложный: знай, шаркай ногами под музыку, подпрыгивай и наклоняйся, как все.
Я как-то не сразу заметил, что круг постепенно становится меньше. Участники неприметно отходили по одному, и вот уже всего человек десять-двенадцать танцуют вокруг фонаря и музыкантов. Дудочник, должно быть, с младенчества дул в свою свирель, потому что щеки у него были, совсем круглые и как будто сделанные из черной резины, которая, растягиваясь, становилась коричневой. А может быть, это мне так казалось из-за освещения. Но что у него по лбу пот катил градом, это уж совершенно точно, и приглядевшись, я обнаружил, что все остальные тоже обливаются потом. И еще я увидел: у каждого танцора была в руке монетка, ее отдавали дудочнику, когда отделялись от хоровода и ныряли в темноту. Не пристало мне быть хуже других! Я достал из кармана ассигнацию Республики Чад, тотчас дудочник, сопровождаемый барабанщиками, приблизился и задудел мне прямо в лицо, темп возрос, круг еще больше сузился, осталось всего четверо танцоров, и внимание музыкантов недвусмысленно сосредоточилось на самом щедром. Глядя на своих потных партнеров, я с удивлением заметил у них явные признаки утомления, словно они в этом состязании кто кого перепляшет уже дошли до точки. У нас в Европе любители твиста или шейка так скоро не сдаются, но, может быть, у всадника из пустыни ноги послабее, чем у северного лыжника, я только-только во вкус начал входить, правда, они, наверно, танцуют не первый час, а я только что начал, могу хоть целую вечность продолжать в этом духе, шарк-шарк-скок-нагнулся-выпрямился, ух ты, еще быстрее, видно, музыканты решили, что пора заканчивать, еще один вышел из круга, за ним другой, состязаться так состязаться, быстрей, быстрей, так и запыхаться можно, ага, последний сдался, я танцую один, дудочник бросается мне на шею и хватает ассигнацию, люди напирают, белки, зрачки, всем надо посмотреть, и поди пойми эти взгляды... Жадно глотая ночной воздух, я ощущал приятную усталость и радовался, что человек с мечом пропал. В эту минуту из темноты вынырнул какой-то могучий детина и подвел ко мне двух дородных дам не первой молодости, красотой и пропорциями заметно уступающих многим местным жительницам, которых мы видели днем на пляже. Их черная кожа блестела от пота, как у тех ребят, что плясали со мной. Уж не те ли это женщины, которые что-то изображали в центре круга? Их молча поставили рядом со мной, словно призовые кубки. Тусклый свет фонаря падал на сотни арабских и негритянских лиц, окруживших меня со всех сторон. Что делать? Как выйти из положения, которое все более осложняется, и как выйти из этой толпы в ночь, откуда я пришел?
Вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо – Умар!
– Мсье брав тамтам, – одобрительно сказал он, исчерпав этим свой запас французских слов.
Я смотрел на улыбающееся лицо моего спасителя, единственное знакомое лицо. Этот праздник явно был для простых людей, ни султан, ни шериф не пришли. Но Умар тоже пользовался авторитетом, и увидев, что я на дружеской ноге с родственником султана, толпа расступилась. Вдвоем мы прошли под аккомпанемент цикад через безлюдную деревню.
После этого случая мои акции в Боле заметно поднялись. На следующий день только и говорили о том, как я здорово танцую под тамтам и как щедро вознаградил музыкантов. Между тем шериф получил новые известия о том, что в пустыне неспокойно, и настаивал на том, чтобы мы оставались его гостями, пока за нами не пришлют самолет. Связаться микрофоном с Форт-Лами не удалось, но радист передал ключом, что нам нужно воздушное «такси».
Мы приобрели немало добрых друзей в Боле и с удовольствием проводили дни на папирусных лодках на озере. Так прошла неделя. Но вот в воздухе над плавучими островами раздался гул мотора, маленький самолет пронесся бреющим полетом над папирусом, развернулся над самыми крышами Бола и сел на ровной песчаной дорожке. Через минуту мы уже здоровались с французским летчиком. Он был готов тотчас лететь обратно, забрав нас троих, но киноаппаратуру его самолетик осилить не мог, только по чемоданчику с одеждой на каждого. Связанную для нас папирусную лодку мы примостили на крыше одного джипа, все остальное снаряжение погрузили во второй, к Бабе. Шериф и султан заверили, что без бледнолицых чужеземцев чернокожие шоферы могут ехать через пустыню спокойно, на них никто не нападет.
Последними с нами простились лодочные мастера Умар и Мусса и переводчик Абдулла Джибрин. Шериф и султан не раздумывая сказали «да», когда я спросил, можно ли братьям приехать ко мне в гости в Египет, если мне понадобятся специалисты строить папирусную лодку. Абдулла перевел мой вопрос с французского на арабский для Умара, Умар с арабского на язык будума для Муссы, и братья восторженно подтвердили свое согласие, смеясь, кивая и пожимая мне руку двумя руками.
– Они согласны, – торжественно сообщил Абдулла, – а я поеду переводчиком!
В эту минуту мы уже сидели в самолете, и я сквозь чихание капризничавшего мотора сам не разобрал своего ответа, но Абдулла понял меня так, как ему хотелось.
К самолету протянули провода от джипа Бабы, наконец мотор заработал, мы тронулись с места и взмыли в воздух над хижинами будума, над
кадай и папирусными зарослями. За хвостом самолета желтела безбрежная пустыня, через которую мы сюда добрались, а внизу раскинулось озеро Чад с самыми удивительными в мире островами. Около Бола поверхность озера напоминала мозаику, сдвинутую неосторожной рукой. Зеленые островки были разделены сложным лабиринтом синих проливов. На некоторых клочках потрескавшегося пейзажа были изображены крохотные круглые хижины и пасущиеся игрушечные коровы, а в голубых просветах горчичными зернышками желтели
кадай. Дальше до самого устья Шари протянулась сплошная синева. На весь путь через озеро и до Форт-Лами ушел какой-нибудь час. А затем началось томительное ожидание джипов. Прошел день, другой, третий. С Болом наладили микрофонную связь, и шериф подтвердил, что обе машины давно выехали.
Договорившись с владельцем автобазы, мы отправили из Форт-Лами навстречу третий джип. Водитель, проехав полдороги до Бола, вернулся и доложил, что видел только нашу колею. Послали на рекогносцировку маленький самолет. Он три часа кружил над нашим маршрутом, но нигде не было видно застрявших в песке машин. Ученые, работавшие на озере Чад, проверили всю дорогу до Бола – ничего.
Мы обратились к властям. Они ничем не могли нам помочь. Рейсовый самолет, который садился в Форт-Лами только раз в неделю, ушел без нас. Кинооператоров ждало в Эфиопии другое задание, но они не могли лететь туда без своей драгоценной аппаратуры.
Наконец мы смекнули, что надо делать, и во главе с Мишелем пошли в штаб французских войск. Когда Чад стал независимой республикой, французы покинули правительственные учреждения, но при желании их не трудно было найти. И для командующего французским корпусом не представляло труда найти пропавшие джипы. Уже через несколько часов командующий сообщил нам, что обе машины найдены, стоят бок о бок под большим деревом в глухой деревушке. Как выяснилось, это наши собственные шоферы удрали с драгоценной добычей, рассчитывая сбыть ее арабам. Папирусная лодка, ради которой мы все затеяли, их меньше всего интересовала, они выбросили ее. Увы, в пустыне не нашлось покупателя на киноаппаратуру, им удалось продать лишь бензин из баков обеих машин. Патруль, поймавший беглецов, передал по радио, чтобы мы выслали машину и бензин, если хотим вернуть джипы в Форт-Лами.
Не знаю уж, чем все это кончилось для вероломного Бабы и его приятеля. Их не было в джипе, который через неделю подъехал с нашим снаряжением к трапу рейсового самолета. А вот нашего преданного переводчика Абдуллу местные власти вскоре арестовали и бросили в тюрьму. Но тогда, вылетая в Европу, мы никак не могли этого предвидеть.
И вот уходит назад удивительный тигель Центральной Африки, леса и пустыни, чернокожие африканцы и желтые просторы Сахары, через которые, не оставляя следа, скользнула тень нашего огромного самолета – тень двадцатого века.
До свидания, Африка.
Глава 5
Среди черных монахов в истоках Нила.
За папирусом в Эфиопию

Чтобы связать лодку, нужен материал. Мне нужен был необычный материал – папирус. Где он есть? На озере Чад. Но сердце Африки не связано с внешним миром никакими артериями, ни рекой, ни шоссе, ни железной дорогой. Самолет? На нем можно вывезти мастеров, но не вывезешь столько папируса, сколько надо для большой ладьи. Да и как его доставишь из Бола до аэродрома в Форт-Лами?
В Египте? Ну конечно же. На каменных стенах гробницы фараона нарисованы лодки из папируса. Камень и папирус. Камень в пустыне, папирус по берегам Нила. Природа даровала древнейшим жителям Нильского поречья камень и папирус. Да еще ил с Эфиопских гор, который откладывался на берегах реки. Ил кормил крестьянина, из папируса вязал себе лодку рыбак, камень нужен был фараону, беспокоившемуся о своей загробной жизни. На бумаге из папируса ученые-египтяне записывали события древнейшей истории человечества. На папирусе перевозили камень, на камне увековечивали папирусную лодку. Цветок папируса – обычный мотив в искусстве Древнего Египта. Он служил государственным знаком Верхнего Египта, и в одном из мифов птицечеловек Гор, сын солнечного бога Ра, связывает его вместе с цветком лотоса Нижнего Египта, объединяя весь Египет в одно царство.
Если вам нужен бальсовый плот, делайте, как делали инки: отправляйтесь в лесные дебри Эквадора и срубите стволы, полные природного сока. Если вам нужна папирусная лодка, делайте, как делали люди фараона: отправляйтесь на заболоченные берега Нила и нарежьте зеленого папируса. Когда фараону нужна была лодка, задача решалась просто. К его услугам были вооруженные многовековым опытом искуснейшие корабелы, которые знали все о папирусе и папирусных ладьях, он имел сколько угодно рабочих рук, и строительный материал рос в изобилии прямо у ворот его дворца. Заросли папируса тянулись по обоим берегам Нила на десятки километров от Средиземного моря на юг, в глубину страны. Но так было при фараонах.
– Теперь в Египте папирус больше не растет, – объяснил мне Жорж Сориал, египетский аквалангист, знающий Нил как свои пять пальцев. – Камня предостаточно, если тебе захочется построить пирамиду, но папируса не наберется даже на игрушечную лодку.
И он подвел катер поближе к берегу, чтобы я мог убедиться в его правоте.
Множество парусов скользило вверх и вниз по Нилу между пальмами, песчаными отмелями и возделанными полями, но ни один золотоволосый стебель папируса не склонял больше своей косматой головы над бурой нильской водой, чтобы покрасоваться перед зеркалом. Папирус перевелся в Египте еще в прошлом веке. Никто не знает, почему. Боги забрали обратно один из своих древних даров, буквально выдернули его с корнем. Камень есть – остались горы, остались пирамиды, но ила тоже поубавилось с появлением плотин. И вместе с папирусом с берегов Нила исчез последний египтянин, который владел искусством строить папирусные лодки.
Мы странствовали по живописному Нильскому поречью верхом на конях и верблюдах, на автомашинах, поездах и катерах. Приходили на рыбачьи шаланды и грузовые баржи, сидели под солнцем на серых досках и ели арабские лепешки с липнущим к палубе мягким сыром, надеясь получить какие-то сведения от речников, которые не знали, что такое обувь, и редко сходили на берег. Они родились на борту, и все: жена, дети, скот, скарб – находилось тут же. Сто раз чиненная деревянная лодка с каютой-шатром – родной дом нильского рыбака, его деревня, его мир. И мы немало узнали от них. О том, как люди ухитряются жить в трудиться там, где, казалось бы, и повернуться-то негде. Как стряпают на легковоспламеняющейся палубе над глиняным очагом. Как заготавливают провиант, который не боится никакого солнца. Но о папирусе они нам ничего не могли рассказать, тут скорее мы их могли поучить. Рыбаки в жизни не видели папирусного цветка, не видели даже маленького пучка этой травы, посаженного для туристов у фонтана перед входом в Каирский музей. Они не заходили внутрь гробниц. И отцы им не говорили, что некогда по Нилу ходили совсем другие лодки, а не те, на которых они сами выросли.
Однако Нил велик. Он тянется на юг через Египет и Судан до своих истоков в Уганде и Эфиопии. И вот там-то, по берегам озер в его верховьях, папирус уцелел. Я услышал даже, будто бы он там растет так же пышно, как на озере Чад.
Должно быть, древние любили странствовать по свету, ведь многие из фараонов, правивших Египтом, родились в далекой Эфиопии, где начинается Голубой Нил. Но в средние века нильский путь был забыт, и легенда помещала истоки великой реки в таинственных, неведомых Лунных горах. Лишь после того как европейцы во времена Колумба тоже пустились в странствия, итальянцы и португальцы вновь открыли верховья Нила. И люди нашей эпохи узнали, что Голубой Нил вытекает из озера Тана, лежащего высоко в горах Эфиопии. В Марокко и на Сицилии тоже есть папирус, но очень мало, на большую ладью сразу не соберешь.
Итак, отправляйся за папирусом к истокам второй по длине реки земного шара; позавидуешь фараонам... К тому же в Судане были какие-то осложнения, и власти косо смотрели на туристов, да еще таких, которые уверяли, что цель их поездки – связать лодку из цветков папируса! Зато Эфиопия не стала чинить препятствий, и рейсовый самолет доставил нас в Аддис-Абебу, столицу древнего королевства, расположенную на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, посреди зеленого нагорья с россыпью желтых цветов.
Моим спутником был начинающий кинооператор, итальянец Тоси, худой и такой долговязый, что мы насилу втиснули его в маленький самолет местной линии, который ходит на озеро Тана. И вот уже нас качает на воздушных ухабах над зелеными холмами Эфиопии. Внизу на склонах и вершинах жались в кучу живописные круглые соломенные хижины. Долго ландшафт напоминал волнистую, всех оттенков зелени площадку для игры в гольф. Потом пошли изборожденные ущельями горы. На дне глубоких диких каньонов пенились белые ручьи. А вот и верхнее течение Нила – красно-бурая лента на дне судорожно извивающейся теснины между обрывистыми скалами. Эти извивы были словно рисуночное письмо самой природы, повествующее о том, как древняя река в союзе с всесильным временем тысячелетиями вгрызалась в горный массив, выплевывая пережеванные ею скалы Эфиопии в виде миллионов тонн ила на засушливые равнины Судана и Египта. С незапамятных времен Нил без устали перемалывает горы Эфиопии в удобрение для полей Египта. Вот уж подлинно исторический ландшафт, ведь из этих борозд возникла почва, питавшая один из корней мировой культуры.
Мои размышления были нарушены. Пилот взял ручку на себя, самолет резко пошел вниз и чуть не сбрил крылом макушки деревьев на скальном ребре в одном из зигзагов реки. Нил исчез, мы видели только деревья и скалы. И в ту же секунду вдруг услышали со всех сторон громоподобный гул, в котором совершенно тонул рокот мотора. Руки вцепились в сиденье, живот стал невероятно тяжелым, дыхание на миг остановилось. Тут же впереди снова показалось русло Нила, но это была картина безумного хаоса. Великая река была разорвана поперек во всю свою ширину и могучей стеной уходила отвесно вниз. Впереди нас, по бокам, вверху, внизу падали с уступа на уступ беснующиеся белые каскады, вода бурлила, рокотала, кипела, пенилась, курилась. Мрачные утесы заслонили солнце...
Ручку на себя, нас вдавило в кресла, высотный руль вкупе с сильной восходящей струей воздуха бросил машину вверх, мы влетели в изумительную радугу на фоне голубого неба и пронеслись над самым краем бушующего кратера, там, где идущий нам навстречу лоснящийся поток, как бы надломившись, обрывался в пропасть. И опять под нами Нил, но уже этажом выше, волшебно изменившийся – бурого цвета, степенный, неторопливый, неслышный. И никаких круч или барьеров, ровное зеленое плато, ничем не заслоненный вид на отлогие холмы, блестящую воду и вечнозеленый лиственный лес.
– Хотите еще раз посмотреть? – спросил летчик. Не дожидаясь ответа, он развернулся, прошел над обрывом и опять бросил машину вниз, в клокочущее ущелье.
– Водопад Тиссисат, – бесстрастно сообщил он, когда остался позади оглушительный рев. – Здесь Нил срывается отвесно вниз с плато. Местные называют водопад Тис Аббай. Аббай – имя Нила, а «тис» означает «дым». Получается «курящийся Нил».
Мы обернулись – в самом деле, там, где великий Нил исчезал в преисподней, к безоблачному небу, словно дым исполинского костра, поднималась завеса из мельчайших капелек.
Самолет приземлился в Бахар-Даре, и вскоре мы уже снимали тот же водопад с земли. Здесь пролегала грань между двумя мирами – или этажами двухэтажного мира. Мы знали, что совсем близко люди по-прежнему, как во времена фараонов, плавают на папирусных лодках: всего один дневной переход отделяет Тиссисат от озера Тана, в котором берет начало Голубой Нил и на котором мы рассчитывали найти папирус в неограниченном количестве.
И вот мифические Лунные горы, вот начало реки, и серебряная с чернью гладь озера Тана отражает вечерние тучки, контуры гор и макушки деревьев. В заливе что-то двигалось, словно какие-то животные с загнутым вверх хвостом беззвучно пересекали серебристую дорожку. Нырнут в тень – пропадут, выйдут опять на отливающий серебром клин – отчетливо видно длинные силуэты. Я насчитал шесть силуэтов; шесть папирусных лодок бесшумно скользили по воде там, где два лесистых мыса сдавливают озеро Тана и рождается поток, который медленно катится к водопаду.
На каждой лодке сидели люди – где один, где двое, где трое, – и гребли тонкими шестами, как двухлопастным веслом. Может быть, они ловили рыбу в протоке, а может быть, просто тешились на досуге, бороздя тихие струи, с которых начинается Нил. Пониже чья-то лодка лихо неслась по белым перекатам в опасной близости от могучего водопада, но черный гребец искусно вывел легкое суденышко из бурлящей стремнины и пошел обратно к озеру, держась в тени у самого берега.
Лунные горы. Горы, вздымающиеся к Луне. Так рисовался здешний край путешественникам средневековья, карабкавшимся вверх с берегов Красного моря или с египетских равнин. Озеро Тана лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря, а горы кругом достигают 3-4 тысяч метров. Озеро большое – с одного берега другой не видно. На нем нашли себе приют черные монахи. Лесистые острова стали их обителью, и сотни лет только папирусная лодка связывает их с внешним миром.
Хотя уже смеркалось, я даже на таком расстоянии рассмотрел интересную особенность здешних лодок. Если на
кадай на уединенном озере Чад корма обрезана прямо, и только нос загнут вверх красивой дугой, то папирусная лодка, дожившая до наших дней в истоках Нила, сохранила исконную египетскую форму. Не только нос, но и корма изогнута вверх, причем ахтерштевень еще загибается внутрь, образуя характерный древнеегипетский завиток. И в этот тихий вечерний час я мысленно перенесся вниз по течению Нила, перенесся в далекое прошлое, когда занималась безмятежная заря истории.
Краешек тропического солнца провалился за далекие лесные кроны, и свет медленно померк, как в кинозале. Горы и озеро, скрывшись во тьме, растворились во времени. Теплый ночной ветерок принес сладкий запах благовоний и веяние нетленных тайн – дыхание островов, где календарь застыл на месте, где в наши дни живет средневековье, лелеемое и сберегаемое монахами, которые пронесли сквозь столетия образ жизни, одежду, ритуалы и веру, доставленные сюда их святыми предшественниками в ту далекую пору, когда средневековье для всех еще было явью.
Хотя на островах высятся могучие деревья, монахи по сей день не делают ни долбленок, ни дощанок. Предки провели папирусную лодку из седой древности в средневековье, потомки невозмутимо ведут ее дальше, в атомный век. Вот мы и приехали к ним за наукой: им ли не знать, как вяжут папирусные лодки и где найти нужное нам количество папируса!
Откуда пришли учителя черных монахов? Древние народы, обитавшие в разных концах Нила, делились друг с другом не только папирусными лодками и фараонами. Зарождающееся христианство проникло в Эфиопию из Египта за тысячу лет до того, как в спячке средневековья заглохли естественные связи между равнинами в устье Нила и нагорьем в его истоках. Уже около 330 года, задолго до прихода христианского учения на север Европы, в Эфиопии распространилась коптская вера. Первые христиане поселились севернее озера Тана, в древнем королевстве Аксум высоко в эфиопских горах. Позже многие из них бежали от преследований на юг, на затерявшиеся в просторах озер Тана и Звай острова. Черные монахи, нашедшие убежище на Тане, живут там уже семьсот лет, а преемственность обеспечивают, привозя на своих папирусных лодках молодежь с побережья.
Чтобы познакомиться с монахами и разведать участки папируса, мы взяли напрокат железную моторку с папирусной лодчонкой на буксире. Один предприимчивый итальянец привез две таких моторки на Тану и конкурировал с ладьями из папируса, забирая зерно на мелких пристанях и доставляя его на два центральных базара в северной и южной частях озера.
Густой лес покрывал откосы первого острова, к которому мы подошли, корни деревьев переплелись даже в воде. Мы протиснулись к суше на папирусной лодчонке и спрыгнули на берег под сень листвы. Между стволами начиналась узкая тропка, здесь стояли два монаха, словно поджидали нас. В длинных облачениях с опущенным клобуком, босые, темно-коричневая кожа, черная борода. Придерживая рукой коптский крест на груди, они молча поклонились и учтивым жестом указали нам путь к стоящей наверху часовне.
У солнечной стены сушились поставленные на ребро папирусные лодки, лежали снопы сухого папируса. Часовня стояла в высшей точке острова, такая же, как разбросанные по откосу скромные лачуги монахов, только размером побольше. Круглая постройка из жердей под толстой соломенной крышей конусом.
Раздались низкие мелодичные звуки гонга – подвешенной каменной плиты, по которой колотили дубинкой, и к часовне потянулись монахи. Красивые, статные люди, как большинство эфиопов: темная кожа, чеканное лицо, орлиный нос, острая черная бородка. Тут и юноши, и зрелые мужи, и согбенные седобородые старцы. Все в грубых облачениях, босые или в открытых сандалиях; я приметил несколько апатичных, изможденных лиц. Кормились эти бедняки тем, что им давали жалкие клочки земли, да рыбой из озера. Дни проходили в молитвах, псалмопениях и раздумье.
Нас приняли как желанных гостей; можно было надеяться, что мы здесь получим важные сведения. Два старика в чалмах приволокли похожие на бочонок барабаны и, колотя по ним ладонями, затянули надтреснутыми голосами диковинные церковные песни, явно унаследованные от древнейших эфиопских христиан. Должно быть, так же пели учредители их церкви, когда пришли сюда из королевства Аксум.
Остров называется Ковран Гавриил, и архангел Гавриил богатырского роста, с мечом в руке встретил нас, когда монахи предложили нам войти в их часовню с соломенной крышей. Его изображение, обрамленное многокрасочными библейскими сценами, украшало своего рода алтарь, который занимал всю среднюю часть часовни от пола до потолка, оставляя круговой проход вдоль стен с выходами на все стороны. По этому принципу устроены все коптские церкви на озере Тана.
Цветная роспись алтаря позволяла проследить всю библейскую историю. По словам монахов, которые подтверждаются очаровательно наивной трактовкой, алтари были расписаны лет двести-триста назад, а то и раньше. На картинке, изображающей, как фараон со своим египетским войском тонет в Красном море, только блестящие рыцарские шлемы и ружейные дула торчат из воды...
Нас попросили разуться у входа в часовню, и когда мы вышли, то вынесли с собой полчища блох, которые долго постились на церковных коврах. Я еще легко отделался, а вот порывистые движения кинооператора говорили о том, что передовые блошиные отряды быстро добрались до его подмышек и головы. Бегом спустившись к лодке, он, к великому замешательству монахов, затеял что-то вроде стриптиза с дезинфекцией при помощи пульверизатора.
К тому времени я уже успел
выведать у монахов то немногое, что они могли рассказать о плавучести папируса. Хотя для этих островитян папирусная лодка то же, что для жителя пустыни лошадь и верблюд, никто из них не пользовался ею больше одного дня подряд. Походят день – непременно вытащат на берег и поставят ее сушиться, не то очень сильно намокнет. А намокший папирус хоть и не тонет, но грузоподъемность совсем не та. Чем больше лодка, тем дольше она сохраняет плавучесть, но чересчур большие делать нет смысла, слишком тяжело вытаскивать из воды и сушить.
Да, не густо.
Следующий остров назывался Нарга. Он был плоский, с папирусом в мелких заливах, но это растение нужно было самим монахам для пополнения своего флота. Они говорили, что папирус как-никак гниет; сколько ни просушивай лодки, раз в год приходится вязать новые. А в старинной каменной башне сидел монах, который вообще ничего не говорил. И не двигался с места. Только и видно темный силуэт на фоне облаков. Башня была построена царицей Ментуаб 250 лет назад, монах же уселся на верхней площадке лишь несколько лет назад, зато дал богу обет неподвижно просидеть там всю жизнь. До самой смерти. Его собратья смотрели на него как на живого святого.
Мы поспешили к соседнему острову, Дага Стефано, его лесистые взгорья высоко вздымаются над водой. Это самый священный остров на всем озере, до того священный, что ни одной женщине, будь она хоть царица, не дозволяется сходить здесь на берег. Последний раз такая попытка была сделана 250 лет назад. Царица Эфиопии Ментуаб со своей свитой подошла к острову на большой папирусной лодке, но ее учтиво спровадили. И пришлось ей продолжить путь до Нарга, где она и соорудила храм и башню.
Дага Стефано благодаря пышной растительности очень красив. На вершине острова между древесными кронами мы различили соломенную крышу с крестом. У единственного причала стоял на страже оборванный монах с явными признаками слоновой болезни; к деревьям позади него были прислонены маленькие папирусные лодки. Волнуясь, мы ступили на священные камни: что последует? Но монах позволил нам осмотреть лодки и не стал нас останавливать, когда мы пошли по широкой тропе вверх. Могучие деревья, соломенные лачуги, монахи... Немые поклоны, рот бормочет молитву, рука придерживает маленький крест... Папирус? Они дружно показали через озеро. Вон там. Там его сколько угодно. Они сами его там берут. Сколько держится на воде? Восемь дней. От силы две недели. К тому времени он, если не затонет под тяжестью груза, все равно сгниет и развалится на волне. Папирус надо сушить. Вытаскивать лодки на берег. Больше они ничего не могли нам сказать.
В храм нас не пустили. Его овальные стены из камня, бамбука и соломы грозили вот-вот рассыпаться. Но рядом было что-то вроде каменного грота с множеством реликвий. Два улыбающихся монаха любезно ввели нас в этакий кабинет ужасов. В полумраке на полках лежали белые черепа, старинные кресты и священные предметы, принадлежавшие покойным отцам церкви. Главной святыней были накрытые материей длинные стеклянные гробы. Покрывала сдвинули, и мы увидели мощи, бальзамированные тела четырех эфиопских царей со скрещенными на груди руками. Здесь, на священном острове, они обрели вечный покой. Их привезли сюда на папирусных лодках через бурное озеро Тана, как некогда траурные процессии сопровождали мумии фараонов по тихому Нилу.
Выйдя из темного грота на волю, мы устроили монахам маленький сюрприз: они услышали собственные голоса, записанные на портативном магнитофоне. Другим тоже захотелось услышать себя. И вот все монахи сидят в ряд на широкой лестнице и хором поют в микрофон. Звучат древние коптские псалмы. Я сижу на корточках перед ними и регулирую запись. Позади меня стоит долговязый кинооператор, согнувшись в три погибели над штативом. Вдруг я услышал страшное ругательство, от которого стрелка индикатора на магнитофоне ударилась в край шкалы, после чего откачнулась на ноль и застыла. Монахи закрыли рты и вытаращили глаза. Я обернулся и увидел, что мой итальянский товарищ исполняет какой-то лихой воинственный танец. Штатив он уже сшиб ногой и теперь торопливо стаскивал с себя рубаху. Отбросив ее, он взялся за брючный ремень.
– Стой! – яростно прошипел я. – Ты что, рехнулся?!
Мои слова не возымели никакого действия. Штаны последовали за рубахой, и Тоси, завершив стриптиз, обеими руками схватился за корму.
– Оса! – вопил он. – У меня в штанах оса!
Эх, оператор, оператор, так испортить нам последние минуты на острове Дага Стефано. Я не мог его простить, хоть и жалко было смотреть на беднягу, который не был в состоянии даже сидеть, когда мы вернулись в моторку. Монахов с лестницы как ветром сдуло, осталось лишь несколько человек; впрочем, они с признательностью приняли от нас скромную лепту в благодарность за содействие и во искупление греха, совершенного кинооператором.
В общем визит к черным монахам нас огорчил. Послушать их, так главное – делать папирусную лодку поменьше, чтобы легче было вытаскивать ее на берег и просушивать. Не очень-то это подходит для Атлантического океана... Как только лодка освобождалась, ее немедленно выносили на берег.
Чтобы упростить сушку, лодки побольше здесь делают из двух частей, которые можно выносить на берег отдельно: тонкий, так сказать, корпус с загнутыми вверх носом и кормой, а внутри корпуса – пригнанный к нему толстый папирусный матрац. Чадские
кадай куда массивнее. Если монахи озера Тана стараются делать лодки легкими, ревностно сохраняя исконную древнюю форму, то для будума на озере Чад важнее всего капитальность конструкции.
Идя дальше через озеро, мы миновали несколько островков, ставших вотчиной бегемотов. Наше появление вызвало переполох, могучие звери, покинув свою обитель, погружались в воду и выныривали около нас. Нам объяснили, что они ненавидят папирусные лодки и всегда норовят их опрокинуть, потому что с таких лодок исстари били гарпунами бегемотов. Но когда мы столкнули в воду нашу папирусную лодчонку, бегемоты, окружив ее со всех сторон, только фыркали и таращили любопытные глаза.
В юго-западной части озера, где берег едва выдается над водой, раскинулись обширные заросли папируса.
В одном месте сквозь папирус пробивается мутный поток, и по озеру словно расплывается бурая краска. Здесь в Тану впадает речушка, ее устье сразу и не отыщешь в густом папирусе, где прячется много крупных болотных птиц. И так как озеро питает Голубой Нил, эту речку назвали Малым Нилом.
Как правило, Малый Нил настолько мелок, что на моторке по нему можно пройти всего несколько сот метров, но необычно высокий уровень воды позволил нам подняться вверх по реке до маленькой деревушки племени абайдар, лежащей в 3 километрах от озера. При появлении нашей моторки из крытых соломой круглых хижин высыпали на берег местные жители. Как нам объяснил Али, впервые одна из двух принадлежащих его итальянскому боссу моторок зашла в Малый Нил.
Встречающие спустили на воду лодки из папируса, сушившиеся возле хижин, и направились к нам, кто на веслах, кто толкаясь шестом. Самые маленькие здешние лодочки – по сути дела, поплавки, смахивающие на бивень слона; нам сказали, что они называются
коба. Вяжут и применяют их точно так же, как в Центральной Африке, в Южной Америке и на острове Пасхи. Лодка побольше на одного человека, называется
тароча, а наиболее обычная для Таны разъемная лодка на двух и больше гребцов –
танкуа. Мы видели
танкуа с экипажем в девять человек, но нам говорили, что есть лодки, на которых перевозят через озеро до 2-3 тонн зерна. Был случай, сильный ветер унес груженую
танкуа, и она целую неделю дрейфовала по озеру, прежде чем ее удалось пригнать к берегу, даже зерно успело прорасти.
Абайдары, как и черные монахи, считали, что две недели – крайний срок, после которого
танкуа, пропитавшись водой, неизбежно развалится. Корпус этой лодки настолько тонок, что она извивается на малой волне, будто змея.
Все это подтверждало мои первые впечатления. Хотя
танкуа с загнутой вверх кормой больше похожи на лодки древнего Египта, чем чадская
кадай, они уступают ей в прочности. И поскольку в нынешнем Египте нет ни папируса, ни строителей папирусных лодок, напрашивалось решение: взять папирус с озера Тана, строителей – с озера Чад, а образец для задуманной мной реконструкции – с древнеегипетских фресок.
Ночью разразилась жуткая гроза. Мы привязали моторку за дерево на берегу и накрылись папирусной лодкой. Гром гремел так, как это бывает, когда низкие тучи идут над самой водой. Ослепительный блеск молний и оглушительные залпы говорили о том, что центр грозы над нами. Молнии били в озеро, ударяли в берег. Вспышка, удар грома, толчок воздушной волны – и совсем рядом с нами раскололось огромное дерево! Дождь лил как из ведра. Наше имущество плавало в лодке вместе с дневным уловом рыбаков. А кинооператор крепко спал, в такую погоду он был избавлен от необходимости сражаться с насекомыми.
...На самом юге Эфиопии, с севера на юг параллельно Красному морю, протянулась в сторону Кении Рифт-Валли. Геологи полагают, что эта широкая долина, зажатая между двумя горными грядами, образовалась при медленном смещении Африки на запад за много миллионов лет. На дне рифта, словно бусины, лежат в ряд большие озера. На одном из них, озере Звай, вяжут папирусные лодки. Есть отличная автомобильная дорога, и большинство озер – излюбленное место отдыха; из столицы, Аддис-Абебы, сюда приезжают охотиться, ловить рыбу и купаться. Только Звай, хотя оно самое красивое, не посещается туристами. Сюда не доходит шоссе, и здесь растет папирус, прибежище улитки, в которой вырастает личинка шистозомы, гроза любителей купанья.
В Аддис-Абебе я встретил двух шведов, от которых кое-что узнал про Звай. Один из них, этнограф, изучал по литературе жителей тамошних островов. Другой – он кормится ловлей птиц в Эфиопии – сам побывал на озере.
Я взял напрокат джип, погрузил на него продукты и полевое снаряжение, мы покинули нашу базу в столице и помчались сперва по отличной, потом по хорошей, потом по посредственной и, наконец, по отвратительной дороге. Первый ночлег – у гостеприимных шведских миссионеров на высоком восточном склоне Рифт-Валли. На другое утро вместе с переводчиком – эфиопским учителем Асеффа – и «знающим дорогу» молодым парнем из племени галла мы двинулись дальше к озеру Звай.
Глубокое ущелье с порожистой рекой, секущее равнину к западу от озера, преградило нам путь, и в поисках переправы пришлось проехать 25 километров на юг по строящейся дороге, увязая в сыром грунте. Наконец мы пересекли реку по мощному каменному мосту, после чего километров пятьдесят ехали на северо-запад вовсе без дороги, где по конной, где по звериной тропе, где просто в просветах между редкими деревьями. Часто кому-нибудь из нас приходилось идти впереди джипа, отыскивая путь. «Проводник» сидел смирно, не раскрывая рта, а если и пытался что-то нам подсказать, то весьма неудачно. Дикие звери не попадались, зато мы видели много старых могильников. То и дело встречались нам галла – на плече копье, по пятам трусит собака. Хотели мы спросить у одного парня про дорогу, но он так перепугался, когда мы развернули джип в его сторону, что поднял копье для защиты, потом пустился наутек и мигом исчез среди акаций.
Вечерело, когда мы выехали на высокий утес, с которого открывается великолепный вид на восточный берег озера Звай и два ближних острова. На утесе стоял дощатый домик и большая палатка – шведская миссионерская поликлиника. Заведовала поликлиникой медицинская сестра, но она уехала в отпуск в Швецию, и мы застали только сторожа, живущего с семьей в шалаше по соседству. Он позволил нам разместиться в палатке.
От подножия утеса на юг и на север тянулись камышовые заросли, а на воде в лучах вечернего солнца поблескивало желтое зернышко: папирусная лодчонка возвращалась на свой остров.
День угас быстро, как и должно быть в восьми градусах от экватора. И тотчас начался спектакль. На деревьях тараторили обезьяны. Грузные бегемоты выбирались на берег и шли лакомиться кукурузой на поля. Все ближе и ближе скулили и выли гиены. Откуда-то с озера доносилась далекая барабанная дробь. Из палатки были видны костры на островах. Асеффа объяснил, что это копты готовятся встретить свой праздник маскал. Я вышел, чтобы полюбоваться всей панорамой, и у самых дверей наткнулся на две темных фигуры с копьями. Это сторож с одним из своих родичей пришел спросить, не хотим ли мы посмотреть на гиен, которые нашли околевшего мула и устроили пир.
Мы крадучись вошли в рощу. Где-то впереди звучали дикие вопли, тявканье, рычание, щелкали челюсти. В кустах со всех сторон сверкали, словно стоп-сигналы, бдительные глаза гиен. Но стоило мне включить фонарик, и обладатели глаз беззвучно улетучились, как будто по волшебству. Видно только лежащую на земле истерзанную тушу. Выключаю фонарик и жду. Опять кругом пара за парой вспыхивают глаза, опять зверье воет, скулит и рвет мясо, трещат кусты и сучья. Зажигаю фонарик... Половины туши как не бывало, осталась только передняя часть, да и та разодрана на куски. Мы поискали в кустарнике, идя по кровавым следам, но задние ноги мула канули в ночь.
На другое утро мы спустились к озеру. Маленькое кукурузное поле у подножия утеса подверглось за ночь основательному опустошению, вторгшийся сюда бегемот сжевал не одну сотню початков. Мы застали хозяина, когда он разгонял обезьян, которые задумали доесть то, что осталось после вылазки озерного исполина.
Вдали показалось несколько маленьких папирусных лодок, они шли от островов прямо к нам. Мы стояли там, где расчищенный в папирусе проход от причала встречался с тропой, спускающейся сверху. У нас были припасены топоры, веревки и два толстых сука в рост человека. Мы задумали один план и ждали, когда подойдут лодки.
Вот и они. Похожи на чадские: корма обрезана прямо, только нос заострен и изгибается кверху. Правда, совсем маленькие, на одного человека.
Островитяне пересекли озеро для меновой торговли с галла. Один привез буроватое кукурузное пиво в кувшине и в калебасе. У другого была свежая рыба. Подошел третий и начал вытаскивать свою лодку на берег. Мы перехватили их и предложили сделку. Взяв напрокат все три лодки, мы поставили их рядом и связали вместе. Только так можно было осуществить наш план и попасть на острова, к людям племени лаки. На всем озере Звай лишь они делают лодки, притом такие маленькие, что никто посторонний не может воспользоваться ими, чтобы проникнуть в древнее пристанище этого племени.
Лаки не состоят в родстве с галла, обитающими на берегах Звай. Галла – типичные африканцы, кормятся земледелием и скотоводством, они прочно приросли к суше, им в голову не приходило связать лодку или плот, чтобы выйти на озеро. А в жизни лаки папирусная лодка играет важную роль, ведь они не только земледельцы, но и рыбаки, и торговцы. Несмотря на черную кожу, лаки не негроиды, у них, как у большинства эфиопов, узкие лица, четкий рисунок которых наводит на мысль о жителях библейских стран. Как и монахи озера Тана, они пришли из области верховий Нила и принесли с собой искусство строительства лодок из папируса. Уже в 1520-1535 годах, они, спасаясь от гонений, после долгого странствия достигли Рифт-Валли и уединились на глухих островах озера Звай со всеми своими церковными сокровищами и древними коптскими рукописями. Мне говорили, что рукописи сохраняются до сих пор, ведь галла ни разу не смогли проникнуть на острова, несмотря на четырехвековую вражду с лаки. Правда, в последние годы розни пришел конец, наладилась меновая торговля, некоторые семьи лаки даже перебрались на берег, но по-прежнему на озере делают только такие лодки, что на них кроме гребца может поместиться от силы один человек. Да и то он рискует перевернуть тонкую связку папируса, если не будет сидеть тихонько, вытянув ноги вперед или свесив их по колено в воду.
Вот почему мы смотрели с торжеством на свое произведение – устойчивый плот из трех связанных вместе лодок. Мы уже собрали снаряжение и хотели занять места на плоту, чтобы переправиться на заманчивые острова, когда увидели, что один из лодочников потихоньку развязывает узлы. Объяснив Асеффе, что он пришел за дровами для большого праздничного костра, но теперь вспомнил, что самые хорошие дрова не здесь, а в другом месте, островитянин учтиво попрощался с нами и поспешно удалился на одной трети нашего тримарана.
Лишь под вечер нам удалось наконец зазвать еще одного лаки. Он шел вдоль камышей, забрасывая в воду небольшую сеть, и чуть не всякий раз в его сети трепетало живое серебро. Мы купили весь улов, двадцать одну тулуму с нежнейшим мясом, испекли на углях по рыбе на человека, а остальное вернули рыбаку. В нашу сделку с ним входил также прокат лодки, и на этот раз мы поспешили отчалить, как только связали плот. Он легко выдерживал вес троих пассажиров и кинокамеры с треногой, и Асеффа нерешительно присоединился к нам, когда я напомнил ему, что мне понадобится переводчик.
Берег был оторочен густыми зарослями низкого камыша, но папируса мы здесь не увидели. Небольшая волна заставила всех взяться за весла. Постепенно берег озера ушел вдаль, а над нами поднялись зеленые холмы ближайшего острова. Между деревьями на склонах отчетливо различались живописные круглые хижины из соломы. В это время из-за мыса вышла маленькая лодчонка и направилась прямо к нам. Верхом на папирусе, спустив ноги в воду, сидел суровый человек в похожем на мундир костюме защитного цвета. Умело работая веслами, он развернул свою лодку и стал поперек нашего курса. Асеффа сообщил, что этот человек называет себя не то шерифом, не то шефом острова Тадеча и требует, чтобы мы предъявили ему документы, прежде чем он пустит нас на берег.
Асеффа спросил, нет ли у меня какой-нибудь официальной бумаги. Я достал из нагрудного кармашка написанное по-французски письмо норвежского министра иностранных дел, адресованное властям Республики Чад. Асеффа ни слова не знал по-французски, но это не помешало ему, стоя на плоту, торжественно произнести на языке галла долгую тираду, в которой я разобрал только поминутно повторяемое имя императора Хайле Селассие. Что уж он там сочинил, знают лишь сам Асеффа да шериф; во всяком случае суровый чиновник растерянно отдал честь, освободил нам путь задним ходом и возвратился к мысу, а мы взяли курс на ближайший залив.
Остров был изумительно красив. Яркая зелень, пологие холмы, аккуратные кукурузные поля... В заливе голые ребятишки удили рыбу, сверху спускались к причалу женщины с кувшинами на голове, в платьях из домотканой материи, навстречу им поднимался мужчина, неся на плече свою папирусную лодку. Кругом сновали куры, порхали красочные птицы. На открытом гребне холма примостилась чистенькая деревушка, горстка хижин с конической соломенной крышей, стены – из камня и обмазанного глиной плетня, расписанные незамысловатым узором. Около большинства хижин сушились на солнце остроносые лодки, где одна, где две, а то и три. Нас учтиво пригласила к себе в дом симпатичная супружеская чета и предложила свежего кукурузного пива айдар. Его звали Дагага, ее – Хелу. В доме было уютно и чисто.
На утрамбованном глиняном полу стоял ткацкий станок и большие запечатанные кувшины. На каркасе стен висели калебасы и нехитрые орудия труда, постелью служили шкуры, подушкой – кривая деревянная скамеечка вроде древнеегипетских. Дагага и Хелу жили без забот, вещей у них было очень мало, зато бездна времени, чтобы получать от них радость. Нет холодильника, зато нет и счета за электричество. Нет автомобиля, но ведь и спешить некуда. Они отлично обходятся без того, чего у них нет, и что мы привыкли считать необходимым. И у них есть все, что им необходимо и чем охотно обходимся мы, расставаясь с городом на время долгожданного отпуска. Когда наш современный мир вскорости проникнет к ним, они многое у нас переймут, а мы у них – ничего, но это будет бедой и для них, и для нас, ведь обе стороны считают, что умнее, лучше, счастливее мы, раз у нас больше всякой всячины. Так ли это?
Пока я философствовал, сидя на холодке у двери, красавица Хелу с мудрыми глазами потчевала незнакомых гостей. Дагага сидел и поглаживал козленка, от души радуясь, что может угостить нас пивом и жареной кукурузой. До чего же вкусно! И до чего хорош вид из двери на зеленые холмы. Вот бы, лежа на шкурах, полюбоваться озером на закате, когда пойдут домой последние папирусные лодки... В эту минуту что-то сверкнуло на горизонте, потом донесся глухой рокот. По небу ползли черные тучи. Кинокамера! И все наше имущество в незастегнутой палатке на том берегу!.. Надо поторопиться, если мы хотим пересечь озеро до грозы. Солнце склонилось совсем низко. Я глянул на свои часы: ого! В доме Хелу и Дагаги часов не было, время здесь не дефицитный товар и нет нужды его мерить.
Мы сбежали вниз по склону и оттолкнули от причала папирусный тримаран. И вот уже остров уходит назад, растворяясь в вечерней мгле. Последнее, что мы видели, раньше чем дождь все заслонил, были тусклые огоньки на гребне холма. Наши лакские друзья, надежно укрытые в своих уютных хижинах, зажгли фитили масляных светильников...
Наступил маскал, главный коптский праздник, когда все эфиопы-христиане празднуют так называемое «открытие истинного креста». С нашего утеса мы видели большие костры на островах. Мы собирались еще раз навестить лаки, расспросить их о папирусных лодках, но не тут-то было. В этот день ни одна лодка не вышла на озеро. На следующий день мы увидели две лодки с рыбаками, но они держались вдали от берега. Может быть, им так велел шериф, чтобы избежать повторных визитов.
Мы погрузились в джип и покатили обратно. Ориентироваться было нетрудно. Несмотря на прошедший ливень, отпечатки наших колес сохранились. Мы уже приближались к ущелью, когда заметили между деревьями другой джип. Он тоже ехал по нашему следу, но навстречу нам. В машине сидели эфиопы. Выйдя из джипа, чтобы поздороваться, мы обратили внимание на одного из них, который был почти на голову выше остальных. На нем была роскошная ряса с шитьем, ниже косматой седой бороды на животе болтался огромный коптский крест на цепочке. Асеффа поцеловал крест и объяснил нам, что этот богатырь с благодушным лицом – глава эфиопской церкви, епископ Лука. Он направляется к озеру Звай, чтобы навестить своих единоверцев лаки. Епископ лукаво сказал, что знает способ вызвать лодки. И если мы сможем приехать на следующей неделе, он нас примет на главном острове – Девра Зионе. Но для этого надо спуститься к озеру с другой стороны, там есть небольшой лепрозорий, а при нем – пластмассовая лодка.
Возвращаемся в Аддис-Абебу. Нагружаем джип свежими запасами. Через несколько дней едем на юг по туристской магистрали вдоль западной кромки Рифт-Валли. Отсюда совсем просто спуститься к Звай, но в этом конце озера нет ни папируса, ни островов. Лепрозорий оказался закрытым, окна заколочены. Сидевший на крыльце галла с распухшими от слоновой болезни ногами сообщил нам, что лодку увезли на ремонт в Аддис-Абебу. А других лодок тут нет, только маленькие
евелла, которые лаки вяжут из папируса.
Попытались проехать вдоль берега на север. Сплошное бездорожье. На юг... Заросшая тропа привела нас к монастырской школе. Школа тоже закрыта. Дальше путь нам преградила глубокая река. Сонный монах, кутаясь в рясу, сидел на траве и глядел на бегемота, который нежился у другого берега в тени могучих деревьев, высунув голову из воды. Ниже по течению начинались пороги.
Лодка? Откуда ей быть. Здесь никто не вяжет лодок: слишком много бегемотов, которые недолюбливают их еще с той поры, когда на них охотились люди с папирусных лодок. Автомобильная дорога? Нету. Здесь нету.
Возвращаемся к шоссе. Едем по нему на юг. Озеро Лангана среди каменистой равнины. Островов нет, папируса нет, шистозомы нет. Есть пляж, туристский отель, пиво, лимонад. Пластмассовая лодка? (Мы надеялись взять ее напрокат.) Увы. Она в Аддис-Абебе, ремонтируется. Едем обратно по шоссе. Ночь, тропический ливень. В деревне Ада-митуллу мы нашли приют. В дощатом сарае женщина галла торговала пивом и эфиопскими чебуреками. А во дворе за сараем мы увидели две конурки с постелями, ничем не огороженную выгребную яму и бочку с водой для тех, кто привык умываться.
Кинооператор приоткрыл дверь своей будки и просунул внутрь руку, в которой держал распылитель с дезинсекталем. Потом распахнул дверь настежь и вымел веником богатую коллекцию дохлых насекомых. Он так и уснул, лежа поверх покрывала с распылителем в руке. Я отыскал одного галла и поставил сторожить машину, снабдив его фонариком, затем вынес из своей будки все, оставил только голую железную кровать, и развел на полу костерок из взятых у хозяйки благовонных палочек. Всю ночь из окошка струился ароматный дымок.
Только я задремал, как в соседней конурке послышалось ругательство, и оператор с грохотом выскочил на волю и исчез в ночи. Утром я обнаружил его в нашем джипе, он лежал поверх багажа, свернувшись калачиком. Мало того что его чуть не сожрали паразиты, он всю ночь глаз не сомкнул из-за какого-то человека, который все время светил ему в лицо. Сторож гордо доложил, что это он следил за тем, чтобы верзила, явившийся откуда-то среди ночи, ничего не стащил.
Этот сторож нас здорово выручил. Уроженец деревушки, лежащей у южной оконечности озера, он сказал нам, что туда очень легко проехать, он охотно покажет нам путь. С проводником и переводчиком мы покатили через рощи и перелески, пока не уперлись в уже знакомую нам порожистую речку, правда, в другом месте, здесь через стремнину было переброшено для перегона скота несколько кривых бревен, присыпанных камнями и землей. Дюйм за дюймом мы форсировали этот мост и покатили дальше по конным тропам, сухим руслам, просекам и глинистым полям от одной идиллической деревни галла к другой. Километр за километром нас сопровождали веселые ребятишки, они живо разбирали изгороди на нашем пути, засыпали камнями и сучьями канавы. Природа тут красивая, разнообразная, птиц словно в зоопарке. Галла к югу от Звай образуют свой замкнутый мир, ни о чем не просят, ничего не получают и не нуждаются ни в чем. Никто не вмешивается в их жизнь, никто им не докучает, никто их не совершенствует и не портит. Они привязаны к земле, и никому из них не приходило в голову связать себе лодку.
Продолжая движение, мы под вечер увидели совсем близко самый большой из островов лаки. Его зеленые вершины вздымались выше, чем холмы на берегу. И вот уже только широкий пролив отделяет нас от Девра Зиона, куда направлялся епископ Лука. Мы выехали на ровное поле, к очередному селению галла. Ни у кого не было лодки, зато все знали, что епископ Лука сейчас на острове. За ним приходила оттуда большая
оболу – так лаки называют лодки из трех снопов папируса, связанных плугом. Мы до сих пор видели обычные, узкие лодчонки, которые опрокидываются при малейшем неверном движении. Лаки называют их
шафат, галла –
евелла.
Поблагодарив за информацию, мы съехали по крутому спуску к самой воде и сигналили до тех пор, пока к нам с той стороны не подошел какой-то любопытный лаки на маленькой
шафат. До острова здесь было всего 2 километра, и мы попросили лодочника вернуться и передать, что мы приглашены епископом Лукой и нам нужна
оболу. Вскоре кинооператор вместе с переводчиком и лакским гребцом уже сидел в широкой лодке епископа. Сам я уселся на обычной
шафат, спина к спине с гребцом, который объяснил мне, что нельзя сгибать ноги в коленях и надо плотнее прижиматься к нему, чтобы не опрокинуться. Съемочную аппаратуру мы погрузили на другую
шафат.
Моя лодка была кое-как связана полусгнившим лубом. Я оперся рукой, чтобы не сидеть в шистозомной воде, в ту же минуту две лубяные петли лопнули и
шафат начал разваливаться. Гребцы не на шутку переполошились, все трое что-то кричали друг другу и нам на своем языке. На всякий случай соседи подогнали к нам свои лодки, хотя было очевидно, что спасаться у них, если наша лодка распадется, бесполезно, только опрокинемся все вместе.
Чувствуя, как мои штаны все глубже погружаются в теплую воду, где резвились микроскопические чудовища, я сидел будто вкопанный и судорожно сжимал руками стебли папируса, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Может быть, эти твари уже прокладывают себе путь через тонкую ткань шортов? Раньше до острова было рукой подать, теперь он вдруг отодвинулся куда-то страшно далеко. Никогда еще двадцать минут не казались мне такими долгими.
Когда мы вытащили на берег растрепанный сноп папируса, было очевидно, что этот
шафат отслужил свой срок. Но мы добрались до Девра Зиона, а это все окупало.
От прибрежного папируса до скал внутри острова простирался поистине парковый ландшафт, на зеленых склонах высились старые деревья-исполины. Источенные ветрами утесы напоминали колонны и террасы разрушенного замка, который оброс цветущими кустами, лианами, кактусами и диковинными деревьями.
Мы шли очень быстро по горной тропе, не встречая ни полей, ни хижин, ни людей, лишь обезьян да многоцветных птиц. Наконец у наших ног простерлась глубокая долина в виде подковы. Ее ложе представляло собой сплошное зеленое болото с папирусом и зарослями камыша, в которых кишели длиннохвостые обезьяны и крупные болотные птицы.
От устья долины в озеро вдавалась песчаная коса, здесь мы застали епископа. Под его руководством два десятка лаки сооружали из только что срубленных сучьев нечто странное, больше всего похожее на двухэтажную клетку для птиц. Епископ Лука, явно удивленный нашим появлением, приветливо объяснил, что каркас обмажут глиной и получится дом для гостей с большой земли. Мы посмотрели на безлюдную заболоченную долину, на курящийся паром горячий источник, который впадал в озеро по соседству с косой.
А епископ тем временем уже развернул свои припасы и настаивал, чтобы мы ели его печенье и превосходные фрукты. Мы еще не успели опомниться от смущения, когда святой отец с тревогой в голосе добавил, что, закусив, мы сразу должны отправляться обратно, дескать, ночью озеро опасно из-за бегемотов. Мы ответили, что собираемся ночевать на острове. Ни в коем случае! При всей учтивости епископа Луки было очевидно, что ему не терпится нас спровадить.
– А пергаментные рукописи? Можно их посмотреть?
Рядом с епископом стоял высокий худощавый человек с орлиным носом, острой бородкой и проницательными глазами. Они посовещались и кивнули. Можно, только поскорей, сейчас нас проводят в церковь, а оттуда к лодкам.
Епископ быстро, но сердечно попрощался с нами, и так же быстро нам представили нашего проводника. Это был высокий спутник епископа, по имени Брю Мачинью, верховный вождь всех лаки, обитающих на пяти островах озера Звай, общим числом две с половиной тысячи. Следом за Брю, сопровождаемые вереницей его подданных, мы, тяжело дыша, затрусили вверх по склону между валунами и кактусоподобными деревьями. Подъем продолжался не один километр, наконец мы, совершенно измотанные, шатаясь на ходу, ступили на вершину острова. Отсюда открывался великолепный вид на озеро, соседние острова, дальний берег и горы. Прямо под нами, метрах в трехстах над озером, вырисовывались круглые соломенные крыши небольшой деревушки, прилепившейся на уступах склона. На самой вершине стоял сине-зеленого цвета квадратный домик из досок. Брю объяснил нам, что это новый монастырь и временная обитель епископа Луки.
Монах впустил нас в домик, и мы увидели на пыльной полке беспорядочную груду пожелтевших старинных рукописей и пергаментных книг. Брю гордо сообщил, что все это привезли с собой прадеды, пришедшие с севера много сотен лет назад. Я протянул руку наугад и вытащил огромную книгу длиной в полметра, с изумительно разрисованными страницами из кожи козлят. Картинки изображали древних патриархов в красочных облачениях и с крохотными ногами. Текст – черная с красными завитушками вязь непонятных эфиопских письмен – тоже смотрелся как произведение искусства. В любой библиотеке мира такая книга хранилась бы под стеклом в ряду самых дорогих реликвий.
Монах извлек откуда-то два огромных серебряных блюда с гравированным изображением апостолов – старинные изделия, также доставленные на остров предками. В эту минуту осмотр был прерван, нам напомнили, что пора бежать дальше, к причалу, скоро стемнеет. А мы хотели переночевать на Девра Зионе и всячески тянули время. Нельзя ли послать на другой берег
шафат за продуктами и спальными мешками для нас? Это исключено. Никто из лаки не согласится возвращаться в темноте. Мы должны переночевать у галла, а завтра утром можем приехать опять.
Меня разбирало любопытство. Что тут такое происходит, почему никто из посторонних, кроме епископа Луки, не должен ночевать на острове? Начало смеркаться. Я шепнул несколько слов кинооператору и, когда все ринулись вниз по склону, незаметно спрятался за большим камнем. Вскоре вся компания исчезла и воцарилась тишина. Только ветер шелестел в листве, оттеняя мое одиночество. Я чувствовал себя так, словно сидел на крыше Африки. Вот наши лодки отчалили и пошли навстречу тени, ползущей но равнине. Озеро поглотило солнце, и поверхность воды превратилась в раскаленный металл. Медленно остывая, она стала темно-синей, потом почернела, а ночь уже катила дальше, через леса, горы и долы туда, где кончается земля.
Африка ночью... Исчезли во мраке круглые крыши, ничего не видно, только слышны какие-то странные звуки, сплетение тирольских трелей с религиозным песнопением. Было так темно, что я не рисковал трогаться с места. Лучше уж буду сидеть здесь, воспринимая мир на слух и на запах. Летучая мышь? Трава шуршит... Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Это был вождь Брю. Он молча взял меня под руку и повел, будто слепого, по невидимой тропе между огромными валунами и каменными террасами. Мы шли молчком, все равно мы не поняли бы друг друга без переводчика. На всем острове не было человека, с которым я мог бы объясниться.
Вождь знал тут каждый камень и следил в оба, чтобы со мной ничего не случилось.
Мы миновали первые хижины, прошли через две-три террасы и очутились перед домом собраний, который заметно выделялся своими размерами. Из низенькой двери падал наружу свет. Так вот откуда доносилось странное пение! Брю подвел меня к старейшинам, сидевшим на колодах и скамеечках у двери.
В плошке с растительным маслом горел фитиль, и глиняная штукатурка стен была расписана множеством огромных колышущихся мужских силуэтов. В глубине помещения стояли в ряд молодые женщины в белых одеяниях, они кланялись и ритмично хлопали в ладоши, одна выводила голосом переливы, остальные что-то монотонно пели. В полумраке за этими нимфами я разглядел круглые кувшины, такие большие, что в каждом свободно поместилось бы два человека. Несмотря на тлеющие головешки в глиняном очаге, дым не скапливался под высоким потолком, который покоился на столбе с распорками вроде зонтичных спиц.
Вместе с самым почтенным старцем, этаким белобородым Моисеем из Библии, меня и Брю посадили на резные скамеечки в полукруге мужчин. По эфиопскому обычаю, перед нами поставили столик, накрытый конической плетеной крышкой. Под ней лежали в два слоя огромные, мягкие, словно губчатая резина, лепешки с кусочками жареной рыбы и горкой коричневатого порошка, после которого обычный перец показался бы сахаром. Оторвал кусок лепешки – макни в этот порошок. Но прежде чем началась общая трапеза, каждый ополоснул пальцы в миске с водой. Брю старательно выбирал для чужестранца самые лучшие куски. И молчаливый перебежчик сразу ощутил себя почетным гостем. Под звуки необычного женского хора виночерпий наполнил наши кружки сперва сладким кукурузным пивом, потом крепчайшим самогоном. Мужчины оживились, зазвучали торжественные монологи на языке лаки. Один я сидел, как немой. Тут я вспомнил, что у меня на плече висит магнитофон... Не успели женщины устроить перерыв, как откуда-то полились тирольские трели. И не один мужчина поперхнулся пивом: только приложишься к кружке, в это время раздается твой собственный голос! В первую минуту воцарилось полное смятение, но затем магнитофон стал гвоздем вечера. С ним я превратился в чревовещателя, свободно болтал на языке лаки и громко хохотал, как будто понимал все шутки, все, что пелось и говорилось в доме собраний.
Наконец старейший встал в знак того, что пора расходиться по домам. К выходу потянулась вереница поющих женщин, и тирольский хор стал распадаться на отдельные голоса в ночи, смолкающие по мере того, как их обладательницы исчезали в своих хижинах.
Вождь взял меня под руку и отвел к себе. Его лачуга была устроена в точности, как дом собраний, только поменьше. В тусклом свете коптилки я различил несколько фигур, они свернули и вынесли покрывала, освобождая для меня единственную кровать, такую же, как древнеегипетские кровати в Каирском музее, с сеткой из узких кожаных ремней. Спорить было бесполезно, хозяева перетащили свои одеяла и подголовники в другую хижину, а мне знаком предложили располагаться на кровати, постелив чистые шкуры и домотканое покрывало. Пока я разувался, вождь велел своему сыну принести таз и вымыть мне ноги. Закончив омовение, мальчик отвесил глубокий поклон и облобызал пальцы моих ног, после чего ему и другим было велено покинуть дом. Поистине, на Девра Зионе еще живы библейские времена.
Я лег не раздеваясь, а Брю с женой затеяли вполголоса какое-то совещание. При этом они то и дело поглядывали на меня, как бы проверяя, всем ли я доволен, или они что-нибудь упустили. Не совсем понимая, что происходит, я вдруг заметил, что они стоят не одни, с другой стороны кровати смутно виднелась еще какая-то фигура. Скрытая столбом коптилка позволяла только различить, что это молодая женщина. Вот она чуть-чуть повернулась, и я рассмотрел очерченный тусклым светом красивый профиль. Наверное, одна из дочерей Брю... Наконец родители вышли, пригнувшись в дверях. Светильник был при последнем издыхании. Кажется, таинственная фигура исчезла? Нет, вон она по-прежнему стоит в ногах. Хорошее дело. Я занял кровать вождя, его сын вымыл мне ноги, теперь дочь исполняет роль ангела-хранителя... Вдруг я услышал, как чей-то далекий голос в ночи зовет меня. Это был кинооператор. Я не стал отзываться, боясь нарушить очарование. Но мой товарищ не унимался, голос его звучал все ближе, и вот он уже входит в комнату вместе с Брю и его женой. Кинооператор объяснил, что тревога за меня заставила его вернуться с переводчиком на остров на епископской
оболу. Хозяева принесли кукурузного пива и лепешки с рыбой, постелили новым гостям шкуры на полу.
Мы остались гостить у вождя еще на день и с помощью переводчика узнали все, что нас интересовало.
Папирус на Звай рос в труднодоступном месте, нечего было и думать о том, чтобы вывезти его в большом количестве. Только болота озера Тана могли нас выручить. Но мы выяснили на земле лаки еще кое-что. Лакские
шафат и
оболу скорее походили на лодки Чада, Мексики и Перу, чем на связанные эфиопскими сородичами лаков
танкуа с озера Тана. Лаки вяжут лодки из папируса не потому, что на озере нет леса, напротив, древесину здесь заготовить легче, чем папирус. Еще мы убедились в том, что не всякий народ, обосновавшись на берегу озера, непременно начинает делать папирусные лодки. Это явствовало уже из того, как сложно нам было попасть на острова из области галла. Искусство вязания лодок из папируса передавалось по наследству. Это древний обычай, который сопровождал определенные народы в их скитаниях. Однако лаки отмечали тот же недостаток, что монахи озера Тана: папирусные лодки надо каждый день вытаскивать на берег и просушивать. Если
оболу или
шафат оставлять в воде, она придет в негодность через восемь – десять, самое большее четырнадцать дней.
Уезжая назад в Египет, я колебался. Стоит ли отваживаться на такой лодке пересекать Атлантический океан?
Глава 6
В краю строителей пирамид.
Судоверфь в песках Египта

– Вы хотите огородить участок пустыни за пирамидой Хеопса, чтобы построить там лодку из папируса?
Широкоплечий министр поправил очки в роговой оправе и посмотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Потом неуверенно покосился на стройного седого человека – норвежского посла, который стоял рядом со мной, как бы удостоверяя своим присутствием, что этот северянин, его соотечественник, находится в здравом уме. Посол вежливо улыбнулся.
– Папирус тонет через две недели даже на реке, – продолжал министр. – Это не мои слова, так говорит директор Института папируса. И археологи тоже утверждают, что папирусные лодки не могли выходить из дельты Нила, потому что морская вода разъедает папирус, и он ломается на волнах.
– Это как раз мы и хотим проверить на деле.
Более веской причины я не мог привести, оказавшись лицом к лицу со специалистами, которых министр культуры и министр туризма ОАР пригласили, чтобы обсудить мою просьбу, переданную через норвежское посольство.
Так открылось совещание с директорами музеев, археологами, историками и папирусоведами. Руководитель Института папируса Гасан Раджаб повторил свое заключение, но признал, смеясь, что из всех присутствующих я один видел настоящие папирусные лодки. И если я твердо решил провести опыт, он с удовольствием меня поддержит. Сам он мог только испытать куски папируса в баках с водой, ведь в Египте некому было построить лодку. Я подумал, что с таким же успехом можно испытать кусок железа и заключить, что «Куин Мери» непременно должна была пойти ко дну. Одно дело – строительный материал, совсем другое – сделанное из него судно.
Директору Каирского музея мысль о морском плавании на папирусной лодке казалась абсурдной. Конечно, в древности Египет поставлял Библу папирус для книг, но финикийцы сами приходили за товаром, ведь только деревянные суда могли пересечь Средиземное море. И уж тем более никакие папирусные лодки не могли и не могут одолеть Атлантический океан.
От папируса перешли к пирамидам и иероглифам по обе стороны Атлантики, ученая дискуссия затянулась. Последним взял слово генеральный директор археологических памятников Египта, доктор Гамаль Мерез. Это будет очень ценный эксперимент, сказал он, если кто-то по фрескам в наших древних гробницах восстановит папирусную лодку и испытает ее в деле. На том и порешили.
Министр культуры уполномочил директора Гизского заповедника отвести нам требуемый участок для палаток и строительства, но взял с нас обязательство не
производить раскопок в древнем некрополе фараонов.
Мы спустились по лестнице; внизу, как повсюду в Каире, высилась кирпичная баррикада, окна первого этажа были заложены мешками с песком. Здесь мы простились с заместителем министра туризма Аделем Тахером.
– Непременно постройте лодку, – сказал он, улыбаясь и пожимая мне руку. – Мы поможем, сделаем все, что от нас зависит. Невредно напомнить миру, что Египет не только войной занят.
Оставшись вдвоем с послом, я от души поблагодарил его за неоценимую поддержку. С первой встречи Петер Анкер стал моим добрым другом. Он много лет проработал на Ближнем Востоке как представитель ООН и как посол Норвегии, давно увлекался историей и стал ходячей энциклопедией по вопросам древних торговых и культурных связей в этой области.
– Успех, – подвел он итог. – Ты получил участок, но никто не разделяет твоей веры в папирусную лодку!
– Если бы не было разногласия, то и лодку проверять незачем, – ответил я.
Вернувшись в гостиницу, я сел на кровать и призадумался. Участок получен, это верно. Но колеса еще не завертелись, есть время отступить. Сейчас я должен решить. Развертывать наступление на всех фронтах или бить отбой? Правда, моих денег никак не хватит на экспедицию, но издательства вряд ли откажут мне в авансе под будущую книгу. А если книги не будет?.. Я вертел в руках клочок бумаги. Монахи, лаки, ученые, папирусовед... Все, как один, утверждают, что папирус может выдержать от силы две недели в тихом пресном водоеме, а на море и того меньше. Мое знакомство с
кадай,
танкуа и
шафатом измеряется какими-нибудь часами, и то я уже испытал, что это такое, когда сноп под тобой начинает разваливаться. Американский камыш тотора вполне способен выдержать долгое морское плавание, а его волокнистый стебель с губчатой начинкой напоминает папирус, но, может быть, египетский папирус все-таки впитывает воду намного быстрее тоторы?
Я развернул бумажку. На ней корявыми детскими буквами было написано:
Дорогой Тур в Италии.
Помнишь ли ты Абдуллу из Чада. Я готов приехать к тебе и вместе с Умаром и Муссой построить большую кадай. Мы ждем, что ты скажешь, а я сейчас работаю столяром у пастора Эйера в Форт-Лами.
Привет, Абдулла Джибрин.
Я отчетливо представил себе смешливого Абдуллу, эту черную физиономию с шрамом через лоб и переносицу, и невольно улыбнулся трогательному письму. В то же время нельзя было не восхищаться этим неграмотным парнем в Центральной Африке, который отыскал в Форт-Лами писаря, чтобы поторопить меня. Что тут раздумывать? Абдулла ждет, Умар и Мусса согласны ехать вместе с ним. Им приходилось строить для перевозки скота лодки побольше тех, на которых эфиопские христиане переправились на свои острова, и они знают о плавучести папируса больше, чем все ученые мира, вместе взятые. Они верят в свою
кадай. Они берутся связать большую ладью, способную держаться на воде месяцами, и готовы идти на ней в дальние страны, о которых знают лишь то, что туда надо плыть много-много дней.
Письмо Абдуллы развеяло мои колебания. Положусь на ребят из Чада!
В тот же вечер я отправил в Аддис-Абебу телеграмму итальянцу, которому принадлежали катера на озере Тана. Мы с ним заранее условились, что он, как только получит от меня сигнал, пошлет Али и его команду заготовить на заболоченном западном берегу 150 кубометров папируса, а потом его просушат и свяжут в снопы на северном берегу.
Марио Буши – человек средних лет, коренастый, румяный, полный энергии. Опытный коммерсант, он сумел организовать доставку тяжелых железных катеров с Красного моря на озеро Тана. Еще в 1937 году он занимался перевозкой 180-тонного аксумского монолита из гор Эфиопии в Рим.
Сперва я думал сплавить папирус по Нилу, но на пути к Египту столько порогов и водопадов и целая страна – Судан. Буши воспринял мою просьбу переправить пятьсот снопов папируса на расстояние 725 километров от озера Тана в горах Эфиопии до Красного моря как почетное поручение, хотя и не очень сложное, ведь речь шла о каких-нибудь 12 тоннах; правда, если бы сложить все снопы вместе, получился бы небольшой дом.
Теперь каждый день был дорог. Скоро рождество, а чтобы пересечь Атлантику до начала ураганов у берегов Нового Света, надо выйти из Африки не позже мая. Опасно заготавливать папирус слишком рано, ведь старый он вряд ли будет прочным. Но если мы промедлим, то до мая и вовсе не управимся. Не так-то это просто – заготовить 200 – 300 тысяч стеблей, тем более что в это время года уровень воды в Тане высокий, а нам понадобятся стебли длиной около трех метров, значит, их надо срезать под водой. После этого папирус нужно сушить, чтобы не сгнил в снопах. А потом переправить через горы и провезти по Красному морю. В области Суэца из-за военных действий всякое движение прекращено, между тем надо выгрузить легковоспламеняемый папирус на берег в Суэце, чтобы по закрытой дороге везти его обратно к Нилу. И до того как груз прибудет к пирамидам, необходимо разбить лагерь в пустыне и наладить снабжение рабочих и сторожей. Будума из республики Чад, которым предстоит руководить работой, все еще сидят на своих плавучих островах в глухом уголке Центральной Африки. Когда наконец начнется строительство, потребуется немало времени, чтобы из тонких стеблей папируса связать мореходное судно длиной 15, шириной 5 метров. Надо также продумать и организовать доставку готовой лодки в один из портов на атлантическом побережье Африки и спуск на воду. Паруса и снасти, древнеегипетское рулевое устройство, каюта, кувшины с пресной водой и провиантом на старинный лад – тысячи проблем ждали своего решения. А в моем распоряжении меньше шести месяцев. И пока что я успел только отправить телеграмму в Эфиопию. Бумагу, карандаш! Надо пускать машину на полный ход. И главное сейчас – набрать команду из желающих участвовать в эксперименте.
Естественно было подумать прежде всего о ребятах, с которыми я провел сто одни сутки на бальсовом плоту «Кон-Тики». Мы и теперь собираемся вместе при каждом удобном случае, вспоминаем минувшие дни. Но Кнют Хаугланд, директор музея «Кон-Тики» в Осло, недавно был по совместительству привлечен к созданию Музея Норвежского сопротивления. Герман Ватсингер, много лет работавший в Перу в качестве эксперта ФАО по рыболовству, должен был вот-вот перейти с повышением в Рим. Бенгт Даниельссон, единственный швед на «Кон-Тики», после экспедиции занимался этнологией на Таити, а теперь вступил на пост директора Этнографического музея в Стокгольме. Эрик Хессельберг остался верен своему богемному образу жизни и по-прежнему странствовал с гитарой и палитрой; он-то уж сразу согласился бы снова идти со мной. Что же до Торстейна Робю, который на приглашение плыть на «Кон-Тики» телеграфировал одно слово «пойду», то его богатая приключениями жизнь оборвалась в ледяной пустыне северо-западнее Гренландии, куда он попал с экспедицией, намеревавшейся пройти на лыжах через Северный полюс.
Команда «Кон-Тики» состояла из шести скандинавов – одного шведа и пяти норвежцев. На этот раз мне хотелось собрать вместе столько наций, сколько позволит площадь. Если потесниться, можно выйти всемером. Семь человек из семи стран. Сам я представляю крайний север Европы, не мешает для контраста взять кого-то с крайнего юга; напрашивалась Италия. Европейцы – «белые», значит, хорошо бы включить в команду «цветного», а самых черных африканцев я видел в Чаде; естественно пригласить кого-нибудь из наших знатоков папируса. Поскольку цель эксперимента – подтвердить возможность контакта между древними цивилизациями Африки и Америки, символичным было бы участие египтянина и мексиканца. Соблазнительно включить в интернациональную группу по одному человеку из США и СССР, чтобы были представлены идеологические контрасты. Символом других наций может служить флаг ООН, если нам позволят его нести.
Сама жизнь говорила о том, как важны любые, даже самые скромные, попытки наладить сотрудничество между народами. Над сфинксом и пирамидами проносились военные самолеты, вдоль бездействующего Суэцкого канала грохотали пушки. Солдаты всех пяти континентов мира воевали на чужой земле. А в странах, не захваченных войной, сидели наготове у атомной кнопки, боясь нападения других держав.
На плавучей связке папируса могут удержаться только люди, готовые протянуть друг другу руку. Я задумал плавание как эксперимент, как научную экспедицию в далекое прошлое древних культур. Но этот эксперимент вполне мог сочетаться с другим – с экспедицией в тесный, перенаселенный мир завтрашнего дня. Телевидение, реактивные самолеты, космонавты помогают нам сжать нашу планету в такой комок, что скоро народам негде будет повернуться. Земного шара наших предков давно уже нет. Когда-то мир казался беспредельным, теперь его можно облететь за девяносто минут. Нации уже не разделены неприступными хребтами и неодолимым океаном. Народы не живут больше обособленно, независимо друг от друга, они связаны между собой, и появляются признаки скученности. Пока сотни тысяч специалистов лихорадочно экспериментируют с атомами и лазерами, наша маленькая планета летит со сверхзвуковой скоростью в завтрашний день, и все мы – участники огромного технического эксперимента, и нам надо научиться сотрудничать, если мы не хотим пойти ко дну вместе с нашим общим грузом.
Папирусная лодка в океане, во власти стихий, может стать экспериментальным микромиром, попыткой показать на деле, что люди могут мирно сотрудничать, невзирая на национальность, веру, цвет кожи и политические взгляды, лишь бы каждый понял, что в его же интересах вместе с другими бороться за общее дело.
Я взял ручку и написал письмо Абдулле, подтвердил, что жду Умара и Муссу, и пусть сам он едет переводчиком. Надо ли мне приезжать за ними, или Абдулла заберет остальных в Воле и доставит их в Форт-Лами, если я пришлю авиабилеты до Каира и встречу их здесь на аэродроме?
К моему удивлению, ответ не заставил себя ждать. Через писаря в Форт-Лами Абдулла сообщил, что нужны документы о найме, чтобы всю тройку выпустили из страны, нужны три авиабилета до Египта и 150 тысяч чадских франков наличными. Тогда он сам все устроит, и мне незачем снова приезжать в Чад.
Итальянский государственный банк не знал точного курса чадского франка, но сумма была изрядная, и пришлось одолеть немало препон, прежде чем деньги наконец дошли до Абдуллы. Дошли, ну и что? Я положился на открытое, честное лицо, а что я знаю об Абдулле Джибрине кроме того, что ой, по его же словам, столяр? Подошел ко мне в Боле какой-то человек в белой тоге, вызвался переводить мне, помог и потом исчез. Но если Абдулла меня не подведет, я сберегу и время, и деньги. Вместо того чтобы еще раз добираться до Бола, совершу напоследок очень важную для меня поездку к индейцам Перу; кстати, мне надо побывать в Мексике и США, отобрать участников.
Итак, два партнера уже вступили в игру. Буши взялся доставить папирус, Абдулла – строителей. Материал и люди, надо думать, прибудут в Египет примерно в одно время. К тому времени и лагерь должен быть готов, эту задачу я возложил на надежного друга, итальянского преподавателя Анжело Корио, который получил от своего министерства просвещения академический отпуск на полгода для языковой практики в нашем интернациональном отряде в ОАР. Корио прибыл к пирамидам, словно турист, с чемоданчиком и фотоаппаратом и сразу попал в окружение гидов, горевших желанием показать ему сфинкса и научить его ездить верхом на верблюде. Чтобы выжить в непривычной восточной среде, он нуждался в помощнике из местных, знающем все нравы и обычаи, все ходы и выходы. Таким помощником стал для него полковник в отставке Аттиа Оссама. Из-за военного положения его основное занятие было окутано покровом тайны, мы знали только, что оно связано с Синайским полуостровом, оккупированным Израилем. Обходительный и симпатичный человек, он согласился быть нашим посредником в сношениях с властями и добиться разрешения на выгрузку папируса в военной зоне Суэца.
Колеса закрутились, завертелись, подключались все новые страны. Срочные письма с диковинными марками, телеграммы, телефонные переговоры на разных языках – и все по секрету, чтобы работать без помех. Семь участников из семи стран. Я уже подобрал итальянца, наметил египетского кандидата, представителем Чада должен был стать один из тройки, которая приедет строить лодку. В Советский Союз послан запрос. Пора отправляться в Америку. Декабрь прошел, на подходе февраль. Остается три месяца.
В Нью-Йорке я встретился со своим американским помощником Фрэнком Таплиным. Корио ждал в Каире, когда прибудет папирус, который уже просох под солнцем на берегу озера Тана; Абдулла предпринимал необходимые меры, чтобы вывезти своих товарищей из Бола.
Фрэнк Таплин – американский бизнесмен, на редкость энергичный человек, борец за мир и активный деятель Всемирного союза федералистов мира, выступающего за более широкое сотрудничество между странами и укрепление ООН. Председатель ВСФМ – нью-йоркский редактор Норман Козэнс, близкий друг У Тана. Генеральный секретарь ООН принял нас троих на верхнем этаже стеклянной громады штаба Организации Объединенных Наций.

Семь национальностей, черные и белые, представители Запада и Востока – на связке папируса через Атлантический океан? Можно нести флаг ООН, но при этом обязательно соблюдать правило: все флаги должны быть одного размера и висеть на одной высоте. Семь национальных флагов, и по краям – флаги ООН? Пожалуйста. У Тан от души пожелал нам успеха. Где мы думаем стартовать?
– Я намечал Марокко.
– Тогда советую вам зайти к моему другу Ахмеду Бенхиме, представителю Марокко при ООН, это пятнадцатью этажами ниже, на двадцать третьем этаже.
Его Превосходительство на двадцать третьем этаже был высокий, статный мужчина, последний отпрыск одного из самых древних и самых деятельных семейств Марокко. Он принял меня с дежурной вежливостью, предложил мне сесть в кресло и бесстрастно выслушал вступление.
– Итак, вы собираетесь начать в моей стране дрейф через океан на папирусной лодке? – Он предложил мне сигарету.
– Спасибо, я не курю.
– Из какого порта вы думаете стартовать?
– Сафи.
– Сафи?! Мой родной город! Почему именно Сафи?
Он сразу оживился и встал с выражением крайнего удивления на лице.
– Почему Сафи? – повторил он.
– Потому что Сафи – один из древнейших африканских портов западнее Гибралтара. Касабланка – современная гавань, а Сафи упоминается еще в древности. К тому же Сафи расположен как раз там, где корабль из Средиземного моря скорее всего мог быть увлечен стихиями в океан. Поблизости проходит Канарское течение, вместе с пассатом оно подхватывает все, что держится на воде, и уносит к Америке.
– Мои родители живут в Сафи. Тамошний паша мой хороший друг, я напишу ему. Кроме того, я напишу моему брату, он министр иностранных дел Марокко.
Надо же, как мне повезло! Мы расстались очень довольные друг другом.
Здесь же в Нью-Йорке жил подходящий кандидат в члены экспедиции, и все шло на лад, пока мы не посвятили в нашу тайну его лучшую половину, после чего все трое быстро согласились, что надо подыскать замену. Я только-только успел пообедать с новым кандидатом перед тем, как вылететь в Лиму в далеком Перу.
Через несколько дней я уже жарил рыбу на плавучем островке посреди озера Титикака вместе с несколькими индейцами уру. Остров сплошь состоял из нагроможденных друг на друга пластов камыша тоторы. По мере того как нижние слои сгнивали под водой, сверху настилали свежий камыш. Всю эту часть озера заполняют разделенные узкими проливами искусственные островки, и кругом, куда ни погляди, растет тотора. Лишь далекие снеговые вершины взирают сверху на плоское болотное царство, где среди камыша и рыбы проходит вся жизнь уру. Дом и постель – из камыша. Лодки – из камыша, даже прямой парус связан из стеблей тоторы. Камыш – единственное топливо для кухонного очага. Из прелого камыша, смешанного с привозимой землей, на плавучих островках делают грядки для традиционного батата. Уру не знают, что такое твердая почва под ногами, для них она всегда зыбкая, будь то на огороде или в собственном доме.
Я приехал сюда проверить одну догадку. Индейцы уру, как и кечуа и аймара на берегах той же Титикаки или будума в Чаде, не вытаскивают лодки из воды для сушки каждый день. И однако они не тонут через две недели. Конечно, камыш постепенно погружается в воду, это видно хотя бы по плавучим островам, которые приходится наращивать сверху. Но изящные лодки держатся на воде без такого ремонта, совсем как на озере Чад в Центральной Африке. Объясняется это очень просто. Южноамериканские лодки, подобно чадским, туго связывают крепкой самодельной веревкой, так что капилляры внутри стебля закрываются. А маленькие эфиопские лодки кое-как скрепляют лубом или папирусным волокном, и пористые стебли впитывают воду.
Оставалось двенадцать дней до приезда Абдуллы и его товарищей в Каир. Я послал ему билеты на 20 февраля, к этому времени папирус должен был прибыть в Суэц. За двенадцать дней многое можно сделать. И вместе с моим хорошим другом, известным в Норвегии философом, спортсменом и кинооператором Турлейфом Шельдерупом я покинул зыбкие болотные острова уру и отправился в засушливое приморье Северного Перу. Мы хотели осмотреть в долине Чикама красивейшую пирамиду Южной Америки, огромное симметричное сооружение из сырцового кирпича, которое стоит, покинутое и забытое, в пустыне за песчаниковыми горами, не исследованное наукой, зато основательно разоренное кладоискателями. Они пробили широкий колодец до самого дна, преобразив ступенчатую пирамиду в этакий четырехгранный вулкан.
Исполинское сооружение так высоко вздымается над пустыней, что местные жители называют его Серро Колорадо – Красная гора. Если бы не правильная ступенчатая конструкция и не стена вокруг пирамиды, никто не сказал бы, глядя издали, что эта гора сложена из миллионов кирпичей.
После увиденного мной неделю назад, нельзя было не поражаться сходству здешних пирамид с древнейшими египетскими; это касалось и размеров, и общей формы, и астрономической ориентации, и строительного материала.
Пирамида Серро Колорадо воздвигнута безвестным властителем той далекой поры, когда в Перу вдруг расцвели могучие цивилизации. Было это задолго до того, как инкская культура сменила культуру чиму, которой в свою очередь предшествовали неведомые творцы самой ранней культуры, условно названные учеными народом мочика. Первые и самые большие пирамиды перуанского приморья сооружены «мочиками». Что это был за народ? Ученые все более склоняются к тому, что между основателями культуры на севере Перу и строителями пирамид древней Мексики была какая-то связь.
У меня еще оставалось время съездить в Мексику, где к тому же жил мой товарищ по путешествию к индейцам сери, пловец Рамон Браво, который с величайшей охотой согласился участвовать в плавании на папирусной лодке. Правда, у него что-то не ладилось с желудком, но он заверил меня, что за два с половиной месяца, оставшиеся до старта из Марокко, снова войдет в форму.
И вот мы стоим с ним в мексиканских дебрях, а перед нами – пирамида, и хлещет тропический ливень. Как раз то, что нам нужно! Мокрый насквозь Турлейф, стоя в одной рубахе (штормовкой он накрыл кинокамеру), снимал, как по ступенькам огромной пирамиды Паленке сбегают потоки воды. Тучи нависли над самыми кронами высоченных деревьев; стена леса, скатываясь по склонам холма, наступала на каменную громаду.
На расчистках вокруг пирамиды громоздились обомшелые развалины величественных сооружений. Здесь было чем полюбоваться... Прибыв сюда лишь за тем, чтобы хоть отчасти представить себе, что происходило в Америке до Колумба, я в первую минуту буквально задохнулся от восторга и восхищения, а придя в себя, сел и попытался понять значение этого грандиозного заброшенного комплекса. Что-то своеобразное и неуловимое, точно и не определишь, заставляло насторожиться и призадуматься. Сейчас важно было не поддаться гипнозу привычных представлений. И не фиксировать все внимание на какой-то упоительной детали. И не предаваться слепому экстазу, восхищаясь масштабами, красотой и инженерным подвигом. А хорошенько осознать тот факт, что этот величавый ансамбль, все эти пирамиды, храмы и дворцы – дело рук таких же людей, как мы, подобных нам и душой, и телом. Придя сюда за тысячу лет до Колумба, они расчистили в нетронутых зарослях место для домов, полей и святилищ. Пирамиды и храмы были рассчитаны и спроектированы искусными зодчими, мастерство которых особенно поражает, когда подумаешь, что большинство индейцев этого лесного края по сей день строят себе хижины из ветвей и листьев, и никому из них не приходит в голову вытесать прямоугольный блок из валуна или коренной породы.
Однажды я попробовал сделать из круглого камня прямоугольник. Ничего не вышло, хотя у меня был стальной инструмент, а у индейцев – лишь каменные орудия. Только специалисту под силу высечь из твердой породы гладкие блоки. Я с этим не справлюсь, и никто из моих друзей не справится, где бы он ни работал, и никто из тех индейцев, с которыми я встречался. Задача посильная, но не для всякого. Так в чем же секрет развалин Паленке?
Пусть это покажется абсурдом, но, может быть, наука нуждается в консультанте из уголовного розыска? В человеке, который, возможно, не разбирается в тонкостях археологии и латинских названиях, зато наделен пытливым взглядом, умением обобщать и чутьем детектива? И кое-что знает о математической вероятности? Ведь что такое уголовное расследование, если не логическая реконструкция событий, имевших место в прошлом? Вот стоит в глухом лесу огромная пирамида. Кто надумал соорудить ее здесь? Обыкновенные индейцы? Или в лесных дебрях Мексики развивали деятельность не только люди азиатской крови из Сибири?
– Это же естественно, – говорили те, кто считает, что творцы доколумбовых культур сидели на месте и дальше своего двора не ходили, – это естественно, что люди, живущие в одинаковой среде, создают похожие вещи. Вполне естественно, что народы Египта и Мексики клали камень на камень, и получалась пирамида.
Усилившийся ливень загнал нас в укрытие под широкие листья.
Одинаковая среда! Что может быть различнее египетской пустыни и мексиканского леса? Воздух, которым мы дышали, был душный, как в жаркой оранжерее. Кругом сплошь влажная листва, стебли, стволы, тучный перегной. И ни одного камня, если не считать обросшую зеленью кладку из огромных обтесанных глыб. Так ли уж это естественно укладывать камень на камень в мексиканском дождевом лесу? А что же тогда африканские леса? Или различные природные зоны Европы?
Где добывали строительный материал творцы пирамиды Паленке? Может быть, они зарывались глубоко в землю под корни деревьев, может быть, где-то вырубили кусок горного склона. Как бы то ни было, здесь, в Паленке, сперва родилась идея, а уже потом специалисты разыскали материал для ее воплощения.
Ну а в Перу? Естественно ли было там класть камень на камень, чтобы получилась пирамида? Пустыни, в которых разбросаны перуанские пирамиды, простерлись вдоль побережья на тысячу километров, но подходящего камня здесь нет, за ним надо отправляться в Анды. В долине Мочика, где мы только что побывали, камень был таким дефицитным товаром, что строителям пришлось изготовить около 6 миллионов больших сырцовых кирпичей, чтобы соорудить свою пирамиду высотой 30 метров, с площадью основания почти 4 тысячи квадратных метров. И ведь в Перу есть кирпичные пирамиды побольше Серро Колорадо.
Как хорошо думается, когда сидишь, мокрый, озябший, под широкими листьями и смотришь на поливаемую дождем пирамиду, находясь под свежим впечатлением виденного в Перу и Египте...
В Египте было естественно строить из камня, высекая блоки из коренной породы, ведь в пустыне, где только голые скалы торчат из песка, камень – единственный природный строительный материал, не считая папируса. Ну а в Мексике? Известно, что жители горных плато – ацтеки, и майя в густых лесах Юкатана научились сооружать пирамиды у своих предшественников. Ученые считают, что древнейшая цивилизация Мексики, которая дала толчок развитию остальных культур, зародилась в тропическом лесу на берегу Мексиканского залива, где океанское течение завершает свой путь через Атлантику. Может быть, здесь было естественно строить пирамиды? Ничего подобного. Безвестным основателям самой древней культуры Мексики приходилось очень далеко ходить за камнем, в отдельных случаях блоки весом в 20-30 тонн доставлялись на строительную площадку за 80 километров.
Никто не знает, кем были эти деятельные ваятели и зодчие, которые строили в лесной чаще, хотя лучше понимали толк в камне, чем в лесе. Ученые условились называть их ольмеками. Если многочисленные реалистические скульптуры из памятников той поры считать автопортретами, то у одних ольмеков были чисто негроидные черты – круглое лицо, плоский нос, толстые губы, а другие узким лицом с бородой, усами и орлиным носом напоминали семитский тип. Ольмеки – ключ к загадке. Как они назывались на самом деле, кем были, почему вдруг начали добывать камень и сооружать пирамиды? Кстати, одна из этих пирамид, высотой 30 метров, как и перуанские, и древнемесопотамские, и некоторые из древнейших пирамид долины Нила, сложены из кирпича-сырца.
Омытое дождем сооружение, которым мы любовались, еще больше запутало вопрос. В 1952 году здесь было сделано открытие, потрясшее ученый мир и опрокинувшее незыблемые догмы. Археологи обнаружили тайный ход; узкая лестница вела в недра пирамиды, упираясь в тяжелую каменную плиту, за которой находился великолепно украшенный склеп с большим каменным саркофагом, а в саркофаге лежали останки священного правителя. Все это напоминало о Египте, но ведь отсутствие склепов в мексиканских пирамидах было одним из главных факторов, ссылаясь на которые большинство исследователей отвергало мысль о трансокеанских контактах. Дескать, сходство чисто внешнее, пирамиды по обе стороны Атлантики играли разную роль, они даже видом различались. В Мексике и Перу они ступенчатые, а у египетских пирамид гладкие грани.
Однако ссылка на вид пирамид не выдерживала критики. Всякий, кто побывал в долине Нила, знает, что в Египте тоже есть ступенчатые пирамиды, причем они старше и представляют исконный тип. Это относится и к Месопотамии. Творцы соседней с Древним Египтом культуры, вавилоняне, в Старом Свете строили ступенчатые пирамиды и увенчивали их храмом, совсем как древние мексиканцы. А тут еще в мексиканской пирамиде находят саркофаг с останками властителя. Его род вел свое происхождение от Солнца, и в погребение поместили нефритовое изображение солнечного бога, а зодчий точно сориентировал по солнцу основание пирамиды, как это делали в Египте. Положив прах властелина в каменный саркофаг, ему – совсем как в Египте – накрыли лицо роскошной маской, правда не золотой, а из нефритовой мозаики, с белками из ракушек и зрачками из обсидиана. Подобно фараонам, покойный верил в загробную жизнь – его снабдили кувшинами и блюдами с питьем и яствами; тело украсили браслетами, серьгами, кольцами, диадемой и ожерельем из нефрита и перламутра. Изнутри саркофаг выкрасили киноварью в красный цвет; на драгоценных украшениях и истлевших костях сохранились куски красной ткани. Как и в Египте, каменный гроб был накрыт многотонной резной плитой длиной около 4 метров, шириной больше 2 метров. Плиту и стены склепа покрывали рельефные изображения жрецов и правителей, все в профиль, и у некоторых символом ранга – совсем как в Древнем Египте – служила накладная бородка. Наконец, перед входом в склеп лежали скелеты принесенных в жертву юношей: в потустороннем мире правителя должны были сопровождать рабы. Вход был заложен огромной каменной плитой, а коридор и лестница засыпаны камнями и землей. Погребение солнечного короля в Паленке во всем повторяло древнеегипетскую процедуру, было только одно нововведение – пирамиду увенчал небольшой каменный храм; но ведь так строили и в Месопотамии.
Мы только что побывали внутри пирамиды и осмотрели склеп. Искусный зодчий с самого начала предусмотрел его в своем плане; стены и потолок сложены из отшлифованных и плотно пригнанных огромных плит, а уже потом была воздвигнута собственно пирамида.
Белые сталактиты свисали сосульками с карнизов, придавая аромат глубокой старины застывшим изображениям жрецов в пышных ритуальных облачениях. Воздух в склепе был свежий и прохладный. Как и в Египте, строители позаботились о хорошей вентиляции. От внутреннего помещения вдоль всей лестницы тянулся вентиляционный канал, еще два канала пошире пронизывали толщу пирамиды, открываясь в стене.
Когда мы поднимались вверх, я хорошенько присмотрелся к конструкции тесного хода. Он представлял собой в сечении шестиугольник и сужался к потолку. Только в одном месте я пробирался по лестнице такой же формы – в пирамидах Египта.
Неужели все это так естественно? Во всяком случае эти камни не сваливали в кучу как попало. Мы вышли на волю из хода, выложенного большими вытесанными блоками, и снова нас обступила зеленая чаща, готовая повторно поглотить весь ансамбль, если бы Археологический институт Мексики не заботился о расчистке самых крупных памятников старины. Дождевой лес упорно старается снова занять плодородную землю, некогда отвоеванную у него каменщиками, которые поселились среди деревьев.
Рядом с этой гробницей была вторая, воздвигнутая поверх естественной пещеры. Каменные лестницы, длинная шахта, ведущая в глубь пирамиды, и беспорядочно наваленные человеческие кости. Если ее тоже соорудили для какого-то правителя, она, очевидно, была разграблена еще в доисторические времена.
Да, тут было над чем поразмыслить. Скептики упирали на то, что одно дело – строить пирамиды-гробницы, совсем другое – храмовые пирамиды. И заключали, что не было контакта через Атлантику. Но если принять их аргументацию, получится, что в лесах Мексики рядом процветали две совершенно различных цивилизации. Нелепый вывод, который может только еще больше запутать проблему.
В Мехико-Сити мы посетили доктора Игнасио Берналя, руководителя института, который занимается мексиканскими древностями и включает государственный археологический музей – один из самых больших в мире. Мексиканские археологи слывут ярыми изоляционистами, особенно старшее поколение настаивает на том, что все идеи, лежащие в основе древних мексиканских сооружений, родились на месте. Мы же собирались бросить вызов этим исследователям, выйдя на папирусной лодке из Африки на запад. Что скажут на это мексиканские специалисты? Я решил спросить их виднейшего представителя Игнасио Берналя, любезно распорядившегося, чтобы нас впустили в музей с кинокамерой и магнитофоном. Я подвел его к большой каменной стеле с рельефным изображением длиннобородого ольмека, и он скептически покосился через плечо на это олицетворение загадки древнейших творцов мексиканской культуры. Бородатые ольмеки первыми строили пирамиды в краю безбородых индейцев.
– Доктор Берналь, – начал я, – по-вашему, древние культуры Мексики развивались без всякого влияния извне, или вы допускаете, что какие-то идеи могли быть принесены из-за океана на примитивном судне?
– Спросите меня что-нибудь полегче, – ответил человек, которого мы считали виднейшим мексиканским авторитетом по этим вопросам.
– Почему? – Я удивленно поднес микрофон ближе.
– Потому что я вижу доводы и «за» и «против» контакта через океан. И пока что не берусь дать ни утвердительного, ни отрицательного ответа.
– Может быть, мы согласимся, что проблема пока остается нерешенной?
Он помедлил, потом твердо сказал:
– Да. Именно таково мое мнение.
Мы повторили это интервью, чтобы застраховать себя от капризов техники.
Как раз в эти дни через Каир в печать просочились первые сведения о планах экспедиции. Дошли они и до Мексики.
– Значит, вы задумали испытать папирусную лодку в море, – сказал, улыбаясь, доктор Сантьяго Хеновес, который пришел к своему коллеге, доктору Берналю, когда мы уже собрались покидать музей.
– Совершенно верно, – подтвердил я. – А вы что, хотите пойти с нами?
– Хочу. Совершенно серьезно.
Я удивленно посмотрел на него. Доктор Хеновес – известный специалист по древнейшему населению Америки, я встречал его на международных конгрессах в Латинской Америке, СССР, Испании. Небольшого роста, крепкий и коренастый, он спокойно глядел на меня.
– К сожалению, место уже занято другим мексиканцем, придется вам подождать следующего раза, – отшутился я.
– Запишите меня в кандидаты. И если место освободится, через неделю я буду у вас!
– Условились!
Маленький крепыш, улыбаясь, пожал мне руку на прощание. Мог ли я тогда подозревать, что наш уговор и впрямь станет актуальным.
Следующее утро, Нью-Йорк. Гостиничный номер битком набит газетчиками. И здесь тоже планы экспедиции перестали быть секретом. Папирус в Каире. Можно приступать к работе. Тройка из Чада, очевидно, сидит в самолете. Корио ждет, лагерь готов, рабочие набраны, завтра мы все соберемся вместе и начнем. Мой самолет вылетает вечером, остается один день для всех незавершенных дел в Нью-Йорке.
В это время принесли телеграмму. Я прочитал ее и сел.
«Абдулла арестован. Строители не выезжали из Бола. Позвони немедленно».
Телеграмма была подписана моей женой.
Я срочно позвонил домой, и Ивон подтвердила, что это не розыгрыш. Из Чада пришло коротенькое письмецо от Абдуллы. Он сообщал, что не сможет привезти Умара и Муссу, так как его арестовали. Через месяц напишет опять. С приветом, Абдулла.
Абдулла арестован. Что он такого натворил? И в какой тюрьме его искать? В письме об этом ни слова. Мусса и Умар все еще сидят на своих плавучих островах за тридевять земель, к югу от Сахары. Без них лодки не будет. Чтобы финишировать до начала ураганов, мы должны выйти в океан из Марокко через одиннадцать недель. Целая бригада ждет у пирамид гостей из Чада. Уже накрыты столы и застелены кровати. Кому-то надо сейчас же ехать в Чад и привезти мастеров в Египет. Кому как не мне. Каждую среду из Франции утром идет самолет в Чад. Значит, я должен быть во Франции с чадской визой не позже вторника. Сегодня пятница, день Джорджа Вашингтона, все конторы в США закрыты. Завтра суббота, нерабочий день. Послезавтра воскресенье. Остается только понедельник на то, чтобы получить визы, купить новые билеты и добыть денег на не предусмотренный планом визит в сердце Африки.
Три дня слонялся я по улицам среди небоскребов, три дня прошли впустую: все закрыто.
В понедельник утром нью-йоркцы устремились в свои конторы. Ожили телефоны. Представители всех континентов собрались в здании ООН. Но никого из республики Чад. Вежливый голос объяснил мне, что представитель Чада сейчас находится в Вашингтоне. Надо ехать туда за чадской визой. Но мой бумажник пуст, а издатель, на помощь которого я могу рассчитывать, находится в Чикаго. Билеты на вечерний самолет до Парижа у меня на руках, но для следующего этапа, до Чада, нужна виза и нужны деньги. Телефон чадского посольства в Вашингтоне не отвечал. Зато норвежцы отозвались и пообещали найти посла республики Чад, если я никуда не буду отлучаться из гостиницы. Из Чикаго мне сообщили адрес человека в другом конце Нью-Йорка, к которому мне надлежало обратиться. Ко всему примешивалась тревога за Абдуллу. В канцелярии У Тана мне ответили, что Генеральный секретарь охотно напишет нужное письмо, если я сейчас же приеду к нему. Я метнулся к двери, но тут в номер ворвался новый гость. Мистер Пайпел, руководитель крупного агентства печати. Аванс под договор о репортажах с лодки. Нас перебил междугородный телефон. Виза будет, если я поспею в Вашингтон следующим самолетом. Удалой директор агентства мигом помог мне уложить в два чемодана зимнюю и летнюю одежду, сунул себе в карман мой счет за гостиницу и сказал, что вечером подвезет багаж к парижскому самолету. В соседнем номере Турлейф бросил свои пленки и отправился в канцелярию У Тана. Я понесся на аэродром.
В Нью-Йорке, в Вашингтоне, в воздухе – всюду транспортные пробки, зато Норвегия и Чад показали отличную сыгранность. И когда я с чадской визой в паспорте выскочил в Нью-Йоркском аэропорту из одного самолета, меня у другого уже ждали двое: один – с письмом У Тана, второй – с чемоданами.
Спасибо, спасибо. До свидания. Спокойной ночи, Америка. Доброе утро, Париж. Мимолетная встреча с женой во время промежуточной посадки в Ницце по пути в Африку. Блокнот для стенографии, телеграфные бланки; быть наготове и ждать моего приезда с лодочными мастерами из Бола.
Под крылом самолета – Сахара. Распахивается люк, в салон врывается волна зноя: мы сели в республике Чад. Приземистые кварталы Форт-Лами казались бесконечными теперь, когда мне предстояло искать Абдуллу. Я знал только номер абонементного ящика. Ящик числился за неким пастором Эйером, миссионером. Миссионер понятия не имел, куда подевался Абдулла после того, как взял у него расчет. Но он тут же сел в свою машину, чтобы поискать в арабских кварталах.
Администратор маленького отеля в центре города, где я остановился, сообщил, что в Судан можно вылететь через восемь дней, однако мои билеты недействительны, так как в Чаде некому оформить мне египетскую визу. Есть израильское посольство, а египетского нет. И ни Норвегия, ни Италия, ни Англия не имеют своих представителей в Форт-Лами.
Я вернулся в номер: кровать, два крючка на стене и вентилятор, который гудел не хуже поршневого самолета. Сидя на кровати, я попытался найти решение в карманном атласе. Вдруг кто-то постучался. Дверь отворилась, на пороге стоял высокий черный человек в длинной белой тоге и с крохотной пестрой шапочкой на голове. Он вскинул руки и рассмеялся, сверкая зубами:
– Ой, мой шеф, ой, мой шеф, Абдулле было очень плохо, но теперь все хорошо!
Абдулла! Он плясал от радости, что мы снова свиделись.
– Абдулла, что произошло?
– Абдулла поехал в Бол, там четыре дня ходил на
кадай по озеру, искал Умара и Муссу. Они ушли далеко ловить рыбу. Я нашел их. Я заплатил их долги. Я хотел отвезти их в Форт-Лами. Тут появляется шериф. Говорит, что я плохой человек, на все готов за деньги. Меня арестовали. Отправили под стражей в тюрьму в Форт-Лами. Я сидел там один. Отдал все остальные деньги, чтобы меня выпустили на волю.
Хорошее дело. Абдуллу арестовали в Боле по подозрению в работорговле. В древности через Чад проходил работорговый путь, и в наше время об этом не забыли.
Абдулле нельзя возвращаться в Бол. Умар и Мусса сами не приедут, я должен поехать за ними, заручившись трудовым договором, заверенным властями в Форт-Лами.
Пять дней мы с Абдуллой бегали по столичным департаментам, допытывались, как составить официальный трудовой договор для двоих жителей Бола. Всюду умные, вежливые лица. Искреннее сочувствие под маской официальности. Конторы в ультрасовременном стиле. И всех великолепнее громада министерства иностранных дел с четырнадцатью бездействующими фонтанами перед парадной лестницей. А когда настало воскресенье, я в полном изнеможении сел на кровать и выключил гудящий вентилятор. Пусть жара, пусть комары. Черт знает что. За пять дней – ни одной печати, ни одной подписи. Нам удалось найти миссионера, у которого был одномоторный геликоптер с понтонами, способный совершить посадку на озере Чад. Но если я попробую увезти двух будума без надлежащих бумаг, мне грозит участь Абдуллы.
Сперва мы пошли к Генеральному директору внутренних дел, осведомленному о злоключениях Абдуллы. Но он мог принять иностранца лишь с одобрения министра иностранных дел, а к тому попасть можно было только через заведующего канцелярией министра, а к заведующему – через начальника протокольного отдела. На то чтобы пробиться к министру иностранных дел, ушло три дня: каждому надо было услышать всю историю и прочесть письмо У Тана. В кабинете министра иностранных дел за обитыми дверьми восседал приветливый добродушный великан с шапкой жестких волос, черной бородкой и параллельными шрамами на лбу и скулах. Прежде чем дать нам путевку в министерство внутренних дел, он дважды лично обсудил вопрос с президентом Томбалбайе. Президент посчитал дело настолько необычным, что предложил сначала выяснить на совете министров, можно ли гражданину Чада идти через океан на
кадай.
Чтобы ускорить процедуру, я заверил, что для меня сейчас главное – получить разрешение отвезти трех граждан Чада на берега Нила, чтобы они там построили
кадай на суше. После этого нас направили в министерство внутренних дел, из министерства – в Директорат труда, из Директората – в типографию за бланками. Заполнив двенадцать контрактов на двух листах, мы пошли к начальнику Директората строительства за печатью и подписью. Судьбе было угодно, чтобы он обнаружил в контрактах два пункта, которые окончательно все застопорили.
Во-первых, договоры нельзя было скреплять печатью, пока они не подписаны нашими друзьями в Боле. Но что хуже всего, в тексте черным по белому значилось, что договор недействителен без медицинской справки. Откуда ее взять? В Боле нет врача, а шериф не выпускает Муссу и Умара из Бола без утвержденного договора. Начальник Директората строительства пригласил представителя Директората труда, и тот печально воззрился на мудреные бумаги. Вопрос исчерпан. Оба были сама любезность, но показывали на злополучные параграфы: убедитесь сами. Договор недействителен без справки. Чтобы получить справку, надо выехать из Бола. Но выехать из Бола нельзя без договора. Ничем не можем помочь.
Шах и мат. Я вошел в свой номер, хлопнул дверью и пустил вентилятор на полный ход. Завтра – воскресенье. Злой, как черт, я сел на кровать и написал в своем блокноте: «Дикая нелепость. Но эти пародийные порядки созданы не чадскими неграми, людьми умными и восхитительно простосердечными, я наблюдаю карикатуру на
нас самих. В африканской культуре ничего подобного не было, это
мы им привили новый уклад».
В голове вертелся образ: черные тени от белых облаков... Я выключил вентилятор и уснул под далекие звуки военных труб во дворце президента Томбалбайе.
Воскресенье. Иду к миссионеру с вертолетом. Бензин есть. В понедельник рано утром миссионер запускает мотор, и вот уже мы качаемся в воздухе над крышами департаментов, над саванной,
пустыней и плавучими островами. Поплавки вспороли поверхность озера у Бола. Мы везли с собой 24 листа печатного текста и пустой чемодан. На контрактах никаких печатей и никаких подписей, кроме наших. Авось, сойдет!
Когда вечером вертолет снялся с волн перед соломенными хижинами, позади нас сидели два оробевших будума. На берегу – черно, родные и друзья во главе с султаном и шерифом, задрав голову, смотрели вверх на отважных земляков, а те, крепко держась за сиденья, глядели коршунами вниз на маленький мир, в котором выросли. Ни тот ни другой ничем не выдавали своих эмоций: разве их руки не украшены шрамами от ожогов, свидетельствующими, что эти люди шутя переносят прижигание раскаленным железом? Друзья отправились в дальнюю дорогу, как были – в сандалиях и рваных тогах. Чемодан, который мы для них захватили, остался пустым, им нечего было в него положить.
Форт-Лами – объятия и бурное ликование при встрече с Абдуллой. На базарной площади Умар облачился с ног до головы во все голубое, а Мусса – во все желтое. В развевающихся новых тогах они гордо вошли в здание полицейского управления; у обоих глаза сияли от восторга – уж очень им понравились только что сделанные фотокарточки для паспорта.
– Имя, фамилия, – приветливо спросил полицейский сержант со шрамами на лице.
– Умар М'Булу.
– Мусса Булуми.
– Возраст, – осведомился блюститель закона.
Молчание.
– Когда родился Умар?
– На четыре года раньше Муссы.
– 1927? 1928? 1929?
– Кажется, – нерешительно произнес Умар.
– Год рождения приблизительно 1929, – записал сержант. – А Мусса?
– 1929, – живо отозвался тот.
– Не может быть, – возразил сержант. – Ты же на четыре года моложе.
– Верно, – подтвердил Мусса. – Но мы оба родились в 1929 году.
– Год рождения приблизительно 1929, – написал сержант и во втором паспорте.
Теперь – расписаться. Умар извинился: он знает только арабские буквы. Взял поданную ему ручку, замахнулся, исполнил рукой какие-то замысловатые финты в воздухе над паспортом, после чего вернул ручку сержанту, и тот подписался за него. Мусса предложил, чтобы сержант заодно уж написал и его имя. Но без контракта они не могли получить паспорт на руки, поэтому мы отправились в католическую больницу за медицинской справкой. Помню тихое веселье, когда одна из монахинь попросила Муссу раздеться до пояса, и он простодушно подтянул тогу до пупа. А рентгенолог никак не могла найти на своем экране Умара, пока не зажгла свет и не обнаружила, что он полулежит на аппарате.
Для проезда через Судан нужна была справка о прививках. И друзьям сделали прививки, но справок не дали, потому что все бланки кончились. Мы с Абдуллой помчались в типографию, однако типография отказывалась печатать новые бланки, пока больница не рассчитается за старые. В конторе Суданского Аэрофлота клерк нашел в одном из ящиков стола три бланка, но не успели мы доставить их в больницу, как вышел французский врач с рентгеновским снимком, на котором было видно, что у Умара на печени какой-то вырост. Оказалось, что этот геркулес серьезно болен; врач строго-настрого запретил ему куда-либо ездить. А Мусса тоже не хотел уезжать без брата, который умел говорить по-арабски. Похоже, не быть папирусной лодке...
Что можно сделать для Умара? Нас принял главный врач, улыбающийся француз с погонами полковника.
– Вы – здесь?
Мы были одинаково удивлены и искренне обрадовались друг другу. Последний раз я видел полковника Лалуэля на Таити, где он служил военным врачом.
Вместе мы нашли решение. Если Умар будет вынужден вернуться в Бол, он останется без медицинской помощи. А в Каире ему будет обеспечен врач. Мне тут же выписали рецепты на таблетки и уколы, обязав проследить за лечением Умара.
И вот взлетает суданский самолет. Умара и Муссу втащили вверх по трапу в последнюю минуту, они почти ничего не видели в своих синих и желтых очках под цвет тог. Абдулла, войдя в самолет, ахнул от восторга, а братья просто опешили, обозревая салон, который был вдвое просторнее, чем резиденция Болского султана. Несколько минут – и мы уже над облаками. Пока Абдулла и Умар изучали устройство предохранительного пояса и механизм подвижного сиденья, Мусса с нерушимым спокойствием достал желтый носовой платок и принялся тереть им свой блестящий череп. Появилась стюардесса с конфетками, они взяли по полной горсти и уставились на леденцы, не зная, что с ними делать, пока не увидели, как соседи суют фантики в пепельницу. После этого они затолкали свои запасы в пепельницы и до конца полета выковыривали по одной конфетке из узкой щели. Принесли завтрак, и, глядя, как Умар кладет масло в фруктовый салат, я с беспокойством подумал о его печени. Вскоре самолет пересек границу Судана, и через некоторое время мы приземлились на аэродроме около столицы.
Что тут было с моими спутниками! В Боле даже двухэтажного дома не увидишь, а здесь, в Хартуме, куда ни погляди, стоят дома в несколько слоев. Даже Абдулла разинул рот при виде четырехэтажного здания. Нам предстояла ночевка, но оставлять их одних в большом городе я не хотел, а поселяться вместе в роскошном отеле тоже не стоит, пока они не освоились с новой обстановкой. И я пошел с моими друзьями в гостиницу четвертого разряда в арабском квартале. Администрация и номера помещались на третьем этаже ветхого здания, кухня и ресторан – на крыше под открытым небом, а трем друзьям казалось, что они попали в сказочный дворец. На лестнице я вдруг заметил, что братья как-то странно держатся. Они чрезвычайно сосредоточенно смотрели вниз и так осторожно ставили ступню, как будто карабкались на крутую гору. Да, ведь они впервые идут по настоящей лестнице! У них в Боле и на плавучих островах все лачуги одноэтажные.
Номера были без окон, но под потолком висела голая лампочка, свет которой падал на выстроившиеся в ряд кровати. Братья в жизни не видели кроватей, и, когда Абдулла объяснил им, что это приспособление для сна, они тотчас заползли каждый под свою кровать и лежали там, уткнувшись носом в пружины, пока Абдулла, покатываясь со смеху, не вызвал их оттуда, к великому облегчению оторопевшей хозяйки гостиницы, которая никак не могла понять, что это постояльцы там ищут.
В ресторане нас посадили за маленький столик с тарелкой и вилкой на каждого. На тарелках лежало мясо, помидоры, картофель, лук и фасоль. Путешественники из Чада быстро оценили достоинства вилки. Только я нацелился на кусок мяса, вдруг чья-то вилка опередила мою и сунула этот кусок в рот Умару. Я взял новый прицел, но едва не столкнулся с рукой Абдуллы и в последнюю секунду переключился на картофель. Подняв голову, я увидел, что вилки так и мелькают, каждый угощался с той тарелки, которая его особенно прельщала. Мои сотрапезники привыкли есть руками из общего блюда и вилку восприняли как удобное приспособление, очень кстати увеличивающее радиус действия, коль скоро пищу разложили так несподручно.
На другое утро Абдулла разбудил меня чуть свет. Ему говорили, что в разных странах по-разному считают время, и он решил проверить, не забыли ли мы договориться с летчиком, на какие часы смотреть, чтобы не опоздать на самолет.
На аэродроме чуть не произошла катастрофа. Никто не обратил внимания, что у моих товарищей нет египетской визы, однако санитарный контроль обнаружил, что прививки станут действенными только через неделю. По недосмотру эти люди попали в Судан, но уж теперь им придется выждать, сколько положено. А я уже прошел на аэродром и заметил калитку в заборе. Зоркий Абдулла тотчас увидел мой указательный палец, три друга в развевающихся тогах – белой, желтой и синей – вышли из очереди перед контролем и спокойно обогнули здание аэропорта. И когда самолет взлетел, наша четверка сидела на своих местах в салоне. Ребята из Бола уверенно застегнули ремни, улыбнулись чернокожей красавице-стюардессе и аккуратно взяли по одной конфетке с подноса.
Каир... У трапа встречает целая делегация во главе с улыбающимся норвежским послом. Не спрашивая ни о визах, ни о прививках, представитель министерства туризма провел нас через все контроли, и посольский шофер в нарядной форме взял под козырек, когда Мусса, Умар и Абдулла, подобрав подолы своих тог, полезли в просторную машину посла. Мосты, подземные переходы, пятиэтажные дома... Восторженные возгласы чередовались с благоговейным бормотанием. Мечеть, еще одна, полон город мечетей, да здесь, наверно, рай! Но когда мы очутились среди таких высоченных домов, что пришлось – с нашей помощью – опустить стекла, чтобы увидеть крыши, друзья притихли. Это какой-то грубый розыгрыш...
Мусса задремал. Умар словно окаменел, лишь белки сверкали, когда он робко косил глазом направо или налево. Только Абдулла, наклонив свою бритую голову и раскрыв рот, жадно впитывал широко открытыми глазами все до мельчайших подробностей, от трамвайных рельсов и марок автомашин до световых реклам и многообразия типов.
– А это что? – спросил Абдулла.
Современные кварталы остались позади, мы выехали на просторы Гизы. Я был готов к такому вопросу, но мне было интересно посмотреть, как реагирует Абдулла. Братья дружно клевали носом, Абдулла же неотрывно глядел вперед, все шире открывая рот и глаза в полумраке.
– Абдулла, это пирамида, – объяснил я.
– Это гора или люди построили?
– Ее построили люди в давние времена.
– Ох уж эти египтяне! Во всем нас перегнали. А сколько человек в ней живет?
– Один, да и тот мертвый.
Абдулла восхищенно рассмеялся.
– Ох уж эти египтяне!..
Но когда показались еще две пирамиды, даже Абдулла потерял дар речи, только молча сверкал белками.
Освещая себе дорогу карманными фонариками, мы повели ребят из Чада от машины по рыхлым дюнам туда, где в лощине за пирамидами и сфинксом в лунном свете призрачно белели палатки лагеря, подготовленного Корио. Шагая по песку, три друга, естественно, не подозревали, что за тысячи лет они, пожалуй, первые строители папирусных лодок на земле сфинкса и что земля эта скрывает древние могилы, где погребены корабелы фараона и погребено их забытое искусство, которое теперь длинными кружными путями вернулось к подножию пирамид. Спокойной ночи, Абдулла. Вот твоя палатка. Мусса и Умар займут соседнюю.
Ошеломленные всем тем, что увидели и узнали за этот день, они в последний раз глянули исподлобья на могучие остроконечные горы фараонов, которые возвышались над нами, словно исполинские тени наших палаток на фоне немеркнущей россыпи звезд. «В каждой по одному человеку, да и тот мертвый», – пробормотал Абдулла по-арабски Умару. Тому не пришлось переводить на язык будума для брата. Мусса уже крепко спал на своей раскладушке, утомленный обилием впечатлений.
Макушки пирамид вспыхнули вулканическим пламенем, когда высоко над палатками пролетели первые раскаленные стрелы, выпущенные восходящим солнцем из укрытия за песчаными дюнами на горизонте. Внизу было еще темно и холодно, но из палаток выбрались трое в длинных тогах и, поеживаясь, устремили взгляд на розовеющие пирамиды, ожидая, когда солнце снизойдет к озябшим человечкам, чтобы они могли обратиться с молитвой к Аллаху. Но вот показалось солнце, друзья опустились на колени, три черных лба коснулись песка и три бритых черепа засверкали в сиянии пробуждающегося бога Ра, явившегося, по мнению Абдуллы, откуда-то со стороны Мекки. А затем все мы вдруг увидели нечто диковинное, кусочек живой жизни среди сплошного песка и камня. Папирус! Вон они ждут нас, огромные штабеля желто-зеленого и золотистого, как само солнце, папируса. Абдулла вооружился длинным ножом, и мы с волнением пошли за ним. Сейчас состоится суд экспертов, сейчас встретятся лодочные мастера из сердца Африки и строительный материал, заготовленный в верховьях Нила, и все решится... Абдулла рассек длинный стебель, остальные двое потрогали его, пощупали поверхность среза.
– Кирта, – произнес Мусса.
– Ганагин, – перевел Умар Абдулле на чадско-арабский диалект и радостно улыбнулся.
– Папирус, они говорят, – это настоящий папирус, – объяснил Абдулла по-французски.
Слава богу. Папирус оказался первоклассный. Вместе мы присмотрели ровную площадку около палаток, потом я отмерил 15 метров в длину, 5 в ширину и начертил палочкой на песке контуры лодки.
– Вот такая
кадай мне нужна.
– А где вода? – спросил Мусса.
Умар кивнул.
– Вода? Разве вы не видели бочку с водой на кухне?
– Где озеро, – сказал Мусса, настороженно глядя на теряющиеся вдали дюны. – Чтобы вязать лодку, надо намочить папирус.
– Но ведь ты сам говорил, что папирус должен сушиться на солнце три недели, чтобы им можно было пользоваться! – воскликнул я.
– Ну да, свежий папирус ломается, – подтвердили наши чернокожие друзья. – Его надо высушить, тогда он станет крепким. А потом намочить, чтобы его можно было согнуть, не то он будет ломаться, как сухие прутья.
Вот тебе на. Наш лагерь лежит в песках. Ближайшая вода – в горбах у верблюдов и в бочке с краном. Далеко в долине протекает Нил. В него сливаются все нечистоты. От нынешней нильской воды папирус, наверное, сгниет вдвое быстрее, чем во времена фараона. Ну что бы этим ребятам предупредить нас. У них в Боле кругом вода, вода и плавучие острова, уходящая вдаль озерная гладь с кромкой пустыни.
– Где озеро? – Мусса напряженно глядел на нас, и Умар тоже забеспокоился. Что-то надо придумать.
– Мы его привезем!
Выбора не было. Переносить лагерь и запасы папируса поздно. К тому же Нил загрязнен, а мочить папирус в море нам пока совсем не хотелось, ведь специалисты утверждали, что морская вода разъедает клетчатку растения. Место для строительства было выбрано неспроста: пирамиды олицетворяют Древний Египет, а на фресках и рельефах в погребениях очень удобно по ходу работы над новой лодкой изучать детали конструкции старых. И климат пустыни гарантировал, что папирус будет сухим, как нас учили и в Чаде, и в Эфиопии.
– Абдулла, объясни им, что мы поехали за водой!
И мы с Корио покатили на джипе через песчаный гребень вниз, в ближайший арабский квартал. Здесь мы купили кирпич и цемент, нашли безработного каменщика и договорились с одним водителем, что он будет возить нам через день 12 железных бочек приличной воды на своем тракторе. Потом мы отвезли наших чадских друзей в универмаг: здесь, на севере, они зябли в одних тогах на голое тело. Заодно Умар начал лечиться.
Каменщик выложил в песке перед палатками прямоугольный бассейн, и на следующий день мы поместили туда первые связки папируса. Вот когда мы по-настоящему узнали, как хорошо папирус держится на воде! Три человека вскочили на связку и долго прыгали на ней, прежде чем удалось ее утопить, а всего у нас было пятьсот таких связок. Сунешь стебель толстым концом в бочку с водой, потом отпустишь – он выскакивает и, словно копье, летит по воздуху.
Два ученых мужа, два улыбчивых бородача с живыми глазами внимательно наблюдали, как мы приступаем к делу. Оба покачивали головой, не зная, что и думать. Один был египтянин Ахмед Юсеф, он как раз в это время реставрировал деревянный корабль фараона Хеопса у подножия самой большой пирамиды. Второй – швед Бьерн Ландстрем, лучший в мире знаток древнеегипетских лодок. Он приехал в Египет, чтобы внести в каталог и зарисовать все суда, изображенные на стенах многочисленных гробниц Нильской долины. Ландстрем не верил в мореходные качества папирусной лодки и неделей раньше поделился с прессой своими сомнениями, но встреча с нашим папирусом и экспертами из Чада поколебала его взгляды, и он решил задержаться в Египте, чтобы строители могли воспользоваться его знаниями.
Союз теории и практики сразу принес свои плоды. Ландстрем не знал особенностей папируса и тонкостей вязки, превращающей снопы в лодку, зато он мог подсказать важные детали там, где кончался опыт будума: обводы кораблей фараона, конструкция и расположение мачт, снастей, парусов, каюты и рулей. Не теряя времени, он в два счета набросал для нас папирусный корабль и сделал рабочий чертеж с точным указанием всех размеров. Мусса и Умар покатились со смеху, они в жизни не видели лодки с двумя загнутыми вверх носами, однако сразу взялись за дело.
Строительство лодки, которую мы задумали испытать в океане, началось с того, что четыре стебля связали вместе веревочкой с одного конца. Затем внутрь этого пучка стали всовывать все новые стебли, в точности, как в Чаде, при этом и сноп, и веревки становились все толще. Когда конус достиг семидесяти сантиметров в поперечнике, а веревки стали толщиной с мизинец, он перешел в цилиндр, который перехватывали веревками через каждые 60 – 70 сантиметров. Теперь и Абдулла смог встать рядом со своими товарищами, работа развернулась полным ходом. Мы поехали в арабские кварталы набирать еще помощников. Абдулла переводил, как мог, европейскую речь на чадско-арабский диалект.
– Бут, – дружно кричали египтяне, требуя папируса на своем языке.
И закрутился наш конвейер. Два человека висели на концах бревен-рычагов, топя в кирпичном бассейне упорствующие папирусные связки. Двое других обрезали прелые корневища и относили двум подручным намоченные снопы, а подручные подавали стебли по одному ребятам из Чада, которые, напрягая все силы, втискивали их в растопыренную оконечность того, что должно было стать лодкой, так что веревки натягивались, словно обручи на бочке. Абдулла сразу вошел в роль бригадира, он лихо работал и так же лихо распоряжался. Египетские рабочие поначалу склонны были глядеть свысока на ребят из африканской глуши, чернота которых превосходила все, что они когда-либо видели в своей печи, но Абдулла с его великолепной головой быстро утер им нос, а за ним и братья завоевали общее уважение своим нерушимым спокойствием, веселым нравом и смекалкой. Два сторожа-балагура в тюрбанах, вооруженные старыми ружьями, повар-кудесник и смешливый, жизнерадостный поваренок вносили свою лепту в уютную атмосферу нашего лагеря – палаток, папирусного склада и стройплощадки, символически огражденных канатом. За длинным столом в столовой звучала английская, арабская, итальянская, будумская, норвежская, шведская и французская речь, а ведь интернациональный экипаж экспедиции еще не был в сборе.
На третий день начался спор между наследственным опытом и академической наукой. Цилиндр уже настолько вытянулся в длину, что пора было сводить его на конус в задней части, но братья наотрез отказались: они хотели идти до конца одним диаметром, затем обрубить связку, как это заведено на Чаде. Разве бывают
кадай с носом в обоих концах! С помощью Абдуллы Ландстрем, Корио и я долго объясняли им, что нам нужна особенная папирусная лодка, как у древних египтян, но тут наш никогда не унывающий Мусса вдруг насупился и ушел в свою палатку. Умар попытался втолковать нам, что начать связку четырьмя стеблями и постепенно наращивать в толщину – можно, а делать ее все тоньше и тоньше и закончить четырьмя стеблями – нельзя. После чего он тоже побрел прочь, и остались мы совсем беспомощными с нашими египетскими помощниками.
На другое утро братья еще до рассвета потихоньку пришли на стройплощадку, и, когда мы поднялись, они уже успели закончить связку по-своему. Мы бросились к ним, хотели остановить их, но, добежав, застыли, растерянно глядя на лодку и друг на друга. На рабочем чертеже Ландстрема семь раздельных связок, заостряющихся кверху спереди и сзади, были просто скреплены между собой параллельными веревками. А братья, уже приступив к второй связке, сплетали ее вместе с первой так, что получалась сплошная основа. Мало того, что веревки параллельных креплений переплетались друг с другом, в них еще вплетали папирус из соседних связок для полной компактности конструкции. Непосвященный человек никогда не додумался бы до этого, и академикам оставалось только капитулировать перед лицом такого мастерства. Тысячелетний опыт превзошел догадки теоретика, а результатом явилось плотное соединение папирусных понтонов, причем лишь средний был круглого сечения, а боковые напоминали в разрезе луну в первой и последней четверти.
На шестой день работ над Сахарой разразилась буря, песок хлестал по палаткам, как затвердевший ливень, пирамиды пропали из вида. Песчинки резали глаза и скрипели на зубах, но нам надо было вбить поглубже палаточные колья и как следует закрепить брезент на папирусе, легкие стебли которого уже летели по воздуху к пирамидам. На конце первых двух связок необрубленный папирус топорщился, будто иглы дикобраза, и под напором ветра ломался, как солома, но законченная носовая часть крепостью не уступала бревну. Три дня буря, нарастая в силе, обстреливала лагерь горячей дробью. На четвертый день она унялась, самум сменился моросящим дождиком, и мы поспешили возобновить работу.
Рабочие подносили в кувшинах воду из бассейна и поливали ею заостренный нос лодки, состоящей теперь из трех сопряженных цилиндров, и, когда связки стали достаточно мягкими, вся бригада сообща загнула нос вверх, так, что получилась изящная высокая дуга, как на древних судах. Но с другого конца связки по-прежнему оставались прямыми, напоминая огромные растрепанные помазки.
Что делать? Мы повезли мастеров из Чада в универмаг в Каире, там они всласть покатались на эскалаторах и выбрали себе подарок – ручные часы; Абдулла вызвался научить остальных двоих, как ими пользоваться. После этого сильно подобревший Мусса обнаружил, что корму можно все-таки надставить тонким хвостиком, его потом загнули вверх и нарастили в толщину. И лодка наконец-то начала походить на настоящую древнеегипетскую ладью. На фоне солнечных пирамид изогнулся живописный полумесяц, одинаково приводя в восторг профанов и эрудитов. Кто мог тогда предвидеть, что наскоро придуманный и приделанный ахтерштевень станет ахиллесовой пятой нашей лодки.
По бокам средней, самой длинной связки одну за другой укрепили по четыре связки, а поверх первой девятки тем же способом приладили еще девять папирусных цилиндров.
Дополнительно две связки уложили на палубе в качестве фальшборта. Три средних валика в основе были толще других и выдавались вниз сантиметров на двадцать, образуя как бы широкий киль.
В апреле солнце над Сахарой начало жарить с такой силой, что это сказалось и на ходе работы, и на расходе воды. В это же время о строительстве в ложбине за пирамидами заговорило телевидение и местная печать, папирусную лодку все время путали с деревянным кораблем Хеопса, который восстанавливали в нескольких сотнях метров от нас, и туристские гиды и экскурсоводы, томящиеся бездельем из-за военного положения, надумали водить к нам туристов и показывать им настоящий египетский корабль из папируса. Гости со всех континентов, а также фотографы и репортеры, прибывшие из разных стран освещать ход военных действий, шли или ехали верхом на конях и верблюдах смотреть новейший аттракцион, канатное ограждение было сметено, и сторожа героически защищали хрупкую лодку от тьмы любопытных, самые напористые из которых лезли на палубу позировать для фотографов, не считаясь с тем, что сухие стебли ломались под их каблуками. Верблюды грызли нашу лодку. Туристы уносили на память обрезки папируса и целые стебли с автографами и без, и Абдулле стало не до работы, он едва поспевал расписываться, а Мусса и Умар, позабыв про свои веревки, кокетничали с прекрасными дочерьми Нигерии, Советского Союза и Японии. Мы попробовали работать ночью при свете фонарей и факелов, но опасность пожара от искр и керосина вынудила нас отказаться от этой затеи. Кораблик-то был бумажный! Одна неосторожно брошенная спичка – и ладью окутает море пламени, а когда оно схлынет, на песке останется лишь кучка пепла. Мы с ужасом смотрели, как туристы с сигаретами в зубах прислоняются к лодке. Вывесили огромные объявления на арабском и английском языках о том, что курить строго воспрещается, и велели сторожу всем показывать эти плакаты. В тот же день мы увидели, как наш старичок с ружьем сидит подле носа ладьи, дымя самокруткой. Я возмущенно ткнул пальцем в объявление над его головой, но ему мой гнев был непонятен. Улыбаясь, он объяснил, что не умеет читать.
Каюту нам сделал один старик-корзинщик в Каире. Он сплел ее всю из гибких прутьев. Размеры жилья, в котором предстояло разместиться нашей семерке, составляли 4 метра в длину и два восемьдесят в ширину; высота сводчатого потолка позволяла стоять, нагнув голову, в центре; посередине одной из боковых стен было квадратное отверстие для входа, высотой один метр. Крыша и боковые стены заходили на метр дальше задней стены, так что получился как бы альков для корзин с провиантом.
В ходе работы мы частенько наведывались в древние гробницы, чтобы получше рассмотреть важные для нас детали стенных росписей. На длинных деревянных кораблях изображен натянутый над палубой толстый канат. Он перекинут с носа на корму и опирается на жерди с рогаткой вверху. Этот канат стягивал нос и корму, словно тугая тетива, не позволяя кораблю переломиться посередине. Видимо, продольная упругость судов из папируса была выше, потому что на них такой тетивы не ставили. Зато короткий канат спускался косо вниз от загнутого внутрь конца ахтерштевня к кормовой палубе, это выглядело, как арфа с одной струной. Если бы мы знали, как важна эта струна! Я часами ломал себе голову над ее смыслом, ведь для чего-то ее придумали, сколько бы ученые, поддержанные ребятами из Чада, ни твердили, что единственное назначение этого каната – держать элегантную завитушку. Допустим. А зачем нужна завитушка? Только для красоты, считали все. Дальше наше воображение не шло, но этого было довольно, чтобы мы и тут постарались не отклоняться от древних рисунков. Долго струна стояла на своем месте, но однажды утром она исчезла. Наши чадские друзья убрали ее, она им мешала работать, да и к чему она, ведь завитушка теперь держалась без нее. Мы попросили ребят вернуть канат на место, но они весьма логично возразили, что мы всегда можем сделать это потом, если завитушка начнет выпрямляться. А сейчас в нем нет надобности.
Если на деревянных судах мощный канат опирался на жерди, то у папирусных лодок, как это видно на фресках и рельефах, толстый канат обрамлял палубу. Он скреплял всю конструкцию, увеличивал ее жесткость и служил канвой для всех оттяжек, которые за тонкий папирус не привяжешь.
Древние изображения в подземных коридорах с колоннадой позволяли представить себе, как люди решали проблемы водного транспорта 3-4 тысячи лет назад. Создатели фресок и рельефов живо запечатлели все подробности великолепными нетускнеющими красками. Очень важно было как следует разобраться в этих древних мультипликациях, ведь больше негде было почерпнуть нужные нам сведения. Часто мы затруднялись различить на изображениях деревянные и папирусные суда, потому что первые обычно имитировали форму вторых. Но есть фрески, показывающие весь ход работы: рабочие срезают стебли на болоте, собирают их и подносят снопы строителям, и те связывают папирус вместе веревками, которые им подают маленькие помощники-ученики.
На палубах папирусных лодок можно разглядеть корзины с фруктами и лепешками, кувшины, мешки, сундуки, клетки с птицей, обезьян, телят. Стоят рыбаки, охотники, торговцы, воины, знатные вельможи, а то даже показаны целые траурные процессии с богами и птицечеловеками. Вот обнаженные рыбаки с сачками, сетями, вершами и простыми удочками. Вот сражаются два отряда папирусных лодок. Вот охотники на лодках бьют гарпунами бегемотов. Вот сидят женщины и кормят грудью детей. А вот и сам фараон с супругой восседает на троне, перед ним роскошно накрытый стол, и виночерпий наполняет его бокал.
На одних фресках фараон изображен великаном, его шаг равен длине всей лодки, на других отчетливо видно двадцать пар гребцов и двуногую мачту с такелажем, с полдюжины моряков тянут фалы и карабкаются на реи и ванты, и совершенство парусной оснастки говорит о высоком уровне мореходного искусства 5 тысяч лет назад. Самые роскошные папирусные суда украшены на концах звериными головами, резные столбы каюты покрыты краской и позолотой, и все: весла, тент и прочий инвентарь – отвечает лучшим образцам древнеегипетского строительного искусства и ремесла.
У фараонов хватало камня, чтобы сооружать пирамиды с гору величиной. Папируса им тоже хватало, и они вполне могли строить лодки размером с плавучий остров. Задуманная нами лодка составляла в длину всего одну пятую сфинкса. Выйдя из подземного царства мумий и стоя между лапами каменного исполина, мы чувствовали себя карликами. Папирус разрушается зубом времени гораздо быстрее, чем камень. Если бы мы знали пирамиды и сфинкса только по фрескам в подземелье, никто не поверил бы, что за тысячи лет до Колумба люди могли создавать такие гиганты. Как бы нам ни нравилось смотреть на себя как на поколение, сбросившее наконец-то звериный облик, пирамиды напоминают, что не следует спешить с умозаключениями. Умный человек не будет недооценивать способности других только потому, что они родились на свет раньше нас, так что мы можем пожинать плоды их изобретательности. Это были люди с такими же, как у нас, чувствами и стремлениями. Памятники той поры свидетельствуют, что ум и сметка, организаторский дар и энтузиазм, любознательность и крылатая мечта, вкус и все прочие пружины человеческих деяний, добрых или дурных, ставят в один ряд человека древности и современности, лишь календарь да созданная нами сообща техника говорят о том, что прошло 5 тысяч лет.
Когда уже подходила к концу установка фальшборта, мне пришлось вылететь в Марокко, чтобы подготовить приемку нашей ладьи и старт из древнего порта Сафи, которого никто из нас еще не видел. А вскоре после того, как я вернулся оттуда, легли на место последние стебли папируса. Всего их ушло на лодку 280 тысяч. Строительство было закончено. На песке осталось шесть стеблей папируса.
28 апреля, в день двадцать второй годовщины старта экспедиции «Кон-Тики», все было готово, ладья могла трогаться в путь. В ложбине за пирамидами собралось народу видимо-невидимо. Министерство туризма подготовило трибуну для почетных гостей – брезентовый тент и стулья, которые заняли губернатор Гизы, министры и иностранные послы. Абдулла, Мусса и Умар, облачившись в свою лучшую одежду, сидели вместе с гостями; сегодня трудились другие. Широкая, плоская, с тонкой шеей, хвост крючком, папирусная лодка напоминала огромную золотую курицу, насиживающую круглые бревна в песке у пирамид. Ладья лежала на больших деревянных салазках, на которых ее строили, от салазок тянулись четыре длинных каната, и прилежные руки выкладывали в ряд телеграфные столбы – по этим каткам предстояло тянуть салазки через дюны.
Еще раньше директор Института папируса ездил со мной к директору Института физкультуры, и мы вдвоем заверили его, что подготовили отличную тренировку для студентов в песках Гизы. Машины будут, сколько человек может предоставить институт? Институт предоставил пятьсот студентов, пятьсот атлетов в белых шортах. Вот они заняли места вдоль канатов под руководством своих преподавателей. Два человека, стоя на лодке, подавали команды, третий примостился впереди на салазках и сигналил жезлом «пошел» и «стой». В этой сцене было что-то библейское. То ли потому, что наша грузная доморощенная лодка древнего фасона, с плетеной хижиной на палубе и пирамидами позади напоминала Ноев ковчег, заброшенный в пустыне после того, как его покинули звери. То ли потому, что по этой земле некогда ступал Моисей, которого нашли ребенком в папирусной корзине, прибитой течением к берегу Нила. Так или иначе, когда по сигналу жезла пятьсот молодых египтян впряглись в лямки и над песками разнеслись дружные крики, когда заскрипело дерево и папирусный корабль медленно пополз вперед на фоне неподвижных пирамид, иные зрители вздрогнули, как будто в ложбине средь бела дня возникли тени прошлого...
– Ола – хуууп!
Зычно звучали голоса пятисот египтян, жалобно поскрипывали бревна, хрустели камни, и так же, как тысячи лет назад, солнце пекло незыблемые стены пирамид и играло на послушных команде мускулах тысячи рук и тысячи ног, и все могли убедиться, что люди способны без машин сдвинуть гору, когда трудятся сообща.
Непривычно пусто стало в ложбине, когда палатки остались наедине с пирамидами, а лодка, стоявшая в центре кадра, ушла за рамку к шоссе, ведущему в Сахара-сити. Салазки с Ноевым ковчегом подняли на мощный трайлер из тех, что помогали сооружать Асуанскую плотину. Мы поблагодарили пятьсот ликующих физкультурников за усердие, а самое старое и самое молодое средства транспорта Египта уже катили по асфальту среди пальм по берегу Нила, направляясь к устью реки, в Александрию.
Едва хрупкое и худосочное дитя пустыни очутилось в порту, как мы почувствовали, что оно набирает сил и крепости, дыша влажным морским воздухом. Корабль-мумия ожил, как только увидел море.
Глава 7
В Атлантический океан.
Семь человек из семи стран, одна обезьянка и клетка с птицей
Сафи. Соленый ветер с Атлантического океана. Могучие волны разбиваются о береговые кручи, и белые брызги летят вверх, туда, где стоят старые укрепления, которые были заложены одним из сподвижников Васко да Гамы, когда португальцы в 1508 году взяли на себя оборону гавани по соглашению с вождем берберов Яхья бен Тафуфтом. Среди старинных крепостных стен и 450-летних португальских дворцов в наши дни живет полнокровной жизнью небольшой городок, арабы и берберы здесь вместе выходят на промысел сардин, самый крупный в мире, и порт кишит колоритными рыбачьими лодками, а между ними важно скользят огромные океанские суда, они забирают сульфат и привозят товары для Марракеша, одного из главных городов Марокко.
Мы сидели под пальмами в саду паши, самом высоком месте Сафи, и смотрели вниз, на океан, простершийся от гавани вдаль до самого небосвода. Этот порт служил берберам тысячу лет до прихода португальцев, и по меньшей мере столько же лет пользовались им до берберов финикийцы, ведь они ходили мимо этих берегов к своему форпосту на островке около Могадора, где археологи по сей день раскапывают финикийские изделия. Выходит, уже в далеком прошлом мореплаватели, – то ли торговцы, то ли колонисты, – поддерживали сообщение между внутренним Средиземноморьем и древнейшими портами на крайнем западе атлантического побережья Африки, где Канарское течение, устремляясь через океан, увлекает с собой все, что не может ему противостоять.
Всякий, кто в древности выходил за Геркулесовы Столбы, то есть через Гибралтарский пролив, мог найти укрытие в Сафи, если он, подобно финикийцам, решался следовать дальше на юг мимо обрывистых берегов Марокко. Папирусная лодка тоже добралась бы сюда, совершая небольшие переходы вдоль береговой дуги, этого никто не отрицает, лишь бы она держалась у самого берега, чтобы ее, когда надо, можно было вытащить и просушить. А что ожидало лодку, которая уходила от берега в открытое море? Вот в чем вопрос.
Нам известно, что лодки из папируса знали на атлантическом побережье, они здесь оказались не менее живучими, чем к востоку от пролива. Такими лодками по сей день пользуются рыбаки, обитающие по соседству с таинственными древними развалинами нурагьи на западе Сардинии; и в Марокко наша ладья не могла рассчитывать на приоритет. В устье реки Лукус, впадающей в океан между Сафи и Гибралтаром, рыбаки ходили на камышовых лодках, пока их в начале нашего века не сменили португальские дощаники. В 1913 году участники испанской естествоведческой экспедиции установили, что люди племени эль йолот, искони обитающего в этой области, делали из папируса парусно-весельные лодки на пять-шесть рыбаков. Исследователи особо отметили тождество этой лодки с древнеегипетской и подчеркнули, что такой тип сохранился не только в Марокко, но и в верховьях Нила, в Чаде и на озере Титикака в Южной Америке, призывая этнографов выяснить, как лодочные мастера в разных концах света могли быть связаны между собой. Марокканскую
мади они считали едва ли не самой крепкой и прочной из всех известных лодок этого рода
[159].
– Вы хотите посмотреть
мади? – чуть ли не с обидой спросил руководитель местной администрации. – Тогда вы опоздали на несколько десятков лет. Лучше мы вам покажем новейшие лодки из дерева и пластика.
Когда папирусная лодка, связанная нашими чадскими друзьями, въехала на колесах на улицы Сафи, ее появление вызвало изрядный переполох и стечение народа. Теперь она, готовая к спуску на воду, стояла в гавани, на берегу среди рыбачьих лодок, и Абдулла прилежно разъяснял смысл нашей затеи берберам и арабам на своем чадско-арабском наречии. Мусса и Умар простились с нами еще в Каире. Они возвратились на самолете через Хартум в Форт-Лами с увесистыми чемоданами и денежным вознаграждением, которое позволяло им приобрести себе в Боле и жен, и скот. На прощание Мусса сообщил мне шепотом, что обнаружил в своем новом дорогом костюме потайное отделение и спрятал туда деньги так, что никто не найдет. И гордо показал мне внутренний карман. Умар завершил курс лечения и откровенно завидовал Абдулле, которого, благодаря его отличному здоровью и знанию французского языка, включили в экипаж морской
кадай. Абдулла вообще решил не возвращаться в Чад, пока там не кончатся усобицы. Лучше идти с нами через океан, чего бы ему это ни стоило, даже без благословения президента Томбалбайе и министров. Вместе с начальником нашего лагеря, Корио, он сопровождал папирусную лодку как пассажир на шведском грузовом пароходе, который шел из Египта в марокканский порт Танжер.
Не успели мы проводить пароход в Александрийском порту, как капитан получил приказ повернуть и зайти за грузом лука в Порт-Саид в зоне Суэцкого канала. Здесь Абдулла увидел, как белые соблюдают свой моральный кодекс. Его разбудил грохот пушек, смертоносные снаряды пролетали над блокированным каналом и поражали лачуги арабов. Потрясенный, но не испуганный, он стоял на палубе возле горючей папирусной лодки и смотрел, как что-то просвистело над самым пароходом и взорвалось в гавани. Грузчики исчезли, и пароход опоздал с выходом из Египта на несколько суток. Тем не менее папирусная лодка в конце концов благополучно прибыла на старт в Марокко, и теперь Абдулла приводил ее в порядок. На пути от Каира до Александрии и от Танжера до Сафи она из-за тряски немного сплющилась, хвост и нос порастрепались и обуглились от столкновений с мостами и высоковольтными проводами, но желтые стебли становились все мягче и крепче от влажного морского воздуха.
На сегодня был назначен спуск на воду. 17 мая – национальный праздник Норвегии. Паша лично все подготовил, отведя нам тот же слип, с которого спускали рыбацкие лодки. Как наместник короля, он обладал большой властью и использовал ее на благо экспедиции. Двери дома паши были широко открыты для меня с того дня, как я пришел к нему с письмом от его друга, постоянного представителя Марокко при ООН – Бенхима. Мы сразу стали друзьями. Таких людей, как паша Тайеб Амара и его супруга Айша, немного на свете. Оба одинаково активны и увлечены социальными проблемами. Паша применил свои полномочия для строительства современных школ, молодежных центров, жилья для рабочих, клубов моряков, библиотек; праздность в древнем приморском городе сменилась бурной деятельностью. Мадам Айша – один из двадцати членов женского совета короля Хассана.
Вот и она – в берберской одежде, с ярким кувшином в руке. Мы встали с пуфиков из верблюжьей кожи: пора идти в гавань.
– Раз уж поручили берберке крестить лодку, сделаю это козьим молоком, – сказала она, показывая Ивон содержимое кувшина. – Козье молоко в Марокко исстари считается символом гостеприимства и добрых пожеланий!
В гавани собралось множество народу. Папирусная лодка принарядилась к празднику, ветер развевал флаги участвующих стран. Айша разбила вдребезги свой красивый кувшин о деревянную раму, так что черепки разлетелись во все стороны и молоко обрызгало папирус и почетных гостей.
– Нарекаю тебя «Ра» в память бога солнца!
Тотчас заскрежетали цепи и шестеренки. Толпа посторонилась. Папирусная лодка пошла вниз по слипу к воде, а я переглянулся с верным покровителем экспедиции, послом Анкером, который вытянулся в струнку с улыбкой на лице и молоком на пиджаке. Он приехал с женой из Каира, чтобы проводить нас. Наверное, в эту минуту у нас в голове была одна мысль: будем надеяться, что самые опасные рифы уже позади! Другие думали иначе. Глядя на нос лодки, который должен был вот-вот коснуться воды, какой-то фотограф наклонился ко мне с расширенными глазами:
– Что вы скажете, если она сейчас пойдет ко дну? Я ничего не успел ответить. «Ра» легла на воду. Деревянная рама вместе с железной тележкой скрылась под водой, а лодка гусыней закачалась на волнах, и всплывшие на поверхность щепки и куски папируса вытянулись за ней вереницей, будто гусята. Толпа дружно ахнула от восторга и облегчения. Многие опасались, что лодка, если не опрокинется, то уж во всяком случае будет крениться, ведь она еще не испытывалась, и ее нельзя было назвать симметричной. Как-никак работа ручная, поэтому сторона, сделанная Муссой, оказалась при обмере борта на 40 сантиметров длиннее стороны, которую связал Умар. Но с балансом все было в порядке, и никакое количество пассажиров не могло его нарушить. Осадка составляла всего 20 сантиметров, да и то за счет нижней части трех средних связок, образующей киль почти двухметровой ширины. Лодка лежала на воде, словно спасательный буек. Стоявший наготове буксир отвел копну папируса к большой барже, и мы пришвартовались к ней, чтобы стебли не терлись и не мочалились о каменный пирс. Здесь «Ра» простояла восемь суток, пока папирус ниже ватерлинии пропитывался водой и мы устанавливали такелаж.

В эти же дни состоялось первое знакомство всех участников экспедиции друг с другом. Впрочем, мы знали, что в маленькой бамбуковой корзинке, которой предстояло на много недель стать нашим домом, у нас будет вдоволь времени, чтобы поближе узнать каждого.

Норман Бейкер из Соединенных Штатов... Единственный настоящий моряк на борту, он стал штурманом и радиотелеграфистом экспедиции. Вот он сидит в дверях каюты и строго, придирчиво изучает свою аппаратуру, проверяет каждую деталь со знанием дела. Мое знакомство с ним было очень беглым. Когда я заходил на Таити на судне, зафрахтованном для экспедиции на остров Пасхи, к нам на борт поднялся спокойный, тихий
человек – это и был Норман, он только что сам привел с Гавайских островов на Таити 12-метровый кеч, пройдя на нем больше 2 тысяч миль вместе с одним американским биологом. Штурманское дело он знал хорошо. Ему довелось служить в американских ВМС, он носил звание коммандера и преподавал океанографию в военно-морском училище в Нью-Йорке. А в гражданской жизни он был антрепренером строительной фирмы в городе небоскребов.
– Нет, правда, у тебя совсем нет морского опыта? – недоверчиво спросил он, обращаясь к Юрию, который сидел с ним рядом, круглый, благодушный, вертя в руках клистирную трубку.

– Я ходил на советском судне в Антарктику и обратно, – широко улыбаясь, ответил Юрий Александрович Сенкевич, наш русский экспедиционный врач.
И он начал рассказывать про прекрасных девушек Манилы, однако Нормана больше интересовало, верно ли, что Юрий год провел в самой холодной точке земного шара. Да, подтвердил Юрий. В качестве врача и физиолога он год зимовал на советской станции «Восток», посреди антарктического материка, на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, где температура падает до 80° ниже нуля.
Юрий был единственным из ребят, кого я еще совсем не видел, и мы одинаково волновались, когда его самолет приземлился в Каире. А началось с того, что я написал президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу; этот серьезный, немногословный исследователь возглавляет всю науку Советского Союза, от спутников до археологии. В письме я напомнил ему, как он однажды спросил меня, почему в моих экспедициях не участвуют русские. Теперь такой случай представился. Мне нужен советский участник, нужен врач, не может ли президент Келдыш предложить кого-нибудь? Желательно, чтобы врач этот владел иностранным языком и был наделен чувством юмора. Русские вполне серьезно отнеслись ко второму пункту. Когда Юрий вышел из аэрофлотского самолета, нагруженный подарками и медицинским снаряжением, я заметил, что он выпил рюмочку для веселья.
Юрий сразу стал в экипаже своим человеком. Он был не очень силен в английском языке, но достаточно, чтобы понимать юмор. Сын врача, он родился в Монголии и смахивал на коренного жителя Азии. Его выбрали среди молодых ученых одного из институтов Министерства здравоохранения СССР, где он изучал влияние экстремальных факторов на организм человека. Осмотрев щелеватую бамбуковую каюту, в которой нам предстояло быть запущенными в океан, Юрий не без юмора заключил, что космонавтам лучше.

С итальянцем Карло Маури я тоже познакомился недавно. Он шел с нами кинооператором. Сначала я пригласил одного своего хорошего друга из Рима, кинопродюсера и превосходного аквалангиста, который снимал на дне Атлантического океана затонувший пароход «Андреа Дориа». Но когда Абдулла очутился в кутузке и я укатил куда-то в Африку, он разуверился в моем плане и предложил взамен себя Карло Маури. Рыжебородый и голубоглазый Карло Маури, хоть и был похож на викинга, тоже не обладал никаким морским опытом. Он был профессиональный горный проводник и один из самых знаменитых альпинистов Италии. Участвовал в четырнадцати международных альпинистских экспедициях на разных материках, в некоторых – как руководитель, и отвесные кручи Гималаев и Анд знал не хуже, чем неприступные вершины Африки, Новой Гвинеи и Гренландии. В Альпах он сильно повредил ногу, и ему пришлось оставить работу горнолыжного тренера, но от восхождений он отнюдь не отказался. Карло находился в Антарктике, когда узнал о планах экспедиции на папирусной лодке, а туда он попал сразу после съемок белых медведей во льдах Арктики и теперь предвкушал купание в свободных ото льда, теплых экваториальных водах.
В последнюю минуту чуть не сорвалось участие Мексики. Мой друг Рамон, который возил меня к индейцам сери, лег в больницу на серьезную операцию в тот самый день, когда папирусную лодку погрузили на пароход в Александрии. Эта грустная весть пришла в разгар пресс-конференции, и мне ее не сообщали, пока кто-то из журналистов не попросил назвать участников.
– От Мексики участвует... – начал я, но тут чья-то рука нервно сунула мне телеграмму.
У меня сердце сжалось. Только бы Рамон благополучно перенес операцию, остальное не так важно. Слова застряли у меня в горле. Газетчики зашевелились.

– От Мексики участвует... доктор Сантьяго Хеновес!
Пресс-конференция была прервана, и в Мексику полетели две телеграммы. Одна Рамону, другая доктору Хеновесу, тому самому, который в разговоре со мной шутливо обещал прибыть, если его предупредят за неделю. Теперь я предупредил его за неделю. И он прибыл. По дороге этот энергичный человек успел получить в Барселоне премию имени папы Иоанна XXIII за 1969 год, присужденную ему за антивоенную книгу «Человек – война или мир?», по которой он начал снимать фильм
[160]. Из Испании он поспел в Марокко как раз вовремя, чтобы сопровождать лодку по суше из Танжера в Сафи.
И вот Сантьяго Хеновес, теперь уже завхоз и провиантмейстер экспедиции, размещает на неровной палубе грушевидные египетские кувшины, ставит их вплотную друг к другу, чтобы не падали, и крепит веревками. Косматые кокосовые орехи служили отличной прокладкой. Мы заказали сто шестьдесят амфор по образцу древнеегипетских кувшинов Каирского музея, и Сантьяго обращался с ними так же бережно, как с индейскими черепами у себя в университете. С научной дотошностью – недаром много лет редактировал международный ежегодник по физической антропологии! – он нумеровал и записывал в книгу кувшины, корзины и бурдюки.
Я видел Сантьяго Хеновеса на научных конгрессах в разных странах, в том числе в его родной Испании, которую он покинул во время гражданской войны. Последний раз мы встретились в Мексике; профессор университета в Мехико, он специализировался на сложной проблеме происхождения индейцев, моряком никогда не был. Зато – не в пример другим моим знакомым в мире науки – этот ученый-крепыш когда-то был... футболистом-профессионалом.

Трудно было представить себе более далеких от морского дела людей, чем Юрий, Карло и Сантьяго. Разве что Абдулла Джибрин, уроженец Республики Чад, который вырос в сердце Африки и даже не знал, что море соленое. Его мы пригласили как специалиста по папирусу. Пожалуй, этого парня я успел узнать лучше других за две встречи в Чаде и семь недель совместной работы у пирамид. Превосходная голова, но постоянно держится настороже, словно газель, которой всюду чудятся опасности. Наверное, Абдулла еще сам в себе как следует не разобрался. Если исключить его небылицы о мнимых поездках в Париж и Канаду, мне было известно о нем, что он родился в деревушке у папирусных болот Чада. Он смутно помнил, как в детстве его куда-то повели, сколько он ни цеплялся за мать, и украсили ему лоб и переносицу знаком племени. Еще я знал, что он столяр и порядочный донжуан. Как добрый мусульманин, Абдулла мог иметь несколько жен, а я должен был их содержать. Дома жена с тремя детьми, второй женой он обзавелся перед отъездом – вот уже мне забота каждый месяц переводить валюту в Чад. А он еще женился в третий раз в Каире, воспользовавшись моей отлучкой в Марокко. Свадьбу отложили до моего возвращения, чтобы я мог оплатить все расходы. Роскошный праздник с танцем живота и египетскими музыкантами состоялся на крыше арабского домика тестя. Мусса и Умар пришли в такой восторг от застенчивой красавицы-невесты, что засунули большую часть своей недельной получки в ее пышное декольте. Оказавшись перед необходимостью переводить валюту и в Египет тоже, я поклялся, что в Марокко мы не будем спускать глаз с Абдуллы.

Самым младшим из нас был Жорж Сориал, рост метр девяносто два, сложение Тарзана, по образованию инженер-химик, по профессии аквалангист, забубенная головушка, чемпион Африки и шестикратный чемпион Египта по дзюдо. После института Жорж главным образом резвился в клубах Каира и волнах Красного моря. Он разбивал кирпичи ребром ладони, развлекая потрясенных друзей, ногу его украшали следы акульих зубов, и среди всех моих знакомых это был единственный человек, который нырял в гости к мурене и кормил ее изо рта рыбой, гладя при этом опасное чудовище рукой, словно какое-нибудь кроткое комнатное животное. Жорж тоже не был моряком, море знал, как говорится, только снизу, и когда он, прочтя заключение экспертов о папирусе, попросился в экспедицию, то упирал, не без намека, на то, что под водой чувствует себя лучше, чем на воде. Подобно другим древним коптским родам в Египте, семья Сериала связывала свое происхождение с племенами, которые пришли в область Нила еще до того, как арабы принесли сюда мусульманскую веру.
Обычно Сориал спал, как мумия, по четырнадцать часов в сутки, но как только у него родилась надежда войти в состав экспедиции, он стал подниматься чуть свет и являться в лагерь у пирамид. Используя его многочисленные знакомства во всех уголках Каира, мы нашли парусных мастеров, которые шьют паруса по старинке, корзинщика, который вручную сплел нам каюту, пекаря, который испек египетские лепешки по рецепту из Каирского музея, и уединившийся на пригорке клан гончаров, которые разминали ногами сырье, стоя по пояс в глиняном месиве, потом босыми ступнями вращали гончарный круг, – так мы получили сто шестьдесят кувшинов, точно повторяющих пятитысячелетние музейные образцы.
Волны покачивали связки папируса, которые с каждым днем впитывали все больше воды, меж тем как на палубе кипела работа. Первоначально общий вес папируса вместе с веревками составлял около 12 тонн, и, несмотря на то, что стебли с тех пор вобрали не одну тонну воды, лодка не погружалась. На палубу свалили несколько тонн груза – хоть бы что, наша ладья была неколебима, как остров. Тяжелее всего была огромная двуногая мачта, которую мы установили, но и мостик, связанный из брусьев сразу за каютой, чтобы рулевой видел, что впереди, тоже весил немало. Если добавить плетеную каюту, огромные рулевые весла и сложенный на палубе материал для ремонта, вес всего дерева превышал 2 тонны. Еще добрую тонну весила вода в тяжелых кувшинах, и не меньше двух тонн составляли провиант с тарой и снаряжение.
Последняя неделя прошла под знаком лихорадочной деятельности. Если верить экспертам, каждый лишний день пребывания папируса в морской воде сокращал срок его службы, так что мы старались не мешкать. К тому же с каждым днем приближался сезон ураганов в западной части Атлантики. До сих пор мы, несмотря на всякие препоны, каким-то чудом выдерживали график с точностью до недели, но дальше и дня нельзя было терять, и темп работы возрос до предела. Кто-то упаковывал, носил, катал грузы на пристани. Кто-то лазил по мачте и вантам, тянул веревки, вязал узлы. Кто-то рубил, строгал и укреплял ремнями и веревками мостик и весла.
Со всех сторон нас окружали помощники. Бельгийский капитан де Бок, участник первой научной археологической экспедиции на остров Пасхи, морской волк, взял отпуск за свой счет и выехал из Антверпена в Сафи, предварительно рассчитав вероятный путь нашего дрейфа. Лоцман антверпенского порта, он привык иметь дело с гигантами водоизмещением в 50 и 100 тысяч тонн, теперь же, стоя на палубе «Ра», следил за тем, чтобы загрузка и оснастка «бумажного кораблика» производилась по всем правилам морского искусства. В это же время его норвежский коллега Арне Хартмарк, капитан судна, которое доставило на Пасху мою экспедицию, висел на мачте вместе с альпинистом Карло Маури, крепя снасти. Герман Ватсингер, участник экспедиции «Кон-Тики», прилетел из Перу, чтобы подсобить нам на старте; Фрэнк Таплин привез из Нью-Йорка добрые пожелания от У Тана. В складском помещении на берегу наши жены под руководством супруги паши, сидя на корточках вокруг кувшинов, клали сыр в оливковое масло, свежие яйца в известковый раствор, наполняли корзины и мешки орехами, сушеной рыбой и бараньей колбасой. Айша Амара смешала мед, тертый миндаль, масло, муку и инжир, и получилось селло, которое исстари известно в Марокко как лучшая дорожная провизия, не боящаяся долгого хранения.
Иной раз паше приходилось вызывать полицию и устраивать оцепление, чтобы работа могла продолжаться: уж очень напирали журналисты, фотографы и просто любопытные. Один зевака свалился с пристани на лодку, разбил несколько кувшинов и раздавил керосиновый фонарь.
И вот настал долгожданный день. «Ра» уже восемь дней впитывала морскую воду в порту, иначе говоря, минула половина срока, который ей отводили ученые-специалисты. Рассвет принес слабый ветер с суши, он постепенно усиливался, и в восемь утра 25 мая флаги на лодке и на старой португальской крепости дружно указывали на Атлантический океан. Раис Фатах, темнокожий араб могучего роста, руководитель профсоюза рыбаков и специальный консультант экспедиции, привел четыре лодки с шестнадцатью гребцами, которые должны были отбуксировать «Ра» в открытое море.
На длинном каменном пирсе творилось что-то невообразимое: народ – стеной, на всех лодках и кранах – фотографы. Супруге паши пришлось просить помощи у полиции, чтобы пробиться к лодке с прощальным даром, непоседливой обезьянкой, которую люди паши совсем недавно поймали в Атласских горах и назвали Сафи. Она отчаянно цеплялась за крестную мать нашего судна, пока не увидела шерсть на лице у некоторых членов команды; после этого Сафи весело прыгнула к нам и приняла самое активное участие в прощальной процедуре с объятиями и добрыми пожеланиями на двунадесяти языках, а рыбаки тем временем невозмутимо подали концы со своих лодок, закрепили их за толстый канат, опоясывающий «Ра» по ватерлинии, и ждали только приказа, чтобы налечь на весла. Один за другим мы вырывались из толпы на волю и прыгали с высокого пирса на мягкую папирусную палубу. Абдулла, Жорж и Сантьяго с южным пылом слали во все стороны воздушные поцелуи и раздавали автографы, Карло еще раз прижал к сердцу свою русоволосую жену, охрипший от простуды Норман простился с американским послом, который осыпал его напутствиями и добрыми пожеланиями, советский посол сердечно обнял Юрия, впервые пускающегося в путь без отечественного руководства и управления. Взяв в руки поданный кем-то микрофон, я произнес прощальную речь, поблагодарил наших друзей и помощников, которые остались на пристани, хотя по справедливости их место было на борту «Ра». Спасибо вам, посол Анкер из Каира, паша Амара с сотрудниками, капитаны де Бок и Хартмарк, преподаватель Корио, Герман Ватсингер, Фрэнк Таплин, Бруно Ваилати... Затем и я соскочил на пружинистую палубу. Сигнал Раису Фатаху, ребята на пристани отдали швартовы, и шестнадцать рыбаков навалились на весла. Часы показывали 8.30. Плавучий стог начал медленно удаляться от пирса.
И вдруг нас оглушил какой-то вой, в первую секунду мы вздрогнули от неожиданности, а потом почувствовали, как к горлу подкатывается клубок: все стоявшие в гавани рыболовные суда включили свои сирены, им вторили басовитые гудки заводов и портовых складов, звенели судовые колокола, кричали люди... А с грузового парохода, стоявшего на рейде, пустили сигнальные ракеты, они шипели и взрывались блестками, и звездный дождь медленно ложился на воду перед нами в пелене алого дыма. От таких почестей мы даже слегка оробели, а тут еще эта непривычная лодка, и необычные снасти, и два закрепленных наискось параллельных рулевых весла, какими люди не пользовались с тех пор, как последние из древних египтян, увековечив это устройство на стенах своих склепов, исчезли с лица земли вместе со своими судами. Вдруг древний механизм нам не покорится? Вдруг волны за молом разметают папирус, и нам придется вплавь добираться обратно к пирсу? А в гавани уже все пришло в движение, под звуки сирен и совсем новогоднего колокольного звона эскорт из рыболовецких шхун, парусных яхт и катеров вышел следом за нами за мол, в воздухе кружили прибывшие из марокканской столицы Рабата самолет чьего-то посольства и вертолет. Как только мы вышли из гавани, стало потише, зато здесь нас встретили океанские валы, и суда поменьше повернули назад, оставив нас и самые крупные шхуны наедине с океаном. Буксировавшие нас лодки отдали концы, и гребцы, выкрикивая добрые пожелания на своем языке, тоже укрылись за высоким молом.
И вот мы впервые поднимаем парус «Ра». Большой, тяжелый, из крепкой египетской парусины, 8 метров в высоту, 7 в ширину по верхней рее, сужающийся книзу – как у древних египтян – до 5 метров, то есть до ширины самой лодки. Тихое дыхание слабеющего ветра с трудом отрывало увесистую рею от двойной мачты. И бордовый парус с блестящим, кирпичного цвета солнечным диском, символизирующим «Ра», тоже почти не шевелился. Как будто разноцветное белье, висели над каютой в ряд наши флаги, по латинскому алфавиту: Чад, Египет, Италия, Марокко, Мексика, Норвегия, США и СССР, и по краям – оптимистический флаг Организации Объединенных Наций – белый глобус на голубом поле.
Мы с Абдуллой стояли на мостике, каждый у своего рулевого весла, озабоченно глядя то на обвисший парус, то на белые гребни прибоя в нескольких сотнях метров от нас. Кажется, приближаются?.. Точно. Мы засекли две линии: конец мола и башню на крепостной стене – и убедились, что лодку медленно несет к берегу. Пришлось подать конец на ближайшую шхуну, и вот мы полным ходом идем в море, а кругом чуфыкают моторами сейнеры. Но такая скорость не была естественной для «Ра». Сперва линь, на котором за бортом болталась сетка с живыми омарами, занесло за корму, и он обмотался вокруг одного из рулевых весел. Весло напружинилось, грозя сломаться. В последнюю минуту нож обрубил линь, весло было спасено, зато лакомое блюдо поглотили волны. Затем под напором воды переломилось одно из трех укрепленных вдоль борта толстых весел, играющих роль швертов, притом именно то весло, к которому Норман приладил нерв, призванный соединять нас с родными и близкими, попросту говоря, медную пластину, заземление нашей портативной радиостанции. Металл явно был чужеродным телом на упругой папирусной лодке, и весло переломилось как раз по краю медной обшивки, только провод не дал волнам унести лопасть.
Нет, так не годится. Ветер не ветер – надо обходиться своими силами. Мы остановили эскорт, выбрали все концы и снова подняли парус При этом нам бросилось в глаза, как сильно качает шхуны; наше плоскодонное суденышко, подобно своему предшественнику, бальсовому плоту «Кон-Тики», чуть покачивалось вверх-вниз на широких валах.
И вот родился ветер, сначала легкие, потом все более сильные и долгие порывы, но уже не со стороны суши. Вместо обычного в это время года норд-оста подул норд-вест, а он грозил прибить нас прямо к невысоким скалам, что тянутся к югу от тихой гавани Сафи. Берег был еще совсем близко, отчетливо видно не только дома, но и коварный прибой, беззвучно лижущий желто-коричневые камни там, где прокаленный солнцем фасад зеленых равнин Марокко отражал вечный напор океана. И нас туда выбросит, если мы не научимся управлять своим стогом...
Всю нашу семерку заботило, как действует рулевое устройство. Мы могли только гадать, научить нас было некому. Вся надежда была на то, что ветер и течение, господствующие у берегов Марокко, увлекут лодку в океан, и мы сможем неделю-другую экспериментировать, не опасаясь, что нас прибьет к скалам. Мы боялись берега, а не океана. Начни мы проводить испытания в море около устья Нила – могли бы очутиться на мели, так и не успев выяснить принцип действия рулевого устройства древних египтян. А здесь, в Атлантике, можно беспрепятственно заниматься экспериментами, ведь обычно стихии уносят всякие обломки в океан.
Мы поставили на «Ра» точно такое рулевое устройство, какое показано на многочисленных моделях и фресках древнейшей поры Египта. И даже, по примеру древних египтян, попытались достать для рулевых весел кедр из Ливана, но в бывшем царстве финикийцев осталось совсем мало кедра, да и тот в заповедниках. Пришлось нам для мачты довольствоваться египетским сенебаром (он похож на можжевельник), а на два 8-метровых весла пошло африканское дерево, которое марокканцы называют ироко, причем лопасти были такой ширины, что вполне можно сделать небольшой письменный стол. Эти весла укрепили наискось по бокам заостренного ахтерштевня «Ра». Нижняя часть веретена опиралась на лежащее поперек кормы тонкое бревно. Примерно в 4 метрах выше – вторая точка опоры, поперечный брус, который был отнесен подальше от кормы и служил также задним поручнем мостика. В поперечинах бруса были вытесаны и выстланы кожей желоба для веретен, и в этих местах весла туго привязали толстой веревкой, так что они в стороны не двигались, а только вращались вокруг продольной оси. Иначе говоря, ими нельзя было рулить так, как длинным рулевым веслом на плоту «Кон-Тики», ведь они были фиксированы в двух точках.
Как же они работали? В верхней части каждого веретена была привязана поперек рукоятка из крепкого дерева, своего рода румпель, и обе они соединялись между собой шестом, висящим горизонтально на веревочных петлях. Когда человек, стоя посередине, толкал этот шест в сторону, весла вместе поворачивались вокруг продольной оси, как будто параллельные рули. Это выглядело так замысловато и так непохоже на все, чем пользуются теперь разные народы, что, когда я в первый раз осторожно толкнул шест влево и «Ра» медленно, но послушно, как смирная лошадь, повернулась вправо, у ребят вырвался крик радости и облегчения. Я сейчас же толкнул рычаг в другую сторону – лодка не спеша повернулась влево.
Все правильно. Мы имели дело с рулевым устройством, которое исторически предшествовало рулю, было связующим звеном между элементарным рулевым веслом и современным рулем. В далеком прошлом египтяне обнаружили, что вовсе не обязательно толкать длинное тяжелое рулевое весло, чтобы заставить парусную лодку повернуть, достаточно крутить его вокруг своей оси, и лодка ляжет на нужный курс. Они прикрепили поперечину к рукоятке, и появилось рулевое устройство, такое, как на «Ра». Подвешенный к румпелям шест был только дополнительным усовершенствованием, чтобы рулевой мог действовать сразу двумя веслами. Дальше древним морякам оставалось убедиться на опыте, что лодка поворачивает и тогда, когда все весло поставишь вертикально и крутишь лопасть, – так они изобрели тот руль, который нам известен теперь.
Сияющий Абдулла, сын пустыни, тоже взялся за поперечный шест, в четыре руки дело пошло еще лучше, а на палубе хлопотали остальные – повинуясь указаниям Нормана, они тянули шкоты, ловя парусом переменчивый ветер. Журналисты и искушенные морские волки на снующих вокруг нас сейнерах внимательно следили за нашими первыми, робкими шагами. И кажется, они не меньше нашего обрадовались, когда выяснилось, что папирусная лодка слушается нас. Норд-вест норовил прибить «Ра» к берегу, но мы сумели лечь на курс под прямым углом к ветру и пошли правым галсом на юго-запад, параллельно суше.
Здесь нас уже не защищал мыс Бадуса, мощная океанская волна изрядно мотала рыбацкие шхуны, и так как на них сейчас было много непривычных к качке пассажиров, капитаны начали поворачивать назад. Одна за другой звучали прощальные сирены. Последней, кого я видел, была Ивон, она стояла, расставив ноги для устойчивости, и махала нам двумя руками. Вертолет уже исчез. За ним и самолет описал над нами последние круги.
И вот мы остались наедине с океаном. Семь человек, обезьянка, упоенно кувыркающаяся на вантах, и в деревянной клетке кудахтающие куры и одна утка. Теперь лишь океанские валы бурлили и шипели вокруг нашего мирного Ноева ковчега, я сразу стало как-то удивительно тихо.
После того как парус был поднят, шкоты и брасы надежно закреплены, Норман, пошатываясь, пришел на корму и признался мне, что чувствует себя очень скверно. Он был совсем бледный, глаза воспалены. Нетвердо шагая, – еще не освоил морскую походку – подошел Юрий, поставил ему градусник, и мы с ужасом услышали, что у Нормана температура тридцать девять. Грипп... И так как порывы морского ветра становились все холоднее, наш русский врач велел нашему американскому штурману немедленно идти в каюту и ложиться в спальный мешок. Единственный моряк в команде на время вышел из строя.
А ветер крепчал, и волны шли все чаще, но «Ра» спокойно приподнимала один борт и любезно пропускала под связками даже самые большие валы. Правда, удар, приходящийся на весла, порой был таким сильным, что они заметно гнулись, грозя сломаться, и я кричал Абдулле, чтобы он ослабил свою железную хватку.
В целом все шло хорошо, и у всех было превосходное настроение, даже у злополучного больного, хоть он и сетовал, что от него никакого проку. Карло, привыкший есть и спать в подвешенном состоянии, уже доказал, что никто на борту лучше него не вяжет узлы; теперь он заботливо подал нам горячий кофе и холодные куриные ножки. Он радостно доложил мне, что в море все равно что в горах: то же самое чувство слияния с природой, напряженное единоборство со стихиями, огромный душевный подъем, необходимость быстро находить решение неожиданных проблем.
Мы продолжали идти перпендикулярно ветру со скоростью около четырех узлов, и берег как будто не приближался. В 15.15 я сказал себе, что все в порядке, можно сдавать вахту следующей двойке. Карло и наш дзюдоист Жорж заняли место у руля, Абдулла отправился отдыхать в каюту, а я пошел вперед, посмотреть на носовую палубу, которая была настолько загромождена кувшинами, бурдюками и овощными корзинами, что пройти на нос можно было только по самому краю папирусного фальшборта. Перед пузатым парусом, прислонясь к клетке с птицей, сидел Сантьяго; он улыбался, любуясь видом на далекий берег. Измотанный почти семичасовой рулевой вахтой, я сел рядом с ним и позволил себе – впервые за много недель непрерывной горячки – расслабиться.
Мы не могли нарадоваться, видя, как легко наша лодка переваливает через любую волну, сколько бы та ни ярилась и ни бросалась на нас справа. До нас долетали только редкие брызги, и я растянулся на палубе, наслаждаясь приятной усталостью во всем теле. Вдруг мое блаженство было нарушено испуганным трио:
– Тур! Тур!
Не прошло и пяти минут, как я спустился с мостика... Я вскочил на ноги и, держась за край заполоскавшегося паруса, осторожно протиснулся мимо него назад, обуреваемый тревожными догадками. Навстречу мне, раскачиваясь, словно подвыпивший канатоходец, уже спешил Юрий, от волнения он говорил по-русски и лихорадочно жестикулировал, показывая на корму, а там из-за каюты торчали головы рулевых, которые, продолжали испуганно взывать ко мне.
Так, все на борту. А это самое главное, были бы все целы, остальное как-нибудь уладим. Жорж растерянно развел руками, а Карло крикнул мне по-итальянски, что сломались рулевые весла. Оба сразу! Одного взгляда было довольно, чтобы определить размах бедствия. Веретена переломились в самом низу, и широкие светло-коричневые лопасти всплыли, волочась за нами на буксире, будто доски для серфинга. А нам так расписывали прочность ироко... Хорошо еще, что мы, как это делали древние египтяне, привязали веревки к лопастям, чтобы весла не отходили назад. Мы поспешили вытащить из воды обломки, пока веревки не перетерлись. Карло и Жорж стояли каждый со своим веретеном, крути не крути – толку чуть.
Меня как будто ударили под ложечку.
– Что, будем возвращаться в гавань? – тихо выговорил Карло.
Все трое вопросительно смотрели на меня с выражением глубокого отчаяния на лице.
Я не успел ответить. «Ра» неторопливо повернулась, парус снова наполнился, и лодка как ни в чем не бывало сама пошла тем самым курсом, который мы так упорно ей навязывали. В ту же секунду я сообразил, что произошло, и сердце наполнилось ликованием. Это заработали два укрепленных вертикально весла впереди, играющие роль швертов. Поскольку мы остались без рулей, и на корме не было никакого подобия киля, ветер с моря толкал корму влево, а нос автоматически приводился к ветру, отворачивая от берега.
– Здорово! – крикнул я по-английски, стараясь вложить в этот возглас побольше радости, чтобы только что родившаяся у меня уверенность передалась ребятам, которые – не без основания – уже готовы были поставить крест на плавании через Атлантический океан.
Переполох на палубе заставил больного Нормана покинуть спальный мешок; он вылез из каюты как раз в ту минуту, когда раздался мой радостный крик, и нетерпеливо спросил, чему я так радуюсь.
– Здорово! – повторил я с энтузиазмом. – Оба рулевых весла сломаны, теперь мы можем идти дальше, управляя гуарами, как древние инки!
Норман ошалело воззрился на меня лихорадочными глазами, не зная, смеяться или плакать, остальные тоже пристально смотрели на руководителя экспедиции, пытаясь понять, то ли он потерял рассудок из-за аварии, то ли знает какое-то секретное индейское чародейство. Скорее последнее, ведь «Ра» лучше прежнего держала курс, об этом говорил и компас, и угол между форштевнем и берегом. Карло долго изучал мое лицо, наконец грусть исчезла из его голубых глаз, и он расхохотался. Тут и Абдулла проснулся, и вот уже мы все вместе стоим и смеемся, восхищаясь лодкой, которая сама собой управляла, и никаких хлопот, знай посиживай на корзинах. Компасная игла осталась в одиночестве на мостике, лежа в своем котелке, она диктовала курс зюйд-вест, а нам как раз туда и надо, и «Ра» с наполненным парусом послушно шла на юго-запад среди сердито шипящих волн, предоставляя нам наслаждаться ролью пассажиров.
– Вот теперь мы все равно что потерпевшие кораблекрушение, – признался я своим товарищам и, чтобы не сбивать их окончательно с толку, поспешил добавить, что это идеальный случай для моего эксперимента, как раз то, что грозило судам такого рода, если они, пройдя Гибралтар, направлялись дальше вдоль берегов Марокко. Теперь мы точно выясним, куда их заносило в итоге.
Сияющий Карло не переставал смеяться, покачивая головой. Да, тут самое лучшее – положиться на природу, стихии сами обеспечат доставку. На палубе лежало запасное весло, но оно было единственное, и мы решили не ставить его: чего доброго, сломается раньше, чем начнется по-настоящему наш рейс через Атлантику. И уж во всяком случае это хваленое ироко надо основательно укрепить, перед тем как подвергать весло напору волн.
Под вечер Юрий выбрался из каюты с озабоченным видом и объявил, что теперь у нас два пациента с постельным режимом. Сантьяго третий день жаловался на зуд в паху, а морской воздух, видимо, вызвал обострение, у него во многих местах сошла кожа, и он предполагал, что это неприятная болезнь тинья, которую он наблюдал на Канарских островах, куда нас несло течение. Юрий опасался, что догадка Сантьяго может подтвердиться, ведь тинья широко распространена в Северной Африке.
С наступлением ночи мы увидели огни пароходов, одни шли навстречу, другие обгоняли нас, и некоторые проходили в опасной близости, так что Карло влез на качающуюся мачту и укрепил на верхушке керосиновый фонарь, чтобы кто-нибудь ненароком не подмял наш стог сена. Ночную вахту поделили между собой Италия, Египет и Норвегия, у Советского Союза был полон рот хлопот с США и Мексикой, а столяру из Чада не мешало, на наш взгляд, хорошенько выспаться, чтобы он на следующий день мог взяться за починку рулевых весел.
Ветер пугал нас коварными порывами то с норд-веста, то с вест-норд-веста, и я следил за мигающим на берегу маяком, пока он не пропал из виду. Тьма кромешная, штурман лежит в жару, и я не решался сомкнуть глаз, потому что у нас оставался только один способ определять расстояние до берега – высматривать огни во мраке. Каждый пароход, который появлялся прямо по курсу или с левого борта, заставлял сердце учащенно биться: что это – свет окон на берегу, нас уже несет на камни, или всего-навсего другие странники морские? И только когда различишь красные или зеленые габаритные огни, душа становится на место, особенно после того, как убедишься, что пароход пройдет стороной. Чем просторней кругом, тем спокойней.
Но вот небо на востоке зарумянилось, земли не видно, и я пошел поднимать Юрия на вахту, хотя на мостике ему сейчас нечего было делать. Он вышел, улыбаясь и поеживаясь от утреннего холодка, одетый так, что хоть в Антарктику, сел этаким медведем у входа в каюту и набил себе трубку, а остальная шестерка уютно устроилась в спальных мешках, предоставив папирусным связкам плыть по собственному разумению. Вероятно, не только я после двадцати четырех часов предельного напряжения был настолько измотан, что сразу уснул, не успев оценить по достоинству ершистый нрав нашей плетеной каюты, которая изо всех сил старалась перескрипеть, перекряхтеть, перетрещать и перевизжать папирус.
Первые сутки на борту «Ра» были позади.
Глава 8
Вдоль берегов Африки до мыса Юби.
На птичьем гнезде – в океан

Кукареку! Пахнет свежим сеном. Я в деревне. Да нет, какая деревня – меня куда-то несут на качающихся носилках. Я очнулся в спальном мешке и услышал, как подо мной булькает вода и прямо в ухо шипят волны. Ну конечно. Я на лодке. Я открыл глаза и сквозь щелеватую бамбуковую стенку увидел свинцовые океанские валы. Да ведь я на «Ра»! А сеном пахнет от наших матрасов, набитых марокканской травой.
Кукареку! Опять, это уже не сон, и я метнулся на четвереньках к выходу, проверить – не иначе, рядом берег, сейчас мы в него врежемся. Сколько хватало глаз, были видны только курчавые гребни воли; но вид вперед заслонял изогнутый луком бордовый парус, который увлекал нас по волнам. Из-за паруса доносилось сквозь плеск воды неистовое кудахтанье, а вот опять петух прокукарекал. Все правильно, это наш собственный птичник на носу. Облегченно вздохнув, я в одних трусах вылез из каюты. Ну и холодина. Юрий сидел на мостике закутанный, как эскимос, и что-то писал.
Видимо, мы ушли далеко в море: дул леденящий северный ветер, бурлящие гребни вздымались на высоту 3-4 метров, и даже с верхушки мачты, в какую сторону ни посмотри, был виден только зубчатый стык между океаном и небом.
– Где мы находимся? – спросил Юрий.
– Здесь, – ответил я и поглядел на распростертое тело в каюте, в котором вирусы-микробы яростно отбивались от пилюль.
Один штурман умел пользоваться секстантом. Я умел только дрейфовать на плотах. Черт его знает, где мы находимся. И вообще, сейчас важнее всего надеть свитер и штормовку.
Из тесного прохода между парусом и передней стенкой каюты, заглушая плеск волн и разноголосый скрип, вдруг донесся развеселый свист. Из-за бамбуковой плетенки выглянуло бородатое румяное лицо Карло.
– Кушать подано! Горячий чай каркаде а ля Нефертити и Тутанхамоновы лепешки с медом!
Проснулся Абдулла и растормошил своего африканского соседа Жоржа. Голодная команда окружила Карло, он накрыл на крыше курятника, и мы заняли места, кто на кувшине, кто на мешке с картофелем, кто на бурдюке с водой. Ничего, наведем порядок на палубе и устроимся поуютнее, только бы наладить сперва эти рулевые весла.
– Где мы находимся? – спросил Жорж.
– Здесь, – откликнулся Юрий, идя к больным с двумя кружками горячего каркаде.
– Африка все еще там, – добавил я, очерчивая взмахом руки горизонт слева. – Будут еще вопросы?
– Да, – сказал Жорж. – Интересно, как эти мужики в древности определяли в море свое место без секстанта и компаса?
– Восток и запад они могли найти по солнцу, – объяснил Карло, – а север и юг – по Полярной звезде и Южному кресту.
– А широту они могли определить по углу между горизонтом и Полярной звездой, – добавил я. – На Северном полюсе он равен девяноста градусам, а на экваторе Полярная звезда стоит над самым горизонтом. На шестидесятом градусе северной широты угол между ней и горизонтом – шестьдесят градусов, на тридцать втором – тридцать два. Увидел Полярную звезду – можешь прямо по ней узнать свою широту. Долготу финикийцы, полинезийцы и викинги определяли приблизительно, исходя из скорости и пройденного пути, но тут невидимое течение всегда вносило элемент неопределенности, когда берег скрывался из виду.
У себя в Каире Жорж видел в музее приборы, которыми его соотечественники много тысяч лет назад измеряли угол небесных тел, и он знал, какую роль играли Солнце и Полярная звезда в их астрологических и архитектурных вычислениях. По Солнцу, Луне и наиболее известным созвездиям всегда можно узнать, куда нас несет. К тому же я решил смастерить самоделку, которой можно определять широту без современных навигационных инструментов.
Красный египетский каркаде, похожий на горячий вишневый морс, освежал и бодрил. Рассыпчатые египетские лепешки напоминали плоские сдобы: с медом, без меда – мы в жизни не ели лучшего провианта. Перед началом нового трудового дня мы зашли в каюту пожелать скорейшей поправки нашим прихворнувшим товарищам. Норману было очень худо, однако ни он, ни Сантьяго не вешали носа. Для Сантьяго все осложнялось тем, что из-за влажности воздуха на «Ра», где считанные сантиметры отделяли нас от воды, одежда, спальные мешки и одеяла постоянно были липкими и солеными. Он страдал от потертостей, и малейшее движение причиняло острую боль. В общем, эта двойка задала работу Юрию. И уж наверно им, обреченным на безделье, несладко было лежать и слушать грохот и душераздирающий визг и треск, которым отзывались папирусные связки, когда очередной могучий вал заставлял их сгибаться, извиваться и дергать многочисленные веревки. Порой казалось, что под ящиками Нормана кто-то одновременно разрывает в клочья сто тысяч воскресных выпусков «Нью-Йорк Таймс».
На плетеном полу каюты стояло шестнадцать деревянных ящиков – на каждого члена экипажа по два, да еще в двух ящиках хранилась радиоаппаратура и навигационные инструменты. Папирус изгибался на волнах, как банановая кожура, упругий пол повторял движения связок, и такие же кривые выписывали ящики, сенные матрасы и спина с ягодицами или же плечо и бедро, смотря по тому, какую позу вы изберете. Так и кажется, что лежишь на спине морского змея.
Да и снаружи колебания палубы «Ра» были не менее заметны. Смотришь с кормы вперед и видишь, как желтый фальшборт выгибается согласно с волнами, а если вытянуться так, чтобы разглядеть за парусом высокий заостренный форштевень, видно, что и он то мерно поднимается вверх вместе с носовой палубой, как будто хочет обозреть даль над гребнями, то снова опускается, и только самая верхушка торчит над курятником. Наша «Ра» напоминала морское чудовище, которое плывет, шумно дыша и извиваясь всем своим могучим телом, и шипит, кряхтит, скрежещет, словно хочет криком разогнать все рифы и барьеры на своем пути.
Но всего чуднее было смотреть на двуногую мачту с большим парусом – как будто огромный спинной плавник двигался взад-вперед, послушный мощным мускулам «Ра». То больше метра отделяет ее от каюты, перед которой Карло сложил кухонные ящики, то просвет сузится настолько, что поглядывай, как бы тебе не прищемило ступню полом каюты или мачтовой пятой; ведь мачта, каюта и мостик были привязаны к гибкой палубе веревками и качались независимо друг от друга. А без этого мы и одних суток не продержались бы на воде. Если бы мы не выполнили в точности все древние правила, если бы скрепили мостик гвоздями, сколотили каюту из досок или привязали мачту к папирусу стальным тросом вместо веревок, нас распилили бы, разбили, разорвали в клочья первые же океанские волны. Именно гибкость, податливость всех суставов не давала океану по-настоящему ухватиться за мягкие стебли папируса и сломать их. И все же в первый день я слегка оторопел, когда наш столяр Абдулла, вооружившись метром, показал, как настил мостика то отходит от каюты сантиметров на двадцать, то прижимается к ней так плотно, что можно и без пальца остаться. Словом, пока не освоился, лучше быть начеку и глядеть в оба. Но что станется с нашим бумажным корабликом через неделю-другую, если он уже на второй день проявляет такую расхлябанность на волне?
По опыту «Кон-Тики» я еще до старта знал, что самое опасное – если кто-нибудь упадет за борт. Мы не сможем повернуть и возвращаться против ветра; во всяком случае пока что наш скудный опыт исключает возможность такого маневра. И даже очень хороший пловец не догонит нас, борясь с волной. Между стояками мостика на корме была привязана пенопластовая спасательная лодка на шесть человек, но она предназначалась для аварийных случаев, и, чтобы спустить ее на воду, надо было сперва разломать мостик, для этого рядом висел топор. К тому же и этот квадратный плотик не догонит «Ра», мы будем дрейфовать порознь. Отсюда правило номер один: держись на борту. Никуда не ходить без страховочного конца. Карло Маури каждому выдал двухметровую веревку с крюком, какими пользуются альпинисты, чтобы не свалиться в пропасть, и за пределами каюты мы всегда передвигались с веревкой вокруг пояса, цепляясь крюком когда за найтовы, когда за ванты, когда за остов мостика.
Не боясь стать смешным, я упорно настаивал на том, чтобы это правило выполнялось в любую погоду, и напоминал, как Герман Ватсингер очутился за бортом «Кон-Тики» и в последнюю минуту был спасен Кнютом Хаугландом. Аквалангист Жорж и житель Центральной Африки Абдулла никак не могли уразуметь, что страховаться надо всегда, а не только когда один несешь ночную вахту или висишь на кормовой поперечине, занятый сугубо личным делом. В конце концов Жорж понял, как это важно для меня, и покорился, но Абдуллу я и на второй день застал стоящим без страховки на бортовой связке. Стоит и поет, а веревка болтается сзади, как хвост.
– Абдулла, – сказал я, – это море больше всей Африки и в тысячу раз глубже озера Чад, где Жорж может нырнуть и достать дно.
– Ух ты, – восхищенно произнес Абдулла.
– И здесь полно рыб, которые едят людей, они больше крокодила и плавают вдвое быстрее.
– Ух ты, – смышленый Абдулла всегда был рад узнать что-то новое.
– Как ты не понимаешь: если ты упадешь в море, то утонешь, тебя сожрут, ты никогда не увидишь Америки!
Лицо Абдуллы озарилось широкой покровительственной улыбкой, и он ласково положил мне на плечо свою ручищу.
– Это ты не понимаешь, – сказал он. – Погляди-ка!
Он завернул край толстого свитера, обнажая плотно набитый черный живот. Поперек живота тянулась веревочка, с нее сзади свисали на крестец четыре кожаных мешочка.
– С этим мне ничего не страшно, – заверил он меня. Кожаные мешочки ему дал отец, а наполнял их один чадский шаман.
Судя по тому, что я видел на рынке в Боле, в мешочках лежали когти леопарда, крашеные камушки, семена и засушенные растения. Абдулла с таинственным видом опустил свитер и победоносно кивнул. Теперь я спокоен? С Абдуллой никогда ничего не может случиться. Но чтобы порадовать меня, он тоже обещал страховаться.
В первое же утро Абдулла испытал серьезное потрясение: он прибежал ко мне и сообщил, что в воду попала соль. Вся вода соленая. Как это могло получиться? Я не на шутку встревожился. Из каких кувшинов он пил?
– Да нет, не в кувшинах, там! – Абдулла показал на море.
До сих пор он не подозревал, что море соленое. И когда я объяснил ему, что мы всю дорогу от Африки до Америки будем идти по соленой воде, он недоверчиво осведомился, как же могло попасть в море столько драгоценной соли. Мое геологическое пояснение совсем убило его. Ведь Сантьяго говорил, что воду надо беречь, каждому тратить в день не больше литра, но ему нужно в пять раз больше, он должен мыть руки, ноги, голову и лицо перед тем, как молиться аллаху, а молиться положено пять раз в день.
– Для омовения можешь пользоваться морской водой, – сказал я.
Но Абдулла уперся. Его вера требует использовать для омовения чистую воду. А эта с солью.
Не успели мы разрешить соляную проблему, как на Абдуллу обрушилась еще одна напасть. Жорж извлек сонную Сафи из картона, где она ночевала, и от радости обезьянка напрудила на матрас Абдуллы. Увидев лужицу, бедняга окончательно пал духом. Это обезьяна сделала? Правоверный, чью одежду осквернила собака или обезьяна, сорок дней не может молиться аллаху! Абдулла в отчаянии вращал глазами. Сорок дней без покровительства аллаха!
Жорж спасительной ложью избавил душу Абдуллы от угрызений. Никакая это не обезьяна, просто с моря брызнуло. Абдулла предусмотрительно решил поверить, не донюхиваясь до истины. А я заверил, что обезьяна все равно получит штанишки, и ей никогда не позволят сидеть на матрасе Абдуллы.
– Абдулла, – продолжал я, – тебе вот нужна вода для молитвы, а ты хоть раз подумал, сколько обезьян и собак живет по берегам водоемов Чада? Здесь ты на сотни миль не увидишь ни одной собаки, а мелкие грехи Сафи остаются далеко за кормой. Нигде на свете ты не найдешь такой чистой воды, как в океане.
Абдулла выслушал меня, поразмыслил. И вот уже он изучает морскую воду в парусиновом ведре. Наконец началось омовение. Оно совершилось в лихорадочном темпе и с ловкостью фокусника. Затем Абдулла поднялся на мостик, и Юрий помог ему определить по компасу примерное направление на Мекку. С непосредственностью глубоко верующего человека он, лицом к востоку, опустился на колени у выхода из каюты и принялся отбивать поклоны на своем матрасе. Потом достал четки и начал отсчитывать молитвы. Они сыпались из него, как горох, но он держался так искренне, что мы все – копт, католик, протестант, атеист, пантеист, – невольно с уважением смотрели на такую убежденность. Да, кого только не было в нашем маленьком коллективе! После того как Абдулла очистился телесно и духовно, мы, стоя на мостике, попытались с помощью ножа и сверла прикрепить отломившуюся лопасть к веретену. У Абдуллы было отличное настроение, он пел что-то центральноафриканское и приплясывал. Мы обмотали весло веревкой, тут и Карло помог своими альпинистскими узлами, и дело уже шло к концу, когда налетевшие с разных сторон шквалы вывернули парус. И так как мы без руля не могли развернуть лодку, ветер изо всей силы обрушился на широкий парус спереди. Тяжелая 7-метровая рея яростно колотила по мачте вверху, грозя ее сломать, а широченный парус бешено метался во все стороны, норовя сам себя распороть. Он опрокидывал фруктовые корзины, цеплялся за курятник, и куры исступленно кудахтали, заглушая наши команды. Вдруг одна корзина с провиантом поплыла у нас в кильватере своим ходом. Один лишь завхоз Сантьяго знал, что в ней лежит, но он сам лежал в каюте со своими списками, Юрий чуть не силой удерживал его и Нормана в постели.
Стоя на мостике, я попробовал руководить поединком с 8-метровым парусом. Трудно человеческому голосу противостоять шквалам, которые относят его вдаль над бурлящими гребнями вместе с хлопаньем, треском и скрипом парусины и папируса. О том, чтобы спускать парус, теперь не могло быть и речи, его тотчас унесло бы, как воздушного змея. Надо было вернуть лодку на правильный курс, маневрируя парусом и корпусом. Опирая обычное весло о торчащий папирусный хвост, богатырь Жорж принялся выгребать корму к ветру. Отдали плавучий якорь, этакий брезентовый зонт на длинной веревке – лучшее средство погасить ход и развернуть корму. Стрелка компаса начала медленно поворачиваться, а я сражался со строптивым шкотом, который хлестал меня и норовил сдернуть за борт, не давая мне закрепить его за мостик, и одновременно следил за правильным размещением и страховкой моей малочисленной команды. Стараясь перекричать гул ветра, я отдавал команды по-французски Абдулле, по-итальянски Карло, по-английски Юрию, по-итальянски, по-английски или по-французски Жоржу, хотя, по правде сказать, не знал даже, как называются на моем родном языке веревки, которые надо было тянуть, и мое восхищение догадливостью интернационального отряда сухопутных крабов росло с каждой минутой.
Наконец наш драгоценный парус был спасен, шкоты закреплены, все гребные весла установлены около кормы и носа на манер индейских гуар, плавучий якорь поднят на палубу и воцарился относительный порядок. Мы получили небольшую передышку, и я решил использовать ее, чтобы, на случай повторения подобной ситуации, когда каждая секунда дорога, разучить короткие и всем понятные обороты. В промежутках между шквалами сквозь щелеватую стенку из каюты доносились обрывки добрых советов, которые подавал нам слабым голосом больной Норман. Он еще раньше пытался обучить нас важнейшим морским командам на английском языке, чтобы мы знали, когда выбирать, потравить или крепить гордень, служащий для подъема паруса, брасы, вращающие рею в горизонтальном направлении, и шкоты, притягивающие к бортам нижние углы паруса. Но, так как трое из оставшихся в строю ребят плохо понимали на слух английский, никогда нельзя было предугадать, что последует, если я крикну Юрию или Карло: «Пулл ин старборд такк!» Или скомандую Абдулле: «Лет гоу порт сайд шит!».
Не успели запыхавшиеся, но довольные победители собраться на мостике, чтобы придумать несколько кратких команд в духе эсперанто, как наш грот снова угрожающе захлопал, и хотя на сей раз все молниеносно оказались на местах, ветер опять успел развернуть парус и лодку. Раз за разом повторялось одно и то же. Мы продолжали дрейфовать прежним курсом, но задним ходом, и рея с парусом беспорядочно дергались. Каждый раз нам в конце концов удавалось наполнить парус ветром и спасти рею, хотя иногда для этого приходилось выносить парус на левый борт, вместо правого, и лодка естественно, шла почти перпендикулярно тому курсу, который был нам нужен, чтобы не столкнуться с сушей.
И вот нас опять – сколько можно! – несет полным ходом к берегу Африки, и мы гребем, выбираем шкоты, возимся с плавучим якорем, в борьбе с бушующими волнами переставляем весла-гуары, силясь вернуться на верный курс. Но без больших рулевых весел «Ра» категорически не признавала половинчатых решений. Парус увлекал ее либо на юго-восток, либо на юго-запад, и как только своенравный шквал разворачивал нас носом на юго-восток, незримые берега Африки неумолимо приближались. Карло то и дело взбирался на макушку качающейся мачты, но земли, к счастью, не было видно. Что ж, это еще ничего не значит, ведь отступив на восток к югу от Сафи, берег потом опять выдается на запад.
Только укротим парус, вынеся его на борт, как ветер опять зайдет с другой стороны, и парусина начинает дергаться с такой силой, что знай упирайся покрепче, чтобы не вылететь за борт. Один головной убор за другим оказывался в море, особенно жалко было яркую тюбетейку Абдуллы, она как бы стала частью его самого. Зато теперь каждый, перейдя на другое место, тотчас автоматически страховался, у обезьянки тоже была своя веревка, и она лихо раскачивалась на вантах вниз головой, да и куры были надежно защищены брезентом в своей клетке, которую мы принайтовили к палубе подальше от паруса.
С каждым часом шквалы становились все яростнее, грозя оставить нас без такелажа. Надо убирать парус, пересиливая ветер. Другого выхода нет.
Три человека взялись за брасы, чтобы притянуть рею с парусом к палубе, но не успели двое других раскрепить фал, как налетел новый шквал, и тяжеленный парус заполоскался над морем, будто флаг. На левом борту Юрий и Абдулла прилагали отчаянные усилия, чтобы поймать снасти, которые вырвались из рук и теперь болтались над волнами. Тем временем наша тройка судорожно цеплялась ногами, чтобы нас не сдернули за борт правые снасти, ведь теперь только они могли спасти парус и не дать ему навсегда исчезнуть в волнах. Мачта и ванты угрожающе скрипели, а папирусные связки накренились с жалобным скрипом так сильно, что мы впервые почувствовали, что кажется и эта чудо-лодка способна опрокинуться. Одно несомненно: никакой другой парусник пятнадцатиметровой длины не устоял бы против такого мощного напора, разве что мачта сломалась бы.
Дюйм за дюймом мы подтягивали рею и парус, но часть парусины лежала на волнах, в складках собралось немало ведер воды, и, силясь вырвать эту тяжесть из хватки океана, мы сшибли еще одно из наших драгоценных весел. Оно исчезло в воде, потом вынырнуло и закачалось на волнах за кормой – попробуй, поймай.
– До свидания в Америке! – крикнул ему Карло. – Только мы придем туда раньше!
Так как рея была на два метра шире палубы, пришлось нам складывать мокрый, тяжеленный парус вдоль левого борта «Ра». Вымотанные, как после двадцати раундов бокса, мы торжествующе уселись на него верхом, чтобы обуздать строптивого бордового птеродактиля, который снова и снова начинал корчиться, когда порывы ветра накачивали воздух в складки. В конце концов мы надежно скрутили чудовище.
И сразу на борту воцарилась неожиданная тишина. Слышно было только безмятежное мерное поскрипывание, оно говорило о том, что океан усыновил папирусную лодку «Ра», эту колыбель с семеркой беспокойных близнецов, которых надо было поскорее убаюкать, пока они не натворили бед – того и гляди опрокинут колыбельку. «Ра» опять шла так, как ей хотелось, и при этом не грозила больше врезаться вместе с нами в береговые утесы.
Я посмотрел на Карло. Он улыбнулся. Потом прыснул. Потом громко расхохотался. Остальные тоже уставились на него.
– Теперь у нас ни паруса, ни рулевых весел. Лодка больше не подчиняется воле человека. Теперь природа распоряжается. Надо только перестать с ней воевать, и можно спокойно передохнуть и прийти в себя.
Мы осмотрелись кругом. В самом деле, полнейший порядок. Покачиваемся в папирусном гамаке без руля, без паруса, без мотора и без хлопот, могучее океанское течение несет нас туда, куда ему надо, и нам надо туда же. Абдулла ушел в каюту и лег там, держа возле уха карманный транзистор. Жорж решил заняться рыбной ловлей. Юрий съел апельсин и пошел за медицинским спиртом, чтобы настоять его на корках, Карло начал рыться в мешках и корзинах, подыскивая сырье для плотной трапезы. Сантьяго, стараясь не тревожить свои болячки, смирно лежал в каюте со списком в руках и выкрикивал номера кувшинов с водой, финиками, яйцами, оливками и кукурузой для кур. Я взял нож, чтобы выстругать прибор для измерения широты. Тут Норман не выдержал.
– Ребята, нам здесь хорошо, – простонал он. – А каково тем, кто дома остались. Мы обещали вчера выйти в эфир. Надо сообщить им, что у нас все в порядке, не то подумают, что мы уже на дне.
Юрий был с ним вполне согласен и помог ослабленному температурой Норману отвернуть матрас, снять крышку с ящика в ногах и вытащить маленькую аварийную радиостанцию с ручным генератором. Вскоре радио Сафи откликнулось на вызов Нормана и услышало, что оба рулевых весла сломаны, но у нас все хорошо, и мы идем дальше через Атлантику. Заодно Норман передал, что мы не обещаем регулярных сеансов связи, потому что весло с заземлением сломалось и лежит на палубе. Если просто так спустим медную пластину за борт, она нам перепилит и веревки, и папирус.
После сеанса Норман бессильно опустился на матрас, и Юрий убрал радиостанцию, а Карло принес больному горячее питье.
Жорж никакой рыбы не поймал, но его осенила идея. Что если взять рифы на парусе? При таком ветре даже лоскут заметно прибавит нам ходу. Парус был сшит так, что мы могли во время усиливающегося ветра уменьшить его площадь и на одну, и на две трети. Мне понравилось предложение Жоржа, и Норман вяло кивнул в знак согласия. Хорошенько подкрепившись по примеру древних соленой колбасой и свежими овощами, мы снова вышли впятером на палубу и ценой невероятных усилий развернули рею с намокшим парусом поперек палубы, так что она торчала на метр с каждой стороны. Не простое это дело – брать рифы на парусе при ветре от свежего до очень крепкого, но общими силами мы с ним справились – расстелили парус на курятнике и корзинах, придавливая его собственным весом, и свернули, оставив лишь верхнюю треть. Велика была наша радость, когда узкое полотнище на верхушке мачты наполнилось ветром. Выбрав плавучий якорь и закрепив малые весла, мы понеслись по гребням на юго-запад, торжествуя новую победу над стихиями.
Прошло четверть часа, второй день нашего плавания был в разгаре, вдруг на парус обрушился новый шквал. Услышав, как тяжелый свиток мокрой парусины с маху, будто кувалдой, ударил жесткой реей по верхушке мачты, мы все, как один, бросились к шкотам. Второй удар – казалось, мачта жалобно вскрикнула, и у нас сердце сжалось, когда этот крик перешел в жуткий треск, который пронизал нас до мозга костей. Мы посмотрели вверх и увидели, как наша рея, единственная и незаменимая рея, на которой держалась парусина, медленно поникла плечами, и парус съежился, как будто сложила крылья летучая мышь. Острые щепки на изломе торчали, словно когти. Пришлось все спустить, пока эти когти не распороли парус. Шел второй день нашего пребывания в море. Второй день.
Едва погибшая рея и парус упали на палубу, как «Ра» снова стала смирной и послушной, магические папирусные связки продолжали извиваться по волнам в нужную нам сторону, точно укрощенный морской змей.
– Что я говорил, – удовлетворенно сказал Карло и полез в свой спальный мешок.
Абдулла отправился на корму, чтобы совершить омовение рук и ног перед очередной молитвой аллаху. Юрий, посмеиваясь, сел с трубкой и дневником в дверях каюты, я примостился рядом с ним и снова принялся стругать деревяшку.
– Все в порядке? – осведомился Сантьяго, высунув нос из спального мешка.
– Все! – дружно ответили мы. – Полный порядок. Все, что можно было сломать, сломано. Остался один папирус.
Остаток дня мы мирно провели в каюте, слушая, как воет ветер. И хотя мы в этот день не видели ни одного корабля, все-таки разделили ночь на вахты, ведь здесь проходил маршрут торговых судов. То и дело кто-нибудь лез на мачту высматривать огни. Столкновение с пароходами или береговыми утесами – единственное, чего мы страшились.
В 0.30 меня разбудил Карло. Наклонившись надо мной с керосиновым фонарем в руках, округлив испуганные глаза, он доложил шепотом, что слева по борту вдоль всего горизонта видно огни. Сильный норд-вест гнал нас боком как раз туда. Я лежал одетый – обвязался страховочным концом и пошел на палубу. Было облачно, дул студеный ветер умеренной силы. Сквозь черноту ночи я и в самом деле прямо по нашему курсу разглядел на горизонте огни – четыре очень ярких, пятый послабее. Берег Марокко, что же еще. Карло уже сидел на макушке качающейся мачты. Как быстро приближаемся. Я поднял остальных трех здоровых членов команды. Надо что-то делать, надо грести, чтобы не погибнуть на камнях.
Вдруг Карло, да и мне показалось, что один из огней зеленый. Еще один зеленый, красный. Это не земля! Прямо на нас шла флотилия рыболовных судов! Продрогшие ребята опять забрались в спальные мешки. Вскоре перед носом «Ра», качаясь на волне, прошли три сейнера. Четвертый, застопорив машину, лег в дрейф бортом к нам, так что нас несло прямо на него. Я осветил фонариком каюту и папирус и стал семафорить: «Ра ОК, Ра ОК». Сейнер включил двигатель и в последнюю минуту ушел в сторону, мы едва не врезались в него. На его топе замелькали какие-то непонятные сигналы, потом он исчез во мраке.
Жорж, закутанный в штормовку и одеяла, будто мумия, заступил на вахту, а я лег. Даже хриплое карканье сотен тысяч скрученных веревками стеблей папируса не могло заглушить полного искренней радости пения сына Нила, которое вместе с ветром проникало в каюту через плетеную стенку – единственную преграду между нашей уютной обителью и окружающим нас суровым миром.
Рассвет возвещает наступление нашего третьего дня в море, и по-прежнему облачно. Ветер потише, но волны беснуются пуще прежнего. С удовлетворением отмечаем, что исступленно пляшущие волны только поднимают нас вверх. Океан нес лодку, будто мяч на вытянутой руке, и даже самые коварные гребки не могли окатить нас водой. На груз не попадало ни капли.
Идя без руля и без паруса, не видя берега, не зная своей позиции, мы провели третий день спокойно, закончили ремонт одного рулевого весла и укрепили середину длинного бруса, которому предстояло заменить сломанную рею.
Готовясь к молитве, Абдулла начал мыть свою бритую голову, и вдруг я услышал возмущенный хриплый крик.
Кто сказал, что море чистое! А это что, чем он вымазал себе голову, кто набезобразничал?
В парусиновом ведре Абдуллы плавали большие и маленькие черные комки. Мы посмотрели за борт. Сотни таких же комков. И с одной, и с другой стороны. Мягкие, похожие на асфальт. Прошел час, а кругом все так же густо плавает грязь. Видно, какой-нибудь танкер чистил цистерны. Мы поднялись на мачту, но не увидели виновника, и однако весь день волны несли черные комки.
Во второй половине дня мы обогнали большую луну-рыбу, которая нежилась у поверхности, а затем нас навестило около сотни дельфинов, они резвились и выскакивали из воды, затеяв веселую пляску на радость Абдулле, потом вдруг исчезли так же неожиданно, как появились.
На четвертый день стало потеплее и потише, между тучами проглянуло солнце. Мы долго видели вдали отчетливые голубые контуры двух горбатых вершин на материке. Сантьяго чувствовал себя скверно, зато Норман пошел на поправку, температура упала, и Юрий разрешил ему подняться и взять высоту солнца. Но так как у нас не было хронометра, а радио Сафи наш приемник уже не брал, мы не знали точного времени и не могли верно вычислить наши координаты, что немало беспокоило Нормана и Сантьяго. Первый объяснил, что, раз мы по-прежнему видим материк, нам не удастся обогнуть Канарские острова с севера, а мы войдем в опасный проход между островом Фуартевентура и мысом Юби на западе Африки. Сантьяго (он в детстве жил на Канарских островах) подтвердил то, о чем говорилось в справочниках Нормана; мыс Юби – гроза всех моряков, коварное жало этой песчаной косы дотягивается до течения как раз там, где берег Африки сворачивает на юг.
Мы сидели и ели на свернутом парусе, вдруг раздался радостный крик всевидящего Абдуллы, который уже проглотил свою порцию.
– Гиппо! Гиппо! – Он поправился: – Гиппопотам!
Мы посмотрели туда, куда он показывал и через минуту они опять медленно всплыли – два здоровенных кита, которые лениво глядели на нас своими маленькими глазками и громко фыркали, извергая дыхалом струю воздуха с водяной пылью. В Чаде Абдулла никогда не видел таких огромных бегемотов, так что этого впечатления ему хватило на целый день. Услышав, что на свете есть млекопитающие с рыбьим хвостом, он не поверил своим ушам, но тут один кит вежливо махнул нам хвостом на прощание, и Абдулла лишился языка от удивления: до чего же аллах горазд на выдумку!
Утро пятого дня встретило нас пронизывающим северным ветром и сильной волной. Мы надели все, что везли с собой, и все равно у Абдуллы зуб на зуб не попадал. Пятые сутки океанские валы непрерывно штурмовали правый борт «Ра» – так и должно быть, ведь весь наш путь пролегал в зоне северо-восточного пассата. Недаром мы вход в каюту сделали с противоположного, левого борта, зная, что он будет подветренным. Больше того, мы сдвинули каюту к правому борту и там же сосредоточили основную часть груза, чтобы ветер, наполняющий огромный парус с этой стороны, не мог опрокинуть лодку. На парусном судне положено нагружать тяжелее наветренный борт – это было известно и нам, и всем тем, кто нас консультировал. Однако уже с пятого дня мы на собственном горьком опыте начали убеждаться, что папирусная лодка в этом смысле отличается от других судов: это единственный парусник, у которого надо тяжелее нагружать подветренный борт. Потому что с наветренной стороны папирус выше ватерлинии из-за волн и брызг впитывает не одну тонну воды, тогда как противоположный борт над ватерлинией остается сухим. Мало-помалу вес воды, абсорбированной наветренным бортом, возрастает настолько, что судно начинает крениться к ветру, а не от ветра, как обычно.
Передвигать каюту на середину было поздно. Ее привязали к папирусу крепкими веревками, которые пронизывали насквозь всю конструкцию. Мы перенесли груз с правого борта на левый, но это не очень помогло. Слишком много воды впитали связки папируса выше ватерлинии, и все эти тонны незримого балласта шутя перевешивали две-три сотни килограммов провизии и питьевой воды, которые перекочевали на другую сторону. Видно, нам так и придется идти через океан с постоянным креном к ветру.
Норман вернулся в строй, и пока мы заново укладывали груз, он постарался укрепить под водой строптивую медную пластину, чтобы наладить связь и узнать по радио точное время. У него были причины опасаться, что до берега намного ближе, чем показали его вчерашние расчеты без хронометра, и что нас несет прямо на мыс Юби.

К ночи ветер усилился почти до штормового, завывая в вантах, и «Ра» совсем разболталась под яростными ударами волн, которые трепали лодку сильнее прежнего. Ночью мы несли вахту по двое, чтобы не прозевать песчаные отмели у мыса Юби, и придирчиво следили за веревками. Ни один строп не лопнул. Ни один стебель папируса не отвязался. А вот деревянный мостик так сильно терся об угол бамбуковой каюты, что внутри все было засыпано опилками. Сантьяго с самого начала страдал бессонницей, а в эту ночь и другие составили ему компанию. Поди усни, когда ящики под тобой подпрыгивают, а каюта, мостик и мачта, качаясь не в лад, устраивают такой концерт, будто тысяче кошек защемило хвосты веревками. Каюта так сильно кренилась вправо, что на боку не улежать. Слева от входа помещались четверо, справа, где было отведено место для радиостанции и штурманского столика, – трое. Абдулла без конца скатывался на Жоржа, Жорж на Сантьяго, а Юрию, который лежал внизу у самой стенки, некуда было катиться, и ему оставалось только выставлять против них руки и коленки. Я подложил под правый край своего матраса валиком лишнюю одежду, и то же самое сделал Карло, чтобы не съезжать в радиорубку к Норману.
Буря не унималась всю ночь, волны вздымались на высоту до 4-5 метров, и ветер срывал гребни, осыпая лодку мелким соленым дождем. А утром шестого дня оказалось, что «Ра», как ни странно, словно бы окрепла, связки уже не так вихлялись, веревочные крепления стали туже. Гребень высокой волны неожиданно накрыл корму, и Норман очутился по пояс в воде, которая надолго застоялась на папирусе. Очевидно, непрерывно смачиваемые сверху и снизу стебли набухли и закрыли все щели и просветы. Оттого и лодка стала крепче и прочнее, вот только этот правый крен нас огорчал. Зато поражала великолепная устойчивость «Ра» на штормовой волне, и, когда Норман заявил, что надо выбирать: либо мы попытаемся поставить парус и использовать сильный норд, либо нас выбросит на берег, – мы единогласно решили сделать еще одну попытку поднять парус на новой укрепленной рее, взяв один риф. Даже Сантьяго выбрался из каюты, и с полным экипажем мы дружно поставили парус и спустили в воду отремонтированное рулевое весло. И понеслись, словно летучая рыба, по гребням, уходя от суши. Увы, вскоре опять раздался треск – толстое веретено починенного весла сломалось, как спичка, а лопасть пришлось вытащить.
Но сухопутные крабы уже начали превращаться в моряков. Прыжок – Абдулла очутился на носу и поймал угол хлопающего паруса. Рядом с ним взялся за парус Сантьяго. Карло и Юрий без слов исчезли за каютой и потравили правые шкоты. Жорж, в одних трусах, схватил весло и привел корму к ветру, а мы с Норманом отрегулировали вертикальные весла, и вот уже «Ра» без рулевого тяжелой рыбиной скользит вперед через гребни. Весь день нам удавалось держать курс, и ни один стебель папируса не пострадал от бури. Все наши проблемы были связаны с толстыми бревнами, а не с тонким папирусом.
На следующую ночь ветер пошел на убыль, – ветер, но не волны, которые достигали шести метров. Каюта утратила симметрию и стала похожа на шляпу, надетую набекрень, с наклоном к ветру. Задолго до начала моей ночной вахты я выбрался на палубу, чтобы проверить лодку. И когда я пролез под парусом на нос, у меня чуть сердце не остановилось. Впереди справа, в окружении мерцающих окон возвышался маяк с цветными огнями. А нос нашей «Ра» смотрел левее, следовательно, на сушу. Так далеко в море – маяк, это мог быть только мыс Юби.
Мы с лихорадочной быстротой изменили курс, насколько было можно без весел. Мало. Не обойдем. И тут мы вдруг заметили, что маяк и дома как-то странно колышутся. Где это видано, чтобы песчаная коса так качалась! Проходя мимо, левее, мы увидели, что это буровая вышка в море, обозначенная огнями до верху, чтобы самолет не задел. Долго мы стояли и глядели. Потом я прикрикнул на Жоржа, чтобы он либо немедленно полезал в спальный мешок, либо одевался, пока не сгубил свое здоровье.
Седьмой день, зарифленный парус на месте, и мы идем как будто наперегонки с могучим валом, который спешит в одну сторону с нами. Справа и слева ползли навстречу друг другу тяжелые тучи, но прямо по носу между двумя фронтами голубел узкий просвет. Похоже было, что Канарские острова и африканский материк кутаются в облака, а просвет открылся как раз над морем между ними. И «Ра» послушно шла туда.
Врачебное искусство Юрия подняло на ноги Нормана и Сантьяго. Жоржа пришлось уложить, он жаловался на сильную боль в спине, застудил мышцы, сражаясь ночью полуголый с веслом на ледяном ветру.
В полдень я стоял на мостике, а Карло тянул какие-то веревки, пытаясь хоть немного выправить нашу каюту, и вдруг я обомлел от ужаса. Каждый раз, как «Ра» поднималась вверх на высоком гребне, в бинокле мелькало что-то зеленое, как будто луга. В следующую минуту Карло уже был на верхушке мачты, и Норман лез за ним следом. Они крикнули, что параллельно нашему курсу, милях в шести, тянется безлюдный берег. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы идти мористее, и вскоре луга скрылись. Ясно это была низина около мыса Юби. Дальше берег поворачивает на юг, значит, мы видели последний клочок Африки.
Абдулла обезглавил на кормовой поперечине трех кур, чтобы Карло мог приготовить наш первый праздничный обед. Настойка Юрия уже была готова. А поводов у нас хватало. Во-первых, надо справить поминки по ироко. Не годится оно для рулевых весел, слишком хлипкое. Затем – поднять заздравную чару в честь папируса. Феноменальный строительный материал! 31 мая, пятнадцать суток папирус провел в воде и даже не думает гнить. Напротив, он стал только еще эластичнее и прочнее. Мы не потеряли ни одного стебля. За неделю мы прошли от Сафи до мыса Юби, а это больше, чем от дельты Нила до Вибла финикийцев. И столько же, сколько от Египта до Турции. Значит, уже доказано, что египтяне могли доставлять свой папирус в любую точку побережья Малой Азии без помощи чужих деревянных судов.
Скол, Норман, будь здоров. Скол, Юрий. Скол, ребята. Выпьем за Нептуна и за бегемотов Абдуллы. Сафи сидела между нами на ящике с курами и пила из только что открытого кокосового ореха.
Чей-то голос, произнесший слова «белые дома», заставил меня вскочить на ноги. Жорж, лежа на животе в дверях каюты, показывал рукой в ту сторону, где мы недавно видели зеленую низину. Опять она, и на ней ряды белых домиков, типичная для Северной Африки арабская деревушка. Правее домиков расположился живописный старинный форт. Вот он наконец, мыс Юби. Вот когда мы проходим мимо коварной косы, мысль о которой держала нас в напряжении целую неделю, – косы, погубившей за столетия столько судов. Семь дней мы всячески старались уйти подальше от берега, и вот течение само несет нас мимо мыса Юби на расстоянии ружейного выстрела.
Белые домики канули в море так же быстро, как появились. Прощай, Африка. Прощай, Старый Свет. Мы идем без руля. Руль в нашем рейсе не нужен.
Огромная чайка догнала лодку и села на торчащую вверх папирусную связку на носу. Утка, выпущенная на прогулку из курятника, решила прогнать гостью. Чайка взмыла в воздух и улетела. Не прошло и нескольких минут, как нас окружила целая стая крикливых морских птиц, а в клетке, которая служила нам обеденным столом, исступленно кудахтали куры.
– А я знаю, что первая чайка сказала, когда прилетела к своим, – заявил Карло. – Она сказала, что около мыса Юби в море плавает гнездо.
Глава 9
Во власти океана.
Мы разрушаем мосты

Канарские острова остались позади. За восемь суток мы прошли путь, равный расстоянию от Норвегии до Англии через Северное море. Судно, которое успешно выдерживает поединок с волнами в таком длительном рейсе, обычно относят к разряду морских. Несмотря на сломанные рулевые весла и рею, несмотря на неумелое обращение и промахи неопытных сухопутных крабов, несмотря на крепкий ветер и сильную волну, «Ра» по-прежнему отлично держалась на воде. Груз лежал надежно, никакие гребни не могли до него дотянуться. И мы шли дальше в условиях, весьма далеких от тихого течения Нила.
Канарские острова были пройдены в ненастную погоду, мы не увидели земли. Теперь над нами изогнулся голубой небосвод, низкая пелена туч слева обозначала африканский континент, а вздымающийся на три тысячи метров конус вулкана Тейде на Тенерифе позволял нам безошибочно определить положение Канарских островов справа. Сам оставаясь незримым, он рождал вереницу мелких облачков, и ветер нес их над морем, будто дым из пароходной трубы.
Абдулла, который знал только плавучие папирусные острова на озере Чад, был потрясен, когда услышал, что здесь, далеко в океане, есть суша и на ней живут люди. Какие они – черные, как он, или белые, как мы? И Сантьяго, антрополог по профессии, к тому же сам одно время живший на Канарских островах, рассказал ему про загадочных гуанчей, населявших уединенный архипелаг, когда их «открыли» европейцы, чьи внуки в свой черед «открыли» Америку. Одни гуанчи были темнокожие, низкого роста, другие – высокие, светлокожие, с голубыми глазами, русыми волосами и орлиным носом. На пастели, выполненной в 1590 году, видно группу коренных жителей Канарских островов, у них золотистая борода, светлая кожа, мягкими волнами спадают на плечи длинные желтые волосы. И еще Сантьяго рассказал про чистокровного русоволосого гуанча, с которым он познакомился, учась в Кембридже. Это была мумия, привезенная с Канарских островов. Подобно древним египтянам и перуанцам, коренные жители архипелага умели бальзамировать трупы и делать трепанацию черепа. Но так как светлокожие гуанчи больше смахивали на викингов, чем на племена, которые нам обычно рисуются при слове «Африка», родились догадки о древних северных колонистах на Канарских островах и даже гипотезы, будто архипелаг есть не что иное, как остаток затонувшей Атлантиды. Но на севере Европы не бальзамировали тела и крайне редко делали операции на черепе, и ведь это лишь две из ряда черт, связывающих гуанчей с древними культурами североафриканского приморья. Исконные жители Марокко, обычно именуемые берберами, многих из которых арабы больше тысячи лет назад вытеснили на юг, в Атласские горы, представляли такую же смешанную расу, как гуанчи: одни были малорослые, с темной кожей, другие – высокие голубоглазые блондины. Потомков этих древнейших марокканских типов по сей день можно увидеть в глухих селениях Марокко.
Мы смотрели на шлейф над могучим вулканом на острове Тенерифе. В ясную погоду его видно с берега Марокко. Чтобы найти родину гуанчей, вовсе не надо отправляться в Скандинавию или погружаться на дно Атлантического океана. Возможно, они попросту потомки коренных жителей ближайшего материка, которые сумели в древности преодолеть морской барьер, как это сделали мы на самодельной лодке из папируса.
В общем, загадка канарских гуанчей заключается не столько в том, кто они, сколько в том, как они попали на острова. Когда сюда, задолго до плаваний Колумба, пришли европейцы, у гуанчей не было никаких лодок, даже долбленок или плотов. И дело не в нехватке древесины, потому что на Канарских островах росли могучие деревья. Гуанчи, и темные, и светлые, были типичные сухопутные крабы, они занимались только земледелием и овцеводством. Им удалось привезти овец с континента. Но выйти в море с женщинами на борту, везя с собой скот, могли только рыбаки или представители морского народа. Пастушескому племени такое не по плечу. Почему же гуанчи забыли морские суда своих предков? Может быть, потому, что предки не знали никаких лодок, кроме парусной
мадиа из папируса, вроде тех, что до наших времен применяли на северном побережье Марокко? Лодочный мастер, который умеет лишь вязать лодки-плоты из папируса и никогда не видел, как сшивают из досок водонепроницаемый корпус, будет беспомощно сидеть на берегу, оказавшись на острове, где нет ни папируса, ни камыша.
Вдруг нас начало раскачивать так сильно, и папирус застонал так жалобно, что пришлось расстаться с гуанчами и поспешить к заполоскавшему парусу. Ветер не изменился, а вот волны стали круче – все более глубокие ложбины, в которые мы скатывались, все более высокие гребни, которые бросались на нас сверху, но никак не могли нас накрыть, потому что наш золотистый бумажный лебедь всякий раз приподнимал высокий хвост и спокойно пропускал волну под собой.
У Абдуллы началась головная боль и рвота. До сих пор он не страдал от морской болезни, но тут Юрию пришлось отправить Абдуллу в постель, ограничив его стол сухими, как мумия, египетскими галетами, зато Сантьяго смог подняться с постели и пообедать вместе со всеми, после того как врач нашел способ залечить его болячки. Норман отлично чувствовал себя, и мы дружно наслаждались горячим рисотто с миндалем и сухофруктами, приготовленным Карло, вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!» Мы посмотрели и с испугом увидели изогнувшийся над «Ра» высоченный гребень могучего вала. Мы рванулись было к каюте, но гребень уже превратился в маленький гребешок, он проскользнул, булькая, под папирусом, а на его месте разверзлась глубокая ложбина. За первым валом последовали другие такие же. Обычно море так колышется около устья большой реки, где сильное течение рождает высокую волну. А мы, видимо, попали в такое место, где идущее с севера мощное океанское течение, протискиваясь через узкие проходы между островами, как бы сжимается и становится еще мощнее. Для нас это означало прибавку скорости в нужном нам направлении. Нас несло Канарское течение – то самое, которое доходит до Мексиканского залива.
Вверх, все выше и выше, – а теперь вниз, вниз... Абдулла уснул и не увидел пятерку могучих кашалотов, которые всплыли совсем рядом с лодкой и ушли под воду раньше, чем Карло успел приготовить свою кинокамеру. Снова вверх, потом вниз, вниз в бездонную яму... В эту минуту опять раздался треск ломающегося дерева. Еще одно из наших малых весел превратилось в дрова для растопки, лишь кусок веретена остался висеть на бортовой связке. Так, теперь уже и гребные весла становятся дефицитными... Может быть, стоит попробовать зайти на острова Зеленого Мыса и раздобыть там материал покрепче? Единогласное «нет». Правда, у нас еще оставалась в запасе толстая прямоугольная мачта из египетского сенебара. Мачты пока не ломались, даже в крепкий ветер устояли. И мы решили укрепить резервное рулевое весло из ироко запасной мачтой, прикрутив ее к толстому круглому веретену. После этого весло стало таким тяжелым, что, когда мы поздно вечером управились с работой, пришлось мобилизовать весь экипаж, чтобы спустить его в воду. Светила полная луна, ярко сияли звезды. Волны упорно гнались за нами – высокие, блестящие, черные и неистовые, – но мы их не боялись, зная, что им не одолеть папирус. Они только дерево ненавидели до такой степени, что сокрушали его в тот же миг, как оно погружалось в воду. Пока весла праздно лежали на палубе вместе с полутора сотнями хрупких кувшинов и прочим грузом, им ничего не грозило. Что ж, поглядим, чем кончится поединок весла-великана с океаном...
Мы с Сантьяго поднялись на мостик и взялись за тонкий конец восьмиметрового веретена, которое надо было привязать к поручням, а все остальные стояли на палубе и держали тяжеленную лопасть. Ее надо было спустить в воду с кормы, потом прикрутить нижнюю часть веретена к лежащему на папирусе толстому поперечному брусу.
Волны и папирус лихо скакали вверх-вниз, и едва последовала команда погрузить рулевое весло, как могучий вал тотчас вырвал лопасть из рук пятерки, тщетно напрягавшей все силы, чтобы закрепить весло канатами. Лишь с великим трудом нам с Сантьяго удалось удержать верхнюю часть веретена. А волна уже ушла вперед, корма «Ра» повисла над глубокой ложбиной, и весло, лишившись опоры, с маху, будто гигантская кувалда по наковальне, ударило по концу поперечного бруса. Следующая волна снова взметнула лопасть вверх, и пока пятерка внизу силилась поймать взбесившуюся кувалду веревками и руками, Сантьяго и меня вверху бросало, как марионеток. Только уловим миг, когда гребень поднимет весло, и подвинем веретено на место, как лопасть опять повисает над ложбиной, тяжесть становится непосильной, и нас подбрасывает кверху, а пятерка на корме по-прежнему силится притянуть лопасть веревками к поперечине и укротить ее раньше, чем новая волна вырвет у них из рук весло, и лопасть взметнется вверх, а мы на другом конце рычага ухнем вниз. Причем вниз нас кидало с такой силой, что того и гляди расплющит руки и ноги веретеном о поручни, ведь и ногами тоже приходилось цепляться, чтобы нас вместе с веслом не утянуло за борт.
Это рулевое весло было таким тяжелым, и оно так бесновалось, что мы уже спрашивали себя, не лучше ли его отпустить, пока не разлетелась вдребезги кормовая поперечина, а с ней и веревки, скрепляющие папирус. Но мысль о том, что без руля мы превратимся в беспомощно дрейфующий боком стог соломы, придала нам сверхчеловеческие силы, а тут вдруг и весло легло удачно, и все семеро одновременно смогли притянуть чудовище на место и прикрутить его с обоих концов к «Ра» такими толстыми веревками, что океан уже был бессилен что-либо с ними сделать.
Итак, одно из двух древнеегипетских весел снова стоит на месте. Правда, веретено было очень уж неуклюжее и ворочалось еле-еле, ведь мы связали его с квадратным брусом. Зато оно было такое прочное, что, когда волны попробовали его сломать, лодка развернулась, а весло не поддалось.
По словам Сантьяго, ему еще никогда в жизни не доводилось делать такую тяжелую работу. Юрию пришлось заняться ушибленными пальцами, зато могучее рулевое весло обеспечило нам устойчивый курс, позволив усталому экипажу забраться в спальные мешки и разбить ночь на легкие вахты. Вахтенному надо было лишь следить за пароходами, чтобы нас никто не потопил. Луна, созвездия и даже постоянное направление идущих правильным строем, бурлящих волн – все подтверждало, что курс стабилен. Знай, посиживай без забот у входа в каюту с подветренной стороны. Только при смене мы поднимались на мостик, чтобы взглянуть на маленький рукотворный компас. Да и то очень скоро все усвоили, что звездное небо над нами – тот же компас с обращенной вниз светящейся картушкой. Мы дрейфовали прямо на запад. А где находимся, не так уж и важно, главное – не к берегу несет, а от берега.
Трое суток шли мы без каких-либо происшествий, за это время нам удалось починить второе рулевое весло, составив его из обломков двух веретен. Ни гвоздей, ни костылей, только веревки, а иначе наша конструкция и минуты не выдержала бы. Волны были такие же высокие, и они бросали наветренный борт «Ра» так, что папирус с этой стороны все больше намокал и все сильнее погружался в воду. Из-за волн мы не решались ставить второе отремонтированное рулевое весло, а держали его наготове на тот случай, если первое сломается: уж очень угрожающе оно гнулось, когда океан нажимал особенно сильно. Зато мы рискнули поднять парус без рифов – обошлось. Дул северный ветер, и хотя мы еще различали низкую пелену тучу берегов Испанской Сахары, стоял зверский холод. Мы перенесли все, что можно, к левому, подветренному борту, который нисколько не погрузился после старта. Теперь наш широкий и грузный воз с сеном двигался на запад со скоростью два с половиной узла, проходя в сутки больше ста километров; за кормой тянулась отчетливая кильватерная струя. В одиннадцать дней было пройдено, считая по прямой, 557 миль, то есть более тысячи километров, и пришла пора передвинуть стрелку на час назад.
Вторые сутки мы то в одной, то в другой стороне видели суда, раз наблюдали одновременно три больших океанских парохода. Очевидно, «Ра» очутилась на главной магистрали судов, идущих вокруг Африки. Чтобы уберечься от ночных столкновений, мы держали на топе наш самый сильный фонарь. Но вот опять океан опустел, и только стаи дельфинов резвились вокруг, порой так близко, что мы могли бы их погладить. Иногда встречалась нам ленивая луна-рыба; перед носом лодки начали взлетать первые летучие рыбы. И небо стало пустынным. Редко-редко принесет ветром заблудившихся насекомых, да две-три морских ласточки промелькнут в ложбинах между валами. Эти маленькие птицы спят на воде, ведь они не хуже папируса скользят через самые большие волны.
Из дырочек в папирусе вдруг полезли полчища коричневых жучков. Хоть бы морская вода убила все яички и личинки, чтобы они не съели лодку изнутри! Скептики, которые видели, как верблюды пробовали грызть борта строящейся «Ра», предсказывали, что папирус может прийтись по вкусу голодным
морским тварям. Ни киты, ни рыбы пока что не покушались на наш плавучий сноп, но букашки заставили нас встревожиться.
Солнце и луна поочередно указывали нам путь на запад. Одинокая ночная вахта позволяла в полной мере ощутить знакомый еще по «Кон-Тики» трепет перед необъятной вечностью. Звезды, ночной океан. В небе сверкали незыблемые созвездия, в воде так же ярко светились ноктилюки, живой планктон, словно рассыпали фосфорные блестки по мягкому черному ложу, на котором покоилась «Ра». Иногда казалось, что мы идем под ночным небом по волнистому зеркалу. А может быть, это океан такой прозрачный, и мы видим рои звезд с другой стороны земного шара? Небосвод – тут, небосвод – там, и все – зыбкое, все чужое, кроме золотистых снопов папируса, которые нас несли, да огромного четырехугольного паруса, вверху пошире, внизу поуже, черной заплатой на звездной пыли. Уже этот древнеегипетский рисунок, эта трапеция в ночи располагала к тому, чтобы перелистать календарь на тысячи лет назад, такого контура сегодня не увидишь. Впечатление дополняли непривычные скрипы и кряхтение папируса, бамбука, древесины и веревок. Это был уже не атомный и ракетный век – мы жили в ту далекую нору, когда земля еще была плоской и огромной, сплошь неведомые океаны и материки, когда время было всеобщим достоянием и никто не знал в нем недостатка.
Усталые, все мышцы ноют от напряженной работы, в тусклом свете керосиновых фонарей мы по очереди несли вахту на извивающейся гибкой палубе. Нет слов, чтобы сказать, как хорошо отдохнуть в уютном спальном мешке. Проснешься – аппетит зверский, и во всем теле невыразимое блаженство. Право, не стоит говорить презрительно про образ жизни людей каменного века. Нет причин считать, что те, которые жили до нас и работали в поте лица, только маялись и не знали никаких радостей.
Сто с лишним километров в день курсом на запад даже на карте мира заметны, хотя горизонт оставался неизменным. Изо дня в день, круглые сутки один и тот же, он двигался вместе с нами и всегда держал нас в фокусе. Но и вода тоже двигалась вместе с нами. Канарское течение – будто быстрая соленая река, в обществе своего вечного спутника, пассата, она устремляется на запад, всегда на запад, воздух и вода, и с ними все, что плывет по воде и летит по воздуху. На запад, как и солнце, и луна.
Мы с Норманом поднялись на мостик, он с настоящим секстантом, я с носометром – это слово принесло Юрию победу в конкурсе на лучшее название самодельного прибора для измерения широты, который я выстругал из двух дощечек. Дощечки были посажены на общий деревянный шип с кривым вырезом, чтобы можно было приставить к носу, – отсюда и название. Итак, прижал прибор к носу, шип чуть ниже глаз, и смотри левым глазом вдоль одной дощечки, нацеленной на горизонт. Вторую дощечку, прикрепленную кусочком кожи к тому же шипу, поворачиваешь у правого глаза, наводя ее на Полярную Звезду. Угол между двумя дощечками читается на третьей, помещенной вертикально между ними, он и обозначает широту. Примитивный носометр давал повод членам экипажа поострить; он был на диво прост и удобен в обращении, а ошибка редко превышала один градус. Курс, наносимый на карту по этим данным, до удивительного совпадал с верным, который наносил на другую карту Норман.
Самое интересное в папирусной лодке, после поразительной прочности и грузоподъемности папируса, – древнеегипетский такелаж. Конечно, и рулевое устройство о многом говорило, по нему видно, как в древности постепенно из поставленного косо весла получился вертикальный руль. Но в такелаже заключалась гораздо более важная информация. Мы точно скопировали его с древнеегипетских фресок. Толстая веревка соединяла верхушку двойной мачты с форштевнем. А вот к ахтерштевню такой веревки не протянули, хотя два штага – все, что нужно, чтобы держать прямо двуногую мачту на лодке на тихой реке. И однако древнеегипетские корабельщики почему-то не тянули веревок с мачты на корму. Вместо этого от каждого из двух колен на разной высоте к бортам позади средней линии шло наискось пять или шесть параллельных вант. А корма была свободна от них и качалась вверх-вниз на волнах.
Мы поняли всю важность такого устройства, как только «Ра» начала извиваться на волнах океана. Ахтерштевень вел себя, как прицеп, который сам по себе мотается на всех ухабах. Будь он притянут к топу фордуном, мачта сломалась бы на первой же хорошей волне. Когда «Ра» переваливала через высокие гребни, средняя часть лодки ритмично поднималась вверх, между тем как нос и корма под собственной тяжестью опускались в ложбины. Подвесь мы корму к мачте, и та не выдержала бы нагрузки, а так она поддерживала загнутый вверх форштевень и не давала корчиться средней части мягкой палубы. Корма послушно повторяла извивы волн.
Не проходило дня, чтобы члены экипажа не восхищались гением тех, кто так искусно расставил снасти и определил их функцию. Сведущий в морском деле Норман сразу сообразил, в чем тут суть. Смысл конструкции был слишком очевиден. Уже на третий день я записал в дневнике: «Этот такелаж – плод долгого морского опыта, он родился не на тихом Ниле».
Но одна структурная особенность египетской лодки далеко не сразу была нами понята, за что мы потом и поплатились. Каждый день мы с недоумением смотрели на загнутый внутрь завиток высокого ахтерштевня. Для чего он? Египтологи довольствовались выводом, что завиток призван всего лишь украшать речное судно, но мы тут с ними никак не могли согласиться. И однако шли дни, а нам все не удавалось определить, какая же в нем польза. Тем не менее мы постоянно проверяли, не выпрямляется ли завиток. Нет, держится превосходно, видно, наши чадские друзья были правы, говоря, что все сделали, как надо, крючок не разогнется, и не надо притягивать его к палубе никакими веревками. Одну ошибку мы допустили, это верно, когда поначалу разместили груз, как на обычных парусных судах. И некому было наставить нас на ум, только собственный опыт плавания в пассатном поясе мог научить нас, что на папирусной лодке груз должен быть сосредоточен на подветренном борту. Теперь папирус с наветренной стороны намок уже настолько, что край фальшборта почти сравнялся с поверхностью воды. Особенно на корме справа, там мы вполне могли умываться, но вися вниз головой и ногами вверх. Очень даже удобно, решили все, и отныне вся стирка-мойка происходила на корме.
Четвертого июня волнение заметно умерилось, и на следующее утро мы проснулись в совсем другом мире. Тепло так, славно, мерно катятся блестящие пологие валы... Опять нас навестила пятерка китов, возможно, те же самые, что в первый раз. Царственный кортеж. Такие добродушные и красивые в своей родной стихии, даже страшно подумать, что скоро человек прикончит своими гарпунами последних теплокровных исполинов морей, и только холодные стальные чудища – подводные лодки – будут резвиться в морской пучине, где творец, да и не он один, предпочел бы видеть, как китихи кормят молоком своих детенышей.
Пользуясь теплой погодой, Жорж разделся и прыгнул за борт с маской и страховочным концом вокруг пояса. Он нырнул под «Ра», а когда вынырнул, то издал такой ликующий крик, что Юрий и Сантьяго прыгнули следом; остальные несли вахту и ждали своей очереди. Только Абдулла сидел в дверях каюты, повесив нос. Если ветер не вернется, мы так и застрянем здесь, никогда не попадем в Америку. Норман успокоил его, рассказав про незримое океанское течение. Пусть мы не будем проходить сто километров в сутки, как до сих пор, но уж пятьдесят-то сделаем.
Вскоре все, кроме Абдуллы, побывали под брюхом «Ра». Он умылся в брезентовом ведре и преклонил колени лицом к Мекке. Молитва затянулась надолго – может быть, он просил аллаха послать ветер?
После освежающего морского купания мы словно родились заново. А какое удовольствие мы получили, осматривая днище «Ра»! Чувствуешь себя, будто рыбка-лоцман под брюхом огромного золотого кита. Отраженные солнечные лучи снизу освещали папирус над нами, как прожектором. Океан и безоблачное небо окружили лучезарного золотистого великана неописуемой синевой. Он плыл так быстро, что надо было самим плыть изо всех сил в ту же сторону, если мы не хотели, чтобы нас тащили вперед страховочные концы.
Только теперь мы обнаружили, что перед носом лодки идут веером полосатые рыбки-лоцманы, образуя такую же верную свиту, какая сопровождала бревенчатый плот «Кон-Тики». Здоровенная коряга тяжело качалась на волнах. Из-под нее выглянула маленькая толстушка-пампано и поспешила, виляя хвостиком, к «Ра», где около широкой рулевой лопасти уже носилось несколько ее родичей. Кокетливые рыбки подходили к Юрию и игриво пощипывали его белую кожу.
На папирусном днище тут и там прилепились длинношеие морские уточки – темно-синяя раковина и колышущиеся оранжевые жабры, как будто страусовые перья. А вот водорослей нигде не было видно. В песках Сахары стебли папируса были морщинистые, шероховатые, серо-желтого цвета, в воде они набухли, стали гладкие, блестящие, точно золотое литье. И на ощупь уже не хрупкие и ломкие, а тугие и крепкие, как покрышка. Ни один стебель не отошел и не сломался. Папирус три недели находился в воде. И вместо того чтобы через две недели сгнить и развалиться, стал крепче прежнего.
Мы выбрались из воды на лодку безмерно довольные тем, что увидели, и вот опять за кормой поплыли куриные перья: Карло готовил праздничный обед.
Подводная экскурсия нас так воодушевила, что мы решили и второе починенное рулевое весло водрузить на место. Тише этого погода все равно не будет. Но здоровенное весло с двойным веретеном было до того тяжелое и длинное, что, пока мы, путаясь в вантах, переправляли его через каюту на наветренную сторону, успело стемнеть. Как ни мирно настроилось море, волны были достаточно высокими, и нам предстояло немало повозиться с пляшущей лопастью, раньше чем удастся поставить весло правильно и закрепить его. Наученные горьким опытом, мы решили отложить это дело на утро, а пока тяжеленную махину привязали покрепче стоймя у наветренного борта, уперев лопасть в кормовую палубу.
Следующий день порадовал нас такой же великолепной погодой. Проснувшись, я полез через кувшины на корму, чтобы искупаться, и застал там утреннего вахтенного – Юрия. Он сидел, очень довольный, и стирал белье прямо на палубе, обходясь без ведра. В том месте, где рулевое весло всей своей тяжестью опиралось на папирус и борт осел сильнее всего, на корме получился маленький прудик, непрерывно пополняемый волнами, захлестывающими палубу.
– Наша яхта становится все более комфортабельной, – радостно отметил Юрий. – Вот уже умывальник с водопроводом появился.
Мы поскорей погрузили в воду увесистое весло, чтобы море приняло на себя основную тяжесть, однако через притопленный угол все равно текли струйки на палубу, и, пока все сводилось к импровизированному умывальнику, мы в общем-то были только рады. Проверили кормовой завиток – такой же, как прежде, не выпрямляется. На всякий случай Жорж нырнул под «Ра». И впервые обнаружил, что сразу за каютой днище как будто слегка надломилось. Но связки выглядели крепкими и невредимыми; надавишь на стебель – из него вырываются пузырьки воздуха. Папирус ничуть не утратил плавучести.
Решив, что у нас просто перегружена корма, мы перенесли весь груз с кормовой палубы, оставив лишь тяжелую поперечину, на которую опирались рулевые весла, мостик на стойках и под ним – ящик со спасательным плотом.
Но гребни продолжали захлестывать корму справа. Мы снова все тщательно осмотрели над водой и под водой. И убедились, что «Ра» полностью сохраняет начальную форму от носа до того места, где закреплена задняя пара вант. Здесь проходила линия излома, дальше корма наклонилась косо вниз.
Пришла пора поразмыслить опять. Вниз прогнулась та часть лодки, которая как бы свободно болталась на прицепе, а все подвешенное к мачте держалось нормально. Нос все так же вздымался вверх. Наш золотой лебедь гордо нес свою шею, только хвост повесил. Если бы мачта могла выдержать натяжение фордуном, такого бы не случилось. А попробуй протяни фордун к ахтерштевню, и на первом же гребне мачта переломится. Корме положено колыхаться, нельзя лишь позволять ей сохранять излом.
Мы попробовали поднять корму, притягивая ее веревками к каюте. Попробовали скрепить ахтерштевень толстыми канатами, переброшенными через мостик и каюту, со стояками на носовой палубе. Так египтяне придавали жесткость конструкции своих деревянных кораблей; правда, на изображениях папирусных лодок ничего похожего не видно, и сколько мы ни натягивали канаты, корма не хотела подниматься. Карло вязал хитрые узлы и усерднее всех тянул мокрые веревки, пока у него ладони не вздулись, словно белые макароны.
Шли дни. С каждым днем корму захлестывало все сильнее. И хотя опора кормового завитка постепенно уходила под воду, сам он выглядел так же лихо, как прежде, и не думал разгибаться. Да только пользы от него никакой, он начал превращаться в балласт для ослабевшей кормы. Могучие валы без конца таранили торчащую вверх корму, и она впитала уйму воды выше ватерлинии. И ведь ахтерштевень был толстый, широкий, а высотой превосходил каюту, так что вместе с водой он, наверное, весил больше тонны. Может быть, обрезать завиток? И тогда вся корма всплывет? Но это все равно, что отрубить лебедю хвост... Рука не поднималась так обойтись с нашим гордым корабликом.
Но как же, как?.. Как, черт возьми, создатели этой удивительной хитроумной лодки добивались того, что она без растяжек не поджимала свой пышный хвост? И это несмотря на то, что у них стояла веревка, пригибающая завиток к палубе, та самая, которую наши чадские мастера, слава богу, убрали. И мы о ней пока не жалели. Или? Или?! Я отбросил кокосовый орех и принялся лихорадочно чертить. Разрази меня гром! Я позвал Нормана, Сантьяго, Юрия, Карло – весь экипаж. Ошибка найдена. Мы не разобрались в назначении кормового завитка. Еще одна вещь, которую мы могли постичь только на собственном горьком опыте, ведь те, кого сами изобретатели завитка обучали, зачем он и для чего, не одну тысячу лет лежат в могиле. Так вот, корму загнули внутрь над палубой не для красоты. И веревка несла особую службу, а не только держала этот изгиб, как мы все думали. Завиток и без нее хорошо держался, задачей веревки было не его тянуть вниз, а кормовую палубу вверх подтягивать. Высокий ахтерштевень в форме арфы играл роль пружины с мощной струной, которая держала свободно качающуюся корму точно так же, как ванты и штаги держали остальную часть лодки. Чтобы папирусный корабль мог выходить в открытое море, не рискуя переломиться, гениальный конструктор составил его как бы из двух сочлененных частей. Передней части придавала жесткость двойная мачта с параллельными вантами, а задняя свободно колебалась, всегда возвращаясь на место благодаря тетиве, привязанной к пружинящему завитку над кормой.
Мы восстановили тетиву, но было уже поздно, за три недели корма надломилась, и завитушка опустилась так сильно, что поднять ее можно было только краном. Теперь нас никакая веревка не могла выручить. Мы были наказаны, так как, подобно другим, считали завиток ахтерштевня самоцелью, а он на самом деле был гениальным средством древних египтян.
Стоя в луже на корме и глядя на уходящий под воду золотистый хвост, Юрий и Норман запели по-английски:
– А зачем нам желтая подлодка, желтая подлодка, желтая подлодка...
Мы вполне разделяли их мнение, и вот уже вся семерка хором исполняет песенку битлов. Никто не принимал случившееся всерьез, ведь большая часть лодки держалась на воде, как пробка. Юрий и Норман сели стирать носки и подбирать новую рифму к слову «подлодка».
Меня больше всего тревожило не столько то, как папирус будет ладить с океаном, сколько то, как мы, семеро пассажиров, будем ладить друг с другом. В каюте-корзине площадью 2,8 на 4 метра нельзя было как следует повернуться, если все семеро одновременно ложились спать, а палуба была так загромождена кувшинами и корзинами, что негде ступить, поэтому мы обычно проводили время на узкой связке папируса перед стенкой каюты с подветренной стороны да на мостике, где развел руки в стороны – вот тебе и ширина, и длина.
День и ночь любой мог услышать голос и ощутить плечо любого. Мы срослись в семиглавого сиамского близнеца с семью ртами, говорящего на семи языках. На лодке вместе шли не только белый и черный, не только представители коммунистической и капиталистической страны, – мы представляли также крайние противоположности в образовании и уровне жизни. Когда я в Форт-Лами пришел в гости к одному из наших двух африканцев, он сидел на циновке, брошенной на земляной пол, и всю обстановку хижины составляла стоящая на той же циновке керосиновая лампа, а его паспорт и билеты лежали на земле в углу. У второго африканца, в Каире, кланяющиеся слуги проводили меня между колоннами роскошного особняка в восточном стиле в покои с тяжелой французской мебелью, гобеленами и всякой стариной. Один член экипажа не умел ни писать, ни читать, другой был профессор университета. Один был убежденный противник войны, другой – морской офицер. Любимым развлечением Абдуллы было слушать свое карманное радио и потчевать нас новостями о войне у Суэца, эпизод которой он сам успел увидеть. Его правительство в Форт-Лами было за Израиль. Рьяный мусульманин Абдулла был за арабов. Норман – еврей. Жорж – египтянин. Их сородичи стреляли друг в друга через Суэцкий канал, а сами они лежали чуть не бок о бок.
В плетеной каюте посреди Атлантического океана новости о войне во Вьетнаме тоже занимали Абдуллу.
Словом, на борту было предостаточно горючего материала для серьезного пожара. Наш «бумажный кораблик» был нагружен духовным бензином, и только вездесущие волны могли остудить пыл, развивающийся от трения в тесной корзине.
В любой экспедиции, где людям много недель просто некуда деться друг от друга, коварнейшая опасность – душевный недуг, который можно назвать «острым экспедиционитом». Это психологическое состояние, при котором самый покладистый человек брюзжит, сердится, злится, наконец приходит в ярость, потому что его поле зрения постепенно сужается настолько, что он видит лишь недостатки своих товарищей, а их достоинства уже не воспринимаются. Первый долг руководителя экспедиции – повсечасно быть начеку против этой злой болезни. И перед стартом я провел тщательную профилактику.
Вот почему мне стало не по себе, когда я уже на третий день плавания услышал, как миролюбивый Карло кричит по-итальянски Жоржу, что хоть он и чемпион дзю-до, это не мешает ему быть закоренелым неряхой, который привык, что за ним няньки убирают. Жорж огрызнулся в ответ, но словесная перепалка не затянулась, и вот уже только папирус кричит и скрипит. Однако на другой день эта двойка опять схлестнулась. Карло стоял и подтягивал ванты, а Жорж в сердцах отбросил свою удочку и демонстративно полез в спальный мешок. На мостике Карло тихо сказал мне, что этот шалопай начинает действовать ему на нервы. Сам Карло с детства привык трудиться, в двенадцать лет уже таскал тяжелые мешки с рисом. Никакого образования не получил, всего добивался своим горбом. А этот папенькин сынок из Каира – избалованный лоботряс, бросает свои вещи, где попало, и ждет, чтобы мы за ним убирали.
Я обещал поговорить с Жоржем. Карло прав: он в самом деле еще не понял, что такое экспедиция. Для него это новая игра, состязание в силе. Но и Карло должен все-таки понять, что Жорж просто привык так – где ни брось какую-либо вещь, все равно она окажется на месте, об этом позаботятся слуги, жена или мать. Карло прошел школу жизни, Жорж – нет. Мы должны его научить.
Вскоре я оказался на мостике с Жоржем с глазу на глаз. Он очень переживал, что грубо ответил Карло, но тот все время сует свой нос в его сугубо личные дела. Впрочем, Жорж был достаточно умен, и мне не стоило большого труда втолковать ему, что на борту «Ра» нет места для «сугубо личных дел», разве что в личном ящике каждого. Никто не обязан убирать за другими, и никто не вправе разбрасывать гарпуны, ласты, книжки, мокрые полотенца, мыло и зубную щетку. На борту все равны, и каждый сам убирает за собой.
Через минуту рыболовные снасти, магнитофон и грязное белье Жоржа исчезли с крыши каюты и с палубы, и он уже тянул какую-то снасть вместе с Карло.
Следующая серьезная угроза миру на «Ра» возникла, когда мы освоились настолько, что ввели дежурство на камбузе. Карло вызвался быть постоянным коком и выиграл на этом. Остальным надлежало по очереди чистить кастрюли, сковороды и ящики. Мы составили расписание дежурств по дням и написали его мелом на черной доске, висевшей на мостике, причем все забыли, что Абдулла не умеет читать. И когда Сантьяго показал ему на кастрюли и щетку, Абдулла, который не заметил, что перед ним уже отдежурили двое, пожаловался на головную боль и ушел в каюту, сердито ворча:
– Думаешь, я не знаю, в чем дело. Ты, Сантьяго, белый, а я черный. Вот ты и хочешь, чтобы я был у вас слугой.
Сантьяго – убежденный миротворец, но слова Абдуллы укололи его хуже ножа, и он вспылил.
– И это ты говоришь мне, Абдулла, – рявкнул он в священном гневе. – Мне, который шесть лет борется за равноправие негров. Да для меня во всем этом плавании самое важное как раз то...
Дальше Абдулла не слышал, потому что залез с головой в спальный мешок. А когда он выглянул снова, то увидел, как я пробираюсь с грязными кастрюлями на корму. Он вытаращил глаза.
– Просто мы с тобой поменялись дежурством, – объяснил я ему.
На другой день Абдулла драил кастрюли на корме, весело распевая звонкие африканские песни.
А еще через день нас ожидал сюрприз. Жорж подошел ко мне и попросил возложить на него ответственность за порядок на кухне до конца плавания, а то ведь несподручно чередоваться, к тому же у других есть дела поважнее.
Жорж, да-да, Жорж стал постоянным дежурным, и с того дня на камбузе все блестело, больше никому не надо было думать о кастрюлях.
Помню также, как Норман и Карло взъелись на Юрия и Жоржа, дескать, те делают что-нибудь лишь тогда, когда им скажут, а Норман и Карло помимо своих основных обязанностей постоянно сами находили себе какое-нибудь дело. Когда Абдулла не проявляет инициативы, это еще можно понять, но ведь эти двое получили высшее образование, – что же они ждут приказов? Со своей стороны Юрий, Жорж и с ними Абдулла начали злиться на Нормана и Карло: уж очень они любят командовать и распоряжаться, нет сказать по-товарищески, если что надо, а когда можно, то и посидеть спокойно, просто наслаждаясь жизнью. Или взять Сантьяго, этого хитрого интеллигента. Если надо перенести что-то тяжелое, нагнется, возьмется и зовет других на помощь. Смотришь, он уже выпрямился и показывает, улыбаясь, куда тащить кувшин или ящик, а силачи Юрий, Жорж и Абдулла стараются, несут. Кому-то было досадно, что я, руководитель, не выгоняю лентяя из спального мешка, и он знай себе спит, тогда как другие трудятся по своему почину. А кто-то считал, что я должен одернуть любителей командирского тона, у нас не военный корабль и не горнострелковая рота, мы семь равноправных товарищей, можно сказать по-хорошему.
И однако – назовите это чудом – все эти мелкие трения не перешли в «острый экспедиционит», напротив, каждый старался понять реакции и поведение других, и тут всем нам сослужили службу научные занятия Сантьяго, изучавшего вопросы мира и агрессии. Юрий и Жорж научились ценить Нормана и Карло, потому что их инициатива и настойчивый труд всем шли на пользу, а Норман и Карло изменили свой взгляд на Юрия и Жоржа, которые брали на себя самый тяжелый труд и охотно приходили на помощь любому, не дожидаясь просьбы, если видели, что это в самом деле нужно. Дипломат и психолог Сантьяго помогал Юрию пользовать незримые раны; Юрий показал себя толковым и заботливым врачом; Абдуллу все уважали за его светлый ум и способности, а также за умение приспособиться к совершенно непривычному образу жизни. Абдулле все пришлись по душе, так как он видел, что мы, хоть и белые, считаем его своим. Он упрашивал Юрия дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы у него выросла борода, как у нас, и никак не мог понять этого щеголя, который каждое утро брился, между тем как мы, остальные, отпустили себе усы и бороду, кто рыжую, кто черную. Если раньше голова Абдуллы сверкала, как лаковая, то теперь он перестал ее брить, и вскоре у него хоть на черепе отросли густые курчавые волосы, в которые он втыкал толстый плотницкий карандаш вместо броши.
У Жоржа были свои причуды. Днем он засыпал легко, а ночью ему требовалась подушка на грудь и музыка в ухо, для чего он запасся магнитофоном с набором любимых песенок. Тем, кто лежал от него подальше, скрип веревок и папируса заглушал музыку, но этот же скрип вынуждал самого Жоржа и Сантьяго просить у Юрия снотворного. День и ночь магнитофон Жоржа играл его излюбленные мелодии. В один прекрасный день магнитофон пропал. Только что я видел его, он лежал и играл на краю мостика, у ног Абдуллы; сам Абдулла ворочал руль, стоя к нему спиной. Норман укреплял весло, свесившись через борт. Карло, Сантьяго и я перекладывали груз на корме, Юрий и Жорж работали за каютой. Вдруг музыка смолкла. Прошло несколько минут, прежде чем Жорж полез через кувшины на корму, чтобы снова пустить магнитофон. Но магнитофона не было. Жорж искал всюду. На корме, на носу, под матрасами, на крыше каюты. Исчез. Бесповоротно исчез. Кто это сделал? Первый дзюдоист Африки рассвирепел. Кто, кто посмел выбросить за борт его магнитофон? Конец путешествию, все, он не уснет без своих мелодий, кто-о-о это сделал!!! Атмосфера накалилась. Крошка Сафи поднялась на мачту, сколько позволяла веревка: еще обвинят, чего доброго...
Абдулла мог столкнуть ногой магнитофон за борт, но он слишком любил музыку, чтобы сделать это. Норман не дотянулся бы, Юрий все время был рядом с Жоржем. Оставалась только наша тройка, которая работала на корме. Карло невозмутимо продолжал перетаскивать кувшины. Карло! Для меня все стало ясно. Он все еще злится на Жоржа, вот и отомстил. Но где была его голова! Вот уж от кого не ожидал. Теперь мы все равно что на бочке с порохом, и фитиль уже зажжен.
– Жорж, – сказал я. – Ты молодец, научился следить за порядком, как же ты мог положить свой магнитофон на самом краю, так что он свалился в море!?
– Может, он и правда лежал на краю, – согласился Жорж, – но с мостика он мог свалиться только на палубу, а не за борт.
Он был абсолютно прав, но как-то надо было выручать Карло.
– Магнитофон лежал на правом углу, – решительно сказал я. – Если его задели, когда мы сильно накренились вправо, он должен был упасть за борт.
Жорж продолжал искать в самых невероятных местах, потом залез в свой спальный мешок и мгновенно уснул. Мы не будили его до самого утра, когда Карло свистом вызвал нас завтракать и предложил яичницу с корейкой. Долго сердиться на такого кока было невозможно, и больше никто не заговаривал о магнитофоне. И только после конца плавания Сантьяго однажды положил руку на широкое плечо Жоржа и спокойно спросил:
– Жорж, сколько я тебе должен за магнитофон?
Мы все так и опешили. Жорж медленно, очень медленно развернулся фронтом к маленькому улыбающемуся мексиканцу, сам широко улыбнулся и сказал:
– Какой еще магнитофон?
«И как только ты на это решился», – спросили мы потом Сантьяго. Он признался, что был далеко не уверен, правильно ли делает, сбрасывая в воду музыкальную машину, но в одном он ни капли не сомневался: если позволить ей и впредь играть одни и те же мелодии, кто-нибудь не выдержит и стукнет ею хозяина по голове.
Шли недели, мы жались всемером в тесной каюте, словно на круглосуточных посиделках, и «Ра» все качалась в центре одного и того же круга, и горизонт сопровождал нас, как заколдованный. С 4 по 9 июня волны были совсем ленивые, ветер скис, кое-кого из ребят круглые сутки клонило в сон. И папирус уже не скрипел и не рычал, а мурлыкал, словно кот на солнцепеке.
Норман поделился со мной своими тревогами. Мы медленно дрейфуем на юго-запад, и, если не подует хороший ветер, нас может захватить круговое течение у берегов Мавритании и Сенегала. Судя по тому как много судов проходило вдали и вблизи, мы снова очутились на каком-то маршруте, а в ночь на 6 июня мы увидели идущий прямо на нас большой, ярко освещенный океанский пароход. Курс его красноречиво свидетельствовал о том, что вахтенный офицер не заметил наш маленький топовый фонарь, и мы принялись отчаянно размахивать карманными фонариками. Тихий ветер лишал нас всяких надежд свернуть в сторону за счет рулевых весел. Рокоча машиной, светящийся гигант грозно наступал на нас. Вдруг он отвернул направо и заглушил свою механическую громыхалку. С мостика нам просемафорили яростный выговор так быстро, что мы успели только разобрать слово «прошу», пока великан с разгона бесшумно скользил мимо в каких-нибудь трехстах метрах от наших папирусных связок. И вот уже опять забурлила вода у винта, ослепительный стальной гигант понесся дальше к Европе.
На следующий день мы при легком ветре снова вошли в область, где весь поверхностный слой воды был полон асфальта. А еще через три дня, проснувшись утром, нашли море настолько загрязненным, что некуда окунуть зубную щетку, а Абдулле для омовения пришлось выдать дополнительный паек пресной воды. Из голубого Атлантический океан стал серо-зеленым и мутным, и всюду плавали комки мазута величиной от булавочной головки до ломтя хлеба. В этой каше болтались пластиковые бутылки, как будто мы попали в грязную гавань. Ничего подобного я не видел, когда сто одни сутки сидел в океане на бревнах «Кон-Тики». Мы воочию убедились, что люди отравляют важнейший источник жизни, могучий фильтр земного шара – Мировой океан. И нам стало ясно, какая угроза нависла над нами и будущими поколениями. Судовладельцы, заводчики, государственные деятели привыкли видеть море с палубы быстроходного лайнера, им никогда не приходилось, как нам, изо дня в день окунать в него зубную щетку и собственный нос. Вот о чем мы должны кричать всем, кто захочет нас слушать. Много ли толку в том, что Восток и Запад состязаются в решении социальных проблем на суше, если все страны позволяют нашей общей жизненной артерии, Мировому океану, превращаться в совместную клоаку, сборник мазута и химических отбросов? Или мы еще находимся в плену средневековых представлений, считаем океан беспредельным?
Как ни странно, когда качаешься на волнах на связках папируса и видишь скользящие мимо материки, отчетливо понимаешь, что океан отнюдь не беспределен, и струи, идущие в мае вдоль берегов Африки, через несколько недель достигают берега Америки, принося с собой всю ту дрянь, которая не тонет и не поедается обитателями моря.
Десятого июня ветер снова посвежел. В тот же день Абдулла зарезал последнюю курицу, в клетке осталась только утка. Клетку отправили за борт – намокнет и затонет, – но обезглавить утку ни у кого рука не поднялась. Ее помиловали и, окрестив именем Симбад, позволили – с веревочкой на ноге – разгуливать по палубе, к великой досаде Сафи. Корзина заменила Симбаду особняк, и он стал заправлять на носовой палубе, а Сафи обычно держалась вблизи, и, если кто-то из них по рассеянности забредал на чужую территорию, это кончалось тем, что либо Симбад немилосердно щипал сзади Сафи, заставляя ее визжать от негодования, либо Сафи торжествующе скакала в свой уголок с утиным пером в руке.
Ночью волна заметно прибавила, и море разбушевалось. Порой становилось жутко стоять на шатком, скрипучем мостике, не видя в ночи ничего, кроме пятнышка света на парусе да топового фонаря, который болтался, словно обезумевшая луна, среди звезд, мелькающих между гонимыми бурей тучами. Вдруг за спиной будто злобная змея зашипит – бурлящий гребень вровень с твоей головой гонится за лодкой, а самой волны не видно, кажется, только белая пена летит по воздуху и что-то шепчет про себя. А черный вал уже подкатился под связки папируса и толкает их вверх своими чудовищными бицепсами, и тут же отпускает нас, и мы падаем вниз – падаем так глубоко, что следующий белый призрак реет в воздухе еще выше, чем предыдущий. Двухчасовая рулевая вахта совершенно изматывала нас, хотя мы обычно работали только одним веслом, наглухо закрепив второе.
За ночь море расшатало «Ра» сильнее, чем когда-либо. На рассвете амплитуда качания мачты на уровне крыши достигла 60 сантиметров, а макушку на высоте 9 метров мотало так, что сам Карло с трудом удерживался на ней. По примеру древних египтян каждое колено двуногой мачты мы утопили внизу в ямку на плоской деревянной пяте, установленной прямо на папирусе. Толстый деревянный угольник жестко соединял мачту с пятой, но теперь скреплявшие их веревки настолько ослабли, что оба колена лихо плясали, грозя выскочить из ямок. Да и ванты, похожие на параллельные струны, то провисали, вместо того чтобы притягивать колена к бортам, то вдруг натягивались так, что даже страшно: сейчас либо мачта сломается, либо лопнут папирусные связки, – ведь ванты были закреплены за толстый канат, обрамляющий весь фальшборт.
Мы вбили под пяту деревянные клинья и принялись за разгулявшиеся ванты – подтянешь одну, гляди, как бы не лопнула, пока остальные еще провисают. И вот мачта снова укрощена.
В этот день мы не могли пожаловаться на одиночество. На палубу градом сыпались летучие рыбки. Мы прошли мимо большой луны-рыбы, безжизненно лежавшей на воде. Какая-то тварь заглотала крючок и размотала всю леску на спиннинге Жоржа. Не успел он ее вытащить, как другая рыбина перехватила улов, и Жоржу досталась лишь голова. «Ра» мчалась по горам и долам с рекордной скоростью, и мы были изрядно обескуражены, когда Норман, определив в полдень наше место, сказал, что мы не так уж много прошли. Нас снесло течением на юг.
За одни сутки правый угол нашей кормы осел настолько, что конец рулевого бруса то и дело зарывался в волну и тормозил. На кормовой палубе вода стояла по щиколотку, а иные гребни докатывались до ящика со спасательным плотом, уложенного под мостиком. Всякий раз ящик ерзал и тер веревки.
На следующий день море продолжало бушевать, а с крепнущим нордом вернулся и холод. Регулируя крепление рулевого бруса, который все время врезался в воду, Юрий увидел на нем какой-то голубой пузырь и схватил его руками, чтобы сбросить. Юрий в жизни не встречался с «португальским военным корабликом» и даже не понял, что происходит, когда его руки вдруг оказались опутанными длинными жгучими нитями физалии – одной из самых опасных, несмотря на малые размеры, тварей Атлантического океана. Этот каверзный пузырь не единичная особь, а целая колония мельчайших организмов, объединенных сложными взаимоотношениями, и у каждого свои особенности и функции. Единственная задача самой крупной особи, пузыря – поддерживать эту удивительную артель на плаву. За ним волочится пучок многометровых арканчиков, составленных из маленьких граждан сообщества. Кто-то добывает пищу для всей колонии, кто-то отвечает за размножение, есть и солдаты, они буквально стреляют едкой кислотой в добычу и врагов. Самые крупные «португальские военные кораблики» могут даже парализовать и убить человека, такие случаи известны.
Жгучая боль через кожу распространилась по нервам, сковала мышцы правой руки нашего судового врача и подобралась к сердцу. Бедняга полез в аптечку и перебрал все: от мазей до сердечных и нервных таблеток. Четыре часа понадобилось ему, чтобы укротить боль и восстановить подвижность руки.
Тринадцатого июня в щелях и вантах свистел леденящий норд-норд-ост, и море ярилось пуще прежнего. Лодка извивалась, рыча, визжа и скрипя всеми суставами, волны беспорядочно громоздились друг на друга и накрывали корму «Ра». Иные гребни обрушивали на папирус по несколько тонн воды, и мы видели, как корма все больше поникает под натиском самых тяжелых каскадов. И ничего нельзя поделать, стой и смотри, когда лишняя вода скатится через оба борта, и останется наш популярный бассейн, где теперь было по колено. Абдулла только смеялся и уверял, что все это ерунда. Пока веревки целы, мы не потонем. Продрогший от холода, но веселый, он бродил в штормовке по палубе, прижимая к уху свой карманный приемник. Какая-то арабская станция рассказывала на французском языке о событиях в Чаде: там пока что верх взяли мусульмане.
Почти весь день вокруг лодки резвилась великолепная сине-зеленая корифена, она оборвала леску и уж после этого не клевала, и гарпуном ее взять не удалось. Карло затеял готовить обед из вяленой рыбы, в это время что-то шлепнуло его по загривку и забарабанило по каюте. Одиннадцать летучих рыб корчились на палубе – собирай и клади на сковороду.
С 14 по 17 июня море неистовствовало, с разных сторон наперерез друг другу шли волны, высота которых никак не соответствовала ветру. Очевидно, здесь сталкивались течения, отраженные невидимыми берегами. Жорж жаловался на боли в спине, его уложили в постель. Абдуллу тошнило, но он сам себя исцелил снадобьем из двенадцати головок чеснока. Начал кряхтеть и шататься мостик, пришлось срочно укреплять его новыми узлами и растяжками. Юрий догадался переселить Симбада на корму, и тот принялся радостно плавать в нашем бассейне. У Сафи от досады расстроился желудок, и она поминутно бегала на край палубы. Просто поразительно, какой чистоплотной стала наша обезьянка. Вдруг из воды выскочил косяк огромных, чуть не двухметровых тунцов, Сафи дико перетрусила и забилась в корзину, откуда ее так и не удалось выманить, пока Жорж с наступлением темноты не пересадил трусишку в ее персональный чемодан-спальню в каюте.
«Ра» судорожно корчилась и выписывала немыслимые кренделя, прилаживаясь к хаотической пляске волн, и колена мачты снова запрыгали в своих плоских деревянных башмаках. Лодка скрипела не так, как прежде, – казалось, что дует могучий ветер, когда сотни тысяч связанных веревками стеблей раскачивались на волнах. Пол, стены и крыша каюты тоже скрипели на новые голоса. Ящики под нами перекосились, крышки заклинивались; где ни ляжешь, ни сядешь, ни станешь, под тобой все корежится. Ванты нещадно дергали мачту, и при таком волнении мы не решались даже взяться за них, чтобы ослабить или подтянуть. Как ни холодно было, Жорж, Юрий и Норман прыгнули в воду, чтобы проверить днище. Стуча зубами, они доложили, что папирус в отличном состоянии, только корма висит, играя роль огромного тормоза. Надо было что-то предпринимать.
Неожиданно правое рулевое весло сорвалось с поперечины внизу и бешено задергалось, силясь оборвать и верхнее крепление, на мостике. Нам пришлось изрядно повозиться, стоя по пояс в бурлящей воде, прежде чем удалось поймать весло и закрепить его тросами. Причем рыбы кругом было столько, что Жорж ухитрился, не сходя с лодки, пронзить гарпуном корифену.
Надо что-то предпринимать, как-то обуздать ярость могучих каскадов, обрушивающихся на корму. Сколько еще она выдержит эту чудовищную нагрузку? Деревянная лодка давно переломилась бы.
Попробуем воздвигнуть барьер на пути волн... Мы собрали все обрезки папируса, и Абдулла с помощью Сантьяго и Карло, стоя по колено в воде, принялись сооружать из связок преграду. Могучий гребень захлестнул их по грудь, Абдуллу несколько раз смывало за борт, но страховочный конец крепко держал его, и он, смеясь, вылезал на палубу. Талисман не подкачает! Закончив работу, он поблагодарил аллаха.
Случилось то, чего я боялся. Чем выше мы делали барьер, тем больше воды застаивалось на корме, ведь разбухший папирус ее не пропускал. Придавленный огромной тяжестью, ахтерштевень все сильнее оседал. Тогда мы убрали барьер, воздвигнутый Абдуллой, но фальшборт уже успел прогнуться настолько, что на корму врывались целые горы воды, подмывая ящик со спасательным плотом. Пришлось поспешно восстанавливать преграду. Мы обрезали ножом веревки, крепившие две аварийных лодочки из папируса, и нарастили борт этим материалом, пошли в ход и папирусные спасательные круги, сделанные по фрескам в древних погребениях. Словом, мы использовали все растения до последнего стебля и подняли борта еще выше, а пруд на корме стал еще глубже. Теперь он занимал всю кормовую палубу, зато нас уже захлестывало не так сильно, середина лодки и нос по-прежнему оставались сухими.
Семнадцатого июня непогода прошла свой пик, ветер сместился к западу, и высокие волны выстроились вереницей. Всюду на лодке лежали летучие рыбы, одна даже угодила в кофейник. Видно, нас опять подхватила главная струя течения, потому что Норман, использовав минутный просвет в густой пелене туч, смог доложить, что за последние сутки пройдено 80 морских миль, то есть 148 километров, и это несмотря на тормоз, каким стала наша корма, похожая теперь на крабий хвост. 148 километров не так уж плохо, даже в масштабах карты мира.
В разгар бури мы находились примерно в 500 морских милях от берегов Западной Африки, и прямо по курсу у нас были острова Зеленого Мыса, лежащие к западу от Дакара. Течение и северный ветер несли нас на архипелаг, и в любую минуту, с любой стороны могла показаться земля – не очень-то приятная мысль, когда сражаешься со стихиями, обремененный неподатливой кормой, которой вздумалось изображать желтую подводную лодку.
Темным вечером, когда нам всюду чудились острова, Норман взял американскую лоцию для этого района и стал читать вслух. Под извивающимся потолком качался керосиновый фонарь, заставляя наши искаженные тени плясать и корчиться под жуткие звуки оркестра «Ра».
Мы услышали, что для гористых островов Зеленого Мыса характерны туманы и густая облачность, и хотя самые большие вершины достигают 2 тысяч метров, часто прибой показывается раньше, чем они. К тому же архипелаг омывают сильные и коварные течения, причина гибели множества кораблей. В полнолуние и новолуние могучие волны здесь особенно буйствуют. «Поэтому при плавании вблизи этих островов надо соблюдать большую осторожность», – заключил Норман чтение.
– Слышали, ребята? Будьте поосторожнее, – прокомментировал Юрий, забираясь в спальный мешок с головой.
Было как раз новолуние. Днем туман непроглядный, ночью – тьма беспросветная. Нас уже четверо суток несло на острова, значит, осталось совсем немного. Подхватит какая-нибудь сильная южная струя, и свидимся мы с ними в эту же ночь или наутро. Низкие тучи поливали нас дождем, и ни секстант, ни носометр не могли нам сказать, где именно мы находимся.
Восемнадцатое июня, драматический день... Где-то прямо по курсу или слева от нас, скрытые тучами и туманом, притаились острова Зеленого Мыса. Две недели назад мы прошли Канарские острова, не видя их из-за туч. Но сегодня опасности подстерегали нас не
только извне. Вот уже двадцать пять дней мы живем в дружбе и согласии на папирусных связках, и больше месяца, как они лежат на воде. Несмотря на всякие помехи, «Ра» прошла больше 2 тысяч километров, обогнула северо-западное побережье Африки и вот теперь по-настоящему начинает пересечение Атлантического океана от одного материка до другого. Если бы египтяне прошли от устья Нила столько же, сколько мы от Сафи, они очутились бы на Дону или за Гибралтаром. Доказано, что Средиземное море не исчерпывает радиус действия папирусной лодки.
Вот только эта окаянная корма. Ну что бы древним мудрецам оставить нам какую-нибудь инструкцию, мы загодя разобрались бы во всех особенностях папирусной лодки и спокойно приступили бы к траверсу океана. А то ведь волны, вместо того чтобы подкатываться под лодку и поднимать ее вверх на гребне, теперь наваливаются на корму и подминают ее под себя. Ночью волна дотянулась до самой каюты, и я проснулся от того, что мне вылили на голову ведро холодной воды. Даже вкладыш спального мешка намок.
– Мы стартуем с гирями на ногах, ребята, – повинился я.
И тут Сантьяго бросил спичку в пороховой погреб.
– Давайте распилим спасательный плот, – вдруг объявил он.
– Вот именно, – сказал я. – С папирусными лодочками расправились, теперь и пенопластовый плот туда же.
– Да нет, я серьезно, – настаивал Сантьяго. – Мы должны как-то поднять ахтерштевень. Папируса больше нет, а пенопласт можно распилить на куски и использовать так же, как древние египтяне использовали запасной папирус.
– Он рехнулся, – произнесло сразу несколько голосов на разных языках.
Но Сантьяго не сдавался.
– Ты взял спасательный плот на шесть человек, а нас семеро, – вызывающе обратился он ко мне. – И не раз говорил, что сам никогда не перейдешь на спасательный плот.
– Следующий размер был на двенадцать человек, – объяснил я. – Это слишком. Но я могу еще раз сказать, что лично я останусь на нашем папирусном венике, если вы вдруг вздумаете перейти на эту пенопластовую козявку.
– Я тоже, – подхватил Абдулла. – Давайте распилим плот, ящик только трет наши веревки.
– Нет, – возразил я. – Плот все-таки помогает экипажу чувствовать себя надежнее. Ведь мы проводим научный эксперимент. А без плота уже никто не сможет оставить папирус.
– Да брось ты, давай пилу, зачем нам плот, которым все равно никто не воспользуется, – продолжал заводить нас Сантьяго.
И ребята завелись. Однако все пошли посмотреть на тяжелый упаковочный ящик, который Абдулла хотел убрать.
За каютой и мостиком от лодки словно ничего не осталось, лишь кривой хвост в гордом одиночестве торчал из воды, отделенный от нас бурлящими гребнями, которые захлестывали корму с одной стороны и скатывались с другой. Ящик с плотом подмывало, и он качался между стояками, расшатывая весь мостик.
Абдулла взялся за висевший по соседству топор, но тут Юрий восстал. Это безрассудство. Мы должны подумать о наших близких. Норман поддержал его: родные в ужас придут, если мы останемся без спасательного плота. Жорж отобрал топор у Абдуллы. Карло колебался. Он считал, что решать должен я. Впервые на «Ра» назревал серьезный раскол. В жизненно важном вопросе мнения разделились, и обе стороны одинаково яро отстаивали свой взгляд.
Когда мы расселись на бурдюках, мешках и кувшинах вокруг обеденного стола, на который Карло поставил солонину, омлет и марокканское селло, царила предгрозовая тишина. Сухой папирус у нас под ногами то сжимался, то растягивался в лад высокой и частой волне. Всего прочнее папирус был в подводной части, где он намок. «Ра» сама шла по ветру с закрепленными наглухо после ремонта рулевыми веслами и тормозящим ход крабьим хвостом. Юрий, Норман и Жорж хмуро смотрели на нависшие со всех сторон мрачные грозовые тучи и энергично давили пальцами миндаль, готовясь отстаивать свою позицию. Надо осторожно проколоть нарыв...
– Мало ли что может случиться, – я старался говорить бодро и весело. – Давайте разберем все случаи, когда нам может понадобиться спасательный плот. Лично я больше всего боюсь, чтобы кто-нибудь не упал за борт.
– А я больше всего, как бы нас не потопил какой-нибудь пароход, – сказал Норман. – Еще боюсь пожара на борту.
– Нос хорошо держится на воде, – послышался голос Юрия, – зато корма... А что будет через месяц?
– Все верно, – согласился я. – И ведь теоретически еще возможно, что скептики правы, папирус со временем распадется в морской воде.
– А я, – тихо произнес Жорж, который не знал, что такое страх, – я боюсь урагана.
Шесть доводов за то, чтобы держать в запасе спасательный плот. Больше никто ничего не мог придумать. Но и шести доводов хватит. Ладно, попробуем представить себе эти шесть случаев, и что каждый станет делать. Мы загибали пальцы один за другим.
Случай первый: человек за бортом. Это никого не страшило, ведь мы страховались веревкой, как в горах. К тому же за лодкой на длинном конце тащился спасательный пояс. Если кто-то, выйдя ночью на палубу прогуляться, споткнется о кувшин и ухнет за борт, спускать на воду плот нет смысла. Квадратный, низкий, с двумя палатками: одной – наверху, другой – внизу, смотря по тому, как ляжет плот, он не рассчитан на быстрый ход и отстанет от «Ра», даже если убрать парус.
Никто не спорил.
Случай второй: столкновение. Все были согласны, что мы просто не успеем спустить на воду плот, если «Ра» разрежет пополам. И даже если он окажется на воде, все предпочтут спасаться на уцелевшей части «Ра».
Случай третий: пожар. В Сахаре «Ра» вспыхнула бы, как папиросная бумага, но здесь ее поджечь не так-то просто. К тому же у нас есть огнетушитель. Курить разрешалось только с подветренной стороны, где искры уносило за борт, а наветренная сторона так пропиталась водой, что ей никакой пожар не страшен. Кто же предпочтет тесный плотик неподвластной огню половине «Ра»?
Случай четвертый: папирус начнет тонуть. За месяц мы убедились, что папирус, хоть и впитывает воду, погружается так медленно, что мы вполне сумеем передать «СОС». Но «СОС» передавать придется все равно, если мы перейдем на плотик. Каждый предпочитал лежать в относительно просторной каюте, чем сидеть впритирку и ждать помощи в палаточке на плоту.
Случай пятый: папирус сгниет и распадется. Мы уже удостоверились, что эксперты по папирусу тут сплоховали. Они проводили свои опыты в стоячей воде. Все члены экипажа могли подтвердить, что папирус и веревки стали прочнее прежнего, и мы единодушно сняли с повестки дня пятую угрозу.
Случай шестой: ураган. Вероятность урагана становилась вполне реальной с приближением к Вест-Индии. Может быть, могучий ветер снесет за борт мачты, весла, мостик, даже оторвет обвисшую корму. Но стихии уже и раз, и два испытывали нашу ладью, и мы не сомневались, что наша гибкая каюта устоит на главных, средних связках «Ра», а значит, у нас будет плот, где места для провианта и для нас самих останется больше, чем на пенопластовом пятачке.
Совет еще не кончился, а все уже повеселели. Какой бы случай мы ни рассмотрели, никто не предпочел спасательный плот папирусным связкам «Ра». У Юрия явно отлегло от сердца, он посмеивался и озадаченно качал головой. Карло хохотал. Норман глубоко вздохнул и первым поднялся с места:
– Ладно. Пошли за пилой!
Все рвались на корму, но волны с такой силой наваливались на нашу притопленную палубу, что не стоило слишком перегружать ее, достаточно и трех человек. Пошли Норман, Абдулла и я. Орудуя топором, ножом и пилой, мы разломали тяжелый упаковочный ящик и отправили за борт доски и пластиковую обертку. Они казались неуместными на «Ра». Появился зеленый пенопластовый плот. К ужасу Абдуллы выяснилось, что многие веревки, скрепляющие основу лодки, перетерты ящиком, который ерзал под напором волн. Словно когти мертвеца, из папируса торчали обрывки веревок. Если бы папирус не разбух, они бы вовсе выскочили, и развалилась бы вся корма.
Абдулла живо завязал новые узлы. Мы работали по колено в бурлящих волнах, и он показал, что кожа у него на ногах за последние дни так размокла от морской воды, что сходит большими лоскутами. Вдруг я почувствовал, как могучий вал, подкатившись под «Ра», поднимает лодку вверх и разворачивает боком. Я качнулся, стараясь удержать равновесие, в эту минуту раздался оглушительный рев воды и треск ломающегося дерева. Волна сзади захлестнула меня до пояса и поволокла к левому борту, я нагнулся, хотел ухватиться за веревку, чтобы не очутиться за бортом, и тут какой-то обломок с маху огрел меня по спине. Я услышал отчаянный крик Нормана: «Тур, берегись!» – и решил, что страшный треск исходит от мостика, это он не выдержал и рухнул на нас. Палуба ходила ходуном, сверху на меня давили обломки. Сейчас корма и мостик поплывут у нас в кильватере, и сами мы будем болтаться в воде на страховочных концах... Но волна схлынула, и мы по-прежнему стояли по колено в воде, только загадочный обломок не давал мне выпрямиться.
– Это рулевое весло! – объяснил Норман и помог мне высвободиться.
Над нами прыгали зазубренные концы двух бревен. Толстенное веретено весла и привязанный к нему для прочности брус – запасная мачта – сломались, и широченная лопасть опять волочилась на веревках за кормой, болтаясь, будто хвост сердитого кита, но Карло, Сантьяго и Норман тотчас бросились ее вытаскивать, Абдулла в это время в одиночку воевал с всплывшим на воде плотиком, а я возился с стокилограммовой бочкой, которая сорвалась с своего места под мостиком и грозила натворить бед, если не оттащить ее подальше от бушующих на корме каскадов.
Ночью, когда я вышел на вахту, Абдулла доложил, что теперь нас окружают добрые волны-исполины без маленьких злых волн на спине. «Ра» переваливала через гребни размеренно и спокойно; сломанное левое рулевое весло заменили два малых гребных весла. Посветив на волну карманным фонариком, можно было разглядеть кальмаров в толще воды, как за стеклом музейной витрины. Египетский парус отчетливо вырисовывался на фоне мерцающих просветов в облачной пелене, но горизонт оставался незримым во мраке, а то, что казалось звездочками на краю неба, на самом деле было всего только светящимся планктоном, могучий вал поднимал его вровень с нашими глазами.

Со странным чувством принялись мы на другой день распиливать наш новенький плот... Норман посмотрел на меня, я – на него, и я невольно помешкал секунду, прежде чем пропороть пилой брезент и пенопласт. И вот уже мы, стоя по колено в воде, втроем сокрушаем наше единственное спасательное средство.
– Люди подумают, что мы спятили, – усмехнулся Юрий. – Нас никто не поймет.
Но мы основательно взвесили наше решение и приняли его единогласно. Плотик распилили на полосы шириной с папирусную связку, укрепили их под водой на затопленной палубе, и случилось чудо. Корма приподнялась так, что управлять лодкой стало легче, и волны опять прокатывались под нами, вместо того чтобы врываться в нашу ванну.
Это событие заслуживало того, чтобы его отметить. Ведь мы не знали, что море все-таки проберется на палубу и кусок за куском смоет пенопласт с папируса. Как будто Нептун хотел нам сказать: «Бросьте эти штучки. У людей фараона пенопласта не было». Радость наша недолго продлилась. Ладно, зато мы освободили кормовую палубу от опасной нагрузки.
Девятнадцатого июня мы оказались в таком месте, где основное течение сталкивалось с отраженными от береговых утесов струями, и беспорядочная волна превратила поверхность океана в нечто несусветное. Палуба «Ра» колыхалась, как одеяло, и кое-где сухой папирус вспучивался буграми. Между мачтой и каютой, где обычно двое могли пройти бок о бок, теперь и одному-то человеку надо было глядеть в оба, чтобы прошмыгнуть, а щель между мостиком и каютой смыкалась, словно челюсти щелкунчика. Сядешь в каюте на два ящика – они так и норовят тебя ущипнуть. Лопнул один кувшин, и из него, на радость Сафи, высыпались орехи. А из другого кувшина, который долго терся о соседа, через дыру в боку вытекла вся вода.
Мы починили левое рулевое весло и спустили его за борт, стоя по пояс в бурлящей воде, но оно вскоре сломалось, так что лопасть болталась на веревках за кормой, а развернувшийся парус застиг врасплох Карло и Сантьяго, которые набирали воду из бурдюка, и бросил их на фальшборт. Быть бы им за бортом, если бы не страховочные концы. Здоровенная летучая рыба приземлилась на палубе и долго плавала в пруду на корме, ловко уходя из рук Абдуллы, пытавшегося ее поймать.
Возясь с веслами и парусом, я сильно ушиб руку, и она еще болела, когда я ночью поднялся на мостик, чтобы сменить Сантьяго. Он молча показал на огонь с левого борта. Крепко держась за перила и расставив ноги для устойчивости, мы вместе всматривались в мрак. Острова Зеленого Мыса? Нет, судно. Оно шло прямо на нас. Замигали сигналы. Слишком быстро, чтобы мы могли их прочесть, но было ясно, что нас о чем-то запрашивают.
– «Ра» порядок, «Ра» порядок, – просемафорили мы карманным фонариком.
Судно подошло совсем близко. Видимо, это был патрульный катер с Зеленого Мыса. Его здорово трепала бортовая качка, нас больше кидало вверх-вниз.
– «Ра», бон вояж.
Это пожелание было передано помедленнее, так что мы успели его прочесть.
Счастливого плавания... Катер развернулся, и вот уже согревающие душу огни исчезли во мраке.
– Счастливого плавания, – сказал я Сантьяго, который отправился спать.
Через два часа я посвистел в щель: пора Юрию на вахту, остальные пусть спят. Вдруг словно сам Нептун ухватился за широкую лопасть рулевого весла, купающуюся в черных волнах. Могучая сила вырвала весло у меня из рук, лодка накренилась, из тьмы с ревом ринулись вперед белопенные каскады, и вся палуба внизу скрылась под водой. Мостик дрожал, отвратительно трещало ломающееся дерево. Кажется, мостику пришел конец? Нет, это второе рулевое весло не устояло. Теперь нам нечем править. Пришлось криком поднимать всю команду. Парус полоскался. На палубе гуляли волны. Скрипели веревки и дерево, заглушая команды. Пошел дождь. Мы отдали оба наших плавучих якоря. И лодка выровнялась.
– Пожелали нам счастливого плавания, – произнес Сантьяго, глядя в ночную тьму. Там больше не было видно огней. Все берега остались позади, а впереди простирался Атлантический океан.
– Счастливой вахты, Юрий. Править тебе нечем.
Глава 10
В американские воды.
Пять тысяч километров на морской тяге с грузом океанских волн

На борту «Ра» был праздник. Море и небо улыбались. Сухую носовую палубу пекло тропическое солнце, на кормовой палубе мирно плескался Атлантический океан.
В бамбуковой каюте прохладная тень, на желтой стенке висит на веревочках голубая карта Атлантики с вереницей карандашных кружочков. Последний, только что нарисованный кружочек свидетельствует, что сегодня мы перевалили сороковой меридиан и вошли, так сказать, в американскую область Атлантического океана. Вот уже несколько дней ближайшая к нам земля – Бразилия, да-да, мы теперь гораздо ближе к Южной Америке, чем к Африке, но мы пересекаем океан в самой широкой части, идя почти прямо на запад, и по курсу ближайшая суша – Вест-Индия.
Событие, заслуживающее того, чтобы его отметить. Нашему итальянскому коку-чародею ассистировал гурман Жорж, он приготовил изысканные египетские блюда. После закуски (марокканские маслины, бутерброды с соленой колбасой и вяленая египетская икра) каждый получил по огромному омлету с артишоками, луком, помидорами, кусочками копченой баранины и острым овечьим сыром и со всевозможными приправами от египетского камона до красного перца и редкостных трав. На третье был подан изюм, чернослив, миндаль и – самое замечательное – тройная порция медового марокканского селло мадам Айши.
Холодильник? Консервный нож? Представители семи стран на фараоновом пиру отлично обходились без них и уписывали за обе щеки, а папирусный кораблик сам шел на всех парусах нужным курсом, без вахтенного на мостике.
У нас была на борту целая плавучая бакалея. Заведовал ею Сантьяго, наш мексиканский квартирмейстер, единственным легальным клиентом был Карло, а единственным воришкой – Сафи. Она не умела читать номера, проставленные завхозом, однако ухитрялась откупоривать именно те кувшины, в которых лежали орехи.
Из книжечки Сантьяго следовало, в частности, что в кувшинах 1-6 лежат яйца в известковой воде, кувшины 15-17 наполнены вареными томатами в оливковом масле, в амфорах 33-34 под слоем перца хранится домашний овечий сыр, нарезанный кубиками и залитый оливковым маслом. В кувшины 51-53 Айша положила масло, топленное и посоленное по берберскому рецепту. В амфорах 70-160 – чистая вода, набранная в колодце под Сафи. Чтобы не зацвела вода в бурдюках, мы по примеру жителей пустыни положили в нее комочки смолы. Кроме того, в кувшинах, корзинах и мешках хранились мед, соль, горох, фасоль, рис, зерно и мука, сушеные овощи, каркаде, кокосовые орехи, цареградский стручок карубу, орехи, финики, миндаль, инжир, чернослив и изюм. Запаса свежих овощей, корнеплодов и фруктов хватило лишь на две-три недели. Под бамбуковым навесом впереди висели соленое и копченое мясо и колбасы, связки лука, сушеная рыба, прессованная египетская икра в сетках. Под этими продуктами стояли ящики с сухарями и лепешками – русскими, норвежскими и древнеегипетскими. Конечно, дело было не в том, можем ли мы прожить на чисто древнеегипетском меню, а в том, годится ли папирусная лодка в море. Но нам хотелось также выяснить, могли ли выдержать такое плавание корзины и кувшины, и можно ли прожить без консервов и замороженных продуктов, если рыба не клюет. Пока что нам это удавалось без труда.
Но когда Жорж по случаю пересечения сорокового меридиана нарушил правила игры и откупорил одну из двух бутылок шампанского из наших запасов, а Юрий налил в русские деревянные чашки свою зверскую настойку, Абдулла забил отбой. Похлопав себя по туго набитому животу, он полез через кувшины в наш корабельный бассейн, чтобы совершить омовение перед благодарственной молитвой аллаху.
Вернувшись после молитвы к своим земным товарищам, он попросил объяснить ему, что это за карандашная пометка на карте, которой он обязан таким превосходным обедом. Он уже усвоил, что мы время от времени переставляем часы, потому что земля круглая, и солнце не может освещать шар сразу со всех сторон. Разобрался он и в том, почему часы Карло вот уже больше месяца идут без завода, лежа в своей коробочке: каюта «Ра» колышется и обеспечивает автоматический завод. Но он не мог уразуметь, почему мы каждый день отмечаем наш путь на карте, расчерченной вдоль и поперек прямыми линиями. Вот сегодня мы прошли уже сороковой меридиан, а он еще ни одного не видел. Норман растолковал ему, что земля и моря разбиты на воображаемые клетки с номерами, чтобы люди могли объяснить при помощи цифр, где они находятся.
– А-а, – смекнул Абдулла. – На суше клетки лежат неподвижно, а на море они плывут с течением на запад, даже если нет ветра.
– Нет, клетки как бы нанесены на морском дне, – перебил его Норман.
И объяснил, что мы вышли в путь из Сафи, это на девятом градусе западной долготы, а сегодня пересекли сороковой градус. Но в это же время нас снесло на юг от тридцать второго градуса северной широты до пятнадцатого, и теперь мы находимся на той же широте, что родина Абдуллы.
После этого Абдулла уже сам определил, что крайняя западная точка Африки, Дакар, лежит на восемнадцатом градусе западной долготы, а крайняя восточная точка бразильского побережья, Ресифе, – на тридцать шестом, значит, пройдя сороковой меридиан, мы и впрямь имеем полное право отметить переход в американскую область Атлантического океана.
На палубе тем временем продолжалось гуляние. Взобравшись на кухонный ящик, Юрий, насколько позволяла качка, плясал и пел русские народные песни. Когда дошла очередь до «Стеньки Разина», мы дружно подтянули. Затем на «эстраду» вышел Норман, он играл на губной гармонике «Там в долине» и другие ковбойские песни, а остальные подпевали. Италия представила на суд публики бравурные альпийские марши, Мексика – зажигательные революционные мелодии, Норвегия – мирные матросские песенки, Египет – причудливые горловые звуки и танец живота. Но первое место занял Чад; во-первых, Абдулла выступал с искренним увлечением, во-вторых, получился очень уж странный контраст между вечным плеском моря и барабанной дробью, которую выбивал на кастрюле африканец, напевая свои зажигательные родные мотивы.
Время от времени вахтенный поднимался на мостик, чтобы взглянуть на компас. Мы шли с попутным ветром прямо на запад, средняя скорость 50-60 морских миль, или около 100 километров в сутки. Первые шесть суток после островов Зеленого Мыса мы основательно помучились с затопленной кормой, пытаясь хоть как-то править составленными из обломков неуклюжими веслами. Здесь же, посередине океана, волны стали куда покладистее, и нам удалось наладить своего рода модус вивенди с окружающей нас стихией. Мы разрешали волнам бесплатно кататься на нашем прицепе, а течение с приличной скоростью несло и волны, и людей на запад.
Не один Карло тихо страдал, глядя на то, как хвост «Ра» одиноко торчит из моря за лодкой. В самом деле, обидно: была такая гордая золотая птица, а теперь – спереди лебедь, сзади лягушка. Ладно, сегодня праздник, будем держаться лебедя и пореже вспоминать о лягушке.
На закате мы составили шумовой оркестр из кухонной утвари Карло. «Ра» поскрипывала так деликатно, что наши изысканные инструменты легко заглушили кошачий концерт папирусных стеблей. Временно оставшись без посуды, Карло подал на ужин одни лишь русские черные сухари с медом. Они показались нам вкуснее любого торта, вот только очень уж твердые, прямо кокс. Я лихо управлялся с ними, вдруг что-то хрустнуло, и моя единственная коронка выскочила на папирусную палубу. Я мрачно потрогал кончиком языка противную дырочку.
– Плохой коммунистический хлеб! – поддел Норман нашего русского судового врача.
Юрий нагнулся, поднял обломившуюся коронку и внимательно ее рассмотрел.
– Плохой капиталистический зубной врач! – отпарировал он.
Под песни, музыку и смех наш праздник продолжался, пока бог Солнца не погрузился в море прямо по ходу своего морского тезки. Казалось, лучезарный шар зовет лебединую шею нашей «Ра» на запад, на запад! Великолепные лучи, краше всякого королевского венца, распластались диадемой в небе над горизонтом. Тропическое море пыталось имитировать северное сияние. Ослепительное золото, потом кровавый багрец, потом оранжевый, зеленый, фиолетовый цвета. Медленно небо стало чернеть, и так же медленно в пустоте, где исчезло царь-солнце, возникли мерцающие звезды. Его величество удалилось, и тотчас высыпали простолюдины, спеша последовать за ним на запад.
Удобно философствовать, лежа на открытой палубе, на пустых и полных бурдюках. Взгляд ни во что не упирается, ничто не нарушает и не тормозит ток мыслей. Позади чудесный день, мы плотно поели, посмеялись, повеселились, теперь хочется только любоваться созвездиями, пусть мысли отдыхают, текут непринужденно.
– Ты славный парень, Юрий, – сказал Норман. – В России много таких, как ты?
– Таких, как я, еще два наберется, – ответил Юрий. – Остальные будут получше. А у тебя в Америке остался хоть один приличный капиталист после того, как ты ушел с нами в рейс?
– Спасибо за комплимент, – сказал Норман. – Если я для тебя гожусь, то сколько приятных встреч у тебя будет, когда мы придем в Америку!
Завязалась мирная дискуссия о коммунизме и капитализме, антикоммунизме и антикапитализме, самодержавии и диктатуре масс, о том, какие материальные блага и свободы важнее и почему руководители не могут договориться, хотя рядовые граждане всех стран отлично ладят, когда им представляется случай ближе узнать друг друга. Кто породил движение хиппи в разных концах света – молодежь или родители, умрет оно или будет шириться вместе с развитием цивилизации, не следует ли считать это движение своего рода сигналом, что цивилизация, которую мы и наши отцы день и ночь лихорадочно воздвигаем, твердо веря в нее, будет забракована грядущими поколениями. Египтяне и шумеры, майя и инки сооружали пирамиды, бальзамировали мумии и считали, что идут по верному пути. Они отстаивали свои идеи пращой и луком со стрелами. Мы считаем, что они неверно понимали смысл жизни. Поэтому мы производим атомные ракеты и стремимся на Луну. Отстаиваем свою политику атомными бомбами и антиантиракетами. Теперь наши дети устраивают сидячие демонстрации протеста, навешивают на себя индейские броши, отращивают волосы и бренчат на гитаре. С помощью искусственных средств уходят от действительности, уходят в себя, а глубины собственной души больше глубин космоса.
Как не настроиться на философский лад, когда планктон и звезды те же, и мир тот же, каким он был задолго до того, как его увидел глаз человека, и миллиарды хлопотливых пальцев принялись его преображать. Когда вместе сидишь под звездами и знаешь, что вместе пойдешь ко дну или поплывешь дальше, терпимое отношение к взглядам другого дается куда легче, чем когда сидишь по разные стороны границы и, уткнув нос в газету или телеэкран, заглатываешь тщательно причесанные фразы.
На борту «Ра» ни разу не доходило до политических или религиозных перепалок. У каждого свои взгляды. Экипаж составлялся так, чтобы представлять крайние противоположности, да так оно и вышло, однако общее наименьшее кратное было не так уж мало. Найти его ничего не стоило. Может быть, это потому, что наша семерка мыслила себя как некое единство в противовес нашим соседям здесь, в океане, которые дышали жабрами и жили совсем другими интересами и чаяниями. Что ни говори, люди чертовски схожи между собой, пусть у одного нос с горбинкой, а у другого плоский.
В темноте раздался плеск, тяжелая рыба забилась о папирус и бамбук. Ликующий голос Жоржа возвестил, что он пронзил гарпуном полуметровую корифену. В свете его фонаря мы разглядели кальмаров, которые плыли за нами задом наперед, вытянув щупальца над головой. Они двигались энергичными рывками, прокачивая через себя воду. Вот именно, реактивное движение. Они его освоили, чтобы спасаться от преследователей. Освоили раньше нас.

Кашалоты, которые нас навещали, погружаются на тысячу метров, где давление достигает ста атмосфер, и там, в вечном мраке, они не бодают дно головой, потому что у них есть свой радар. Они освоили его раньше нас.
– Юрий, скажи, как атеист, может ли быть какой-нибудь смысл во всем том, что мерцает там, наверху, если там еще не побывали люди?
– При чем тут атеист? Просто я не верю во все эти церковные штучки.
– Во всяком случае у Дарвина нет расхождения с церковью в том, что солнце и луна, рыбы, птицы и обезьяны появились раньше нас. И когда наконец на сцену вышел человек, все уже было готово, нам теперь остается только ломать себе голову, как же все-таки устроена Вселенная и мы сами.
Какое блаженство расслабиться и лежать в дружеском лоне притихшего океана, созерцая те самые картины, какие созерцали мореплаватели и землепроходцы тысячи лет до нас. Люди современного большого города ослеплены уличным освещением, они лишились звездного неба. Космонавты пытаются вновь обрести его.
Меня клонило в сон. Мы решили, что не мешает всем поспать, кроме вахтенного. На нашу долю выпало немало тяжелых дней, и неизвестно, что нас ждет. Новая буря грозит нам большими неприятностями. Ахтерштевень совсем ушел под воду, а задний торец и правую стенку каюты-корзины мы обтянули брезентом, потому что каскады с кормы поливали водой тех, кто спал головой назад. Без особого удовольствия вспоминал я последние дни перед тем, как пошла более ровная зыбь.
После того как мы у островов Зеленого Мыса остались без обоих рулевых весел, Юрий и Жорж придумали временное решение: ночью на вахту заступали двое, и они кое-как правили лодкой, потравливая и выбирая шкоты паруса. В конце концов все сводилось к тому, чтобы держать корму к ветру и парус был наполнен, а не полоскался и не бил о мачту. В первые ночи после островов Зеленого Мыса нас преследовали могучие валы, они с грохотом разбивались о задний торец каюты выше брезента и скатывались через борта. От непрестанной бомбардировки в изголовье было трудно уснуть, а только заснешь – тебя уже поднимают, выходи на палубу, в ночной мрак, сражаться с огромным восьмиметровым парусом, который опять вывернулся. Бушуют волны, хлещет парусина. Нас бросало, как марионеток, на кувшины, мы шатались между каютой и фальшбортом, словно боксер после второго нокдауна. Спина и лицо в струях соленой воды.
Что, не успел вернуться в спальный мешок, снова выходить?.. На палубе лежит завтрак – четырнадцать летучих рыб. Семь корифен за час наловил! Куда столько, Жорж! Абдулла всего не съест. Пусть плывут с нами, будет свежая рыба, когда захотим. Две ушли в пруд на корме, одна плавала под мостиком, третья забилась под кормовую поперечину. Долго длился поединок между рыбами и людьми, которые ловили их в воде руками. Что ни рыбина, то скользкий, тугой комок мышц. Одной рукой за тонкий хвост, другой за жабры – теперь уже не уйдет с волной за борт. Вдруг сорвался поперечный брус, на который опирались стояки мостика. Раздался треск, и весь мостик перекосился. Веревок, веревок! Вода захлестывает с головой. Молодцы, ребята! Теперь уже не лопнут. Ну как, доволен, Карло? Это же совсем как в Альпах. Эй, Жорж, да ты спишь сидя. Давай-ка, мы отнесем тебя в постель. Черт, до чего руки ноют.
Что это – я сплю? Нет, только дремлю. Мы еще на «Ра»? Конечно, я слышу скрип папируса. Но небо звездное, кругом океанский простор.
Вспоминая эти первые дни после архипелага Зеленого Мыса, трудно было даже их разделить, они сливались в одно. Но в дневнике я читаю про 20 июня, что это самый тяжелый день с начала рейса. 21 июня записано, что за все плавание не было худшей ночи. А следующий день был ничуть не лучше. И однако без руля и паруса, с основательно тормозящим ход плавучим якорем мы все же прошли за день в сторону Америки 31 морскую милю, или 57 километров; правда, это была самая маленькая цифра за весь рейс. 22 июня кормовая поперечина, зарываясь в воду, так упорно сбивала нас с курса, что пришлось Жоржу, надев маску для ныряния, отпилить под водой конец бревна.
Мы работали втроем, в это время к лодке подошло около десятка черно-белых дельфинов, они затеяли игру так близко, что хоть рукой погладь. Резвясь около самых связок папируса, они кувыркались так бесшумно, так легко, словно это были мыльные пузыри, а не стокилограммовые крепыши. Жорж весь висел за бортом, мы с Абдуллой сидели на притопленном борту, и нас время от времени захлестывало до подмышек. Мы встретились с дельфинами в их родной стихии, они нас не трогали, и мы не мешали им играть в нашей общей большой ванне.
В этот день мы впервые обнаружили, что разбивающиеся о каюту волны проникают в щели, и по полу текут струи воды. На дне радиоящика стояла лужица. Пол каюты так сильно кренился вправо, что ребята стали разворачивать матрасы поперек.
Странная погода выдалась 25 июня. То похолодает, то опять откуда-то несет жаркий тропический воздух. Раза два волна горячего воздуха приносила явственный запах сухого песка, такой знакомый мне по Сахаре. Если бы я не полагался на наше счислимое место, можно было подумать, что нас несет мимо какого-то засушливого побережья. В ту ночь море разбушевалось, как никогда. Пришлось переносить все, что поддавалось переноске, еще ближе к носу. Наши спальные ящики подмывало водой, хотя «Ра» элегантнее, чем когда-либо, переваливала через беспорядочные волны, как будто мы летели на ковре-самолете.
И вот мы наконец вошли в область более тихой погоды: свежий ветер, солнце, мертвая зыбь, ровный Восточный и северо-восточный пассат – словом, стихии вели себя так, как и подобает в этих широтах. С переменой погоды появилась и первая акула. Она подошла встречным курсом и проскользнула так близко от свешенных в воду ног Жоржа, что он их очень быстро подобрал, но акула спокойно проследовала дальше и исчезла за кормой.
Двадцать восьмого июня выдался один из лучших дней за все плавание. Каждый был занят своим делом. Жорж сидел в дверях каюты и обучал Абдуллу арабской грамоте. Кто ловил рыбу, кто заполнял свой дневник. Вдруг раздался ужасный вопль. Кричал наш невозмутимый Норман. Он пошел на нос спустить в воду злополучное заземление, и вот теперь сам, с искаженным лицом, за бортом, как парализованный, не в силах вытащить ноги на палубу. У всех в голове мелькнула одна мысль: акула! Мы подняли его на борт. Ноги целы, зато сплошь опутаны розовыми арканчиками большого «португальского военного кораблика». Норман был без сознания, когда мы внесли его в каюту, и мы дали ему лекарство для сердца.
– Аммиак, – всполошился Юрий. – Нужен аммиак, чтобы нейтрализовать кислоту, которая разъедает ему кожу. В моче есть аммиак, ребята, вы уж постарайтесь!
Два часа Юрий смазывал кожу Нормана мочой из скорлупы кокосового ореха. Бедняга корчился от дикой боли, наконец забылся. Казалось, вся нижняя часть его тела и ноги нещадно исхлестаны плеткой. Очнувшись, Норман посмотрел сперва на свои ноги, потом на пузыри пены на пологих лоснящихся волнах и закричал, словно пьяный:
– Глядите, что делается, кругом сплошь «португальские военные кораблики»!
Миска горячего фруктового супа помогла ему прийти в себя. На следующий день Норман все еще был не в форме и ни с того ни с сего напустился на Жоржа. Впрочем, еще до вечера они помирились и сели вместе петь ковбойские песенки.
Тридцатого июня мы опять вошли в загрязненную область океана, целый день обгоняли черные комья мазута. А вечером далеко позади нас вынырнула из воды великолепная круглая луна. Лунные блики на желтом папирусе и бордовом парусе... Незабываемая ночь! Да только очень быстро поблекли звезды на востоке. Давно минул май, вот и июню конец, а мы не тонем, сами плывем и везем несколько тонн полезного груза.
Первого июля мы увидели на северо-западе пароход, весь в мачтах и лебедках. Следуя курсом на юго-восток, он прошел совсем близко от нас. Где-то здесь пролегала магистраль между США и Южной Африкой. Стоя на мостике, на каюте, на перекладинах мачты, весь экипаж «Ра» жадно впитывал взглядом эту примету нашего, двадцатого века. Вот последняя мачта скрылась за горизонтом, мы опять остались один на один с океаном. Жорж что-то грустно напевал на мостике. Вдруг он закричал:
– Они возвращаются!
В самом деле. Пароход показался снова там, где только что исчез, и теперь он шел прямо на нас. Видно, они недоумевали, что за чудо им повстречалось, и капитан решил вернуться, чтобы рассмотреть нас получше. И вот уже судно поравнялось с «Ра», видна на носу надпись: «Африканский Нептун. Нью-Йорк», а на палубы высыпала тьма людей, все машут нам руками.
– Вы нуждаетесь в помощи? – крикнул своим соотечественникам взыгравший духом Норман.
– Нет, спасибо, – ответил мегафон с мостика. – А может, вам что-нибудь нужно?
– Фрукты, – закричал наш экипаж на разных языках.
А «Ра» тем временем продолжала идти своим курсом, еще немного, и уткнулась бы папирусным носом в железный бок парохода, но тут мы закричали и замахали руками, капитан океанского лайнера поспешил пустить машину и в последнюю минуту отошел в сторону. Вот и передай что-нибудь на такое неуправляемое суденышко. Нептунов тезка описал широкую дугу вокруг маленького тезки солнечного бога и сбросил прямо по нашему курсу мешок, прикрепленный к оранжевому спасательному поясу. Жорж успел надеть гидрокостюм для защиты от «португальских военных корабликов», обвязался длинным страховочным концом и прыгнул в воду. И вот уже мы подтягиваем к лодке его вместе с дивной добычей: тридцать девять апельсинов, тридцать семь яблок, три лимона, четыре грейпфрута и кипа намокших американских журналов. Над волнами разнеслось наше дружное «спасибо», а палуба «Ра» неожиданно стала похожа на красочный рождественский стол. Кругом сплошное царство соленой воды, а у нас свежие фрукты, фруктовый салат. Даже зернышки и огрызки не пропали, первые достались Симбаду, вторые – Сафи.
Эти дни вспоминаются как одни из лучших за все плавание. Сооруженные Абдуллой папирусные баррикады и сеть растяжек, которыми Карло укрепил каюту и ахтерштевень, благотворно подействовали на наш кораблик, и он, наверное, казался вполне представительным тем, кто смотрел на нас с лайнера.
Что до нашего экипажа, то мы единодушно восхищались удивительной прочностью и грузоподъемностью папируса. Бумажный кораблик? Пусть так. Но почему-то только дерево ломалось. Папирус показал себя превосходным материалом. Теоретики, будь то этнографы или папирусоведы, совсем неверно оценивали его сопротивляемость морской воде. Ошибались и мы, полагая, что древние папирусные лодки на фресках египетских гробниц были примитивными судами. Лишь в одном египетская папирусная лодка сходна с плотом – они не тонут от пробоины в днище. И «Ра», и «Кон-Тики» можно назвать плотами в том смысле, что мы тут не имеем полого корпуса. Но дальше сравнивать папирусную ладью «Ра» с бревенчатым плотом «Кон-Тики» все равно что ставить автомобиль в ряд с телегой. Чтобы поехала телега, и лошади довольно, а водить автомашину может только человек, обученный инструктором и получивший права. У нас инструктора не было. Мы вышли в путь на мудреном египетском судне, не подозревая, что речь идет об очень сложной конструкции и надо знать приемы управления, если не хочешь попасть впросак. Лодка была сделана из первоклассного материала, но, не ведая всех ее секретов, ничего не стоило испортить какую-нибудь важную часть, пока доищешься на опыте, для чего они все служат и как ими оперировать. Мы все время учились на собственных удачах и неудачах.
Четвертого июля меня разбудил встревоженный Жорж, ему показалось, что на горизонте вокруг нас ходят смерчи. В лучах восходящего солнца черные полосы между небом и морем и впрямь выглядели грозно, но это были просто дождевые завесы. И вот уже по палубе и крыше хлещет ливень. Непривычный дробный звук разбудил ребят, и в этот ранний час весь экипаж выскочил на палубу, чтобы отмыть от соли волосы и тело. Собирать дождевую воду не было необходимости, у нас еще хватало воды в кувшинах. Кратковременные дожди шли весь этот день, и на второй, и на третий тоже. Они сгладили волны, и гребни стали совсем пологими, зато папирус весь намок и отяжелел. Пассат выдохся и лениво перебирал складки дождевых завес. Папирус так тихо скрипел, что, казалось, «Ра» крадется на цыпочках. Что это – затишье перед бурей?
А пока – купайся, сколько влезет, и чувствуй себя, как рыба в воде, любуясь тугими, набухшими связками папируса. Правда, радость наша омрачалась тем, что мы опять двое суток подряд шли в окружении сотен тысяч черных комков, которые, как и мы, направлялись в Америку. Нас подгонял ветер, их только течение, поэтому мы их опережали. Посередине океана, открытого для Европы Колумбом, нельзя сунуть руку в воду, чтобы не вымазаться в грязи... Некоторые комки успели обрасти ракушками.
На брюхе «Ра» поселились сотни длинношеих морских уточек и один робкий крабик. Иногда мы видели впереди ладьи целые косяки летучих рыб, будто сельдь идет. Они нас остерегались, а вот полосатые рыбки-лоцманы и пятнистые пампано до того осмелели, что щипали нас и даже прогрызли дыры в мешке с вяленой рыбой, которую Карло опустил за борт, чтобы вымочить.
Пятого июля египтянин Жорж впервые в жизни увидел радугу. Да и закат в тот день был на редкость многоцветный. Там, куда мы плыли, незримая кисть расписала небосвод красками, которых хватило бы на сотни радуг. В каюте Норман, согнувшись в три погибели над подвешенным к стене столиком, колдовал линейкой и картой, а мы лежали на сухих тюфяках и ждали, что у него получится. Сквозь щели в передней стене видно было, как гаснет симфония закатных красок. Карло зажег керосиновый фонарь, и тусклый огонек пополз вверх по перекладинам мачты.
– Итого мы прошли 3870 километров, – сообщил наконец Норман. – Сверх половины пути еще 1500 километров. Теперь нам до Вест-Индии осталось идти на 1530 километров меньше, чем пройдено от Сафи.
– Хвост тормозит, а то мы шли бы еще быстрее, – заметил Юрий. – Вчера всего 77 километров одолели.
– Верно, хвост тормозит, но еще хуже, что из-за него мы петляем. Сегодня на тридцать градусов отклонялись от курса к северу и к югу, а ведь все работали рулевыми веслами. Полный зигзаг – шестьдесят градусов, это будет немало лишних миль. Я беру в расчет только кратчайшее расстояние между полуденными позициями. Не петляй мы так из-за хвоста, уже дошли бы до цели.
– Да уж, знать бы, как управляться с папирусной лодкой, давно пересекли бы океан, – подхватил Жорж.
Тихо поскрипывал папирус, за стенкой слышался плеск воды, как будто кто-то мылся в ванне за ширмой.
– Я думал, в океане, чем дальше от берега, тем хуже, а выходит наоборот, – усмехнулся Сантьяго. – Ведь мы, этнографы, как привыкли рассуждать: дескать, первые мореплаватели шли вдоль самого берега и попадали в то или другое место. А на самом-то деле у берега всего опаснее!
– У побережья и между островами течения и волны образуют всевозможные водовороты и завихрения. Море куда сильнее ярится около берега, чем вдали от суши, где ничто не нарушает плавный бег волны. И шторм опаснее около суши.
– Вот и получается, что этнографы и другие ученые без конца спорят, мог ли плот или камышовая лодка пересечь океан, и никак не приходят к согласию, а стоит кому-то попробовать выяснить это на деле, как они все начинают возмущаться, – дескать это не научный подход!
Ох как хорошо мы с Сантьяго испытали это на своей шкуре. Но я мог с улыбкой говорить об этом, потому что ни от кого не зависел, а Сантьяго стоило немалого труда добиться у себя в университете отпуска за свой счет, чтобы участвовать в столь ненаучной затее, как дрейф на папирусной лодке. Папирус можно испытать и в ванне. Ученому положено работать в библиотеках, лабораториях, музейных закутках. А не изображать дикаря в Атлантическом океане.
Ну а если мы, такие вот бородатые, с обожженными солнцем носами, сидя посреди океана, получаем совсем другой ответ, чем в учебниках? Если у нас выходит совсем не то, что у эксперта, который мочил стебли папируса в корыте с водой? В лаборатории кусок бальсы тонет через неделю-другую. Но если сделать, как индейцы, – срубить деревья в лесу и выйти в море на бревнах, полных природного
сока, вдруг оказывается, что на бальсе можно плыть сто одни сутки и дойти до Полинезии.
Папирусоведы клали стебли порознь в стоячую воду, и мало того, что папирус быстро терял плавучесть, клетчатка начинала гнить. Ответ: от силы две недели. А здесь то же самое растение уже восьмую неделю держится на воде само и держит нас вместе с тоннами груза. В чем же дело? Да в том, что эксперты проводили эксперименты в ванной, а древние мореплаватели выходили на готовых лодках в соленый океан. От Египта до Перу строители таких лодок убедились на опыте, что вода впитывается не через плотный наружный покров, а через поры на обрезанном конце стебля. Вот почему они применяли особый прием, делая свои лодки, – связывали стебли вместе так туго, что их концы плотно сжимались и не пропускали воду внутрь. И выходит, что одно дело папирус, и совсем другое – папирусная лодка. Точно так же, как одно дело железо, и совсем другое – железный корабль.
– Пока веревки крепкие, – каждый день говорил Абдулла, – мы будем держаться на воде. Если веревки ослабнут, папирус начнет впитывать воду. А если они лопнут, связки распадутся, и мы провалимся.
Мы еще и двух месяцев не провели в этой среде, а уже так с ней сжились, что чувствовали себя как бы современниками тех, кто создал папирусную лодку и задолго до нас грузил на нее кувшины и корзины, веревки и кожи, орехи и мед, и всякую сушеную и соленую провизию. Все, что мы переживали, было пережито другими мореплавателями в древние и средние века, ничто не казалось нам чуждым и новым. Те же заботы, те же радости, то же море и небо. Подхваченные круговоротом вечности, мы сидели на связках папируса и чувствовали себя уже не учеными, а статистами научного эксперимента, который сам по себе завязался и сам по себе протекал. Кольцо времени замкнулось, предки все ближе придвигались к нам, разделяющие нас века сжимались, и вот уже нам кажется, что где-то за северным горизонтом пересекают Атлантику ладьи викингов, а следом за ними идет Колумб. И Жорж уже воспринимал строителей пирамид как близких родственников; во всяком случае, он все больше гордился своими египетскими предками, которые до сих пор были для него чем-то очень далеким и нереальным из школьного курса истории.
– Если корма не отвалится, возьму да пойду дальше через Панамский канал и Тихий океан, – фантазировал он. – Не выйдет на этот раз, построю новую лодку и повторю попытку. Это же ясно, что мои предки первыми пересекли Атлантику, по крайней мере, в один конец.
– Не так уж это ясно, – возражали мы с Сантьяго неожиданно для Жоржа. – Ясно только одно: они могли бы это сделать, если бы попытались. Мореходные возможности папирусной лодки превосходят все, что представляли себе ученые до сих пор. Но ведь такие лодки были не только в Египте; в древности ими пользовались по всему Средиземноморью – от Месопотамии до атлантического берега Марокко.
– А зачем же мы делали лодку по египетским фрескам, если не египтянам подражаем?
– Затем, что только в Египте сохранились древние изображения, на которых видны все подробности. Благодаря религии фараонов и климату пустыни мы знаем так много о том, как жили люди в Египте 4-5 тысяч лет назад.
Один из шестнадцати ящиков в каюте, на которых мы спали, был наполнен книгами о древнейших цивилизациях мира, и в труде о древней Месопотамии можно было увидеть снимок каменной стелы из Ниневии, с замечательным рельефным изображением камышовых лодок в море.
Развалины Ниневии лежат в глубине страны, в более чем 800 километрах от устья Тигра, примерно в 600 километрах от финикийского порта Библ на Средиземном море. Каменотесы, воины и торговцы Месопотамии поддерживали связь и со Средиземным морем, и с Персидским заливом. Ниневийская стела, хранимая ныне в Британском музее, свидетельствует, что месопотамские моряки знали камышовые лодки двух видов. Семь из высеченных на стеле лодок связаны на египетский лад, корма и нос загнуты вверх. На них много людей, и волны кругом явно изображают море, ведь в центре рельефа выделяется очень реалистический краб, возле которого плавают рыбы. На две ладьи покрупнее ворвался противник, кто-то из экипажа прыгает в воду, другие уже спасаются вплавь, а несколько ладей поспешно покидают место схватки, и их бородатая команда молитвенно обратилась к Солнцу.
Всю эту сцену обрамляет изображение ровного берега и двух островков с высоким камышом, где укрылись еще три лодки. На лодке у дальнего острова, опустившись на колено, изготовились к бою лучники, тогда как у материка и ближнего острова мы видим вполне мирную картину: мужчины и женщины сидят на камышовых лодках и о чем-то дружески беседуют.
Ниневийская стела о многом нам говорила. В частности, мы отметили разницу между тремя ладьями в открытом море и тремя лодками в прибрежных камышах. У первых и нос, и корма загнуты вверх, как у древних ладей Египта и Перу, у вторых корма обрезана, это не давало защиты от морской волны, зато было очень удобно, вытащив лодку на берег, поставить ее вертикально для сушки, как это было заведено и в Старом и в Новом Свете.
В Месопотамии до сих пор вяжут маленькие камышовые лодки, в Египте же папирусная лодка исчезла вместе с папирусом, и если бы не древние фрески, вряд ли кто-нибудь знал бы, что у египтян тоже были такие лодки. А вот в Перу до наших дней сохранились оба вида лодок, изображенных на ниневийской стеле. Испанцы встречали их по всему побережью империи инков, кое-где их можно увидеть и сейчас, и, сравнивая с изображениями на тканях, сосудах и рельефах древнейшей доинкской поры, убеждаешься, что оба типа ничуть не изменились с тех времен, когда строители пирамид пришли в приморье и запечатлели вышедшие на рыбный промысел камышовые лодки.
Благодаря реалистичному рельефу из древнего Ниневийского храма и благодаря искусству в древних гробницах Египта и Перу, мы знаем, что большие лодки из камыша и папируса, одинаково сконструированные, а также маленькие лодочки, похожие на бивень, некогда были общим фактором, важным для древнейших культур Малой Азии, Северной Африки и Южной Америки. Когда могучие цивилизации пришли в упадок, эти лодки совсем исчезли из долины Нила, но небольшие варианты двух типов, изображенных на ниневийском рельефе, дожили до нашего столетия по обе стороны Атлантики: в Месопотамии, Эфиопии, Центральной Африке, на островах Корфу и Сардинии, в Марокко, с одной стороны, в Мексике и Перу, вплоть до острова Пасхи, – с другой.
Две четко ограниченных географических области – область древней Средиземноморской культуры и область древних американских культур. Находясь с обезьяной и уткой в американской области океана на папирусе, выросшем и связанном в пучки в Африке, мы спрашивали себя: где же кончается Старый Свет и где начинается Новый? Где проходит рубеж между двумя областями распространения лодок из камыша и папируса? Океан разделяет сухопутные экипажи, но он же соединяет плавучие средства. Можно провести грань по неподвижному морскому дну, но нельзя ее провести по вечно движущейся поверхности океана, по которой ходят лодки. Ведь за какие-нибудь недели африканские воды становятся американскими, так же как африканское солнце через несколько часов становится американским. За тысячи лет, что человек развивает мореходство, неужели мы первые потеряли контроль над первобытным суденышком, оказавшись во власти извечного течения к югу от Гибралтара?
Египтянин Жорж, до сих пор увлекавшийся только дзю-до и аквалангом, теперь вдруг горячо заинтересовался удивительным миром древности. Разве нет никаких письменных данных о том, что древние египтяне учредили колонии за пределами Гибралтара?
Нет, таких данных нет. Но финикийцы, – а они тысячи лет были ближайшими соседями египтян во внутреннем Средиземноморье – регулярно ходили через Гибралтар и вдоль океанского побережья Марокко, далеко за Сафи и мыс Юби. Черепки с финикийскими надписями и другие следы длительного обитания финикийцев находят в новых и новых участках северо-западного побережья Африки намного южнее тех мест, где прошли мы.
Еще совсем недавно наука не знала, что эти древнейшие мореплаватели из внутреннего Средиземноморья основали важную торговую колонию на низменном острове у Могадора, к югу от Сафи. Теперь и здесь, и на берегах Рио-де-Оро, южнее Марокко, обнаружены следы пребывания финикийцев, включая фактории для производства краски из пурпурного моллюска. Современные археологи установили, что у них был форпост и в краю гуанчей, на Канарских островах, служивших промежуточным пунктом для тех, кто следовал в далекие колонии мимо коварных мысов Юби и Бахадор, которые мы сами с таким трудом обогнули на нашей папирусной лодке.
Древний историк Геродот, посетив Египет, записал, что во времена фараона Неко, правившего около шестого века до нашей эры, египтяне послали финикийские суда в плавание вокруг Африки. Естественно предположить, что на борту находились люди фараона, хотя в источниках подчеркивалось, что финикийскими судами управляли финикийцы. Флотилия вышла в Красное море и вернулась через Гибралтар три года спустя; в пути мореплаватели дважды собирали на берегу урожай. Они сообщили, что солнце было к северу от них, когда они огибали Африку.
Через сто с лишним лет финикийцы снарядили огромную экспедицию во главе с Ханно, чтобы учредить колонии для торговли за Гибралтаром. Шестьдесят парусных судов, оснащенных пятьюдесятью веслами каждое, везли тридцать тысяч переселенцев, представителей всяких профессий. Они вышли в Атлантику, миновали древнюю колонию Ликсус – Вечный город Солнца – и шесть раз становились на якорь у Марокканского побережья, высаживая на берег колонистов. Они проследовали на юг дальше нашего, обогнули мыс Юби, миновали острова Зеленого Мыса у Сенегала и достигли лесных рек тропической части Западной Африки.
Известно, что финикийцы и по суше вели торговлю с лесными племенами Западной Африки. Пользуясь нумидийскими караванами, они получали слоновую кость и золото, а также львов и других диких животных для многочисленных цирков в крупных городах от Сирии и Египта до островов Средиземноморья и атлантического побережья Марокко. За сотни лет до нашей эры вся Северная Африка была опутана, можно сказать, целой паутиной дорог, по которым шли исследователи и купцы. Важную роль здесь играли бесстрашные финикийцы. Но кто они были, эти финикийцы, о которых нам так мало известно? От кого они произошли, кто научил их мореплаванию? Через древних римлян мы унаследовали всего лишь слово «финикийцы» – своего рода удобный мешок, куда мы складываем всех, кто до расцвета Рима выходил в плавания из внутреннего Средиземноморья...
В глухом уголке чуть южнее места нашего старта сохранился древний мол, десятки тысяч мегалитических глыб выложены углом, образуя превосходную гавань. Опытные строители свалили в море несметное количество камней и воздвигли в песчаном заливе надежный барьер, который волны Атлантики не смогли размыть и за тысячи лет. Кому понадобилась здесь такая большая гавань задолго до того, как арабы и португальцы начали ходить на юг вдоль атлантического побережья Африки?
На северо-западном побережье Марокко, там, где впадает в океан широкая река Лукус, на круглом холме в дельте лежат грандиозные развалины одного из самых могущественных городов древности, чья история теряется во тьме веков. Огромные, многотонные глыбы втащили на возвышенность и сложили такие стены, что их видно с моря. Тщательно вытесанные и отполированные блоки пригнаны друг к другу с точностью до миллиметра; это образец той же специфической техники, которая присуща мегалитической кладке в Египте, на Сардинии, в Мексике, Перу и на острове Пасхи, то есть там, где были в ходу лодки из камыша и папируса. Кстати, именно здесь, и только здесь, по соседству с морем до наших дней сохранились марокканские
мадиа.
Древнейшее известное название мегалитического города на холме – Маком Семес, град Солнца. Когда его нашли римляне, холм был островком в окружении песчаных кос. Они записали, что с возникновением города связаны фантастические легенды, дали ему новое имя – Ликсус, Вечный град, и воздвигли поверх старинных развалин свои храмы. Но какими ничтожными кажутся римские постройки и колонны перед исполинскими блоками, которые служат им основанием. На этом островке римские историки помещали могилу великого Геракла, а на одной из стен был исполнен огромный портрет морского бога Нептуна с крабьими клешнями в волосах и бороде. Потом римляне ушли, а пришедшие впоследствии арабы, которые смешались с коренными жителями края, называют древний город Шимиш – «Солнце» и рассказывают, что имя его последней царицы было Шимиса – Маленькое Солнце.
Археологи только-только начали тут выборочные раскопки и пришли к выводу, что до римлян Солнечный град очень долго служил финикийцам. Кто его заложил? Может быть, те же финикийцы. Если так, то финикийские каменотесы не уступали лучшим мастерам по обе стороны Атлантики. Родина финикийцев – Внутреннее Средиземноморье. Здесь же порт не средиземноморский, а атлантический, причем сооруженный как раз там, где берет начало мощное течение, которое уходит на запад мимо Канарских островов и заканчивается у берегов Мексики. Никто не знает точного возраста стен. Они покрыты пятиметровым слоем мусора, оставленного финикийцами, римлянами, берберами и арабами. Римляне поклонялись Гераклу и Нептуну, но не поклонялись богу Солнца, и храмы, выстроенные ими здесь, не были ориентированы по Солнцу. Зато нижние, мегалитические блоки, которые ко времени прихода римлян уже исчезли под обломками и потому не были ими разрушены для своих нужд, служили – как показывают шурфы, пробитые до самого материка, – фундаментом грандиозных построек, и их положение было строго согласовано с Солнцем. А финикийцы поклонялись дневному светилу.
Солнечный город. Вечный град, место упокоения Геракла, атлантический порт, который, по словам римлян, был древнее Карфагена, – почему он находился за Геркулесовыми Столпами? Основателей Вечного града отделяло от финикийцев в Малой Азии столько же морских миль, сколько от индейцев в Америке. Они должны были быть подлинными мастерами морского дела, чтобы поддерживать связь с Малой Азией, проходя вдоль опасных берегов Северной Африки, где не было постоянных течений и ветров, которые могли бы им помочь. А чтобы пересечь океан (и научить индейцев своим приемам каменной кладки), жителям этого атлантического порта, как и нам, достаточно было вытащить из воды весла и идти с течением и ветром. Если город Солнца заложили финикийцы, то их мореплаватели привезли из Средиземноморья жрецов, зодчих и других представителей высших слоев своего общества. Известна роль финикийцев как переносчиков культурных достижений древности. Если жителями Солнечного града на берегу Атлантики были финикийцы, то ведь они знали все разновидности пирамид Старого Света, как ступенчатые, так и гладкие, построенные как из каменных плит, так и из сырцового кирпича. Но особенно хорошо финикийцы должны были знать террасные пирамиды Малой Азии, отличавшиеся от египетских тем, что их венчал небольшой каменный храм, к которому вела одна или несколько узких наружных лестниц или контрфорсы. И точно так же строились первые пирамиды на американской стороне Атлантического океана. Ладьи, погребенные вокруг египетских пирамид, сделаны из финикийского леса, книги финикийцев сделаны из египетского папируса, и по велению фараона Рамсеса Второго его подписной портрет был трижды высечен на скалах финикийского приморья. В войне и мире между этими двумя странами был тесный контакт. Больше того, современные ученые, не верящие в мореходные качества египетских папирусных судов, полагают, что египтяне использовали финикийские суда даже для сбора дани на островах Средиземноморья и на сирийском побережье.
– Но египтяне тоже выходили в море, – возражал Жорж и как добрый христианин цитировал Библию, а именно рассказ Исайи (глава восемнадцатая, стих второй) о том, как из-за моря приходили в его страну египетские посланники на лодках из папируса. А Моисей (Вторая книга Моисея, глава вторая, стих третий), которого мать пустила по Нилу в папирусном ковчеге, промазанном битумом?
В Египте, в Нильской долине, Жорж показывал мне стены храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, с фресками, из которых видно, что царица отправила большую экспедицию, много деревянных кораблей, через Красное море в Сомали, за всякими товарами, в том числе за редкостными деревьями для ее сада.
Но Жорж не знал, что скромные папирусные лодки ходили дальше знаменитых кораблей царицы Хатшепсут. Эратосфен, старший хранитель Александрийской библиотеки папирусов в устье Нила, где скопились десятки тысяч ценнейших манускриптов, уничтоженные впоследствии пожаром, рассказывал, что «папирусные суда с такими же парусами и такелажем, как на Ниле», достигали Цейлона и устья реки Ганг в Индии. Римский историк Плиний (книга шестая, глава двадцать третья), приводя эти слова ученого библиотекаря в своем географическом описании Цейлона, говорит, что папирусные ладьи шли от Ганга до Цейлона целых двадцать суток, а «нынешние» римские корабли проходят тот же путь всего за семь дней. Другими словами, мы узнаем от Эратосфена, что папирусные ладьи вроде нашей, с египетским такелажем, покрывали за сутки около 75 морских миль, или почти 140 километров; значит, они развивали скорость больше трех узлов.
Но Индийский океан не Атлантика. Может быть, египтяне выходили и за Гибралтар, однако до нас не дошло никаких записей об этом. Финикийцы посылали многочисленные корабли через Гибралтар в свои колонии на атлантическом побережье Испании и Африки и на Канарских островах. Они знали как свои пять пальцев фарватер у берегов, где начался наш рейс. Загадки древнейших плаваний в этом океане, который забирался на нашу корму, засылал к нам на палубу летучих рыб и без устали подталкивал нас вперед, дразнили наше воображение еще сильнее, когда мы перелистывали ученые труды и читали о древних морепроходцах с таким чувством, словно речь шла о нас и нашем времени. Оторвешь глаза от книги и видишь, как мексиканец переливает из бурдюка воду в амфору, как вдоль борта идет египтянин со спасательным поясом из папируса через плечо. А вот обезьяна просунула голову в дверь каюты и, цокая языком, стащила носометр, которым я измеряю высоту Полярной звезды.
– Бородатые люди идут через Атлантику на запад, – радировал я директору археологического института Мексики, шутливо намекая на бороды ольмеков, заложивших основу древнейшей культуры Мексики.
Лишь когда Норман вытаскивал из своего рундука портативную радиостанцию, древность исчезала, как будто по мановению волшебного жезла, и мы на несколько минут переносились в современный мир. Вскоре после того как нарушилась наша связь с Марокко, из приемника вдруг послышался голос: «LI2B, LI2B, здесь LA5KG – Крис Боккели, Осло». Отныне Крис сопровождал нас всю дорогу через океан, а рядом с ним в волшебном ящичке поместились еще Юст – LA7RF из Олесюнда, Фрэнк – I1KFB из Генуи, Герб – WB2BEE из Нью-Йорка, Алексей – UAIKBW из Ленинграда, сам конструктор нашей радиостанции Дик Эрхорн – W4ETO из Флориды и многие другие, чьи голоса были бы для древних все равно что духи из лампы Аладдина, которые летали над океаном и приземлялись в маленькой коробке среди кувшинов и бурдюков. Родные и друзья могли удостовериться, что мы живы-здоровы. У них тоже висела на стене карта Атлантики, на которой они отмечали наше движение. Пройдя половину пути, мы передали приветствия У Тану и главам государств, представленных в экипаже. В один и тот же день были получены дружеские пожелания руководителей двух сверхдержав на востоке и западе.
Но вот Норман захлопнул свой «ящик Пандоры», и мы так же быстро возвращаемся в древность, как перенеслись в современность, когда он открыл его и наполнил каюту нестройным хором металлических голосов, принадлежащих радиолюбителям из самых разных стран, готовых помочь нам со связью. Приемник выключен, и опять слышны только плеск воды да сиротливый скрип веревок. И опять весь наш мир – океан, да летучие рыбы, да иногда чья-то зеленая спина, скользящая в пучине.
Бородатые люди. Это была одна из наших последних юмористических радиограмм. Мы зависели от прихоти судьбы. Как прибой набегает на пляж, так волны по обвисшему хвосту свободно доходили до задней стенки нашей каюты. На кормовой палубе водилась мелкая рыбешка.
При хорошей погоде можно было рассчитывать, что недели через две нас прибьет к суше, с добрым запасом провианта и прочим грузом на носу и в каюте. Но если мы попадем еще хоть в одну переделку, «Ра» превратится в развалину. После нашего выхода из Марокко только «Африканский Нептун» сумел сфотографировать нас в океане под парусами. Хочешь посмотреть на лодку со стороны, отплыви, сколько позволит страховочный конец. И надо сказать, картина была страшно интересная для нас, ведь мы неделями видели только друг друга да ближайшую часть ладьи. Жорж отплыл от лодки с камерой для подводной съемки и, поднявшись на гребне волны, запечатлел «Ра», какой она представилась бы встречным мореплавателям.
Седьмого июля папирусный корабль все еще выглядел великолепно – высокий золотистый форштевень, наполненный восточным ветром бордовый парус. Да, пока что ветер был попутный, но если разразится шторм, у «Ра» уже не будет такого вида, и фильм об экспедиции останется без кадров, показывающих папирусную ладью в открытом море. Хуже того, вода может испортить пленку, отснятую Карло. Вот почему я при очередном радиосеансе с Италией попросил Ивон найти кинооператора, который мог бы встретить нас в море, не доходя Вест-Индии. Я смотрел на это еще и как на меру предосторожности, хотя своим товарищам об этом не сказал. В конце концов я отвечал за жизнь всех членов экспедиции.
Что должен захватить с собой кинооператор? Всем хотелось немного фруктов, Сантьяго заказал коробку шоколадных конфет. Больше заказов не было. Провианта на борту оставалось столько, что нам всего не съесть. Солонина, ветчина, колбаса, полные корзины и кувшины яиц, меда, масла, сухофруктов, орехов, египетских лепешек. Носовая палуба и левый борт были так заставлены, что трудно даже пройти.
Бородатые люди. Только Юрий регулярно брился, стоя в воде на корме. Рыжие и черные бороды. Абдулла отрастил волосы на голове. Черные и белые руки вместе тянули одну веревку. Совсем как в древности. Ничего нового. На древнеегипетских фресках люди с темными и с русыми волосами сообща вяжут папирусные лодки. Там, где мы строили «Ра», по велению фараона Хафра у подножия его пирамиды была погребена его супруга. На портрете, увековечившем ее черты, видно, что у царицы были золотисто-желтые волосы и голубые глаза. У самого Рамсеса Второго, который лежит среди черноволосых бальзамированных родичей под стеклом в Каирском музее, орлиный нос и шелковистые желтые волосы. Северную Европу никак нельзя тут считать монополистом. Этот расовый тип был представлен в Средиземноморье, включая Малую Азию и Северную Африку, когда на севере еще и в помине не было викингов. И если вообще можно говорить о каком-то родстве, то блондины должны были прийти в Северную Европу с юга, ведь эпоха викингов начинается через три тысячи лет после того, как в Египте Хафр похоронил свою голубоглазую блондинку рядом с деревянным кораблем своего отца – Хеопса.
Светловолосые бородачи. В Атласских горах среди коренных жителей их было не меньше, чем среди берберов на берегу Атлантики, вокруг Солнечного города, где их потомков можно встретить по сей день. А с берегов Африки они вместе с женами и своим скотом вышли в Атлантический океан и поселились на Канарских островах, где мы их знаем под именем гуанчей.
Светловолосые бородачи, строители пирамид и солнцепоклонники, не имеющие никакого отношения к викингам, присутствуют во всех легендах древних американских культур от Мексики до Перу. По всей тропической Америке, где сохранились старинные пирамиды и огромный статуи, испанцам говорили, что они не первые белые бородачи, пришедшие сюда из-за океана. В легендах подробно описаны люди, с виду похожие на испанцев, которые научили кочующие индейские племена строить дома из кирпича-сырца и жить в городах, воздвигать пирамиды и писать на бумаге и камне. Повсюду о белых бородатых странниках рассказывали, что они смешались с коренными жителями и вместе с ними закладывали основу местной культуры. Сами индейцы были безбородыми.
Испанцы сумели использовать легенды, чтобы завоевать Мексику и Перу, но не они их сочинили. За тысячу лет до прихода испанцев ваятели Нового Света от Мексики до Перу делали керамические и каменные скульптуры бородатых людей. Викинги еще не выходили в Атлантику, когда майя уже изобразили морской бой на атлантическом побережье Мексики с участием белых русоволосых людей. Вскрыв несколько десятилетий назад украшенную колоннами и яркой росписью камеру в одной из самых больших пирамид Чичен-Ицы, американские археологи тщательно скопировали фрески, прежде чем туристы и влажный тропический воздух все погубили. Мы видим расправу воинов с обнаженными белыми людьми в желтых лодках с загнутыми вверх носом и кормой. Видим в воде, как и на древнем ниневийском рельефе, огромного краба и рыб – знак того, что белые либо пришли с моря, либо хотят уйти в море. На берегу мореплавателей перехватывают темнокожие воины с перьями в волосах, кому-то вяжут руки, с кого-то снимают русый скальп, а кого-то уже положили на жертвенный алтарь. Белые люди прыгают в воду с опрокинутой лодки, и длинные светлые волосы их полощутся в волнах рядом с рыбами и скатами. Рядом нескольких белых победители волокут за их желтые волосы, и другие в это же время спокойно уходят вдоль берега, с большими котомками на спине.
Какую легенду или какой исторический эпизод хотели майя увековечить на этой фреске в одной из своих главных пирамид за сотни лет до прихода испанцев? Этого никто не знает. Три американских археолога, скопировавшие росписи, просто заключили, что изображения светлокожих людей с желтыми волосами «дают повод для весьма интересных догадок относительно происхождения» этих пришельцев.
Мало кто ломал над всем этим голову столько, сколько мы на борту «Ра», которую природный конвейер вез без передышки к Мексиканскому заливу, и не надо ни табанить, ни грести. Мы отнюдь не воображали, будто можем хоть сколько-нибудь сравниться в мореходном искусстве с древними профессионалами. Изо всей нашей семерки только Норман был моряк, но он никогда не видел папирусной лодки в отличие от Абдуллы, который зато не видел прежде моря. Мы ни за что не сумели бы провести папирусную ладью с египетским такелажем через коварные воды вокруг Цейлона. И не смогли бы пройти на финикийской ладье от Малой Азии до Рио-де-Оро; кстати, этот маршрут намного больше пути от Африки до Южной Америки. Другое дело – имитировать древних, которые, перенеся шторм у берегов Африки, продолжали плавание на неуправляемой лодке.
Горизонт обложили тучи, время от времени нас и палубу поливал дождь, папирус все больше намокал, тяжелел, и вода с кормы медленно, но приметно ползла вперед вдоль наветренного борта, с которого мы уже давно убрали весь груз. Вода стояла и вокруг пяты под правым коленом двойной мачты, где образовалась ямка в папирусной палубе. Вот насколько увеличилась осадка промокшего насквозь правого борта. Но с подветренной стороны мы только лежа на животе могли дотянуться рукой до гребня проходящей волны.
Берега Южной Америки были уже так близко, что нас навестили первые пернатые гости с той стороны. Над самой мачтой пролетали красавцы фаэтоны с длинным шлейфом. Какая-то акула подошла к нам сзади и яростно набросилась на спасательный пояс, который плыл у нас на буксире. Услышав, как Карло кричит, что кто-то сражается с нашим спасательным средством, те из ребят, которые еще никогда не видели акул, почувствовали себя не совсем уютно. А вот и она сама идет, важная такая, рассекая воду высоким спинным плавником и качаясь вверх-вниз с волной. Подойдя к «Ра», двухметровая хищница снова рассвирепела, перевернулась и с разинутой пастью, колотя хвостом и сверкая белым брюхом, ринулась в атаку на папирусные связки. Может быть, ей пришлись по вкусу морские уточки на днище «Ра»? Но что бы ее ни привлекло, акульи челюсти представляли серьезную угрозу для веревок. Вспомнив про «Кон-Тики», я перегнулся через борт и попробовал поймать шершавый, будто наждак, хвостовой плавник; при этом я заметил на спине хищницы открытую рану, над которой вились две крупные рыбы-лоцман. Дважды мне удавалось ухватить акулу за хвост, но это был все-таки не низкий бальсовый плот, связки подветренной стороны еще лежали на воде так высоко, что без надежной опоры я мог сам очутиться за бортом. Тут богатырь Жорж вонзил в акулу гарпун. Вода вспенилась под ударами акульего хвоста, хищница включила все свои стальные мускулы, миг – и в руках Жоржа остался только обрывок линя, а его последний гарпун исчез в пучине.
И снова мы предаемся мирному раздумью о нерешенных загадках древности. Норман был воспитан в убеждении, что Америка представляла собой совершенно обособленный мир, пока его предки не пришли из Европы со своими знаниями и культурой. Так считают политики, да и большинство учебников написано изоляционистами, по мнению которых, предками ацтеков, майя и инков были только примитивные дикари из Аляски и Сибири. Европа получила свою культуру из Малой Азии и Африки через Крит и другие острова узкого Средиземного моря, но Америка ничего не получила через широкий Атлантический океан. Ведь примитивные лодки могут ходить только вдоль берегов, открытый океан не для них.
Теперь Норману захотелось услышать аргументы диффузионистов. Разве не верно, что индейские цивилизации Мексики и Перу совершенно отличаются от культур внутреннего Средиземноморья, положивших начало цивилизации Европы?
Нет, несходство не так уж велико, отвечали мы с Сантьяго. Конечно, специалист, разбирая детали, найдет достаточно различий. Но обыкновенный человек, который захотел бы провести общее сопоставление, не вдаваясь в такие тонкости, как узоры на тканях или толщина глиняных черепков, наверное, был бы изрядно удивлен.
Развиваясь с быстротой, какой никогда не знал Старый Свет, некоторые племена лесных и засушливых областей Центральной Америки сумели догнать его за несколько столетий до нашей эры, тогда как другие аборигены Америки, занимая более благоприятные климатические зоны к северу и югу от тропического пояса, жили первобытнообщинным строем вплоть до прихода европейцев. Ученые сейчас не знают, когда именно племена тропиков от Мексики по Перу обрели поразительную энергию и порыв для великого прыжка от примитивного бытия до развитой цивилизации, но точно известно, что древнейшие цивилизации Америки достигли расцвета задолго до нашей эры, однако после того, как народы Малой Азии уже давно достигли вершины своего развития и выходили за Гибралтар, чтобы основать важные колонии на атлантическом побережье Африки.
В чем же состоял переворот, начавшийся в лесной чащобе приатлантической области Мексики и среди песчаных дюн на тихоокеанском берегу Перу? Внезапно возникает культ Солнца. Природа разная, в одном месте глухой девственный лес, сырость, в другом солнце без помех накаляет сухой песок, тем не менее индейцы и тут, и там почти одновременно принимаются сооружать одинаковые в принципе ступенчатые пирамиды в честь Солнца, повинуясь диктатуре верховных правителей и жрецов, называющих себя божественными потомками Солнца. Чтобы сохранить в чистоте божественную кровь, правители практикуют браки между братьями и сестрами, как это было принято в Египте. По приказу повелителя пляски индейских родов вокруг тотемного столба прекращаются, отменены жертвоприношения невидимым духам и сверхъестественным чудовищам, отныне надлежит поклоняться солнечному диску и постигать его. На берегах Мексиканского залива и в приморье Перу индейцы перестают строить родовые хижины из сучьев и камыша. И тут, и там начинают делать сырцовый кирпич, точно по тому же способу, какой несколько тысяч лет был в ходу в Средиземноморье от Месопотамии до Марокко. Определенного рода глину замешивают с водой и соломой, этой смесью плотно набивают прямоугольные деревянные ящички, потом заготовки извлекают и сушат на солнце, получая, как мы бы сказали, стандартные блоки. Кругом индейцы продолжают жить в вигвамах, шалашах и дощатых домиках отцов, а солнцепоклонники от Мексики до Перу вселяются в построенные так же, как в Старом Свете, кирпичные дома, подчас в несколько этажей, с террасами, водостоком; возникают правильные городские комплексы с улицами, акведуками, канализацией.
Но хотя изобретение сырцового кирпича позволяло избранным племенам воздвигать исполинские солнечные храмы, развалины которых по сей день высятся в лесах и пустынях, словно горы, им этого было мало. Они врубаются в скалы, высекают и складывают вместе огромные каменные блоки с поразительным искусством, подобного которому мы не найдем нигде, кроме все той же области от Месопотамии и Египта до Солнечного града в Марокко.
Ольмеки у Мексиканского залива не знали недостатка ни в глине, ни в древесине, и однако они упорно искали в заболоченном краю места, где можно было добывать камень. Почти за тысячу лет до нашей эры они тащили за сто километров через леса и болота каменные глыбы весом до двадцати пяти тонн к святилищу вблизи залива, где уже было заготовлено так много сырцового кирпича, что его хватило на ориентированную по Солнцу ступенчатую пирамиду высотой 30 метров.
Кому в Европе три тысячи лет назад приходило в голову возводить сооружения, равные десятиэтажному дому? В Египте строительство в честь Солнца ступенчатых пирамид из кирпича-сырца давно прекратилось, когда ольмеки затеяли то же самое. Но в Малой Азии, где жили финикийцы, люди продолжали воздавать божественные почести Солнцу в храмах, венчавших пирамиды зиккурат, и ведь именно эти, а не египетские пирамиды Гизы во всем основном сходны с ольмекскими и доинкскими храмовыми пирамидами в Америке.
В рекордный срок те же индейцы мексиканских лесов до нашей эры познали тайны календаря и накопили астрономические сведения, которые в Старом Свете собирались тысячелетиями. Египтяне, вавилоняне и ассирийцы, обитатели обширных низменностей, наблюдали большинство ночей в году вращающееся над их головой звездное небо. Используя древнее культурное наследие, финикийцы ходили по морям за пределами видимости берегов.
Как же лесные индейцы сумели всех их догнать и перегнать, живя под влажной сенью могучих деревьев, где вся видимость подчас ограничивалась тем, что расчистил топор? И однако у этих индейцев астрономический календарный год был вычислен точнее, чем у испанцев, которые их «открыли». Даже наш современный григорианский календарь точностью уступает тому, которым пользовались майя на берегу Мексиканского залива до прихода Колумба. По их подсчетам, длина астрономического года составляла 365,2420 суток, что дает отставание на одни сутки за пять тысяч лет. Наш календарь определяет длину года в 365,2425 суток, ошибка за пять тысяч лет достигает плюс полутора суток. Вычислить все это было не так-то легко. Тем не менее майя в своих подсчетах были на 8,64 секунды ближе к истине, чем наш календарь. Их соседи и предшественники, захоронившие своего солнечного короля в осмотренной нами пирамиде в Паленке, выбили на камне надпись о том, что 81 месяц составит 2392 дня, получается месяц длиной в 29,53086 дней, ошибка всего в 24 секунды.
Майя восприняли основы астрономических знаний от приморских ольмеков, которые еще до нашей эры высекали точные даты на своих замечательных каменных сооружениях. Европа тогда совсем не имела летосчисления. Наш календарь ведет счет от 1 января года, к которому отнесено рождение Христа. Мусульманский календарь начинается с года, когда Мухаммед бежал из Мекки в Медину – это будет 622 год нашей эры. Летосчисление буддистов начинается с рождения Будды, то есть с 563 года до нашей эры. Отправная точка древнего календаря майя приходится на 12 августа 3113 года до нашей эры. Чем знаменательна эта дата? Этого никто не знает. Одни считают, что она взята случайно, лишь бы с чего-то начать, другие полагают, что индейцы связывали ее с определенным расположением небесных светил, наблюдавшимся задолго до расцвета культуры в Америке.
В Египте между 3200 и 3100 годами до нашей эры – время, которым начинается календарь майя, – возникла первая династия фараонов, но, насколько мы знаем, на американской стороне океана тогда еще не было никаких цивилизаций. Если индейцы пришли в Мексику не меньше 15 тысяч лет назад, но только за несколько столетий до нашей эры создали удивительную ольмекскую цивилизацию, почему их календарь начинается с даты, которая совпадает с временем возникновения древнейших известных цивилизаций земного шара в Месопотамии, Египте, на Крите?
Как могло получиться, что майя унаследовали точнейший календарь, если отправная дата взята наугад, да притом относится к поре, когда их предки еще были варварами и даже ольмеки, насколько нам известно, не вели астрономических наблюдений? Мы этого не знаем, знаем только, что летосчисление майя начинается 4 Ахау 2 Кумху, а это и есть 12 августа 3113 года до нашей эры. Еще мы знаем, что у равнинных майя и их сородичей – ацтеков мексиканского нагорья, были устные и письменные предания о том, что цивилизация пришла в Мексику после того, как на берегу Мексиканского залива высадился белый бородатый человек, потомок Солнца, которого сопровождала свита из ученых, астрономов, зодчих, жрецов и музыкантов. Майя называли его Кукулькан, ацтеки – Кецалькоатль, и то и другое означает «Крылатый Змей».
Мы не знаем, кто придумал это диковинное имя. Крылатый змей, подчас огромных размеров, изображен в гробницах некоторых фараонов и в египетских папирусах. Помесь птицы и змеи – божественный символ по обе стороны Атлантики. Хищная птица, змея и кошка были символами солнечного короля в Месопотамии, Египте, Мексике и Перу. Именно в этих странах венец и царские регалии украшались частичными (голова) или полными изображениями названных животных. Не менее важную роль в Месопотамии и Египте играли птицечеловеки, которыми окружены символические фигуры солнечного короля и бога Солнца, и этих же птицечеловеков мы видим в Мексике, не говоря уже о Перу, где, как и в Египте, в свите царя, выходящего в плавание на серповидной камышовой лодке, сплошь и рядом показаны люди с птичьей головой. Из Перу птицечеловеки добрались до острова Пасхи, где их тоже изображали вместе с камышовыми лодками.
Однако не эти фантастические фигуры принесли культуру в тропическую Америку; майя, ацтеки и инки приписывают эту честь обыкновенным людям, которых только усы, борода и белая кожа отличали от большинства индейцев. Они не летали, а шли в плащах и сандалиях через дебри с посохом в руке и учили коренных жителей писать, строить, ткать и поклоняться Солнцу. Древнейшие историки Америки рассказывают, как эти люди высадились на берегу Мексиканского залива, как поднялись на нагорье ацтеков и спустились на лесистый полуостров майя, как двигались дальше на юг через тропические леса Средней Америки. И то же рассказывают индейцы по всей империи инков – от Эквадора до Перу и Боливии: культуру сюда принесли белые бородатые люди, прибывшие на камышовых лодках. Предводительствуемые королем Кон-Тики-Виракоча, они сперва обосновались на острове Солнца, на озере Титикака, потом оттуда подошли на лодках к южному берегу, где воздвигли солнечную пирамиду, мегалитические стены и антропоморфные монолиты, которые по сей день можно увидеть среди развалин Тиауанако. Напор воинственных племен вынудил в конце концов пришельцев отступить на север – через Куско до порта Манта, расположенного там, где линия экватора сечет Эквадор, после чего они ушли на запад, в Тихий океан, исчезли, как «морская пена» – «виракоча»; это слово потом стало прозвищем испанских мореплавателей и других белых.
Разумеется, не обязательно считать эти легенды достоверными, но тогда еще более удивительно, что безбородым черноволосым индейцам вдруг пришло в голову ваять, рисовать и описывать бородатых людей с белой кожей и светлыми волосами – их мы видим изображенными в египетских гробницах и в трудах по истории Марокко и Канарских островов. Мы признаем непревзойденное каменотесное искусство индейцев и глубину их астрономических познаний, ибо от фактов никуда не уйдешь, но отвергаем их устные предания, во-первых, потому, что в них есть чуждая нам религия, во-вторых, потому, что верим только писаному слову. Мы забываем, что у народов древних мексиканских культур было свое письмо, они писали на бумаге, дереве, глине и камне и иллюстрировали свои иероглифические тексты реалистичными картинками.
Ольмеки, которые до нашей эры воздвигли памятники с высеченными на них датами, приложили буквально нечеловеческие усилия, чтобы оставить потомству исполинские каменные изображения людей двух совершенно различных типов. Несмотря на предельную реалистичность этих мастерских портретов, вы не узнаете в них ни один из ныне существующих индейских типов. Один – явный негроид: круглое лицо, толстые-претолстые губы и широкий, приплюснутый короткий нос. Этот тип принято называть «бэбифэйс» (младенческое лицо). Для второго типа характерен чеканный профиль, нос изогнутый с высокой спинкой, рот маленький, губы тонкие, часто показаны усы и бородка или длинная борода. Его археологи шутя окрестили «дядя Сэм». У «дяди Сэма» обычно богатый головной убор, длинный плащ, пояс и сандалии. Семитское лицо, в руках посох странника – таким изображали всюду (начиная с области ольмеков на севере), где отмечены легенды о белых людях, этот тип, на который иные современные религиозные секты охотно ссылаются, толкуя о «пропавших коленах Израиля» и «священной» «Книге Мормона».
К северу от озера Титикака в Перу испанцы приняли статую Кон-Тики-Виракоча с 20-сантиметровой бородой за Святого Варфоломея и учредили монашеский орден в его честь, но потом ошибка выяснилась и изваяние было разбито вдребезги.
«Дядя Сэм» изображался как миролюбивый странник.
Негроидному типу ольмеки придавали воинственные и примитивные черты, часто изображали его скорченным горбуном, исполняющим гротескный танец. Известны также огромные, весом до двадцати пяти тонн, шарообразные каменные головы, которые лежали прямо на земле.
Так кто же они, «дядя Сэм» и его
спутник «бэбифэйс»? Кого из них можно считать ольмеком? Никого. Ольмек – название, придуманное в наше время как раз потому, что мы ровным счетом ничего не знаем о том, кем они были.
Ольмеки умели писать. У них научились письму ацтеки и майя, правда, они употребляли совсем другие иероглифы, так что один мексиканский народ не понимал письмо другого. Научиться писать легко, изобрести письменность трудно. Трудно додуматься до того, что слово можно выразить немым символом и закрепить во времени. А уж потом несложно изобретать новые знаки – буквы, руны, клинопись или иероглифы.
В Средиземноморье народы перенимали друг у друга изобретение письма. Может быть, ольмеки на берегу Мексиканского залива сами, без чьей-либо помощи придумали письмо?
Так полагают ученые, подчеркивая что ольмекские знаки не похожи на египетские и шумерские. Но вправе ли мы требовать, чтобы в Мексике сохранились неизменными письмена Старого Света, если те же египтяне и финикийцы, чья культура была так тесно связана, пользовались письменами, совершенно непонятными для другой стороны? Или взять Шумер. Его клинопись в корне отлична от египетской иероглифики, однако же нам известно, что эти две культуры тысячи лет были связаны между собой.
Вряд ли можно утверждать, что изобретение бумаги непременно следует за изобретением письменности. Тем не менее древние жители Мексики делали бумагу для письма. Не из измельченной древесной массы, как мы, а так же, как древние египтяне и финикийцы изготовляли папирус. Они молотили, вымачивали и очищали от клетчатки камыш и другие волокнистые растения, затем уложенные крест-накрест в несколько слоев влажные волокна отбивали особыми колотушками, так что они спрессовывались. Изготовить таким способом бумагу – дело настолько сложное, что в наше время Институт папируса в Каире экспериментировал много лет, и только недавно Гасану Раджабу удалось воспроизвести древний производственный процесс. А индейцы Мексики в совершенстве овладели этим искусством до прихода испанцев и делали книги, подобно древним финикийцам. Эти книги – испанцы называли их кодексами – состояли не из разрезных, как в Европе, а из складных листов, и вся книга растягивалась в сплошную широкую ленту, как папирусы Египта. И как в Египте, текст был написан иероглифами и щедро иллюстрирован раскрашенными рисунками. В книгах речь шла, в частности, о бородатых людях.
Тысячи племен на севере и на юге жили в каменном веке вплоть до прихода европейцев; в отличие от них индейцы лесов и пустынь от Мексики до Перу принялись с целеустремленностью людей, знающих металлы, искать месторождения золота, серебра, меди и олова. Они сплавляли олово и медь и ковали бронзовые орудия, в точности как народы древних культур по другую сторону Атлантики. От Мексики на юг вплоть до Перу ювелиры делали филигранные изделия из золота и серебра, часто с драгоценными камнями: броши, булавки, кольца, бубенчики, не уступая самым лучшим мастерам Старого Света. Это искусство их и погубило, ведь несметные сокровища Мексики, Месоамерики и Перу притягивали последовавших за Колумбом конкистадоров куда сильнее, чем нехитрые каменные и костяные изделия индейских племен остальной Америки, интересные только для современных этнографов.
Те самые индейцы, которые неожиданно принялись обтесывать камень, делать сырцовый кирпич, добывать металлы, изготовлять бумагу, проникать в тайны календаря и записывать родовые предания, – они же придумали в Мексике и Перу скрестить два диких вида хлопчатника и вывели искусственную разновидность с таким длинным волокном, что ее стоило выращивать на плантациях. Наладив производство хлопчатника, они начали сучить и прясть волокно, как это делалось в Старом Свете, а изготовив достаточное количество нити и окрасив ее прочной краской, собрали горизонтальные и вертикальные ткацкие станки тех самых типов, какие в древности применялись во внутреннем Средиземноморье, и принялись ткать узорные ткани, тонкостью петель и изяществом превосходящие подчас все, что знал остальной мир.
До того как в Старом Свете изобрели гончарство, будущие творцы древних культур Северной Африки выращивали бутылочные тыквы, которые они вычищали изнутри и сушили над огнем, так что получались сосуды для воды. Это растение приобрело такую роль, что его по сей день используют точно так же строители папирусных лодок от Эфиопии до Чада. Каким-то образом африканское растение стало достоянием Мексики и Перу, где нашло такое же применение и к приходу испанцев стало одной из основных сельскохозяйственных культур. А ведь, казалось бы, тыкву должны были по дороге прикончить акулы и черви, если она сама плыла по течению через Атлантику, или во всяком случае она сгнила бы раньше, чем индейцы подобрали бы ее на берегу и смекнули, что из нее можно сделать. Так что скорее всего ее привезли на лодках.
Но хлопководы Америки не только обзавелись этим важным растением, они развили гончарство по образцу древнего Средиземноморья. Находили нужную глину, смешивали ее с песком в необходимой пропорции, месили, а затем формовали, окрашивали и обжигали сосуды. Делали кувшины, горшки, блюда, вазы с подставкой и без нее, чайники, пряслица, свистульки и фигурки, которые и в целом, и в частностях сходны с изделиями древних гончаров Месопотамии и Египта. Даже такие своеобразные вещи, как тонкостенный кувшин в виде четвероногого животного с носиком на спине, для которого нужно изготовить разборную форму, делались по обе стороны океана. А также плоские и цилиндрические матрицы для набивки и украшения тканей. Но всего удивительнее, пожалуй, то, что керамические собачки на колесиках вроде современных игрушек находят как в ольмекских погребениях первого тысячелетия до нашей эры, так и в древних месопотамских могилах. Это тем более примечательно, что до того, как была открыта эта параллель, одним из главных аргументов изоляционизма было отсутствие колеса в Америке до Колумба. Но теперь мы знаем, что колесо было известно во всяком случае основателям древнейшей из мексиканских культур. Не будь игрушки с колесами сделаны из долговечной керамики, мы бы и этого не знали. В лесах Мексики обнаружены мощеные дороги доколумбовой эпохи, пригодные для колесного транспорта. Железа здесь не использовали, из глины прочного колеса не сделаешь, поэтому ольмеки могли пользоваться для повозок только деревянными колесами. А от ольмекской эпохи до наших дней вообще не дошло никаких изделий из дерева, оно слишком быстро разрушается.
Допустив, что колесо все-таки применялось в Америке, можно спросить, почему же оно потом исчезло. Скажем, потому, что мексиканские леса с их влажной почвой, при полном отсутствии коней и ослов, не благоприятствовали колесному транспорту, и он постепенно сошел на нет.
Понятно, на лодках из папируса вряд ли можно было доставить в Америку лошадей. Другое дело – собаки. Собака исстари была спутником человека в Средиземноморье, она сопровождала его почти во всех странствиях. У ольмеков были собаки, это видно по глиняным игрушкам. Майя, ацтеки и инки держали собак, об этом говорит их искусство, это же засвидетельствовано в записках испанских путешественников. В доинкском Перу собак мумифицировали и клали в могилы вместе с их владельцами. В этих областях имелись по меньшей мере две породы. Ни одна из них не может быть привязана к какому-либо дикому американскому предку, и обе они совсем не похожи на эскимосскую собаку, пришедшую с индейцами из Сибири. Зато мы видим несомненное сходство с собаками древнего Египта, где обычай делать мумии собак и птиц был не менее распространен, чем в Перу.
Влажного лесного климата никакая мумия не выдержит, но мы знаем, что народы древних культур Америки бальзамировали останки знатных лиц для вечной жизни, ведь сотни тщательно препарированных мумий сохранились в могилах пустынной зоны Перу. Погребальный инвентарь говорит о высоком ранге покойников. У одних перуанских мумий волосы жесткие и черные, у других – рыжие, даже белокурые, мягкие и волнистые, причем они не только волосами, но и ростом разительно отличаются от современных индейцев Перу – одного из самых малорослых народов в мире. Способ изготовления доинкских мумий – внутренности удалены, полости набиты хлопком и зашиты, кожа натерта особыми составами, тело обмотано бинтами, лицо закрыто маской – отвечает традиционному рецепту, в основных чертах известному по Египту.
У долговязого правителя, покоящегося со своими украшениями под пятитонной крышкой каменного саркофага в пирамиде Паленке, тоже была маска на лице, а тело обмотано красными бинтами. Истлевшие остатки бинтов лежали на костях, когда вскрыли саркофаг, но в климате дождевого леса никакое бальзамирование не могло спасти бренную плоть.
Нет ничего неожиданного в том, что мексиканского священного правителя запеленали в красную ткань и саркофаг изнутри выкрасили красной краской. Красный цвет был в Мексике символическим и священным. А в Перу специальные экспедиции на бальсовых плотах и камышовых лодках ходили вдоль побережья на север за красными ракушками, подобно тому, как финикийцы снаряжали экспедиции и даже основали колонии на атлантическом побережье Африки, чтобы удовлетворить свое фанатическое пристрастие к красной краске, добываемой из морской пурпурной улитки.
Жители Мексики и Перу завели множество обычаев, неизвестных другим индейцам, в том числе очень своеобразные. Они придумали делать мальчикам обрезание, как этого требовала религия некоторых древних народов Малой Азии. Они решили, что солнечные жрецы, не имеющие своей бороды, должны носить накладную, как это было принято в Египте. Сколько на небе звезд, однако они ждали, когда над горизонтом появится созвездие Плеяд, чтобы приступить к ежегодным сельскохозяйственным работам. Врачи в Мексике, особенно в Перу, делали операции на черепе, как для лечения переломов, так и в связи с религиозными ритуалами. Ко времени прихода в Америку испанцев это сложнейшее искусство за пределами Нового Света было распространено лишь в ограниченной области от Месопотамии до Марокко и Канарских островов.
Не так уж резко отличался и их повседневный быт, несмотря на расстояние, отделяющее Средиземное море от Мексиканского залива. Семейная жизнь и общественный строй государств жреческой диктатуры были в основе сходны, предметы обихода различались главным образом в деталях. В Мексике и Перу развивалось террасное земледелие средиземноморского типа с применением акведуков, искусственного орошения и животных удобрений, и даже изоляционисты отмечают удивительное сходство мотыг, корзин, серпов и топоров. Тут и там рыбаки вязали одинаковые сети с грузилами и поплавками, плели такие же верши, делали похожие лески и крючки, пользовались одинаковыми лодками. Тут и там у музыкантов, были барабаны, обтянутые кожей с обеих сторон, трубы с мундштуком, флейты, в том числе флейта Пана, кларнеты и всевозможные бубенчики. Сами изоляционисты подчеркивали такие параллели, как состав и организация войска, употребление матерчатых палаток в походе, обычай изображать на щитах узор, указывающий на принадлежность к тому или иному отряду, писали и про тот факт, что праща, незнакомая индейцам, пересекшим Берингов пролив, но характерная для древних воинов Малой Азии, вдруг появляется как один из главных видов оружия во всей области доинкской культуры.
Как диффузионисты, так и изоляционисты говорят о явном сходстве набедренных повязок, мужских плащей, женских тог с поясом и застежкой на плече, сандалий, из кожи и веревки. Похожи броши, металлические зеркала, пинцеты, гребни, способы татуировки; опахала, зонты и паланкины для знатных лиц; деревянные подголовники; безмены и равноплечие весы; игральные кости и шашки; ходули и юла. Бездна параллелей в узорах и мотивах искусства...
Словом, не так велико отличие между тем, что создали народы Малой Азии и Египта, когда в Европе еще царило варварство, и тем, что застали испанцы, когда через несколько тысяч лет пришли в Америку. Пришли под знаком креста, чтобы принести новую религию из Малой Азии индейцам, которые жили на другом конце океанского течения и поклонялись Солнцу.
Обо всем этом мы размышляли и беседовали в океане, пока наша собственная папирусная лодка все ближе подходила к тропической Америке, влекомая как раз тем же течением. Лодка, которая, быть может, являла собой одну из самых примечательных параллелей.
Корма оседала все глубже и глубже – наша ахиллесова пята. Ребята из Центральной Африки поначалу вовсе не хотели делать ахтерштевня в отличие от древних жителей Египта и Месопотамии. Они не привыкли так строить, их никто этому не учил. А индейцы Перу привыкли, там приемы вязки лодок переходили от отца к сыну в неизменном виде с той далекой поры, когда древнейшие гончары страны запечатлевали на своих изделиях первые серповидные камышовые лодки. Озеро Титикака в Южной Америке – единственное место в мире, где камышовые лодки по-прежнему оснащают парусом, и ведь что удивительно: в этой части Южной Америки парус ставили на такой же двойной мачте, какую мы видим в Древнем Египте. И только на озере Титикака по сей день вяжут большие и крепкие камышовые лодки так, что нос и корма загнуты вверх, причем вязка сплошная, веревки охватывают весь корпус, как это показано на древних фресках в египетских гробницах.
Наши чадские друзья связали вместе снопы папируса в несколько слоев, цепляя множество коротких веревок одна за другую, и хотя нам под конец удалось все-таки убедить их надставить высокий ахтерштевень, соответствие египетским фрескам было лишь внешним. Великие цивилизации древности распространились морским путем вдоль берега Средиземного моря до Марокко, а вот проникнуть в глубь материка, до Чада, оказалось труднее. И теперь я впервые задумался, не сбила ли меня с толку карта мира. Я вывез лодочных мастеров из Чада, потому что в Старом Свете лучше их не нашлось. Но если культуры по обе стороны Атлантики восходят к общему корню? Тогда индейцы озера Титикака, где находился самый древний и важный доинкский культурный центр, могли унаследовать искусство строительства лодок от жителей Средиземноморья по более прямой линии, чем жители глухих дебрей Африки – будума. Вспомнилось утверждение изоляционистов, что внутреннее Средиземноморье отделено от Перу неодолимым расстоянием. Кажется, и мне заморочило голову это утверждение? Кажется, мы все забыли, что испанец Франсиско Писарро без крыльев, без дорог, без рельсов прошел с отрядом обыкновенных людей от Средиземного моря до Перу так же быстро, как Эрнандо Кортес достиг мексиканского нагорья? На глазах одного поколения испанцы покорили огромную область от Мексики до Перу. Есть ли у нас причины отвергать возможность того, что и прежде пришельцы могли так же легко пересечь Панамский перешеек и дойти до Перу? Испанцы сперва открыли острова, окаймляющие Мексиканский залив, однако главные поселения они начали учреждать только после того, как проникли в Мексику и Перу.
Семь представителей семи наций собрались на одной папирусной лодке – для чего? Чтобы показать, как сходны люди, независимо от того, где они родились. Так почему мы не хотим уразуметь, что это сходство существовало во все времена, еще и тогда, когда древние египтяне сочиняли свои любовные песни, ассирийцы совершенствовали свои боевые колесницы, финикийцы создавали основы нашего письма и сражались с парусами и веслами на просторах соленых морей.
Когда завершилась первая неделя июля, я начал потихоньку тревожиться. Хоть бы судно с кинооператором вышло вовремя, пока эти дождевые тучи, которые много дней нас преследуют, не собрались вместе и не задали нам настоящую трепку. В области, куда мы вошли, надвигался сезон ураганов. Ребята относились к этому совершенно спокойно.
Восьмого июля ветер усилился, и море разгулялось так, словно где-то за горизонтом бушевал изрядный шторм. Могучие волны обрушивались на нашу жалкую корму, они теперь захлестывали даже мостик, который стоял на высоких столбах за каютой. В ту ночь нам крепко досталось. Тьма кромешная, ветер воет, всюду булькает, плещется, бурлит, ревет, рокочет вода. Наши рундуки колыхались вверх-вниз вместе с нами. Тем из нас, кто лежал у правого борта, пришлось вынимать свои вещи из ящиков, наполовину залитых водой, и класть их в рундуки соседей: у них было все-таки меньше воды.
Каждые несколько секунд волна ударяла в заднюю стенку каюты, которую мы закрыли брезентом, она содрогалась, и вода сочилась из всех щелей, а то и целая струя голову окатит. Большинство из нас привыкло к этим нескончаемым залпам, один Сантьяго пользовался снотворным, но иногда особенно резкий и зловещий звук заставлял всех нас выскакивать из спальных мешков. Это парус вывернулся и затеял потасовку с мачтой, и вот уже мы опять сообща сражаемся с еле видимым в тусклом свете фонаря великаном, спотыкаясь и разбивая пальцы ног о кувшины Сантьяго и все более густую сеть растяжек Карло.
На другой день около шести утра, когда я стоял на мостике и двумя рулевыми веслами, одно из которых было наглухо закреплено, держал лодку так, чтобы принимать ветер с правого угла кормы, море вдруг вздыбилось. Поверхность океана медленно поднялась мне до пояса, и каюта передо мной тихо, без единого всплеска, скрылась под водой. В следующую минуту всю лодку ударило в дрожь, и она накренилась к ветру, да так сильно, что я обеими руками ухватился за весло, чтобы не скатиться вместе с водой за борт. Сейчас... сейчас тяжеленная мачта раздергает папирус на клочки и рухнет в море. Но «Ра» только сбросила воду с палубы и сразу выровнялась, правда, не до конца, и с того дня вахтенный стоял на покривившемся мостике, наполовину согнув левое колено.
Теперь нам во время купания в нашей ванне приходилось страховаться веревкой, чтобы нас не смыло с покатой, будто пляж, кормы. Волны прорывались вперед с обеих сторон каюты, поэтому на подветренном борту мы не доходя двери поставили поперек плотину из пустых корзин и канатов, накрыв их запасным парусом, в котором пока не нуждались. Всюду лежали мертвые летучие рыбы. Хотя корма сильно тормозила и плохо управляемая «Ра» все время шла зигзагами, сильный ветер за день приблизил нас к Америке еще на 63 морских мили, то есть на 116 километров. Это всего на 30-40 километров меньше средней скорости древних папирусных судов, о которых говорил хранитель папирусов Эратосфен. Опять нас навестили белохвостые фаэтоны; на юге и юго-западе от нас лежали за горизонтом Бразилия и Гайана. Настроение у ребят было отменное. Норман связался с Крисом в Осло, и тот подтвердил, что помогает Ивон подыскать в Нью-Йорке кинооператора, который мог бы выйти нам навстречу из Вест-Индии.
Девятого июля, не успели мы обнаружить, что волна, которая накрыла каюту, кроме того, наполнила водой бочку, где лежало почти 100 килограммов солонины (мясо после этого сгнило), как пришел потрясенный, весь бледный Жорж и сообщил новость похуже: веревки, крепившие крайнюю связку папируса с наветренной стороны, перетерло ерзающим взад-вперед под ударами волн полом каюты. Одним прыжком мы с Абдуллой очутились на правом борту. И увидели такое, чего мне никогда не забыть. За каютой вся лодка разошлась вдоль. Правая бортовая связка, на которую опиралось одно колено мачты, то отходила, то опять прижималась к корпусу, уцелели только веревки на носу и на корме. Вот опять волна отвела ее в сторону, и мы глядим прямо в прозрачную синеву у наших ног. Никогда Атлантический океан не казался мне таким прозрачным и глубоким, как в этой щели, рассекшей наш папирусный мирок. Если черная кожа бледнеет, то Абдулла побледнел. Ровным голосом стоика он бесстрастно сказал, что это конец. Веревки перетерлись. Цепь разомкнута. Теперь вся вязка постепенно разойдется, через два-три часа стебли расплывутся в разные стороны.
Абдулла. Абдулла сдался. Да и мы с Жоржем стояли, как оглушенные, переводя взгляд с мерно открывающейся и закрывающейся щели на связанную вверху мачту. Если бы ее колена не прижимали друг к другу отставшую связку и корпус, давно бы перетерлись веревки на носу и на корме. Вдруг я увидел, что рядом со мной стоит Норман, взгляд его выражал внутреннюю решимость.
– Не сдаваться, ребята, – глухо произнес он. В следующую минуту закипела работа. Карло и Сантьяго притащили самые толстые веревки и принялись нарезать концы. Жорж прыгнул с тросом в воду и проплыл под «Ра» от одного борта до другого. Мы с Норманом ползали по палубе и осматривали лопнувшие найтовы, чтобы установить, далеко ли распустилось наше вязание. За кормой пучками и поодиночке плавали стебли папируса. Вооружившись молотом, Абдулла бил по нашей могучей швейной игле, роль которой играл тонкий железный лом с ушком внизу для восьмимиллиметрового линя. Мы задумали сшить этой иглой наш бумажный кораблик. Юрий час за часом нес один тяжелую рулевую вахту.
Сперва Жорж четыре раза проплыл под лодкой от борта до борта с самым нашим толстым тросом; концы троса мы связали на палубе, скрепив им корпус лодки, словно бочку обручами, чтобы мачта не разошлась вверху. Потом Жорж стал нырять под связки туда, где Абдулла просовывал иглу с веревкой. Он выдергивал веревку из ушка и вдевал ее снова, как только Абдулла протыкал лодку, иглой в другом месте. Нам удалось кое-как зашить злополучную прореху, но мы успели потерять немало папируса и больше прежнего кренились в наветренную сторону. Двойная мачта перекосилась, и все же «Ра» шла так быстро, что Жорж не отставал только благодаря страховочному концу. Страшно было подумать, что лом может попасть ему в голову, и мы были счастливы, когда наконец вытащили его на палубу в последний раз.
Карло просил не корить его за скверный обед, но что поделаешь, если в кухонный ящик все время залетают брызги и гасят плиту. На закате кто-то увидел за кормой прыгающую на гребнях корзину из нашего груза. Пока не стемнело, мы еще раз проверили пришитую связку, которая составляла почти всю палубу с наветренной стороны каюты. Она отвратительно болталась, дергая тонкий линь, к тому же так размокла и отощала, что по правому борту мы проходили мимо каюты по пояс в воде.
И вот снова ночь. Засыпая, я различил во мраке белки глаз, качающиеся вверх-вниз у выхода. Это Абдулла молился аллаху под скрип и треск лодки и плеск вездесущей воды. Норману передали по радио, что судно, с которым Ивон ведет переговоры, возможно, встретит нас через четыре-пять дней.
Десятого июля мы встретили восход совсем не выспавшиеся: всю ночь рундуки, на которых мы лежали, лихо раскачивались вразнобой. Норман не поладил со своими строптивыми ящиками и лег в ногах товарищей. Первым делом мы решили потуже затянуть четыре троса, которыми накануне схватили поперек все связки, потом добавили пятый найтов там, где стояли мачты, чтобы им не вздумалось выполнить шпагат. И весь день продолжали сшивать лодку длинной иглой, протыкая папирус насквозь сверху вниз.
В этот день Норман принял сообщение, что на острове Мартиника ожидают прибытия двух американских кинооператоров, и туда за ними идет небольшая моторная яхта «Шенандоа». А итальянское телевидение передало, что мы потерпели аварию и перешли на спасательный плот. Мы вспомнили с мрачным юмором, как распилили наш плот на куски. Никто не сокрушался о нем. Никто не стал бы переходить на него. У нас еще было вдоволь папируса. Высокие волны обрушивались на палубу, Карло возгласом отчаяния проводил свои лучшие кастрюли, смытые за борт, и тут Жорж вынырнул из каскадов с каким-то красным предметом, который он успел поймать в последнюю минуту.
– Он еще нужен или можно его выбросить в море?
Маленький огнетушитель. А ведь в самом деле, было время, когда на правом борту курить воспрещалось. Под дружный смех огнетушитель полетел за борт, даже Сафи, вися на вантах, оскалила зубы и издала какие-то горловые звуки, – мол, и у меня есть чувство юмора.
Одиннадцатого июля складки на море немного разгладились, но и самые миролюбивые волны подминали под себя корму и правый борт. Во время моей вечерней вахты впервые за много дней выглянули звезды, в том числе Полярная, и я быстро определил носометром, что мы находимся на 15° северной широты.
Среди ночи мощные волны с правого борта с такой силой ударили в плетеную стену каюты, что она не смогла сдержать их натиск и один из ящиков Нормана разлетелся в щенки. Его давно опорожнили, остались только доски, обломки которых теперь закружило водоворотом в каюте. Правый борт с пришитой нами связкой скрипел как-то особенно жутко, и за всем шумом никто не услышал тревожных криков Сафи, когда очередная волна сорвала со стены чемодан, в котором она спала. Несколько минут она плавала в нем, обгоняя щепки, потом каким-то чудом ухитрилась сама открыть крышку. Сантьяго проснулся оттого, что насквозь мокрая Сафи визжала ему в ухо, просясь в спальный мешок.
Двенадцатого июля к нам опять явился пернатый гость с материка. По радио сообщили, что яхта задерживается, так как два члена команды сбежали, как только «Шенандоа» пришла на Мартинику.
Полным сюрпризом было для нас появление какой-то старой калоши, которая вынырнула из-за горизонта на юге и пошла зигзагами к нам. Сперва мы подумали, что это какие-нибудь авантюристы на самодельной посудине, но сблизившись, увидели латаную-перелатаную, старую рыбацкую шхуну с китайскими иероглифами на бортах. На всех снастях сушилась рыба, а команда, облепив фальшборт, безмолвно разглядывала нас. «Нои Юнь Ю» проползала мимо нас метрах в двухстах, и мы смотрели друг на друга с взаимным содроганием и состраданием, щелкая фотоаппаратами. Китайцы помахали нам как-то снисходительно, без особого восторга. Было очевидно, что они принимают «Ра» за какую-нибудь жангаду или бальсовый плот, вышедший на рыбный промысел с берегов Бразилии, и потрясены тем, как это люди в наши дни плавают на таких рыдванах. Поднятая шхуной волна перекатилась через корму «Ра», «Нои Юнь Ю» не спеша прошлепала дальше, и мы снова остались одни в океане. Опять пошел дождь. Ветер прибавил, волны тоже, всюду плескалась вода.
Когда из-за выцветших мокрых туч начала расползаться по небу ночь, мы заметили на восточном горизонте грозовые облака, похожие на головы взбешенных черных быков. Рокоча громовыми раскатами, они ринулись вдогонку за нами. Мы приготовились встретить шторм, он уже давал о себе знать вспышками молний и все более сильными порывами ветра. Рискуя потерять парус, мы решили все-таки не убирать его. Остались какие-то дни, лучше уж идти быстрее. «Ра» вздрагивала от могучих порывов ветра. Море встало на дыбы. Египетский парус наполнился до предела, и мы неслись через гребни, точно верхом на диком звере. Нас окружала буйная, варварская красота. Черные валы покрылись белыми пятнами, потом полосами, они кипели и бурлили, поливая нас сильнее, чем дождь с неба. Ветер сплющивал гребни, и «Ра» развила такой ход, что настигающие нас сзади волны частенько промахивались. Зато те, которые все-таки накрывали нас, делали это так основательно, что от удара до удара мы успевали вздремнуть всего на несколько секунд.
Опасности подстерегали нас на каждом шагу, так что надо было надежно крепить страховочный конец за стену или папирус. Тяжелые каскады с ревом разбивались о плетеную крышу, и она все сильнее прогибалась, становясь похожей на седло. Сантьяго смыло за борт вместе со страховочным концом, но он успел ухватиться за угол паруса. Иногда «Ра» кренилась так сильно, что мы бросались к вантам вздыбившегося борта и повисали на них, чтобы не дать ей опрокинуться. Один из кухонных ящиков разбило волной, и Карло побежал по колено в воде спасать второй, качающийся на воде под мачтой. Антенну сорвало ветром, и радио потеряло дар речи. Утку то и дело смывало за борт, кончилось тем, что она сломала ногу, и Юрию пришлось заняться хирургией. Сафи отсиживалась в каюте и чувствовала себя превосходно. В широченных ложбинах между волнами носились туда и обратно самые большие стаи летучих рыб, какие я когда-либо видел. Собираясь заступить на вахту, я услышал голос Абдуллы, он что-то напевал, стоя на мостике в ночи. Сзади на крышу обрушилась могучая волна. Пора выходить. Я посмотрел на Абдуллу снизу: стоит, надежно застраховавшись веревкой, в свете фонаря поблескивают мокрые волосы.
– Как погодка, Абдулла? – шутливо справился я.
– А ничего, – невозмутимо ответил он.
Трое долгих суток штормило, то сильнее, то слабее. Идти под парусом становилось все опаснее, но первые двое суток мы держались, и «Ра» лихо мчалась по штормовой волне. Правое колено мачты приплясывало на наскоро подремонтированном борту, который качался сам по себе, к тому же мы потеряли так много папируса из этой связки, что она поминутно исчезала под водой, и мачта все больше наклонялась к ветру. Это помогало нам лучше принимать шквалы, вот только пята под правым коленом уходила все глубже в кое-как связанный папирус. Жорж и Абдулла без устали ремонтировали этот клочок палубы, чтобы мачта не пропорола связку насквозь. Оба колена подпрыгивали на деревянных пятах, и после каждого прыжка только сила тяжести да веревки возвращали их на место. К тому же из-за ослабленного крепления правой бортовой связки стебли впитали много воды, и связка так раскисла, что и не поймешь, до какой степени можно натягивать ванты. Качнется мачта назад, и сразу ванты по обе стороны каюты провисают, будто детские прыгалки, но тут же следует рывок вперед, и они натянуты, как тетива; только обрамляющий весь борт могучий канат, этот древнеегипетский фальшборт, спасал папирус от ярости мачты.
Сами по себе стебли оставались такими же тугими и крепкими, как после первого дня в море, и отставший от лодки папирус продолжал держаться на воде. Но под тяжестью мачты, которая наваливалась на покалеченный борт, слабо схваченные веревкой, поредевшие и намокшие связки все глубже уходили под воду, и гибкий плетеный пол нашей каюты изогнулся дугой. Мы решили чем-нибудь заполнить пространство, освободившееся после того, как разбился ящик Нормана. Не успели мы это сделать, через щели в бамбуковой стене снова прорвалась волна и разбила второй ящик.
Ящик за ящиком разлетался в щепки под нами. И с каждым погибшим ящиком все труднее было справиться с уцелевшими, которые плавали по двое, словно лодки в тесной гавани, заставляя корчиться постеленные сверху сенные тюфяки. Носки и трусы исчезали в водовороте в одном месте, а выныривали совсем в другом. Норман и Карло перебрались из каюты под навес у передней стенки, на корзины с провиантом. Юрий не успел опорожнить свои рундуки, как их тоже разбило, а из медикаментов получилось какое-то жуткое, зловонное месиво: битое стекло, раздавленные коробки и тюбики. Чтобы не падать с оставшихся ящиков, мы бросали в образовавшиеся пустоты матрасы, спальные мешки и всякое барахло, которое нам не было нужно. Юрий ушел из каюты.
Потолок посередине оседал все ниже и ниже, пришлось перенести пляшущий керосиновый фонарь в самый высокий угол. Шутки и хохот тройки, которая переселилась под навес, говорили о том, что по обе стороны бамбуковой стенки настроение отличное.
Шторм бесновался, сверкали молнии, но мы почти не слышали грома, его заглушали волны, которые с ревом врывались в каюту с правого борта и, поплескавшись вокруг нас, уходили обратно через правую стену. Вахтенному на мостике приходилось так тяжело, что мы старались почаще сменяться. Правые стояки мостика осели вместе с папирусом, и площадка рулевого больше напоминала скат крыши. Дотянуться до рукоятки правого весла стало невозможно, так как мы жались в левый, более высокий угол мостика, поэтому было изобретено хитрое – и громоздкое – устройство, с которым мы мучились, когда не удавалось держать курс одним только левым рулевым веслом: в таких случаях мы поворачивали правое весло двумя веревками, действуя и рукой, и ногой. Чтобы совсем не выбиться из сил, мы время от времени ненадолго крепили наглухо оба весла. Задача состояла в том, чтобы парус был наполнен ветром, и оба шкота крепились за перила мостика, это позволяло вахтенному маневрировать реей, если на нее ложилась чрезмерная нагрузка и весла не могли помочь. Весь мостик был опутан веревками, а затопленный ахтерштевень превратился в огромный капризный руль, который безумно осложнял управление лодкой. Нельзя было допускать, чтобы нас развернуло кругом штормовым ветром, слишком велик риск, что мачта либо полетит, либо проткнет папирус насквозь; ладья-то вряд ли опрокинется: слишком отяжелела от воды.
Четырнадцатого июля мы связались по радио с «Шенандоа», она уже вышла на восток с острова Барбадос. С яхты сообщили, что шторм и до них добрался, мостик захлестывают шести-семиметровые волны. Радист передал в эфир, что судно в опасности, и капитан подумывал о том, чтобы повернуть назад, так как яхта не рассчитана на сильный шторм. Только сознание, что нам еще хуже, заставляло их продолжать идти против ветра на восток. По словам капитана, «Шенандоа» могла сейчас развивать максимум восемь узлов, это было в три-четыре раза больше скорости «Ра», но встречный ветер тормозил яхту, так что в лучшем случае, идя вдоль одной и той же широты, мы могли встретиться дня через два.
Какой-то радиолюбитель перехватил сообщение, что в тридцати милях от нас находится торговый пароход, который может прийти к нам на помощь. Но ребята на «Ра», все, как один, были за то, чтобы самостоятельно идти дальше на запад.
В час ночи Юрий услышал громкий треск и крикнул, что сломалась рея. Мы выскочили на палубу и растерялись: парус на месте, рея исправно служит. Только почему-то править стало труднее прежнего, «Ра» наотрез отказывалась слушаться руля. Сменяясь ночью на мостике, рулевые единодушно отмечали, что не помнят более тяжелой вахты. И лишь с восходом солнца мы поняли, в чем дело. Карло обнаружил, что правит одним веретеном без лопасти. Здоровенное двойное весло снова переломилось, как от удара исполинской кувалды, а лопасть навсегда исчезла в волнах. Так вот что за треск слышал Юрий! Выходит, мы понапрасну выбивались из сил, руля круглыми обломками, «Ра» сама держала курс затопленной кормой.
Пятнадцатого июля шторм достиг предельной силы, и парус не выдержал. Нас накренило шквалом так резко, что обычное судно было бы опрокинуто, и он с грохотом лопнул. Сверкали молнии, лил дождь. Осиротевшая мачта с перекладинами качалась, будто скелет, в свете молний. Без паруса на лодке сразу стало как-то пусто и мертво. И волны словно разом осмелели, как только мы замедлили ход. Вот уже смыло остатки камбуза. Вокруг ног Карло расплылся гоголь-моголь с известкой: не выдержал один кувшин. Но на носу и на левом борту стояло еще множество надежно закупоренных кувшинов с провиантом. Под мачтой висели колбасы и окорока. Что гоголь-моголь – откуда ни возьмись, на палубе вдруг появились «португальские военные кораблики», которые все опутали своими длинными жгучими арканчиками. Я наступил на пузырь, но не обжегся. А Жорж и Абдулла трудились по пояс в воде, заменяя перетершиеся веревки, и арканчики обмотались у них вокруг ног. Обоих тут же обработали природным средством по рецепту Юрия. Абдулла уверял, что ему вовсе не больно. Но ведь у него на руках были метки от сигарет, которые он тушил о собственную кожу, чтобы показать, что настоящему чадцу боль нипочем.
Вне каюты было только одно относительно сухое и безопасное место, где мы могли, потеснившись, посидеть вместе, когда бушевал шторм, – палуба у самого входа. Здесь амфоры образовали как бы скамейку. Тут же хранились наши киноленты и самое ценное снаряжение. Утка и обезьяна ютились каждая в своей корзине, водруженных поверх нашего личного имущества. А в каюте продолжали буянить волны. Ящик за ящиком превращался в щепки. К вечеру только мы с Абдуллой еще удерживали позиции, все остальные покинули каюту и спали кто на кухонных корзинах, кто на мачте, кто на крыше, которая прогнулась уже настолько, что насилу выдерживала вес двоих-троих человек.
Из шестнадцати ящиков, служивших нам кроватями, оставалось всего три. Два принадлежали Абдулле, один мне. Они уцелели потому, что стояли у левой стены, но теперь пришел и их черед. Ящик, на котором лежали мои ноги, уже развалился, и книги плавали в каюте вперемежку с одеждой, словно кто-то задумал приготовить бумажную массу. Я положил ноги на крышку от ящика, поставленную ребром, а руками держался за крышу и стены, чтобы не дать опрокинуться ящику под моей спиной, когда мокрое месиво скатывалось в нашу сторону. Чистый гротеск. Стоя на коленях у двери, Абдулла прочел молитву, потом забрался в свой спальный мешок и уснул.
Кругом бурлит и булькает, как у черта в горле. Моя подушка шлепнулась прямо в водоворот и поплыла от стены к стене, я словно попал в чрево кита, а бамбуковая плетенка играла роль китового уса, отцеживающего добычу и пропускающего только воду. Пытаясь поймать подушку, я схватил что-то мягкое. Рука. То ли резиновая рука, то ли наполненная водой перчатка из хирургического набора Юрия. Это просто невыносимо. Я приподнялся и погасил фонарь, тотчас меня окатила дождевая вода с брезента на крыше, одновременно доска под ногами упала и исчезла. Я выбрался на волю к остальным. Лучше уж спать под дождем на подветренном борту. Один Абдулла остался в нашей обители, где когда-то было так уютно. Он спал как убитый.
Задолго до рассвета 16 июля мы опять связались по радио с «Шенандоа», долго и терпеливо крутили генератор и прослушивали эфир, наконец услышали металлический голос радиста. Он передал нам просьбу капитана пускать ракеты, когда стемнеет. Ветер унялся. Шторм прошел дальше на запад и достиг островов. Мы все были целы-невредимы, не считая сломанной ноги Симбада. Норман отыскал ракеты с плота, который мы распилили. Они так размокли, что порох не хотел гореть. На клочке этикетки мы прочли: «Хранить в сухом месте». И передали на «Шенандоа», что вся надежда на их ракеты. Ни мы, ни они после шторма не знали точно своих координат, но стирались по возможности идти встречным курсом по одной широте.
Радист яхты попросил нас не жалеть сил, непрерывно крутить ручной генератор и передавать свой позывной, чтобы они могли идти по нашему пеленгу. Правда, ветер совсем стих, а ливень укротил волны, но оба суденышка были слишком малы – не разглядеть друг друга издалека. Длина яхты была 22 метра, водоизмещение – 80 тонн.
И мы прилежно крутили, а одновременно обратили внимание, что в океане опять полно плавающих комков мазута. Да и вчера их было немало. Вода, захлестывающая лодку, уходила сквозь папирус, а мазут оставался на палубе. Я собрал несколько проб, чтобы передать их вместе с коротким докладом норвежскому представительству в ООН. Эта грязь преследовала нас и на востоке, и на западе, и посередине океана.
Пока мы по очереди крутили электрическую машину, а Норман, не расставаясь с наушниками, вертел ручки, Карло улучил несколько минут и приготовил отличную холодную закуску. Он попросил его извинить, дескать, камбуз не тот, что прежде: во-первых, все кастрюли отстали от лодки, во-вторых, примус никак не разжечь, потому что он лежит на дне морском. Но если мы не откажемся от грудинки и египетской икры, то у него найдется нож. И мы могли есть сколько угодно «лепешек-мумий», которые были одинаково вкусными как с берберским маслом и медом, так и с наперченным овечьим сыром. Буря милостиво обошлась с кувшинами, защищенными мягким папирусом. Больше всего досталось деревянным ящикам. Папирус и веревки, кувшины и бурдюки, корзины и бамбук хорошо поладили между собой. А вот жесткие деревянные конструкции неизменно проигрывали поединок с волнами.
Под вечер 16 июля установилась тихая погода, и мы повели наблюдение за горизонтом с каюты и мачты. Юрий крутил генератор, Норман монотонно кричал в микрофон наш позывной, и тут произошла неожиданная вещь. Представьте себе Нормана, который сидит в дверях каюты и настойчиво вертит ручки радиостанции, и вдруг он говорит странным голосом, глядя куда-то в пустоту:
– Я вас вижу, я вас вижу, вы нас не видите?
Мы остолбенели, прошла секунда, прежде чем до нас дошло, что он обращается не к нам, а к радисту «Шенандоа». «Шенандоа!» Мы обернулись – и Жорж, который лежал на крыше, пристально глядя в другую сторону, и Карло, который с кинокамерой на животе болтался на покосившейся мачте, и все остальные.
Вот она! На гребнях далеких валов время от времени поднималась белая крупинка. Когда шхуна приблизилась, мы увидели, что ее страшно мотает бортовая качка. Наша потрепанная «Ра» куда спокойнее вела себя на волне. Для нас и поныне остается непостижимой загадкой, как мы сумели найти друг друга, но так или иначе пробил час, и вот мы вместе качаемся вверх-вниз, словно затеяли перепляс в море у островов Вест-Индии. Вокруг «Ра» летала большая черная птица. Воду вспороли плавники акул. Должно быть, они шли за яхтой от самых островов.
На яхте и на ладье стрекотали кинокамеры и щелкали фотоаппараты. Что бы нам встретиться на сутки раньше! Гордый парус «Ра» был накануне спущен навсегда, теперь на мачте можно было поднимать только маленький клочок парусины, не то правое колено могло насквозь проткнуть отощавший правый борт.
С яхты спустили на воду надувную лодку, и Абдулла страшно обрадовался, увидев на веслах человека с таким же цветом кожи, как у него. Он крикнул что-то гребцу на своем арабском наречии, потом по-французски и совсем растерялся, когда ему ответили по-английски. В Америке Абдулла встретил Африку, но Африку, которая успела стать совершенно американской.
Прежде всего мы погрузили на пляшущую лодчонку все отснятые пленки. После этого в несколько заходов сами переправились на яхту и познакомились с ее экипажем. Простые, славные ребята.
Изящное суденышко с высоким мостиком и узким килем качало так сильно, что после двух месяцев на «Ра» мы с трудом удерживали равновесие на чисто выдраенной палубе. А кинооператоры Карло и Джим, обменявшись мнениями, согласились, что гораздо легче снимать яхту с ладьи, чем наоборот.
Капитан и его команда были молодые ребята, большинство наняты только на этот рейс, и все уговаривали нас поскорее переходить с вещами к ним на борт, чтобы можно было, не мешкая, отправляться в обратный путь. Но контракт об аренде «Шенандоа» не включал такого условия, а мы не торопились покидать «Ра». Яхта доставила нам апельсины, по четыре на брата, и коробку шоколадных конфет для Сантьяго. Однако наскоро набранная команда вышла в море, не заметив впопыхах, что провиант состоит преимущественно из пива и минеральной воды, поэтому капитан настаивал на скорейшем возвращении, пока мы все не остались без еды. И пока не нагрянул новый шторм, мы попросили
одолжить нам надувную лодку и привезли с «Ра» окорока, бараньи ноги, колбасы и кувшины с провизией и водой. Наших запасов хватило бы всему экипажу папирусной лодки по меньшей мере еще на месяц.
И яхта осталась. «Ра» еще держалась на воде, левый борт был в полном порядке, но правый так потрепало, что мы не могли больше полагаться на тяжеленную девятиметровую мачту и решили срубить ее. Норман поставил легкую двойную мачту из двух связанных вверху пятиметровых весел и поднял на ней маленький прямой парус. «Ра» продолжала плавание.
17 и 18 июля мы переправили на «Шенандоа» весь лишний груз и сшивали связки, укрепляя лодку. Карло поплыл к яхте, толкая перед собой срубленную мачту, Жорж трудился под днищем «Ра», Юрий поддерживал сообщение с «Шенандоа» на хлипкой резиновой лодке, остальные бродили по затопленной палубе, таская веревки и свои промокшие вещи, и тут мы все чаще стали примечать на поверхности моря плавники акул, словно этакие игрушечные паруса. Под водой были видны могучие туши, медленно скользившие в прозрачной синей толще. Ребята на «Шенандоа» занялись рыбной ловлей, вытащили на палубу двухметровую акулу с белыми плавниками, потом другую, поменьше, и угостили нас нашим рисом с вкусной акульей печенью. Но четырехметровую синюю акулу рыболовам не удалось перехитрить, и она продолжала неутомимо патрулировать около нас.
Всем было строго-настрого наказано соблюдать предельную осторожность, и все же мы с ужасом увидели, как Жорж выскакивает на притопленный борт «Ра», преследуемый по пятам крупной акулой. Одну ногу Жоржа уже давно украшали следы акульих зубов. Я запретил ему нырять, пока кругом ходят акулы, тогда он ответил, что нам придется долго ждать, ведь в глубине под лодкой кружит не меньше двадцати пяти – тридцати акул... Было бы глупо рисковать людьми, и мы прекратили ремонт связок. Пусть уплывают стебли и пучки папируса, лишь бы средняя часть лодки и левый борт оставались целыми.
Прогнозы погоды, принимаемое радистом «Шенандоа», внушали тревогу, и у капитана были уважительные причины настаивать на возвращении в гавань. Экипаж «Ра» единодушно считал, что в случае шторма вернее всего оставаться на борту нашей потрепанной посудины. Правда, управлять лодкой было невозможно: рулевые весла сломаны, на мостике не устоишь, но папирус держался на воде, на нем вполне можно плыть на запад, как на огромном спасательном буе, пока нас не выбросит на берег.
«Шенандоа» поддавалась управлению, хотя в шторм вышли из строя помпы и один из двух моторов. Однако капитан и его команда не сомневались, что при первом намеке на ураган яхта даст течь или опрокинется, а тогда полый корпус сразу пойдет ко дну.
Впервые с тех пор, как мы распилили спасательный плот у берегов Африки, я устроил, как говорится, военный совет. И объявил ребятам, что, по-моему, пора прекращать эксперимент. Мы провели на папирусе два месяца, связки еще держатся на воде, и пройдено, не считая всех зигзагов, 6 тысяч километров, то есть столько же, сколько отделяет Африку от Канады. Значит, доказано, что папирусная лодка мореходна. Ответ получен. Рисковать жизнью людей ни к чему.
Бородатые, обветренные, с мозолистыми руками, ребята внимательно выслушали меня. Я попросил каждого высказаться.
– По-моему, надо идти дальше на «Ра», – сказал Норман. – Провианта и воды у нас достаточно. Можно сделать для сна площадку из корзин и сломанных досок. Конечно, нелегко придется, но через неделю мы подойдем к островам даже с тем клочком паруса, который у нас сейчас стоит.
– Я согласен с Норманом, – подхватил Сантьяго. – Если мы сейчас сдадимся, никого не убедишь, что опытные водители папирусных лодок могли дойти до Америки. Даже среди этнологов найдется немало таких, которые скажут, что главное не пройденные нами тысячи километров, а оставшийся маленький отрезок. Пусть останется всего один дневной переход, и то за это будут цепляться. Мы должны полностью пройти весь путь от берега до берега.
– Сантьяго, – возразил я, – тех немногих ученых, которые не способны уразуметь, что создатели папирусной ладьи управлялись с ней лучше нас, все равно не убедишь, даже если мы дойдем до самых верховий Амазонки.
– Надо продолжить плавание, – сказал Жорж. – Даже если вы сдадитесь, мы с Абдуллой пойдем дальше. Верно, Абдулла?
Абдулла молча кивнул.
– Это египетская лодка, – продолжал Жорж. – Я представляю Египет. Я должен плыть дальше, пока есть хоть одна связка папируса, на которой можно удержаться.
Карло вопросительно посмотрел на меня.
– Если ты считаешь, что надо идти дальше, я тоже дойду, – он погладил свою бороду. – Решай сам по обстановке.
Юрий все это время молча смотрел перед собой, теперь и он взял слово:
– Нас семеро товарищей, мы делили все радости и невзгоды. Либо вместе идем дальше, либо вместе кончаем путь здесь. Я против того, чтобы мы расставались.
Нелегко мне было решать. Ребята были готовы идти дальше. Может быть, все обойдется благополучно, но может быть и так, что кого-то смоет за борт ураганом. Эксперимент того не стоит. Я затеял его, чтобы получить ответ. Ответ уже есть. Папирусная лодка с экипажем из сухопутных крабов, которым не у кого было учиться, которые все делали наугад: наугад строили, наугад грузили, наугад управляли ладьей, – выдержала двухмесячное плавание в океане, выдержала шторм, люди и звери на борту живы-здоровы, весь главный груз цел. Если, взяв за радиус пройденный нами путь, провести окружность с центром в древнем финикийском порту Сафи, где мы стартовали, она захватит и Москву и северную оконечность Норвегии, рассечет пополам Гренландию, пройдет через Ньюфаундленд, Квебек и Новую Шотландию в Северной Америке, коснется крайней восточной точки Бразилии в Южной Америке. Выйди мы не из Сафи, а из Сенегала в Западной Африке, наш маршрут пересек бы весь океан по прямой и еще протянулся бы больше чем на 2 тысячи километров вверх по Амазонке, почти до ее истоков. Ведь в самой узкой части Атлантики ширина океана около 3 тысяч километров.
Лучше вовремя выйти из игры. Два суденышка, у каждого свои слабые места, бок о бок дрейфуют на запад, туда, где рождаются ураганы... Мы и не подозревали, что первый ураган года, «Анна», уже родился в океане там, где мы только что прошли, и, наращивая силу, мчится к крайним северным островам группы, лежащей прямо по нашему курсу. Нас несло на Барбадос в южной части Вест-Индии. Не знали мы и того, что американские самолеты Группы океанографических и метеорологических исследований в Барбадосском районе, которые наблюдали рождение урагана, кроме того, нашли, что воздух над Барбадосом на большой высоте насыщен песчинками из Сахары. На влажные леса Центральной Америки сыпался сахарский песок. А волны впереди и позади нас несли к побережью Месоамерики комки мазута от берегов Африки. Пусть «Ра» одна продолжает путь вместе со стихиями к тропическому краю. Я решил сам.
Глава 11
«Ра II».
Шесть тысяч километров на папирусной лодке от Африки до Америки

Что такое? Не может быть. Я просыпаюсь в тревоге. Хватаюсь за постель. Она качается. Качка, тряска, плеск воды. Ночь... Может, мне это снится? Разве плавание «Ра» не кончилось? Может, все это был дурной сон – затонувшая корма, срубленная мачта? Или я сейчас сплю и вижу в кошмаре, что мы еще не покинули потрепанную ладью? На минуту я совсем запутался, силясь отделить сон от яви. Но ведь плавание «Ра» позади. Я поклялся себе, что больше никогда не стану затевать ничего подобного. И вот опять. Та же плетеная каюта. Тот же широкий лаз в пустынный мир ветра и рвущихся к ночному небу буйных черно-белых волн. Впереди тот же огромный египетский парус расправил свои широкие плечи на двойной мачте, той самой, которую мы срубили, сзади изящной дугой изогнулся вверх стройный папирусный ахтерштевень, тот самый, который у нас на глазах сник и погрузился в бурлящее море. Все тело разбито усталостью. Руки ноют. Я сел.
Норман, настоящий живой Норман влез в каюту и навел фонарик сперва на меня, потом на торчащую из спального мешка возле меня косматую голову с рыжей бородой:
– Тур и Карло, на вахту, подъем.
Я взял свой фонарик и посветил кругом. Вот и остальные ребята лежат впритирку, еще теснее прежнего. Норман как раз пытался втиснуться на свое место в углу напротив, и все повернулись, как по команде. Сантьяго, Юрий, Жорж, Карло... Но что это за незнакомая голова, жесткие черные волосы, азиатское лицо? Да ведь это Кей. Кей Охара из Японии. Как он очутился на «Ра»?
Ну конечно. Я откинулся на спину и стал натягивать штаны. Плетеный потолок такой низкий, что не встанешь в рост, только-только сидеть можно. Ниже, чем на «Ра I». Вот именно. Теперь все ясно. Это же «Ра II». Я начал все сызнова. Мы опять у берегов Африки, даже мыс Юби не прошли. И не Абдулла ждет смены в темноте на мостике, а другой темнокожий африканец, я еще не успел его узнать как следует, чистокровный бербер по имени Мадани Аит Уханни.
– Подвинься, Карло, ты занял половину моего матраса. А теперь сидишь на моем рукаве.
На мостике – собачий холод, а вообще-то спокойно. Сдернув капюшон, Мадани показал мне, насколько можно отворачивать рулевым веслом от берега, не опасаясь, что ветер с моря обстенит огромный парус. Карло занял пост на крыше каюты и высматривал судовые и береговые огни. Ситуация повторялась: пока мы не отойдем от коварных берегов Сахары и не пересечем маршрут пароходов, следующих нескончаемой чередой вокруг Африки, надо остерегаться опасности со всех сторон.
Но ведь все это мы уже один раз проделали. Так сказать, повторение пройденного, хотя и без полной надежды на успех. Один раз мыс Юби пропустил нас живьем, и вот мы снова дрейфуем в этих водах, и ветер с моря грозит нам все испортить. Почему мы теперь не стартовали южнее мыса Юби? Почему понадобилось снаряжать «Ра II»? Почему я начинаю толстый дневник с первой страницы?
Да, почему?
– Мы должны справиться на этот раз, – пробормотал Карло. – Должны одолеть последние мили до Барбадоса, которые не прошли в том году.
Может быть, это он и другие ребята уговорили меня снова пустить в ход машину? Потому что не хватило каких-то миль, чтобы удовлетворить скептиков? Или виновато любопытство? Желание проверить, а не сумеем ли мы пересечь океан на более прочной папирусной лодке, ведь все-таки есть уже опыт, сделана первая, пробная попытка построить и провести по морю ладью, одни лишь очертания которой были известны по тысячелетним фрескам? Пожалуй, сыграло роль и то, и другое. Меньше года прошло между спуском на воду «Ра I» и «Ра II», а сколько событий произошло за это время. Я познакомился с другими камышовыми лодками. Они сохранились до наших дней там, где на пути из внутреннего Средиземноморья в Атлантику оставили след представители древних культур.
В богатом археологическими памятниками районе обширных Ористанских болот на западе Сардинии мы с Карло Маури ходили вместе с рыбаками на больших камышовых лодках и били рыбу острогой, а на высотах кругом четко выделялись контуры пятитысячелетних нурагьи. Древнейшие из этих великолепных башен археологи связывают с влиянием, которое дошло сюда из внутреннего Средиземноморья почти за три тысячи лет до нашей эры. Но и потом на Сардинии тысячи лет сооружали такие постройки.
Рыбаки сводили нас в наиболее сохранившуюся башню – исполинский цилиндр из поросших мхом огромных блоков, устоявших против всех войн и землетрясений. Стоило мне войти внутрь через низкую дверь и включить карманный фонарик, и у меня возникло чувство, что я здесь уже бывал. Эта замысловатая архитектоника, высокие потолки – ложный свод из тяжелых плит над двойным кольцом узких коридоров, соединенных между собой низкими ходами, которые ведут в центр, к спиральной лестнице, поднимающейся наверх, на смотровую площадку, – все это я уже видел.
Поразительно! Ведь точно по этому принципу майя задолго до прибытия испанцев соорудили свою астрономическую обсерваторию, знаменитую караколе в Чичен-Ице на полуострове Юкатан. Такая же башня стоит рядом с майяской пирамидой, на стенах которой был изображен бой между светлокожими мореплавателями и темнокожими людьми на берегу. Может быть, стоит поискать недостающее звено? Может быть, неведомые наставники майя, ольмеки, тоже так строили?
Поднявшись на смотровую площадку, я увидел ту же картину, какая открывалась глазам сардинских строителей тысячи лет назад: белые гребни прибоя в заливе, а на берегу – золотистые лодки, расставленные для сушки на средиземноморском солнце. Средиземное море – родина древнейших морских экспедиций человека, родина далеких плаваний. И Геркулесовы Столпы – вечно открытые ворота во внешний мир... Эти воды помогли распространению культуры. Мы знаем, что она распространилась по морю из того угла, где встречаются Малая Азия и Египет, на остров Крит. С Крита в Грецию. Из Греции в Италию. Из родины финикийских мореплавателей в Ликсус и другие колонии за Гибралтаром, за тысячи лет до нашей эры.
Лодки из папируса и камыша – древнейшие суда, какими пользовались жители области, где зародилась средиземноморская культура. Лодки, подобные изображенным в искусстве древней Ниневии, до недавнего времени применялись греческими рыбаками на острове Корфу. Их вязали не из папируса, а из стеблей гигантского фенхеля. А назывались они
папирелла, хотя ни растения, ни даже слова «папирус» теперь на Корфу не знают. И такие же лодки, правда из другого материала, мы застали у итальянских рыбаков на Сардинии.
Забытые цивилизации... Забытые суда... Египет, Месопотамия, Корфу, Сардиния, Марокко. Да, и Марокко тоже. Как только я увидел, что древние камышовые лодки Сардинии живы и в наше время, мои мысли тотчас обратились к Марокко. Во время моего первого визита тамошний деятель очень уж категорически заявил, что жители поречья знают только деревянные и пластмассовые лодки. Поэтому, приехав в Сафи строить «Ра II», я обратился к моему доброму другу – паше. Он предоставил нам машину и переводчика. В порту Лараш, лежащем в устье Лукуса, мы разговорились с двумя старыми рыбаками, занятыми починкой сети.
Камышовые лодки? Может быть, мы подразумеваем
мадиа? Как же, как же! Старый бербер согласился быть нашим проводником, и мы тотчас, что называется, пошли по следу. Два дня мы пытались пробиться на машине через редкий пробковый лес в деревню йолотов, укрывшуюся в глухом уголке побережья. В конце концов мы дошли до нее пешком. Живописные хижины из сучьев, аистовые гнезда на камышовых крышах, козы. Дети и старики: одни семьи – сплошь голубоглазые блондины, другие – негроиды. Ни одного араба. Таким было смешанное коренное население Марокко. По чести, следовало бы определить его как «неопознанное». На деле же светловолосых и черноволосых удобства ради смешали в одно и сунули, как говорится, в один мешок с надписью «берберы».
Маленькое солнечное королевство отгородилось от моря и реки, от скудных пастбищ и скрюченных стволов пробкового дерева мощными заборами из кактуса. Нас провели внутрь.
Мадиа? Как же, как же. Все люди старшего поколения, согбенные старцы и беззубые старухи, помнили и
шафат, и
мадиа, оба вида лодок, которыми пользовались вокруг устья реки Лукус еще несколько десятилетий назад. Два старика тут же изготовили каждый по модели –
шафат с обрезанной прямо кормой (на таких лодках переправляли груз через реку) и
мадиа, нос и хвост крючком, как в Древнем Египте.
Мадиа и с морским прибоем справлялись, размер – какой тебе угодно, и камыш, из которого делали лодки, – кхаб – месяцами сохранял плавучесть. Старики связали небольшую лодку с загнутым вверх носом и обрезанным хвостом, и пять человек вышли на ней в залив, чтобы я мог убедиться в ее поразительной грузоподъемности.
В устье Лукуса, как и на Сардинии, над водами, где уцелели камышовые лодки, возвышаются могучие руины мегалитических сооружений. Ликсус... Откровенно говоря, если бы не охота за камышовыми лодками, я бы ничего не знал о Ликсусе. Древний город так же мало известен моим коллегам-археологам, как и рядовым марокканцам. Специалисты по Египту или Шумеру, тем более по древней Мексике, мало что знают об атлантическом побережье Африки и вовсе не слыхали о памятниках на реке Лукус. У горстки знатоков Марокко пока что хватило времени и средств только на то, чтобы заложить несколько разведочных шурфов и обнажить огромные камни, из которых сложены древнейшие стены Ликсуса. Я забрел сюда, потому что холм с развалинами возвышается над рекой у самой дороги, ведущей из Лараша к пробковому лесу, в котором йолоты вяжут лодки из камыша. От леса до Ликсуса считанные километры, и как раз на одном из рукавов Лукуса, огибающем холм с могучими руинами, камышовые лодки широко употреблялись еще в нынешнем столетии. У подножия холма стояли римские склады, напоминая, что некогда Ликсус был важнейшим атлантическим портом для мореплавателей из Средиземноморья.
Ликсус. Поразительная картина. Впереди – Атлантический океан, сзади – африканский материк, сплошная суша, вплоть до египетского и финикийского приморья, а там и Месопотамия рядом. Оттуда, из далекой Малой Азии через Средиземное море, через Гибралтар, вдоль западного побережья Африки на юг, с женщинами и детьми, с астрономами и зодчими, с гончарами и ткачами, пришли в незапамятные времена колонисты, которых здесь застали римляне, выйдя через тот же Гибралтар. Что говорить, историческая земля.
Здесь, на берегу Атлантики, раскинулся город, такой древний, что римляне называли его Вечным, связывая его с именем Геракла – сына их верховных богов Геры и Зевса, героя греческой и римской мифологии. Самые древние стены, теперь совсем или частично погребенные под мусором, оставленным арабами, берберами, римлянами и финикийцами, настолько внушительны, что могут разжечь любое воображение. На вершину холма подняли огромное количество исполинских плит разной формы и величины, и все они тщательно обтесаны и пригнаны друг к другу, словно в гигантской мозаике, так что все швы прямоугольные, даже если у камня десять или двенадцать граней. Это была та самая специфическая, неповторимая техника, которая уже стала для меня как бы условным знаком, выбитым в камне там, и только там, где некогда были в ходу камышовые лодки, – от острова Пасхи, Перу и Мексики до более древних великих цивилизаций внутреннего Средиземноморья. Ольмеки и доинкские племена владели этой техникой так же безупречно, как древние египтяне и финикийцы, а вот викинги и китайцы, бедуины и индейцы прерий растерялись бы не меньше, чем группа современных ученых, если бы их подвели к скале и предложили соорудить стену по этому принципу, будь они даже вооружены стальным инструментом и знакомы с готовой кладкой.
Ходишь среди опрокинутых и наполовину погребенных мегалитических блоков Солнечного града, видишь знакомую хитроумнейшую своеобразную технику и чувствуешь, как Америка и внутреннее Средиземноморье словно сближаются друг с другом. Ликсус стал как бы связующим звеном и наполовину сократил разделяющий их путь. За много столетий до нашей эры сюда добрались выходцы с дальних берегов Средиземного моря. С добротным снаряжением, отлично подготовленные, на безопасном расстоянии от грозных скал Африки ходили колонисты и торговцы до этого порта и дальше мимо опасного мыса Юби в те далекие времена, когда на противоположной стороне Атлантики появились бородатые ольмеки и начали расчищать площадки в девственном лесу. В ту самую пору, когда средиземноморские каменотесы выходили на запад через Гибралтар, неведомые ольмеки развивали каменотесное искусство и насаждали цивилизацию среди бродячих индейских родов. В устье реки сохранилась классическая камышовая лодка (хотя кругом сколько угодно леса), а невдалеке тогда, как и теперь, проходило мощное океанское течение, то самое, во власти которого мы оказались во второй раз за год.
Я повернул тяжелое рулевое весло еще немного, чтобы у нас был максимум шансов обойти утесы вокруг мыса Юби. Кто нам скажет, сколько судов точно так же сражались с морем в древнейшую пору Ликсуса, стараясь миновать коварные отмели там, где берег Африки поворачивал на юг, к самым дальним колониям финикийцев, лежавшим за мысом Бахадор?
– Во всяком случае на этот-то раз весла выдержат, – усмехнулся я, обращаясь к Карло, и погладил мощный брус левого рулевого весла.
Правое весло было закреплено наглухо толстым тросом.
В прошлый раз тонкие веретена сломались при первой же встрече с океанской волной, и все плавание «Ра I» было, по сути деда, чистым дрейфом.
Папирусный корпус на этот раз тоже был несравненно прочнее. Папирус опять пришлось заготавливать в верховьях Нила, слишком мало его растет в Марокко, где строилась «Ра II».
Добраться до Бола у озера Чад, чтобы привезти оттуда Умара и Муссу, было невозможно. В пустыне опять стало неспокойно. К тому же техника вязки жителей африканских дебрей не оправдала себя в долгом океанском плавании. Через два месяца мы начали терять папирус из связок правого борта, потому что кое-как приделанный ахтерштевень вскоре обвис, и под ударами волн бамбуковая каюта ерзала и пилила веревки, пока не перетерла их, после чего найтовы начали распускаться, словно вязание.
И я решил испытать других лодочных мастеров, которые по сей день вяжут крепкие лодки на древний лад, с загнутым вверх ахтерштевнем такой же высоты, как нос. Таковы камышовые лодки индейцев аймара и кечуа в Боливии и Перу. Кстати, они еще в одном напоминают суда древней Ниневии и Египта. Веревки сплошным кольцом охватывают палубу и днище, в профиль лодка кажется состоящей из одной сплошной связки, тогда как чадские лодки, не имеющие высокого ахтерштевня, набраны из многих связок, соединенных между собой петлями из коротких концов.
Удивительно, что индейцы Южной Америки пользуются приемами, которые гораздо больше отвечают древней технике в странах Средиземноморья, чем способы вязки лодок, сохранившихся в сердце Африки. Может быть, дело в том, что у будума на берегах Чада не было тесной связи с древнейшими цивилизациями. Не то что у индейцев аймара и кечуа на берегах озера Титикака. Предки аймара участвовали в постройке пирамиды Акапана и других мегалитических сооружений Тиауанако – важнейшего доинкского культового центра Америки, возникшего на берегу Титикаки. Это они перевозили тяжеленные плиты на камышовых лодках через озеро. Это они рассказали испанцам, что руководили их строительством белые бородатые люди и что именно исчезнувшие потом творцы древней культуры первыми ходили на лодках такого типа. Самостоятельно работать по камню аймара не научились. Зато они по сей день точно воспроизводят камышовые лодки для рыболовного промысла на озере.
Все участники экспедиции «Ра I» готовы были продолжать эксперимент, и Сантьяго снова оставил свою работу в университете Мехико, чтобы отправиться на Титикаку за лодочными мастерами. Итальянца Марио Буши я негласно попросил отправить своих эфиопских помощников на озеро Тана и еще раз заготовить там двенадцать тонн папируса. Осоку из Эфиопии и строителей из Боливии надо было незаметно доставить в Марокко и работы вести в полной тайне, чтобы я мог без помех написать главы о «Ра I» для книги, которая должна была покрыть растущие расходы на мой эксперимент. Под маркой «бамбук» 12 тонн эфиопского папируса были сгружены в порту Сафи и исчезли. Четверо чистокровных индейцев аймара и боливийский переводчик сошли с самолета в аэропорту Касабланки вместе с Сантьяго и исчезли. Парусина из Египта, готовая плетеная каюта из Италии, древесина для мачт и весел, всевозможные веревки и тросы неприметно прибывали с разных концов в Марокко. И исчезали.
Шестого мая кусок высокой стены, окружающей Сафийский городской питомник, рухнул на землю, и между клумбами и пальмами зарокотал могучий бульдозер, за которым следовала легкая ладья из цветочных стеблей, словно выросшая сама среди пышной зелени.
Так родилась на свет «Ра II». Медленно и чинно она вышла из пролома в стене, как будто огромная бумажная птица вылупилась из яйца. И с величавой степенностью покатила на колесах по тесным городским улочкам, забитым зрителями – арабами и берберами в кафтанах, халатах, под чадрой. Важно выступали полицейские, бежали вприпрыжку босоногие мальчуганы, на деревьях, столбах, в люльке красной технической машины торчали озабоченные садовники и электромонтеры, следя за тем, чтобы ветви и провода не потрепали и не воспламенили сухие папирусные закорючки на носу и на корме нарядной золотистой ладьи, и местное начальство облегченно вздохнуло, когда диковинная конструкция перевалила через железную дорогу и остановилась среди сверкающих свежей краской рыбацких шхун, которые ждали спуска на воду и выхода на весенний промысел сардин.
– Нарекаю тебя «Ра II», – сказала Айша, супруга паши Тайеба Амары, во второй раз за один год брызгая козьим молоком на сухой папирус перед тем, как лодка заскользила вниз.
– Ур-а-а! – грянула толпа на пристани, и по людскому морю прокатилась волна аплодисментов, когда необычное суденышко легло на воду и закружилось, будто и впрямь игрушечный кораблик из бумаги. Многие зрители не сомневались, что оно опрокинется или во всяком случае даст сильный крен, ведь работа-то была кустарная. Мы, кому предстояло плыть на ладье, с великим облегчением смотрели, как ровно она лежит на воде. Команда буксирного судна стояла недвижимо, не веря своим глазам. А в толпе продолжалось ликование.
Но что это? Стой! Помогите! Ай-яй-яй! Паника в толпе, смятение на буксире! Неожиданно с гор налетел сильный шквал, он подхватил бумажный кораблик и погнал его со страшной скоростью от буксирного судна прямо на каменный мол четырехметровой высоты. Звучали вопли и стоны, команды на французском и арабском языках, кто-то закрыл лицо руками, газетчики попрыгали в воду, благо мелко, кто фотографировать, кто спасать лодку, и новокрещенная ладья, совершив полный оборот, со всего маху боднула стенку загнутым вверх ахтерштевнем. Лихая закорючка из папируса приняла удар на себя и сжалась, как пружина. Мне словно вонзили кинжал в сердце. Корма! Которую мы на этот раз так старались сделать крепкой и неуязвимой. Лодка прыгала на волнах. А ведь там каменистое дно. Поди удержи ее, когда такие шквалы. Эксперимент явно кончился, не успев начаться. А впрочем? Кривой ахтерштевень сработал, как стальная пружина, и лодка резиновым мячом отскочила от стенки. Раз. Другой. Деревянная ладья разбилась бы и пошла ко дну. А «Ра» хоть бы что. Только серая ссадина на золотистой коже нескольких стеблей. А ребята на буксире уже поймали конец. И ничего не надо ремонтировать. Дергаясь на ветру влево и вправо, словно бумажный змей на взлете, «Ра II» весело и бодро пошла на буксире к причалу, где нам предстояло устанавливать на ней двойную мачту.
С содроганием вспоминал я, стоя на руле, этот спуск на воду. И в то же время говорил себе, что, если нас выбросит на притаившиеся в ночной мгле Камни и рифы, есть надежда спастись раньше, чем наша копна сена пойдет ко дну. Лодка вышла такая тугая и крепкая, что совсем не прогибалась на волне. «Ра I» извивалась, как угорь. «Ра II» – жесткая, как бейсбольный мяч. Мы все единодушно восхищались гениальной конструкцией индейцев. Безупречные обводы и тонкое решение технических задач как-то не вязались с простым бытом аймара. Похоже, что ни эрудиты, ни профаны, видевшие камышовые лодки, не задумывались о тонкостях древнеиндейской техники, между тем наши опыты показали, что это единственный способ связать лодку так, как показано на рельефах древних средиземноморских культур. При любом другом способе конструкция постепенно расшатывается, а это для веревок гибель.
Четверо молчаливых индейцев – Деметрио, Хосе, Хуан и Паулино – вместе с таким же немногословным боливийским переводчиком, сотрудником Ла-Пасского музея, сеньором Себальосом, прекрасно организовали строительство «Ра II». Им помогало несколько марокканцев, и однако на строительной площадке было так тихо, что я то и дело откладывал в сторону рукопись и выглядывал из палатки. Работа под пальмами кипела, и члены бригады обходились жестами да редкими возгласами на языках аймара, испанском и арабском.
Сначала индейцы сделали из отдельных стеблей папируса две огромных сигары, уложенных в тонкую папирусную циновку, которую сплели так, что концы стеблей были обращены внутрь и сплющены. До того, как их начали стягивать веревками, десятиметровые цилиндры были такие толстые, что без подставки до верху не дотянешься. В проходе между ними сделали в ту же длину третью, гораздо более тонкую сигару, к которой они должны были крепиться. Эта операция проходила так. Длинными – в несколько сот метров – веревками связали тонкое папирусное веретено с толстыми, сперва с одним, потом с другим, спиральной вязкой так, что веревки не соприкасались. Когда индейцы все вместе стали натягивать обе веревки, толстые сигары, все ближе подтягиваясь к тонкой, в конце концов сомкнулись, и она совсем скрылась, образовав как бы незримую сердцевину.
Получился нерасчленимый, словно литой, корпус без узлов и перекрещивающихся веревок, оставалось только удлинить веретена с обоих концов, чтобы нос и корма изящно загнулись вверх. Затем добавили по бокам еще по толстой папирусной колбасе – для перехвата волн и увеличения ширины лодки. После этого мы сами установили десять поперечных брусьев под легкую плетеную каюту, стояки для мостика и две пяты для тяжелой двойной мачты.
И вот готова «Ра II» – 12 метров в длину, 5 в ширину, 2 в толщину. Каюта – длина 4 метра, ширина 2,8 метра; в обтяжку на восемь человек, лежащих по четыре в ряд, ногами друг к другу. «Ра II» оказалась на три метра короче «Ра I», да и в разрезе круглее и тоньше. Меня тревожило, что чуть ли не треть папируса осталась в излишке. Но ни уговоры, ни посулы не могли заставить наших аймарских друзей добавить в конструкцию хотя бы один стебель, поработать над лодкой еще день. Они исчерпали свои возможности и рвались домой, к своим женам на озере Титикака.
– Счастливого плавания и добро пожаловать на остров Сурики, – приветливо сказал Деметрио, сняв вязаную шапочку, когда их творение исчезло через пролом в стене.
– Остров Сурики?
– Ну если не на наш именно островок, то во всяком случае на озеро Титикака.
Аймара явно не очень разбирались в географии. Им было невдомек, что они связали «Ра II» на другой стороне Атлантики и что их родное озеро лежит на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Но вязать камышовые лодки они умели, ничего не скажешь; ни один инженер, ни один конструктор, ни один археолог нашего современного мира не смог бы с ними потягаться.
– Твердая, словно из дерева вырезана, – сказал Карло.
Только что мимо нас, совсем рядом, пронесся сверкающий огнями пароход, и мы облегченно вздохнули: пронесло.
– Твердая, как деревянный чурбан, но мы все глубже погружаемся, – добавил он.
– Все образуется, просто у нас много груза по отношению к подводной части папируса.
– Норман говорит, что надо было весь папирус обмазать битумом, как в Библии написано.
– Зачем, ведь воду впитывают только обрезанные концы. А мы на этот раз обмакнули большинство стеблей на два сантиметра в битум.
Но, по чести говоря, я и сам уже склонялся к тому, что, пожалуй, лучше было всю лодку обмазать густым слоем битума. Тогда мы не погрузились бы ни на один сантиметр. Может быть, древние египтяне конопатили папирус под верхней оплеткой, поэтому на фресках лодки не черные, а желтые и зеленые.
После плавания «Ра I» несколько священников прислали мне письма, подчеркивая, что, по библии, Ноев ковчег был проконопачен битумом. И что мать Моисея обмазала битумом папирусный ковчег, в который поместила сына и который дочь фараона потом нашла в зарослях папируса на берегу Нила. Наверное, тут есть доля истины. Битум несложно добыть, он был обиходным товаром в Древнем Египте и Малой Азии. Правда, на «Ра I» мы убедились, что папирус и без битума держится на воде, пока веревки целы.
Веревки. На «Ра I» они у нас были много толще, к тому же Мусса и Умар связали сотни отдельных коротких концов: одни перетрутся, другие держат. Вязка индейцев, на первый взгляд, казалась нелепой. От носа до кормы идет по спирали одна длинная веревка. Длинная и тонкая. Они наотрез отказались применить веревку толще 14 миллиметров. Дескать, тонкую ровнее натянешь, а если она и лопнет, вязка все равно не распустится, мокрый папирус плотно зажмет ее.
Можно ли положиться на них? А на кого же еще тут положиться? Все члены экипажа понимали, что речь идет о новом эксперименте. Мы могли еще раз испытать чадский способ, внеся те поправки, которые нам подсказала практика, тогда не было бы опять этой неизвестности. Злополучная тетива, соединяющая кормовой завиток с палубой, на месте, и груз сосредоточен на левом борту, в остальном же новая «Ра» была для нас сплошным ребусом. Больше всего мы боялись, как бы тонкая веревка, на которой все держалось, не порвалась, когда нас начнут трепать неистовые волны. К тому же в отличие от «Ра I», которая лежала на воде, как матрас, «Ра II» так сильно качало, что нельзя ни стоять, ни сидеть, не цепляясь за что-нибудь.
В первый же день пришлось натянуть бортовые леера, а то упадешь – и сразу в воду. Пока осадка была небольшой, мы неслись по гребням так, что только брызги летели, в первые сутки прошли 95 морских миль, то есть 177 километров. Мы еле-еле управлялись с огромным парусом. Один раз ветер вырвал шкоты у нас из рук, потом и вовсе их растрепал, и парус длиной 8 метров, шириной 7 метров вверху и 5 внизу, обвис на рее, будто громадный флаг, причем бился и хлопал так, что, казалось, сейчас вся ладья развалится.
Уже в первую ночь мы промчались мимо островка у Могадора, где древние финикийцы добывали пурпур, да так близко, что отчетливо видели все огни в окнах на материке.
На второй день буйные шквалы у берегов Сахары вынудили нас убрать парус, хотя мы и рисковали при этом сломать стройный высокий форштевень. На третий день ветер угомонился. Установился полный штиль, парус совсем перестал работать, и лодка беспомощно дрейфовала зигзагами. Густой туман поглотил берег, и мы, не жалея сил, вертели и крутили тяжеленные рулевые весла и дергали шкоты грузного паруса, ведь стоило потянуть ветерку с моря, и через час-другой нас могло выбросить на прибрежные скалы. Правда, иногда, больше ночью, слабый бриз относил нас подальше от берега.
Но в общем держался штиль. На четвертый день море было как зеркало.
– Мы тонем, – один за другим докладывали ребята.
На тихой воде это сразу бросалось в глаза. Лодка погружалась минимум на десять сантиметров в сутки. Это что-то новое. Ничего подобного не было на «Ра I». Может быть, спиральная вязка индейцев недостаточно крепко сдавила папирус?
Сантьяго взял блокнот и ручку и провел анонимный опрос членов экипажа: пересечем мы Атлантику, или нам не дойти живыми? Двое верили, что пересечем, шестеро считали, что, дело кончится плохо. Не знаю, кто был второй оптимист. Может быть, Норман, он все время твердил, что главное – благополучно миновать мыс Юби, а дальше можно опять предоставить лодке идти по собственному разумению, по Америке не промахнется. А может, Карло, страдающий неизлечимой любовью к «Ра I»; «Ра II», считал он, слишком уж напоминает настоящий парусник.
Мы погружались с пугающей быстротой, и если бы не течение, наверное, совсем не двигались бы с места. Уже на четвертый день Жорж подошел ко мне с непривычно серьезным лицом и сказал, что, по мнению квартирмейстера Сантьяго и шеф-кока Карло, у нас чересчур много провианта и воды, все лишнее надо выбросить за борт. С этими словами он взялся за бурдюк и стал развязывать его, чтобы опорожнить.
– Эй, ты что, это же питьевая вода!
– Лучше ограничить потребление воды, чем затонуть, не доходя Канарских островов. На этот раз мы должны добраться до цели!
– Вали груз за борт, вот потеха будет, – попробовал пошутить Сантьяго, только голос его звучал как-то вяло.
– Долой все продукты, которые надо долго варить, – почти весело предложил Карло. – А то примусы на этот раз совсем дрянные. Один распаялся, другой не хочет гореть как следует.
Из каюты выглянул хмурый Юрий, из-за него на меня смотрели тревожно вопрошающие глаза молчаливого Мадани. Кей стоял на мостике с непроницаемым видом, точно фарфоровая фигурка, ничем не выдавая своих чувств. Норман определял наши координаты.
– Мы погружаемся, – раздельно произнес Юрий. – А в прошлый раз мы уже убедились, что вода взятого не отдает. Надо выбросить все, что можно, сейчас же.
Норман молча слушал с озабоченным видом. Чувствовалось, еще немного, и дойдет до взрыва. Безветрие, папирус тонет. Но ведь в прошлый раз ничего подобного не было. Как бы на этот раз не оказались правы эксперты-домоседы, которые твердили, что мы продержимся на воде от силы две недели. А мы-то нарочно простояли десять дней у плавучей пристани в гавани Сафи, чтобы папирус вобрал побольше воды и этот балласт прибавил остойчивости нашему легкому суденышку с огромным парусом. Сегодня как раз истекли две недели. И папирус уже наполовину ушел под воду.
– Давайте выбросим эти лодки из папируса, которые лежат на носу, – предложил Норман. – Спасаться мы на них все равно не будем, а для съемок у нас есть трехместный надувной плот.
Мы едва успели привязать бутылку с письмом к первой лодке, прежде чем нетерпеливые руки столкнули ее за борт. Вторая, поменьше, отправилась следом так скоро, что к ней уже ничего не удалось привязать. Счастливого пути. Они лежали на воде, словно воздушные шары, и их сразу понесло боком к берегу. Думали ли мы, что нашу бутылочную почту найдут через несколько дней на пустынном берегу Сахары. «Ра II» с ее глубокой осадкой шла с течением параллельно суше.
Шлепнулся в воду мешок с картофелем: картошка долго варится. За ним последовали два кувшина с рисом. Мука. Кукуруза. Два мешка неведомо с чем. Корзина из дранок. Лучше голодать, чем тонуть. Отправилась за борт большая часть припасенного для кур зерна. А также большой деревянный брус и доски – материал для ремонта. Еще кувшины. На лице Мадани было написано отчаяние. Кей глядел на парус, оскалив зубы. Море приняло бухту каната. Точильный камень. Молот. Железное копье Жоржа, чтобы сшивать лодку. Поплыли книги и журналы.
Обложки от книг. Каждый грамм важен.
С одной стороны, я был за. С другой стороны, решительно против. Впереди тысячи километров, мы только что начали рейс, при нашей скорости нам нужен провиант не на один месяц, и не только провиант. Но они правы. Мы погружаемся. Почему? Сколько это продлится? Я попробовал внушить сначала себе самому, потом остальным, что лодка перестанет тонуть, как только осадка придет в соответствие с горами груза, который мы второпях нагромоздили на палубе в последний день перед стартом, 17 мая. Сегодня 20 мая. Папирус все глубже уходит в воду.
Юрий решительно принялся разрушать палубу из досок, которые мы привязали к папирусу перед мачтой. Такая славная была палуба. Вчера Сантьяго и Жорж превратили ее в эстраду, исполнили комические пляски и диалоги, и над ровной гладью океана звучал наш громкий смех. Я уговорил Юрия оставить несколько досок, чтобы можно было ходить, не боясь провалиться в желоб между двумя толстыми сигарами из папируса, когда нас снова начнет качать на океанской волне.
Тем временем кто-то, зайдя за каюту, бросил в море наш чудесный египетский чай каркаде – чай, что он весит-то? И керамическая печка с древесным углем отправилась туда же. Туалетная бумага, пакетики с приправами. Все меньше груза.
У меня сжалось горло. Кто-то безрадостно смеялся. Кто-то виновато и огорченно смотрел на меня. Ладно, пусть покуролесят в меру, – хуже, если кому-то будет отравлять душу недобрая мысль о том, что мы не все меры приняли, оттого-де и лодка тонет. Самое опасное – когда у человека душа не на месте.
Гляди, и до кур очередь дошла. Двое ребят вооружились ножом и топором, чтобы обрубить найтовы и отправить за борт курятник целиком. Все равно, мол, без примуса курицу не сваришь. Пришла пора остановить этот погром.
С курами мы расстались, но одну утку Жорж отстоял, и ей было позволено разгуливать по палубе, к великому недовольству Сафи, которой то и дело доставался щипок в зад, как от Симбада I в прошлом году. Обезьянка подросла на несколько дюймов, но осталась все такой же беспечной проказницей, какой была, когда нам подарили ее как талисман перед первым плаванием. Из опустошенного курятника я сделал обеденный столик. Кое-кто был готов и его, и скамейки выбросить в море, дескать, можно держать миски и кружки в руках, но тут решительно восстали два члена экипажа, считавшие, что добрая трапеза – один из главных пунктов распорядка дня.
– И вообще, если мы будем жить по-свински, это подорвет мораль всего экипажа, – заключил опытный военный моряк Норман.
Страсти улеглись. Атмосферу на борту словно разрядил громоотвод, да и места прибавилось, наконец-то можно было по-человечески ходить по палубе, а не карабкаться через вещи. Вот только ветра все нет и нет.
Назавтра – опять штиль, и на другой, и на третий день то же самое. Мы замерли на месте. Погружаться вроде бы перестали, но и плыть никуда не плывем.
– По статистике в этом районе один процент штилей в мае месяце, – сказал Норман, показывая на морскую карту. – Нам за неделю досталось сто процентов.
Попробовали галанить тяжеленными рулевыми веслами – без толку. Но пока опасность миновала. Можно было купаться и наслаждаться жизнью. Канарские острова справа и Африка слева кутались во мглу, но над нами жарило солнце. А вода была такая свежая и прохладная. Вместе с Норманом на привязи плавала утка. Сафи, повиснув на ногах, пыталась дотянуться до водного зеркала.
Да, вода прелесть. Но что такое, черт возьми, – опять эти комки мазута. Ну да, ведь Мадани с первого дня вылавливает сачком образцы. На этот раз мы решили вести систематическое наблюдение, не пропуская ни одного дня. В прошлом году мы замечали грязь только тогда, когда ее было столько, что это бросалось в глаза. Тем не менее доклад с пробами, переданный норвежской делегации в ООН, привлек такое внимание, что был полный смысл провести более тщательное исследование, ведь на «Ра II» до воды было в прямом смысле слова рукой подать. Море с утра до вечера служило нам умывальником, биде, ванной, стаканом для полоскания рта. Хорошо еще, что комки здесь плавали не слишком густо.
Мы ныряли под папирус. Видимость превосходная. Бездна рыбы. Полосатые лоцманы и пятнистые пампано то сновали туда и обратно в тени
«Ра», то сбивались в кучу под самым днищем. Папирус – тугой, лоснящийся. Днище новой «Ра» еще сильнее напоминало брюхо кита. Гляди-ка, какой здоровенный групер, не меньше полуметра, и толстяк. Видно, Канарские острова недалеко, такие тяжеловесы обычно держатся вблизи суши. Групер подошел к нам и обнюхал маску Жоржа. А к моей руке маленьким полосатым цеппелином скользнула рыба-лоцман сантиметров на двадцать. Сантьяго прав; рыба только на поверхности плавает. А в своей родной стихии она порхает, как птица. Два диковинных создания, смахивающих на чулки, извиваясь, прошли мимо моего носа. Потом что-то круглое вроде медузы. Мы слишком хорошо помнили «португальские военные кораблики» и остерегались всех незнакомых беспозвоночных.
– Акула, здоровенная акула!
Точно, вдали появилась акула. И впрямь крупная, судя по расстоянию между рассекающими водную гладь спинным и хвостовым плавниками. Но «Ра» ее не заинтересовала, и она проследовала дальше, перерезав нам курс.
Убедившись, как великолепно выглядит подводная часть «Ра II», все воспрянули духом. И корма крепкая. И никакого намека на крен в наветренную сторону. Ни один стебель не отделился. Юрий и Жорж считали даже, что в носовой части осадка чуть уменьшилась; может быть, тропическое солнце выпарило влагу, которую папирус впитал во время качки в первый день. Еще вчера они говорили, что лучше не собираться на баке больше двух-трех человек за раз, не перегружать форштевень, теперь же были не против того, чтобы мы сколотили из уцелевшего материала скамейки и устроили на баке уютную столовую.
Целую неделю плелись мы так зигзагами на юго-запад при тихом ветре то с востока, то с запада, который был не в силах оторвать рею и парус от мачты. Океан, медленно перемещаясь, увлекал нас за собой. Океан не стоял на месте. На глаз незаметно, ведь ладья шла с ним вместе тем же ходом. Наконец и воздух к нам присоединился, сперва как бы нехотя, но у нас появилась надежда, что «Ра» скоро начнет слушаться руля. Прыгая в воду, чтобы искупаться или позабавиться с ручными рыбами, мы обвязывали себя вокруг пояса длинной веревкой: если ветер вдруг прибавит лодке ходу, нас потянет за ней, и мы не отстанем.
В последний день штиля, когда Норман, Сантьяго и Симбад плескались в воде каждый на своем страховочном конце, я тоже нырнул, проплыл под лодкой и лег на спину позагорать на морщинистой поверхности моря. Чистый курорт. Я повернулся на живот. Чудно, как поглядишь на плывущую утку снизу. Я перевел взгляд на идущее рядом со мной диковинное суденышко. Прямо Ноев ковчег. Солома и желтый бамбук. Обезьяна на вантах, голубь на крыше, из каюты торчат голые пятки. Как это все необычно. Парус чуть округлился. От рулевых весел побежала назад легкая рябь. Странно, почему страховочный конец не тянет? Неужели он такой уж длинный? Страховочный конец! Где он? Нету. Пропал. Я и не заметил, как выскользнул из петли. Лежу сам по себе в Атлантическом океане и загораю! «Ра» медленно удалялась, как бы не ушла от меня! Спокойно, «Ра» совсем рядом, правда, я не такой спринтер, как Жорж или Норман, но этот кусок как-нибудь одолею. Одолел. Зацепился пальцами за облегающие скользкий папирус тонкие веревки, подтянулся и влез на борт. Удивительно надежно чувствуешь себя на этих прочных папирусных связках. Никому ничего не сказал, но на всякий случай расстелил на корме слева мешок из сети, который мы изобрели, чтобы и на ходу можно было искупаться за бортом. Кто его знает, не разъест ли мыло папирус, если мы станем мыться на палубе, ведь у нас нет дощатого настила, который можно драить, как на обычных судах, так и останется мыло на стеблях.
Наконец ветер нагрузил парус. Принимая справа северо-восточный пассат, мы до отказа повернули рулевые весла и помчались вперед; земли нигде не было видно. 26 мая Норман, вооруженный секстантом, бумагой и карандашом, спустился с крыши и облегченно вздохнул. По всем данным, мы прошли мыс Юби. Ура! Позади остались береговые скалы – самый опасный противник «Ра». Снова впереди простерся открытый вольный океан, но на этот раз «Ра» держит хвост крючком и толстые, как телеграфный столб, рулевые весла целы и невредимы. На старте все смеялись, глядя на эти здоровенные бревна, дескать, можно было обойтись чем-нибудь потоньше и полегче, ведь папирус сто раз лопнет, прежде чем переломится такая махина.
Никогда нам не было так хорошо на папирусе, как в эти дни. Идя между незримыми берегами, мы обзавелись пестрой коллекцией пернатых, которые обессилено опускались на ладью с неба. Птицы одна за другой приземлялись на рее, на крыше, на рукоятке весла, на папирусных закорючках впереди и сзади. Шутка Карло о том, что мы идем на плавучем гнезде, стала реальностью. Тут были старые знакомые – синицы, ласточки, воробьи домовые и полевые, была одна южанка покрупнее, красавица с изумительным сине-зеленым оперением. Почтовый голубь с кольцом на ноге тихо описал над лодкой несколько кругов, совершил промежуточную посадку на мачте, потом опустился на мостик, где под сенью голубого флага ООН стоял вахтенный. «Голубь мира», – подумали мы все. Уж очень хорошо он сочетался с ооновским флагом. На медном кольце мы прочли: «27773-684-Эспана».
«Ра» превратилась в плавучий зверинец. Под водой нас сопровождала немая верная свита юрких рыб, на палубе и на снастях сидели яркие щебечущие птицы, пили воду из чашек и клевали зерно, предназначавшееся для кур. Но по мере того, как мы начали удаляться от Канарских островов, отдохнувшие гости один за другим расставались с нами. Лишь королева красоты продолжала чахнуть, пока не скончалась. Она была насекомоядная, а у нас для нее даже мухи не нашлось. Зато голубю корм Симбада так пришелся по вкусу, что он располнел, стал совсем ручным и явно настроился идти с нами до Америки.
С рождением ветра «Ра II» как будто еще немного всплыла; казалось, наш огромный парус тянет вверх носовую палубу. Свежий ветер подействовал на ладью, как живая вода, и она принялась наверстывать упущенное.
В открытом океане мы шли со скоростью 60, 70, 80 миль, то есть 110, 130, 150 километров в сутки.
Мало-помалу быт наш вошел в ровную колею. У всех было хорошее настроение, звучали песни и смех. Ничто не требует ремонта. Легкие рулевые вахты. Вкусная пища в глиняных кувшинах. Никаких ограничений, ешь вволю. Четыре превосходных кока. Любой фараон был бы счастлив отведать пряных египетских блюд Жоржа; ни одна гейша не могла бы превзойти в кулинарном искусстве Кея. Пикантный рецепт Мадани – солонина по-берберски, с луком и оливковым маслом, и наконец потрясающая способность Карло придумать что-нибудь вкусненькое, когда не находилось других добровольцев, – недаром нам казалось, что мы бороздим океан, как говорится, с билетом первого папирусного класса.
Когда от паруса на лодку ложилась вечерняя тень, семь веселых загорелых бородачей занимали места за обеденным столом, а восьмой стоял на мостике и крутил толстое весло направляя лодку вслед за заходящим солнцем. Компас указывал на запад. Последние лучи солнца павлиньим хвостом распластывались над горизонтом перед головой нашего золотистого бумажного лебедя, настойчиво следующего по стопам бессмертного Ра былых и нынешних дней. На смену солнцу на траверзе справа появлялись в небе Большая Медведица и Полярная звезда. Старые добрые друзья. Частица нашего маленького мира. Все, как в прошлом году.
Свежий ночной ветер. Пора надевать брюки и свитер. Темный силуэт на фоне тропического неба, словно монах из средневековья, – это Мадани в толстом марокканском халате с капюшоном отбивает поклоны на крыше каюты, молясь аллаху. Трудно представить себе более кроткого и добродушного спутника. Он пошел с нами представителем темнокожей Африки вместо Абдуллы. Правда, не такой черный, но настоящий бербер, из самых темных. Абдулла – единственный член экипажа «Ра I», который, к сожалению, вышел из игры, и решилось это за три дня до старта. Он целый год провел как бы в добровольной эмиграции, ведь у него на родине продолжались распри между его единоверцами-мусульманами на севере и христианскими властями, поддержанными иностранным легионом. Душу Абдуллы раздирала тревога: одна жена тут, другая там, и не дает география наладить семейную жизнь. В одной руке – фотография трех славных ребятишек в Чаде, в другой – телеграмма о том, что любимая жена в Каире только что родила дочь. Кто распутает все эти узлы, если Абдулла опять уйдет в море на папирусе? Счастливо, Абдулла, нам всем будет недоставать тебя.
Не успел он, что называется, выйти за дверь, как из-за стойки администратора нашего отеля с мягкой улыбкой вышел Мадани Аит Уханни. А можно ему пойти с нами? Ему только что предложили выгодную должность в крупной химической фирме в Сафи, к которой перешла гостиница. Его умыкнули из гостиницы семеро постояльцев, семь мореплавателей, которым нужен был африканец взамен Абдуллы.
Мы знали Мадани три дня. Кея никто из нас не видел раньше. Один мой шведский друг отправился в Токио налаживать обмен телевизионными программами. Я попросил его подыскать японского кинооператора, да чтобы нрав был добродушный и здоровье крепкое. И вот в отеле в Сафи появился Кей Охара весь обвешанный кинокамерами жизнерадостный крепыш, великий любитель музыки и дзю-до. Морской опыт? Катался разок на катере в Токийской бухте. И снимал на озере Титикака индейцев на камышовых лодках.
– Ну а ты, Мадани? – озабоченно спросил Норман.
– Ходил один раз на рыбалку, когда только-только переехал в Сафи из Марракеша, но меня укачало за молом, и я сразу вернулся.
– Опять одни сухопутные крабы. – Норман поглядел на меня с легким отчаянием.
– Зато они не уложат груз на папирусной лодке так, как моряки на обыкновенном паруснике, – ответил я. – Лучше иметь дело с людьми, которые сознают свое невежество. Возьми человека, который прыгает с лыжного трамплина, из него трудно сделать хорошего парашютиста, гибкости не хватает.
Оба дебютанта жутко страдали от морской болезни первые два дня, когда буйные волны бросали изящную папирусную лодку, как пустую бутылку. Наконец Аллах и Будда как будто услышали их молитвы, и вопреки всем прогнозам и статистикам установился штиль. А когда снова подул ветер, представители Японии и Марокко уже успели прижиться.
Как и на «Ра I», мы делили поровну все радости и невзгоды, бледнолицые загорали и становились смуглыми, смуглые делались еще смуглее, и никого не интересовали родословные, метрики, членские билеты, паспорта. На носу тесновато, на корме еще теснее, и всего метровый проход по бокам просвечивающей каюты. В каюте так низко, что в рост не встанешь, и так тесно, что ночью надо осторожно поворачиваться, не то угодишь соседу коленкой в живот или локтем по голове. Мы досконально знали, как кто бранится, храпит, ест, острит, правда, мачта и мостик так скрипели и ныли, что в темноте не всегда разберешь, кто повинен в том или ином диковинном звуке.
Мы жили словно в общежитии – никаких тайн, круглые сутки друг у друга под боком и на виду.
Если обычно американцу и русскому редко выпадает случай поближе познакомиться, то на «Ра» двое из них основательно изучили друг друга. Если бы арабы и евреи были естественными врагами, один из членов экипажа исчез бы за бортом. Если бы всевышний допускал только одну веру, у нас на борту разразилась бы религиозная война. Мы представляли вавилонскую смесь речений – восемь языков, но наяву обычно говорили по-английски, по-итальянски и по-французски. В свободные минуты – чаще всего после ужина – мы дискутировали, рассказывали анекдоты и пели хором. Два-три человека пристраивались на нижних перекладинах мачты, остальные сидели вокруг стола, ведь в каюте всегда кто-нибудь спал. Мы обсуждали политику с открытым забралом. Восток и Запад говорили начистоту, и никто не держал наготове заряженный пистолет. Гарпун, топор, рыболовные крючки – вот и все наше оружие. А они применялись для общего блага, ведь мы сидели в одной лодке. Как и большинство людей на земле, мы вместе размышляли о палестинской проблеме, племенных раздорах в Африке, вмешательстве американцев в политическую жизнь Азии, о помощи русских Чехословакии. Никто не раздражался, никто не обижался, никто не повышал голос.
Мы обсуждали религию, и никто не испытывал священного гнева. Копт и католик, протестант и мусульманин, атеист и буддист, вольнодумец и крещеный еврей – для большего разнообразия просто не было места на нашем маленьком ковчеге, где роль Ноя играла обезьяна, а мы, так сказать, олицетворяли зверей. И однако мы обходились без религиозных распрей.
Случалось нам крепко поспорить из-за зубной щетки, чья она, и тогда на разных языках звучали яростные возгласы и брань. В глубине души все люди схожи, какие бы расстояния нас не разделяли. Легко обнаружить, что отличает тебя от меня, еще легче определить общий знаменатель человечества. Мы жили так скученно на борту нашего папирусного ковчега, что хочешь, не хочешь воспринимали один другого как ломти одной ковриги. Мы вместе радовались, вместе досадовали и во всем выручали друг друга, ведь тем самым каждый выручал сам себя. Один рулит, чтобы другой мог спать, стряпает, чтобы остальные могли есть, чинить парус и выбирать шкоты, чтобы все мы быстрее дошли до цели. Каждый был заинтересован в полном благополучии остальных, чтобы у нас хватило сил сообща отражать все угрозы извне.
Шли дни и ночи. Шли недели. Прошел месяц.
– Так и заскучать недолго, – весело пожаловался Карло, берясь за удочку. – Дерево не ломается, веревки не рвутся, совсем нечего чинить, не то что на «Ра I».
Он сел на носу, свесил ноги за борт и наживил крючок летучей рыбкой. Они частенько залетали на палубу. Под лодкой вместе с лоцманами ходили вкусные пампано, и клевали они почти безотказно. Но самая верная и желанная добыча плотоводца – корифена, она же золотая макрель, на этот раз редко нас навещала, а тунцы только весело резвились поодаль, их никакая приманка не соблазняла. Жорж, купаясь, однажды попал в целый косяк серебристых сигар – бонит. Вблизи Африки нас удостоили коротким визитом киты – возможно, та же семья, что в прошлом году. Огромный скат, величиной с мостик «Ра», в могучем прыжке взлетел над волнами и с оглушительным звуком шлепнулся обратно в море, точно блин. Как и в прошлый раз, вокруг лодки носились вперед и назад лихие крепыши – дельфины; лениво извиваясь, проплыл за кормой какой-то сонный жирный угорь длиной с человека и толщиной с бревнышко. А однажды вечером из-под днища «Ра» показался розовый кальмар и, перехватываясь двенадцатью руками, пополз по папирусу к рулевому веслу, потом собрал все свои щупальца в гроздь над головой, включил реактивную тягу и исчез в пучине.
Словом, кое-какая живность в океане еще осталась, хотя мы насчитывали куда больше комков мазута, чем рыб. За первый месяц набралось всего три дня, когда Мадани не видел черных горошин, но в эти дни море слишком бушевало, чтобы можно было наблюдать как следует. 16 июня, через месяц после старта, нас окружала такая грязь, что неприятно умываться. На поверхности воды сплошная пелена больших и маленьких комков величиной от горошины или рисового зернышка до картофелины. Хуже этого было только в водах между Марокко и Канарскими островами; правда, там мы шли с течением в штиль, когда все плавающее на поверхности выделяется особенно четко. 21 мая я записал в дневнике: «Загрязнение ужасающее. Мадани вылавливает темные комки со сливу величиной, обросшие морскими уточками. На некоторых поселились крабики и многоногие рачки. Под вечер гладкое море кругом было сплошь покрыто коричневыми и черными комками асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина».
В этом же районе мы видели несколько кишечнополостных, смахивающих не то на чулок, не то на длинный оранжево-зеленый воздушный шар, а тысячи их сородичей – плоские, опавшие, словно их прокололи булавкой, – плавали мертвые среди мазута. Двое суток шли мы по этой мерзости, которая плыла одним курсом с нами, только медленнее, в сторону Америки.
Потом были случаи, когда разбушевавшиеся волны забрасывали к нам на борт комья с кулак величиной; вода уходила через папирус, как сквозь китовый ус, а грязь оставалась лежать на палубе. Мазут не единственный дар океану от современного человека. Редкий день мы не обнаруживали рядом с нашей «Ра» либо какой-нибудь пластиковый сосуд, либо канистру, либо бутылку, были и менее долговечные изделия – дощечки, пробки и прочий мусор.
Мы прошли 1725 морских миль, и до суши прямо по курсу оставалось 1525 миль, когда «Ра II» вторично очутилась в полосе сплошной грязи. На другой день подул сильный ветер. А еще через день, 18 июня, океан выдал самые большие волны, какие мы видели за оба плавания. Дул крепкий ветер с штормовыми порывами, но параллельные гряды, вздымавшиеся к небу вокруг «Ра», были выше, чем можно ожидать даже при таком ветре. Возможно, на северо-востоке, откуда они шли, разыгрался жестокий шторм.
Поначалу это было только интересно, потом кое-кто из нас встревожился в глубине души, но тревога сменилась удивлением и растущим чувством облегчения, когда мы увидели, как гладко все идет. В конечном счете все вылилось в беспредельное восхищение нашей скорлупкой, которая так ловко переваливала через водяные горы. Стоя на мостике, весь внимание, я непрерывно работал левым рулевым веслом, чтобы принимать волну с кормы. Правое весло было наглухо закреплено и играло роль киля. Я только дивился, как здорово у нас получается. В открытом море курчавые гряды волн ведут себя совсем иначе, чем прибой на мелководье. Вот нас настигает сзади могучий вал, он подкатывается под изогнутый серпом ахтерштевень и поднимает лодку высоко вверх, мы балансируем на самом гребне, тут он обрушивается и бросает нас вперед, и вместе с водой и ветром мы лихо несемся прямо в глубокую сине-зеленую ложбину. Вот когда надо следить, чтобы ладья не развернулась боком.
– Шесть метров. Восемь метров.
Восторг и жуть звучали в голосах ребят, когда они определяли высоту очередной волны.
– Десять метров – выше мачты поднялась!
Десять метров. Мадани изводит морская болезнь. Со всех сторон зловещие тучи и дождевые завесы. Все идет, как положено, все хорошо. Поразительно, как легко «Ра II» перемахивает через беснующиеся волны. Разве что какая-нибудь струйка попадет на палубу, но это ерунда. К счастью, валы катили стройными рядами и с хорошим интервалом, в самый раз по длине и обводам «Ра», строго выдерживая равнение и курс, шеренга за шеренгой. Назад лучше не оглядываться. Кажется, что вдогонку за ладьей несется стеклянная стена, она хочет нас накрыть, а мы спасаемся бегством. Остальные ребята один за другим забрались в каюту. Там ничего не видно, кроме потолка, только слышен оглушительный рев рассвирепевшего океана. Лишь альпинист Карло продолжал сидеть, свесив ноги, на высоком форштевне, как на седле. Его любимое место.
Снова нас взметнуло вверх, ух ты, выше прежнего... И опять покатились вперед, вниз. И вот уже блестящий гребень в белых полосах вырос впереди, обогнал нас и помчался дальше.
– Опять выше мачты! – восторженно крикнул рыжебородый Карло, обнажая белые зубы.
А через несколько минут он отцепил от форштевня свой страховочный конец и побрел, борясь с качкой, в каюту к товарищам. Позже он нам рассказал, что пошли уже не ложбины, а форменные ущелья, и когда «Ра», перевалив через гребень, скатывалась вниз, казалось, что мы сейчас ухнем в бездонную мокрую могилу. Лучше не глядеть.
Кажется, мне скоро сменяться? Я не смел даже на секунду оторвать взгляд от компаса, чтобы лодка не развернулась боком к волнам, но чувствовал, что дело уже идет к четырем. В эту минуту сзади послышалось шипение высоченного гребня. Теперь – держать весло изо всех сил, чтобы лопасть не повернулась. Чудовищный вал взялся за ахтерштевень и начал его поднимать... выше... выше... глядеть на компас, держать курс, лодка должна лежать точно поперек волны, но когда же это кончится, сколько еще этот шипящий исполин будет нас поднимать, когда он уйдет вперед? Наконец бурлящий гребень пошел вдоль бортов... кажется, пронесет... кипящие сугробы пены... Лодка качнулась, сейчас мы пулей ринемся вниз и вперед, словно на оснащенной парусом доске для серфинга... И тут случилось то, чего я больше всего боялся. Что-то грохнуло, раздался жуткий треск ломающегося дерева. Весло дернулось, вся лодка рванулась, и «Ра II», потеряв управление, покатилась левым бортом вперед в ложбину.
Меня словно ударили дубинкой по голове. Секунду я цеплялся за безвестность, потом заставил себя повернуть голову и посмотреть в глаза горькой истине. Рулевое весло! Могучее веретено переломилось пополам, и широкая лопасть болталась за кормой на страховочном конце. Я успел лишь мельком ее разглядеть, как с правого борта на нас обрушились каскады воды, ведь ахтерштевень уже не прикрывал нас.
– Все наверх! Левое рулевое весло сломано! Отдать плавучий якорь, Юрий!
Вся ладья и мостик вместе с ней круто накренились под тяжестью воды, и я скатился боком к закрепленному наглухо правому веслу, чтобы отвязать его. Рев штурмующих каюту волн и громоподобные хлопки обстененного паруса, который стегал мачту, сказали ребятам больше, чем крики с мостика, и вся семерка, без особых слов готовая к бою, высыпала на палубу с обвязанными вокруг пояса страховочными концами.
– Который из якорей?
– Большой.
Я раскрепил правое весло, но твердые уключины вверху и внизу перекосились и не давали его повернуть. На нас обрушился новый вал, за ним еще один. Волны и ветер тянули каждый в свою сторону, и мачта угрожающе трещала.
– Убрать главный парус!
Чтобы ускорить наш ход, Норман недавно поднял на бамбуковой жерди маленький топсель, жердь уже сломалась, и обмякший топсель хлестал по гроту.
– Убрать большой парус, пока не лопнул!
Норман принял на себя командование на носу, сам влез на мачту и обрезал фал топселя. Затем пять человек ухватились за толстый гордень, и семиметровая рея отделилась от верхушки мачты. Но вместо того чтобы идти вниз, тяжелое бревно, увлекаемое огромным парусом, рванулось вперед и вверх, и ребята в десять рук повисли на фале, чтобы грот не уподобился распростертому над волнами воздушному змею. Лодку снова накрыл ревущий каскад.
– Отдать плавучий якорь, черт возьми!
– Волны запутали веревки!
– Отдайте малый якорь пока, не то нас расколошматит вдребезги!
Опять нас накрыло волной. И еще раз, сильнее прежнего. Наше счастье, что лодку развернуло к волне правым бортом, а не левым, где вход в каюту; всю правую стену мы накрыли снаружи брезентом, и море теперь таранило его.
– Малый отдан, – раздался торжествующий голос Карло.
Но малый плавучий якорь слишком слабо тормозил и не мог оттянуть назад корму отяжелевшей ладьи. Юрий и Карло, стоя по пояс в воде, – а время от времени их накрывало с головой, – лихорадочно распутывали запутанный волнами конец от большого парусинового мешка.
– Проверить страховочные концы, всем как следует страховаться!
Наконец заклиненное рулевое весло повернулось на несколько дюймов. Еще немного, еще. А толку чуть. Штормовые порывы били нижней шкаториной грота по верхушке высокого форштевня. Бешеные боксерские удары слева, справа, вот парус зацепился за тонкий крюк, весь форштевень перекосился влево. Голоса тонули в грохоте волн и реве ветра, так что все советы и предложения переводились и передавались по цепочке с мостика на нос и обратно.
– Да спустите вы парус, пока лодку не разорвало в клочья! – кричал я.
Наконец грот рывками пошел вниз.
– Стой! Скорей поднимите парус, пока его волной не подхватило! – закричал Норман.
– Упустим его за борт, потом ни за что не вытащим! – поддержал его Жорж.
Что верно, то верно. Внизу египетский парус был равен ширине палубы – пяти метрам, зато верхняя шкаторина и тяжелая рея достигали в ширину семи метров, и при таком волнении и ветре парус неизбежно будет пойман волнами с двух сторон.
Решение напрашивалось само собой. Мы стали помаленьку спускать парус, но до палубы он не доходил, пять человек, надежно застраховавшись, стояли плечом к плечу и скатывали его на руках. А ведь им еще надо было устоять на ногах в борьбе с ветром, качкой и беснующимися каскадами воды. Колотя и дергая румпель правого весла, я заставлял его дюйм за дюймом поворачиваться, но на курсе это никак не отражалось. Мало-помалу ребята свернули парус на одну треть и закрепили рулон вшитыми в парусину завязками. Теперь надо было спасать лопасть левого весла, которая по-прежнему бешено скакала на привязи, то и дело обрушиваясь всей тяжестью на ахтерштевень. Страховочный конец, удерживающий лопасть, как это показано на египетских фресках, помог нам извлечь ее из воды. Веретено переломилось как раз у нижней уключины. Шестнадцатисантиметровое бревно, настоящий телеграфный столб из крепчайшей сосны, без единого сучка. Мы считали его несокрушимым, а оно переломилось, как спичка. Весь папирус был цел и невредим, ни один стебель не сломался и не отстал. Папирусная связка спружинила лучше, чем бревно, сила Голиафа еще раз проиграла ловкости Давида. Эта осечка показала нам, что мы укрепили рулевое весло вверху и внизу слишком толстой веревкой. Будь веревка потоньше, она лопнула бы первой, сыграв роль предохранителя.
Тяжеленную лопасть, облепленную морскими уточками, вытащил на борт Жорж. Он сорвал с нее подушку из обрезков папируса, которую Норман укрепил на лопасти для лучшей обтекаемости в месте соединения с веретеном, бросил искореженные стебли в воду и стал с интересом наблюдать, что будет. Они утонули. Он никому об этом не сказал и до сих пор не подозревает, что с мостика за его экспериментом следил еще один человек, который опешил не меньше него, и ощутил под ложечкой неприятное сосание. Что случилось с этим папирусом? Может быть, из него выдавило весь воздух? Юрий и Карло стояли спиной к Жоржу, возясь с концом от большого плавучего якоря. Вот и большой пошел за борт, а малый вернулся на палубу, корма начала медленно разворачиваться назад. Но не до конца. Лодка шла с небольшим перекосом, и огромные волны захлестывали нас справа сзади, совсем как это было на «Ра I».
Шторм продолжал бушевать. Выло без десяти девять, надвигалась ночь, когда ребятам удалось частично свернуть парус и осталась ровно половина оранжевого солнечного символа – так выглядел бы закат, если бы тучи его не закрыли. Кстати, не будь туч, мы бы увидели заходящее солнце не прямо по курсу, а немного левее перекошенного форштевня, ведь мы дрейфовали почти боком.
Худо. Совсем худо. Запасных бревен достаточной длины для весла нет. Все лучшие материалы мы выбросили за борт у Канарских островов. Если простоим здесь достаточно долго на плавучем якоре, может быть, бревна нас догонят. Черный юмор. Положение безнадежное. Решения не видно. Спокойной ночи, ребята. Утро вечера мудренее. Стоять на руле незачем: одно весло заклинено, от второго осталось веретено без лопасти. Пусть волны врываются на палубу и скатываются за борт, они не хлынут через дверь в каюту, плавучий якорь будет рулить за нас. А чтобы нас не утопило какое-нибудь судно, поделим ночь на двухчасовые вахты.
В эту ночь было невозможно уснуть. Мы словно опять очутились на «Ра I» и заново переживали те дни, когда море начало брать верх над нами. Многотонные массы воды разбивались о задний правый угол каюты, кругом все бурлило, кипело, булькало, клокотало, будто целая река перекатывалась под плетеным полом, в широкой ложбине между двумя связками папируса, на которых мы шли через океан. Вода металась вперед и назад, лихорадочно отыскивая щели в папирусе, чтобы через них вырваться на волю, но набухшие стебли сомкнулись так плотно, что вода не успевала уйти, как новые каскады врывались на палубу и наполняли ванну до краев.
Я глаз не сомкнул, пока не подошла моя вахта, зато стоило мне сесть на бамбуковую скамеечку у двери и закрепить страховочный конец, как я в ту же секунду уснул. Вдруг что-то меня разбудило, я открыл глаза и увидел летучую мышь, нет, сову, которая металась в воздухе вокруг «Ра», потом устремилась между вантами прямо ко мне, как будто задумала напасть на меня. Но эта ночная гостья скверно летала, она зацепила крылом ванту и упала на скамейку рядом со мной, не успев выставить ноги вперед. Бедняжка. Да ведь это голубь! Наш собственный окольцованный спутник! Адский гул беснующихся волн и хлопающего паруса спугнул его, он решил поискать себе другое убежище, не нашел, вернулся, увидел безлюдный мостик и, боясь одиночества в своей корзине на крыше, спустился к спящему вахтенному. До самого рассвета голубь сидел на вахте рядом с нами, и всю ночь ревущий океан беспрепятственно вторгался на палубу, бил в задний угол каюты и, обогнув ее, скатывался через борт впереди и сзади, так что на подветренный борт доходили только маленькие ручейки, они встречались у наших ног и тоже вливались в море.
Удивительное судно. Одно плохо: корпус его становился герметичным, как у обычной лодки, и вода не поспевала уходить через щели в днище.
На другой день ад продолжался. Смертельно усталые, мы бродили по колено в бурлящей воде, переносили кувшины с наветренной стороны, выбрасывали за борт разбитые амфоры, крепили расшатавшийся груз, натягивали ванты потуже, чинили парусину и ломали голову над тем, как снова сделать ладью управляемой. Она настолько отяжелела от воды и так сильно кренилась к ветру, что полная победа океана была вопросом времени, ведь дерево и папирус скрепляли только тонкие веревки, которые в любую минуту могли лопнуть от такой нагрузки. Толщина веревки, державшей папирус спиральными витками, составляла 14 миллиметров; каюту, мачту и мостик крепила к палубе сплетенная втрое, словно коса, 8-миллиметровая веревка. Индейцы отказались применить толстый трос. Не будь все суставы гибкими и упругими, океан разнес бы нас в клочья так же легко, как он ломает бревна и сгибает сталь.
В первый день шторма волны ничего не могли сделать с плавучей копной, она играючи уходила от всех ударов. Тогда океан пустил в ход другой прием. Он навалился на палубу всем своим весом и давил вниз. Наша осадка начала расти с угрожающей быстротой; во-первых, в длинном углублении между двумя главными связками залегли бесполезным грузом тонны булькающей морской воды, во-вторых, верхняя половина связок, которая до сих пор оставалась сухой и легкой, теперь тоже стала намокать. Скоро весь папирус сплошь пропитается водой и совсем отяжелеет. Каждому было очевидно, что мы тонем. Но никто не выказывал страха, все были полны решимости справиться с этой проблемой. У каждого были свои предложения, они обсуждались, потом единогласно отвергались. Мадани, который не ходил на «Ра I», отвел меня в сторонку и осторожно спросил, угрожает ли нам опасность. Услышав, что пока опасности нет, он снова расплылся в улыбке. Кей, стряхивая морскую воду со своей блестящей черной шевелюры, широко осклабился: он никогда в жизни не представлял себе, что бывают такие волны.
Благодаря плавучему якорю корма во всяком случае развернулась под острым углом к волнам. Убери его – и нас опять повернет так, что мы будем принимать волну всем бортом. Но зато плавучий якорь сковал нас по рукам и ногам, мы почти не трогались с места. Стоим посреди Атлантического океана и тонем, в 1900 морских милях от старта и 1300 милях от финиша.
Двое суток все наши действия сводились к борьбе за свою жизнь и спасение груза. Починить весло оказалось невозможно по ряду причин. По-прежнему нас штурмовали шести-, семиметровые волны, к тому же попадались и десятиметровые исполины. Сидя в каюте, я разрезал обложку одного блокнота и сделал из картона модель, изображающую лопасть, обе части сломанного веретена и мостик, показал две деревянные уключины, удерживающие установленное наискось весло вверху и внизу. Получалось, что, если прикрепить к лопасти верхний, более длинный обломок веретена, рукоятка дотянется до мостика. Мы так и сделали, придумав сообща хитрое устройство, которое позволяло рулевому, стоя в правой части мостика, крутить правое весло рукой, а левое весло поворачивать в одну сторону ногой при помощи веревки, в другую – рукой с помощью длинной бамбуковой палки. Чистая акробатика, причем дело осложнялось тем, что вахтенный должен был еще маневрировать шкотами паруса, закрепленными за перила мостика, потому что рулевые весла не всегда могли справиться с ладьей, так глубоко она осела. И когда «Ра II» не слушалась весел, а ветер и волны грозили развернуть нас боком, всю надежду мы возлагали на парус.
Новое устройство было готово к испытанию вечером второго дня. К этому времени лодка погрузилась так сильно, что страшно смотреть. Всем было очевидно, что нам предстоит основательно потрудиться, чтобы одолеть вторую половину пути. Как только легло на место увечное весло, дела сразу пошли немного лучше. Нам удалось привести корму к волне, после чего мы выбрали плавучий якорь и пошли на запад под зарифленным парусом. На другой день мы отважились поставить полный грот. И снова огромный парус словно приподнял лодку из воды, и мы пошли со скоростью почти три узла, что составляло больше 100 километров в сутки. Правда, палуба была чуть не вровень с водой. По-прежнему через корму переваливали волны, да и на носу, если мы пробовали сесть к столу, как прежде, на скамейках, нас регулярно окатывало водой, и приходилось всем жаться на нижних перекладинах мачты. Сидим и едим, точно птицы на ветке.
– Надо как-то защититься от больших волн, чтобы вода успевала стекать с палубы, а не то мы потонем, – сказал Юрий.
И он принялся натягивать кусок парусины вдоль правого борта от вант вперед, закрепляя его вверху и внизу толстой бечевкой. Остальные рассмеялись.
– Брось, Юрий. Первая же волна разорвет твою тряпку.
Но Юрий твердо настроился довести дело до конца. Очередная волна, захлестнув корму, покатилась вдоль правой стенки вперед, слегка прогнула парусиновую ширму Юрия и ушла за борт. На носовую палубу просочилось лишь несколько струек, все остальное отразила парусина. Юрий торжествующе сел к столу и взялся за вилку. После того, как и вторая, и третья волна отступили перед ширмой, мы, смотря большими глазами на это чудо, спустились со своими тарелками с перекладин и расселись вокруг стола. Вот так Юрий, вот так волшебник, обыкновенной тряпкой остановил океан. Конечно, папирусный хвост принимал главный удар на себя, он рассекал волну надвое, так что парусиновому экрану оставалось только отражать катившие вдоль борта фланги могучего вала.
– Еще парусины!
Мы убрали кусок парусины, которым была накрыта передняя стенка каюты, и сразу изнутри сквозь щели в плетенке стало видно стол, двойную мачту и океан. Потом мы распороли запасной грот. Юрий развесил все лоскуты, и мы очутились как бы за огромным бордово-оранжево-зелено-желтым занавесом. Волны незлобиво подталкивали его, и он колыхался на вантах, словно белье на ветру, пропуская минимальное количество воды.
– Хиппи! Цыгане! – расхохотались Карло и Жорж, спустив на воду трехместный надувной плот, чтобы поснимать нас со стороны.
Над пестрой ширмой торчали наши головы, мы следили за двумя смельчаками, которые то и дело исчезали за гребнями высоких волн.
– Назад! – крикнул я. – Ну-ка, живей переходите на приличную посудину, пока вашу скорлупку не опрокинуло.
Мы и раньше надували наш плот и выходили на съемку, но то было в штиль или при легком волнении, а теперь настолько свыклись с волнами и соленым ветром, что кое-кто начал забывать про осторожность.
Дни и недели бежали взапуски с волнами. За год с небольшим шесть членов экипажа провели вместе в общей сложности почти четыре месяца на папирусных связках. После катастрофы пришлось ограничить потребление воды – пол-литра в день на человека, не считая девяти литров в день на камбуз для общих нужд. Одни кувшины разбились, в другие попала морская вода. И ведь мы сами во время злополучного штиля опорожнили за борт большинство бурдюков, но об этом сейчас лучше было не вспоминать. Да, поспешили, черт возьми.
У Карло соленая вода разъела кожу в паху, и Юрий прописал ему два раза в день мыться пресной водой. Бедняга Карло ухитрялся обходиться одной чашкой. Утка, голубь и обезьяна вместе выпивали в день столько, сколько один человек; Жорж яростно возражал против того, чтобы ни в чем не повинных животных сажали на паек, как людей. Сантьяго тоже был не в блестящей форме, ему перед плаванием делали операцию – камни в почке – и велели избегать соленого, орехов, сушеных овощей, яиц и прочих блюд, преобладавших в нашем меню. Он здорово устал, однако безропотно выполнял свою работу, правда, в свободную минуту предпочитал полежать в каюте, в самой глубине, под наблюдением Юрия.
Однажды вечером он вышел из каюты хмурый и сел за стол рядом с нами. Посмотрел на Карло, на Жоржа и сказал:
– Я слышал сквозь стену гнусные обвинения!
Карло обозлился.
– Брось изображать профессора.
– Повкалывал бы лучше с наше, – подхватил Жорж. – А то ведь если и вызовешься подменить уставшего рулевого, так не раньше, чем за десять минут до смены.
И посыпались обвинения. В первом плавании трудяга Карло и беспечный Жорж не очень-то ладили, теперь же они стали закадычными друзьями и вот почему-то оба взъелись на нашего тихого профессора антропологии. Мол, он лежит в углу и психоанализирует других, которые работают. И это его дурацкая идея, чтобы мы опять взяли провиант и воду в кувшинах, вместо консервов и легких канистр с водой. Мы уже доказали, еще на «Ра I», что можно прожить без современной пищи, за каким чертом доказывать это второй раз. И уж если настоял на своем, уговорил нас снова взять больше ста тяжелых кувшинов, то мог бы хоть, как квартирмейстер, получше их привязать, чтобы они не побились, и не пришлось бы нам теперь отмерять воду.
– Кувшины не тяжелее канистр, и если на то пошло – кто вылил в море всю воду из бурдюков?
Разгорелась жаркая словесная перепалка, злые бранные слова давали выход накопившемуся раздражению и отбивали всем нам аппетит. Сидя на перекладине мачты, Сантьяго оборонялся, как мог, но в конце концов сник под сыпавшимися на него со всех сторон ударами.
– Карло, – сказал я. – Ты профессиональный альпинист, у тебя большой экспедиционный опыт. Как ты можешь требовать, чтобы профессор, преподаватель университета, не хуже тебя разбирался в узлах и выполнял тяжелую работу. Ты все равно что безгрешный священник, который требует от других, чтобы они все делали, как он.
Кажется, я не мог придумать худшего оскорбления. Карло медленно встал, весь побагровел и схватился рукой за голову.
– Я – священник?
На секунду он онемел и только глотал воздух. Потом повернулся от меня к Сантьяго и вдруг протянул ему мозолистую ладонь.
– Ладно, ребята, что было – забудем!
Все обменялись рукопожатиями через стол. Норман сбегал за губными гармониками для себя и Кея, Мадани принес свой марокканский барабан, и, когда я через два часа побрел в каюту, чтобы вздремнуть, на носу еще звучала разудалая музыка и песни всех частей света.
Прошлогоднее плавание на «Ра I» превратилось в чистый дрейф уже с первого дня, когда у нас сломались оба рулевых весла. Эксперимент был прекращен недалеко от крайнего в вест-индской цепочке острова Барбадос. На этот раз лодка не утратила своих мореходных качеств, и мы решили идти на тот самый остров, к которому природа собиралась привести нас годом раньше. Поэтому расстояние до финиша мы измеряли числом миль, отделяющих нас от Барбадоса. И с точки зрения попутного ветра и течения это был самый подходящий курс. Правда, рулевым доставалось тяжко, погрузневшая от воды ладья так и норовила развернуться боком.
Отстоишь ночную вахту, и до того измотан, что пальцы не разогнуть. А если лодка все-таки разворачивалась, так что парус обстенивало и волны врывались на борт, Юрина парусина не выдерживала, и тогда на голову злосчастного рулевого сыпалась брань семи голых мореплавателей, которым приходилось, обвязавшись страховочной веревкой, выскакивать во тьму и по пояс в воде тянуть и дергать парус, шкоты, весла, спасать груз. Кое-кому стало невмоготу в одиночку нести ответственность ночной вахты, и мы удвоили число вахтенных, продлив ночное дежурство до трех часов.
Надо что-то придумать, чтобы не маяться так с этим громоздким рулевым устройством.
– Эх, если бы можно было подать вперед мачту, – начал я фантазировать однажды ночью, когда мы с Норманом вместе несли вахту на мостике. – Если парус вынести на самый нос, лодка будет сама собой управлять.
– А что, это мы можем, – радостно сказал Норман. И прямо с утра мы приступили к сложнейшей операции. Нам предстояло наклонить тяжеленную двуногую мачту вперед – тогда и парус переместится к носу.
Норман стесал наискось топором опорную плоскость обоих колен. Затем мы осторожно развязали все двенадцать вант, которые крепили мачту к бортам ладьи. Теперь можно было наклонять 300-килограммовую махину, высотой десять метров. Мы подтянули к носу макушку мачты, а с ней и рею, и, когда опять закрепили ванты, парус, наполнившись ветром, изогнулся дугой впереди высокого форштевня. Рулить сразу стало легче.
С отличной скоростью «Ра II» продолжала идти на запад. И как только подводная часть папируса уравновесила дополнительный груз в виде морской воды на палубе, мы перестали погружаться. Это было в начале шестой недели нашего плавания. Правда, осадка уже увеличилась настолько, что даже в тихую погоду палуба была почти вровень с водой, а папирус вдоль задней стенки каюты начал обрастать морскими уточками.
И каждый день Мадани вылавливал из моря комки мазута.
В один дождливый и шквалистый день парус зацепился за форштевень и перекосил его еще больше, к тому же лопнул шов нижней шкаторины. После днища ладьи парус был для нас всего важнее, и, посовещавшись, мы решили пожертвовать высоким форштевнем. Карло оседлал нос и, не жалея сил, принялся пилить наше гордое судно. На всякий случай мы схватили нос тросом, чтобы вся лодка не рассыпалась, когда вместе с форштевнем будут обрезаны обе веревки, которыми связан корпус. Но индейцы верно говорили: веревку так плотно зажало в витках вокруг малой связки в середине, что мы при всем желании не могли ее вытащить.
Когда верхушка форштевня поддалась пиле вандалов, мы увидели что-то похожее на разрезанную луковицу, настолько сильно были сплющены разбухшие стебли папируса. «Ра II» сразу обрела более современный, строгий вид, и теперь через щели в передней стенке из каюты было видно ниже паруса всю линию горизонта. Ковчег приоткрыл ставни, чтобы
легче было высматривать землю.
Через несколько дней мы решили, что крюк ахтерштевня тоже надо спилить. Все равно он, после того как укоротили нос, только мешал держать курс, выступая в роли косого паруса, и к тому же нам надо было избавиться от лишнего веса. Правда, мы не без тревоги перенесли конец тетивы с завитка вниз, на куцый и плоский, как у курицы, хвост, который остался после операции. Но никакие хирургические вмешательства не могли повлиять на поразительную прочность этого суденышка.
Один за другим члены экипажа, обвязавшись страховочным концом, ныряли под лодку и радостно докладывали тем, кто ждал своей очереди, что днище «Ра II» цело и невредимо, связки такие же крепкие и тугие, как прежде, ни один стебель, ни один виток не сместился, единственное изменение – все облепили, словно черно-белые грибочки, моллюски с колышущейся желтой бахромой жабр.
Нашу маленькую радиостанцию мы на этот раз вынимали из ящика гораздо реже, чем в первом плавании. Ведь родные теперь уже не должны так сильно беспокоиться, и не надо их дергать без нужды, достаточно короткого «все в порядке». Но под конец второго месяца, идя с хорошей скоростью, мы уже продвинулись так далеко, что смогли сообщить приблизительно время и место финиша. Ивон тотчас уложила чемодан и вылетела с детьми на Барбадос. Вскоре после этого Норман связался с одним барбадосским радиолюбителем, и мы услышали ее голос. Она задала мне шесть сугубо специальных вопросов о морских организмах, сопровождающих папирусную лодку, а когда я удивился, объяснила, что вопросы составлены руководителем морской биологической экспедиции ООН, базирующейся на Барбадосе.
Мы рассказали про нашу верную подводную свиту, про корифен, которые гонялись за летучими рыбками, про тучи морских птиц из Южной Америки, которые кружили на горизонте на юге и на западе, где над голубым океаном серебристыми ракетами взмывали тунцы. На другой день барбадосский радиолюбитель передал, что нас собирается проведать одно из исследовательских судов ООН.
Двадцать пятого июня к нам на борт залетела коричневая стрекоза. Неужели суша так близко? Или ее подвезло какое-нибудь судно, которое прошло за горизонтом? После того как нас раза два чуть не протаранили у берегов Африки, мы почти не видели пароходов.
«Ра II» полным ходом приближалась к тому району, где мы после заключительных драматических дней прошлогоднего рейса покинули «Ра I». Ребята невольно поежились, когда вахтенный обратил наше внимание на акулу, злобно атаковавшую красный буй, который мы тащили на буксире за кормой на случай, если кто-нибудь упадет за борт. Именно здесь встретили нас акулы в прошлом году. Впрочем, одинокая странница скоро оставила буй в покое и ушла на север. Можно было подумать, что судно, не требующее подводного ремонта, акул не интересует.
Двадцать шестого июня море снова начало бесноваться, и волны гнались за нами, шипя белыми гребнями, как будто нас преследовали снегоочистители, вспарывающие плугом снежную пелену. Сверху нас поливали дождем низкие тучи. Мы смыли с себя соль и слизывали с рук пресную воду. Можно было собрать дождевую воду, но при таком ходе мы рассчитывали обойтись своими запасами.
Утка ковыляла под дождем по крыше и пила из лужиц, а Сафи рвалась в каюту. Правое весло заклинило в уключинах, мы боялись, что оно переломится, но Кей, стоя в воде, раскачал его.
На другой день исчез наш голубь. Последние дни он вел себя беспокойно, описывал все более широкие круги в воздухе над «Ра», но каждый раз возвращался на крышу к блюдечку с зерном. А 27 июня взлетел и уже не вернулся. Потоп пошел на убыль, и ковчег остался без голубя. Без него стало как-то пусто. Уж не почуял ли он землю? Ближайшей сушей была Французская Гвиана на юге. Пернатый путешественник улетел с двумя кольцами, на одном был испанский номер, на другом метка «Ра II».
Двадцать восьмого июня температура воды вдруг поднялась на два градуса, и с того дня мы больше не видели мазута. Может быть, нас подхватила другая ветвь течения? Странно, ведь когда мы годом раньше оставили «Ра I», нас со всех сторон окружали черные комки, а океан совершает непрерывный круговорот между материками.
Двадцать девятого июня мы увидели, что цепочка Сафи свисает в воду, а обезьяны нет. Тревога, аврал! А Сафи, чувствуя себя вольной птицей, сидела на вантах и с чрезвычайно довольным видом глядела на нас свысока. Ни кокосовый орех, ни мед не могли заменить ее вниз, тогда Юрий принес ей любимую резиновую лягушку, зеленое чудовище с огромными красными глазами. Миг – Сафи уже на палубе и схватила игрушку, а Юрий схватил ее. Почти одновременно раздался громкий крик в каюте. Норман установил прямую связь с радистом ооновского исследовательского судна «Каламар» – оно находилось где-то совсем рядом – и нас попросили ночью пускать сигнальные ракеты, чтобы можно было разыскать «Ра II» в беспокойном океане.
В ту ночь нам довелось пережить сильный испуг. 30 июня в 0.30 Норман поднял меня на вахту, я сел в спальном мешке и начал натягивать носки, так как на мостике было сыро и холодно. Вдруг снова послышался голос Нормана, и теперь в нем звучал ужас:
– Иди сюда, скорей! Смотри!
Я нырнул в дверь, сопровождаемый по пятам Сантьяго, вскарабкался на мостик, и через крышу каюты мы уставились в ту сторону, куда показывал Норман.
Чисто конец света. Над горизонтом с левого борта, на северо-западе восходил бледный диск, похожий на призрачную алюминиевую луну. Не отрываясь от воды, он медленно увеличивался в размерах. Правильно расширяющийся полукруг напоминал то ли очень плотную туманность, ярче Млечного пути, то ли шляпку от гриба, которая неотвратимо наступала на нас, все шире захватывая небо. Луна сияла в противоположной стороне, было безоблачно, сверкали звезды. Сперва я подумал, что это световое пятно на фоне влажного ночного воздуха от какого-нибудь мощного прожектора за горизонтом. А может, это атомный гриб, плод чудовищной оплошности людей? Или северное сияние? В конце концов я склонился к тому, что это светящийся дождь космических тел, вторгшихся в земную атмосферу. Тут диск, который уже занял около тридцати градусов черного небосвода, вдруг перестал расти, как-то незаметно растаял и пропал. Так мы и не поняли, что это было.
А затем мы сами устроили фейерверк – жгли красные фальшфейеры и пускали сигнальные ракеты, чтобы обозначить свою позицию «Каламару». Странная ночь, необычная атмосфера. Мы снова услышали по радио голос «Каламара», но там не заметили наших ракет, а когда показывался световой диск, на палубе никого не было.
Утром мы узнали от барбадосского радиолюбителя, что это же явление, но на северо-востоке, наблюдали с многих островов Вест-Индии. Может быть, это взорвалась и сгорела, войдя в атмосферу, какая-нибудь ракетная ступень с мыса Кеннеди? Мы не узнали ответа. Но «уфоисты», охотящиеся за доказательствами существования летающих тарелочек, смешали этот феномен с двумя другими, которые мы наблюдали две ночи подряд несколько раньше, когда на горизонте на северо-западе появлялся оранжевый огонек. В первую ночь это была просто короткая вспышка, а во вторую ночь мы видели каплевидное световое пятно, которое под острым углом нырнуло в море. Мы тотчас оповестили радиолюбителей на континенте, ведь это могли быть сигналы бедствия, но «СОС» никто не передавал, так что скорее всего это сигналили военные суда на маневрах, может быть, всплывшая подводная лодка обозначала свою позицию.
Мы шли на всех парусах прямо на запад, а «Каламар» кружил, разыскивая нас. Ракеты приходилось беречь, но мы непрерывно вели наблюдение с мачты. И вот опять взошло солнце, проходит час за часом, и Норман, хлопоча то с секстантом, то с таблицами, то с аварийной радиостанцией, раз за разом докладывает, что «Каламар» совсем рядом... на севере... а теперь на юге... но высокие волны не давали нам возможности обнаружить его. Мы пообедали. Поужинали. И потеряли надежду, что нас найдут. Еще немного, и тропическое солнце уйдет за горизонт 6 часов вечера по местному времени, а на наших часах уже 9, потому что мы только один раз переводили стрелки после старта. И тут впередсмотрящие на обоих судах одновременно произнесли долгожданные слова. С «Каламара» нам передали, что видят парус, а мы разглядели на горизонте за кормой чуть заметное серое пятнышко. Уже смеркалось, когда нас догнал маленький гордый корабль. Вот она, великая минута.
Быстроходный траулер подошел вплотную и приветствовал нас, приспустив развевающийся на мачте голубой флаг ООН. Норман поспешил к двойной мачте и ответил нашим ооновским флагом, от которого осталось две трети, остальное унес шторм. Радость переполняла нас. Взобравшись на мостик, на каюту, на мачту, мы махали руками, кричали, пронзительно дудели в охотничий рог. Команда «Каламара» – черные, коричневые, белые – выстроилась вдоль борта и кричала и махала нам в ответ. На мостике стоял капитан – китаец. А его сосед крикнул в мегафон по-шведски:
– Добро пожаловать на эту сторону океана!
Увидев китайца на мостике, Кей не смог сдержать своих чувств, забрался ко мне на крышу и протянул руку для рукопожатия:
– Спасибо, что взяли меня.
Во всем этом было что-то нереальное. Надо же случиться так, чтобы на этой стороне нас первым встретило ооновское судно! До сих пор я вообще не видел судов под флагом ООН, не считая нашей «Ра».
Тьма поглотила океан, ярко освещенный траулер описал несколько кругов, потом застопорил машину и лег в дрейф на ночь. И вот уже его огни остались где-то позади, мы опять наедине с волнами и нашим тусклым керосиновым фонарем. Уютно, да одиноко.
А затем стихии решили напомнить нам, что плавание еще не окончено. Неожиданно с севера налетел сильный шквал и развернул парус поперек, застигнув вахтенных врасплох. Давление ветра на парус было настолько сильным, что «Ра» накренилась на левый борт и палуба погрузилась в воду. Как-то непривычно было, выскочив из каюты на подветренный борт, сразу же очутиться в воде выше колена, причем это была не просто волна, которая пришла и ушла, – сам океан вторгся к нам и явно не собирался уходить. Впервые за все мои плавания я почувствовал, что опора под моими ногами идет ко дну.
Шум, крики, мелькание карманных фонариков. Мадани по пояс в воде без страховочной веревки. Ширма Юрия с подветренной стороны разорвана в клочья. Но вот ветер вернулся на более привычный для нас румб, подул с востока на запад, и восемь искушенных мореплавателей на папирусе сумели наконец развернуть парус, как положено. «Ра II» спокойно выпрямилась, вода скатилась за борт, и палуба всплыла на поверхность. Правда, три кувшина из тех, что были привязаны с подветренной, защищенной стороны, разбились, и я порезал босые ноги о черепки, пришлось Юрию перевязывать меня. К тому же левый борт опутали блестящие жгучие нити двух «португальских военных корабликов», и Жорж, отправившись по нужде, обжегся так, что понадобилось лечение аммиаком.
Настало утро, но «Каламар» не сразу нас догнал. Никто на траулере не думал, что примитивная лодка из папируса может развить такой ход. Несмотря на все осложнения, мы прошли за сутки 75 морских миль, то есть 140 километров.
С «Каламара» на «Ра» передали почту, мазь для Карло, чудесные барбадосские фрукты и добрую порцию мороженого, которое превратилось в ванильный соус, пока его переправляли к нам на резиновой лодчонке. Двое суток «Каламар» сопровождал нас, потом прибавил ходу и ушел вперед, везя на Барбадос наши приветы.
Мы снова вошли в тот район, где рождаются атлантические ураганы. Начало июля, погода ненадежная. Куда ни глянешь, всюду темные ливневые завесы, и чуть не каждый день порывистые ветры, доходящие до штормовых шквалов, напускали их на нас. Только поспевай отдавать плавучий якорь и спасать парус. Но в целом ветер и течение благоприятствовали нам, и в последние дни мы достигли самой высокой среднесуточной скорости за все плавание, проходя до 81 мили, то есть до 151 километра. То и дело нам попадались суда, плавающие между Северной и Южной Америкой.
Восьмого июля до Барбадоса оставалось всего 200 морских миль, и островные власти выслали навстречу быстроходное судно «Калпеппер», чтобы передать нам свое «добро пожаловать» в эту маленькую независимую часть Британского содружества. В качестве пассажиров на «Калпеппере» находились Ивон и моя старшая дочь Аннет, и встреча должна была состояться ночью, ведь наши координаты были известны.
Но миновала ночь, миновал день, а «Калпеппер» никак не мог нас отыскать среди волн. Погода была далеко не идеальная, и мы услышали, как с судна передают на берег, что волна нешуточная и супруга плотоводца страдает морской болезнью, но храбро настаивает на продолжении поиска. И поиск продолжался. Еще ночь. Еще день. Заканчивались вторые сутки, дело шло к вечеру, до острова оставалось миль 100, и мы уже решили, что дойдем до берега раньше «Калпеппера», когда он вдруг появился на горизонте, правда, не с той стороны, откуда мы его ждали, а позади нас. Широкий, плоский, остойчивый, типично мужской корабль поравнялся с нами, и мы увидели вцепившихся в поручни двух белых женщин, окруженных приветствующей нас чернокожей командой. Если женщины явно старались опознать каждого из косматых загорелых бородачей, неистово махавших им руками с каюты «Ра», то внимание команды «Калпеппера» сосредоточилось на Мадани, которого они приняли за моряка с Барбадоса. И сухопутный краб из Марракеша не ударил лицом в грязь, он забросил удочку, наживив крючок соленой колбасой, и вытащил одну за другой пять пампано да еще какую-то серебристо-зеленую рыбу. Солнце заходило, однако аквалангист Жорж отправился вплавь на «Калпеппер», чтобы совершить вполне позволительный обмен, и получил за свежую рыбу, египетские лепешки и никогда не теряющее своей прелести марокканское селло не столь уж необходимые, но такие желанные апельсины. Он уже приготовился прыгать с кормы в волны, чтобы плыть обратно на «Ра II» по серебристой тропке, которую прочертил на воде прожектор «Калпеппера», когда один из членов команды остановил его и спросил, неужели люди на «Ра» совсем не боятся акул?
– Нет, – бестрепетно ответил Жорж, однако тут же взял свои слова обратно, когда моряк спокойно показал рукой на здоровенную хищницу, которая медленно выплыла из-под судна на световую дорожку.
Наш надувной плот столько терся о кувшины на палубе, что мы не решались спускать его на воду, и пришлось Жоржу ночевать на «Калпеппере», а утром его переправили к нам на металлической лодочке без весел, которую потом подтянули тросом обратно.
Весь следующий день «Калпеппер» шел за нами слева. 12 июля к нам с запада потянулись такие большие стаи морских птиц, что стало очевидно – суша где-то сразу за горизонтом. Было воскресенье, мы с Норманом стояли на мостике – нам досталась вахта с пяти до восьми утра – и предвкушали смену. Скоро поднимутся Кей и Карло и достанут из известковой кашицы последние яйца, чтобы экипаж мог отметить этот день доброй яичницей. А вообще-то у нас было еще вдоволь провианта, больше всего – уложенных в рундуки египетских лепешек, висящих под бамбуковым навесом соленых колбас и окороков, а также кувшинов с селло, этой смесью из муки, миндаля и меда, в которой есть все, что необходимо страннику в пустыне. Мы ни разу не жаловались на голод, и все чувствовали себя превосходно. Но что это? Я схватил Нормана за руку.
– Чувствуешь? – Я втянул носом соленый морской воздух. – Невероятно, я отчетливо слышу запах свежего сена!
Мы продолжали принюхиваться. Пятьдесят семь дней в море... Сантьяго, Карло и остальные присоединились к нам, но только мы, некурящие, явственно ощущали запах. Постой, даже навозом потянуло, чтоб мне провалиться! Типичный деревенский запах. В кромешном мраке мы ничего не видели, но и волны уже вели себя иначе, их ритм изменился, словно им что-то преграждало путь. Мы повернули рулевые весла, приводясь к дующему справа ветру, и старались держать возможно более северный курс. Несмотря на глубокую осадку, наша ладья удивительно хорошо шла бейдевинд.
Все утро Норман, Карло и Сантьяго по очереди лазили на мачту, и в 12.15 мы услышали неистовое «ура»! Норман увидел землю. Сафи визжала, утка бегала по каюте, хлопая крыльями. Весь экипаж, словно мухи, облепил перекладины двуногой мачты, не боясь опрокинуть «Ра II», которая стала остойчивее после того, как большая часть папируса погрузилась в воду. Загудела сирена «Калпеппера». Да, вот она, земля – низкий, плоский берег на северо-западном горизонте. Накануне мы чересчур далеко отклонились на юг. Сделали поправку на течение, которое перед самым островом уходит к северу, и перестарались. Пришлось поворачивать весла и парус в другую сторону, чтобы нас не пронесло мимо Барбадоса. Правда, дальше сплошной цепочкой тянутся другие острова, но на Барбадосе нас ждали родные и друзья. «Ра II» слушалась руля, словно килевое судно. Возможно, продольная ложбина между двумя основными связками играла роль негативного киля. Мы шли почти в полветра, и конец от красного спасательного буя, который мы тащили на буксире, вытянулся совершенно прямо, подтверждая, что нас не сносит, мы идем туда, куда показывает нос, прямо к низкому берегу впереди.
Рассаживаясь вокруг стола, мы знали, что это будет наш последний обед на борту «Ра II». Во второй половине дня в небе послышался гул мотора. Чей-то частный самолет кружил над нами, приветственно качая крыльями. Вслед за ним с острова прилетел самолет побольше, двухмоторный, с премьер-министром Барбадоса на борту. И вот уже четыре летчика кружат над мачтой «Ра», а один из них спикировал так низко, что воздушная волна чуть не обстенила наш парус. Земля поднималась все выше из воды, замелькали солнечные блики в окнах. Уже видно дома, еще и еще. Из окутывающей берег мглы вышли суда, большие и малые, в огромном количестве. Лихо прыгая по гребням, примчался быстроходный катер, в котором сидели жена Нормана, Мери-Энн, и мои младшие дочери – Мариан и Беттина. Суда всевозможных типов. Лица – удивленные, радостные, искаженные морской болезнью. Кое-кто, давясь от смеха, допытывался, неужели мы и вправду пришли из Марокко на «этой штуке». Ведь со стороны было в общем-то видно только плетеную каюту и величественный египетский парус, да еще впереди и сзади торчали из воды куцые пучки папируса. Лоскутная ширма Юрия отнюдь не делала нашу лодку похожей на океанский крейсер.
Мы взяли курс на Бриджтаун – столицу Барбадоса. На финишной прямой «Ра II» эскортировало больше полусотни судов. Кругом сновали парусные яхты, глиссеры, рыбацкие шхуны, всякие увеселительные яхты, один катамаран, один тримаран, полицейский катер, зеленый парусник голливудского вида, оформленный под пиратское судно и битком набитый туристами, не отставал и наш старый знакомый, «Калпеппер», и при виде всего этого бедлама миролюбивый Карло вдруг затосковал по океанскому уединению. Зато Жорж чувствовал себя, как рыба в воде, он зажег наш последний красный фальшфейер и встал с ним на каюте в позе статуи Свободы.
Так закончились плавания на «Ра». У входа в бриджтаунскую гавань нам подали с «Калпеппера» буксирный конец, и мы в последний раз спустили выцветший парус с солнечным диском и свернули его.
В гавани было как в муравейнике. Все улицы битком набиты людьми. Наши часы показывали без пяти семь, но нам пришлось переводить их на барбадосское время, ибо день еще далеко не кончился, как-никак мы прошли 3270 морских миль, или больше 6100 километров от берегов Африки.
Перед тем как пришвартоваться к пристани, восемь членов экипажа улучили минуту и обменялись рукопожатиями. Все мы понимали, что только мирное сотрудничество помогло нам благополучно пересечь океан.
Последний взгляд на покоренную стихию. Океан, с виду такой же безбрежный, как в дни Колумба, как в пору величия финикийцев и ольмеков. Долго ли еще будут в нем резвиться рыбы и киты? Научатся ли люди, пока не поздно, зарывать свой мусор – свой боевой топор, которым они замахнулись на природу? Научатся ли завтрашние поколения снова ценить океан и землю, которые инки называли Мама-Коча и Мама-Альпа – «Мать-Океан» и «Мать-Земля»? А не научатся, так не спасут нас ни мирное сожительство, ни тем более потасовки на борту нашей общей маленькой лодки.
Мы спрыгнули босиком на берег.
Течение продолжало свой путь без нас. Пятьдесят семь дней. 5700 лет. Изменился ли человек? Природа не изменилась. А человек неотделим от природы.
Эпилог
Ноги сухие. Голова сухая. Все сухое. Окна закрыты. Высокие деревья качаются от ветра. Ветер сильный. За окном. А бумаги на моем столе никуда не улетают. Даже не шевелятся. Мое кресло стоит неподвижно. Все стоит на своих местах, ничто не качается и не колышется. Я в полной безопасности в своем рабочем кабинете. Между качающимися ветвями могучих деревьев проглядывает голубая вода. Средиземное море. Магистраль древних культур. Звено, соединяющее три континента, которые окружают его сплошным кольцом, оставляя только проход у Гибралтара.
На голубых волнах белеют барашки, но голоса моря не слышно. Чтобы услышать рокот прибоя, я должен открыть окно. Но я этого не делаю, иначе ветер учинит разгром на моем столе. До чего же хорошо снова очутиться в уютном, тихом кабинете. Кругом книги. Книги и закрытые окна. Не завидую тем, кто сейчас идет под парусами при таком ветре. Развертываю рулон большой карты перед окном, обращенным к морю. Вот он, могучий Атлантический океан, каким его видят картографы. Плоский, безжизненный – преграда, делящая на две части прямоугольный мир. Справа Африка, слева Америка. Вверху север, внизу юг. Потрясающе неверное понятие о самом динамичном, деятельном, неутомимом эскалаторе, когда-либо созданном природой. Вечно движущийся конвейер, остановленный на фотографии, как антилопа в прыжке. Неподвижный, как Сахара. Окаменелый, как Альпы. Только цветом от них отличается. Он изображен синей краской, а суша – желтой, зеленой, белой. Какое великолепное игровое поле. Бросай кубик и передвигай фигурки. Можно продвигаться по полю любого цвета, пока не дойдешь до синего. Если попытаешься пересечь синее поле, значит, ты жульничаешь. А диффузионистам наплевать. Они жульничают. Передвигают фигурки по синему полю во всех направлениях. Вот бы удивились участники игры, если бы голубое поле вдруг пришло в движение. Подобно океану. Как покатятся широкие полосы, разбрасывая фигурки, перенося их из Африки в тропическую Америку. Из тропической Америки в Азию, а оттуда назад, в Северную Америку. Если бы карты делали подвижными, пришлось бы изобретать для игры новые правила. Белые и черные фигурки, дойдя до кружочка у берегов Марокко, получают право продвинуться до Америки по голубой ленте Канарского течения. Желтые фигурки у берегов Индонезии попадают на вращающееся кольцо, которое начинается у Полинезии и в два хода доставляет их туда же, по течению Куро-Сиво и через Северо-Западную Америку. Синий цвет всегда будет означать длинный прыжок в одну сторону, пропуск хода – в другую. В этой реалистичной игре препятствиями станут зеленые болота, желтые пустыни, белые льды.
Я дернул шнур, и нелепая карта свернулась в трубку со скоростью ракеты. И опять передо мной между деревьями колышется Средиземное море, словно луг под порывами ветра. Я отворил окно, чтобы послушать живой прибой. Пусть ветер учиняет разгром на моем столе, пусть летят во все стороны мои бумаги и домыслы. К черту бумагу. К черту «измы», как диффузионизм, так и изоляционизм. Окна настежь. Свежий воздух. Дождь и гром, и живая жизнь. Если бы рокочущее море вдруг заговорило. Одно несомненно: оно могло бы порассказать о никем не описанных древних плаваниях, которые вполне могли бы померяться с тщательно документированными плаваниями средневековья. Средние века были шагом вниз, а не вверх. Люди древности не были фигурками в игре. Их поразительные творения говорят о том, что они были динамичными, изобретательными, любознательными, умными, отважными. Были сильнее, чем человек кнопочной эры, и больше него верили в свои идеалы, хотя им тоже были присущи честолюбие, любовь, ненависть, желания и страсти, заложенные в мозгу и сердце человека во все века, со времен Адама. Мореплаватели Древнего Египта выходили из Красного моря и посещали не только Месопотамию, но и более далекие азиатские страны. Выходя из устья Нила, они бороздили восточное Средиземноморье, собирали дань для фараона на далеких островах.
Народы Египта и народы Месопотамии, близкие друг к другу, хотя и говорили на разных языках и пользовались разными письменами, взрастили мореплавателей, которые своим искусством не уступали их зодчим. И на далеких островах, служивших трамплинами в их движении на север и на запад, рождались морские цивилизации, тоже со своим языком и своей письменностью. Мы не знаем, когда на эти острова впервые проникло египетское влияние, знаем лишь, что постепенно место египтян заняли финикийцы. Нам мало что известно о происхождении финикийцев и о том, какие суда они строили первоначально. Их ближайшие соседи на востоке и на юге искони пользовались лодками из папируса и камыша. И на западе тоже: на древнем критском кольце выгравировано изображение серповидной камышовой лодки с поперечной вязкой, мачтой и каютой. Из финикийских вод культура распространилась за Гибралтар. До Ликсуса, где еще долго жили лодки из камыша. Никто не сможет восстановить пути всех этих судов и реконструировать взаимосвязи этих разнохарактерных цивилизаций, таких своеобразных, несмотря на тесную связь, частично основанных на более древней местной культуре и развивавшихся в различной географической среде, при господстве разных династий. Кто сумеет установить, какие именно моряки доставили кувшин с золотыми и медными средиземноморскими монетами IV века до нашей эры на остров Корво в Азорском архипелаге, откуда до Северной Америки ближе, чем до Гибралтара? В поисках богатства или нового пристанища тысячи кораблей выходили в древности из родных портов, и никто на борту не вел судового журнала.
Придворные художники увековечили великую морскую экспедицию царицы Хатшепсут через Красное море в Пунт, но только случайно древний географ Эратосфен записал расстояние между далеким Цейлоном и рекой Ганг, выразив его в количестве дневных переходов на обыкновенных папирусных ладьях с египетской оснасткой. Никто не воздвигал храмов в честь этих мореплавателей. Лишь когда правитель Ханно лично вышел через Гибралтар в V веке до нашей эры на шестидесяти кораблях с добрым запасом провианта и с тысячами финикийских переселенцев обоего пола, это событие было запечатлено на стеле, воздвигнутой в его честь в Карфагене. И однако из надписи явствует, что Ханно не был первопроходцем, ведь на четвертый день после прохождения Гибралтара его флот подошел к мегалитическому городу Ликсус, где он взял на борт местных лоцманов, которые знали берега и названия всех мысов на расстоянии 28 дней пути дальше на юг. Забрав провизию еще на два месяца, Ханно повернул назад лишь после того, как его многонациональная экспедиция прошла далеко вниз вдоль изобилующего реками лесистого побережья Экваториальной Западной Африки.
На стеле Ханно, как записали потом греки, о жителях Ликсуса говорилось как об иностранцах, и экспедиция задержалась здесь достаточно долго, чтобы наладить дружбу и получить совет. Эти древние мореплаватели великолепно умели устанавливать плодотворные контакты даже с враждебными первобытными народами. По их собственным свидетельствам, они всегда помещали на берегу какой-нибудь заманчивый дар для местных племен, залог дружбы, и лишь после этого отваживались покинуть корабли. Древние превосходно понимали пользу международного сотрудничества при путешествии в чужие страны, и это в полной мере относится к египтянам и финикийцам. И нет ничего удивительного в том, что египтяне и финикийцы сообща совершили первое исторически зафиксированное плавание вокруг Африки, лет за 200 до того, как тщательно подготовленная Ханно экспедиция переселенцев отправилась вдоль уже изведанного западного побережья. Как известно, организованная по велению фараона Неко около 600 года до нашей эры экспедиция вокруг Африки была египетской затеей, но с использованием финикийских кораблей и моряков. В этом трехлетнем плавании не участвовали никакие правители, поэтому его история не запечатлена ни на стелах, ни в гробницах. Это чистый случай, что Геродот, странствуя в V веке до нашей эры у финикийских берегов, в Месопотамии и Египте перед написанием своей знаменитой всемирной истории, сделал запись и об этом событии.
Какая культура могла развиться среди первобытных лесных охотников по ту сторону Атлантики, если бы туда прибило такую смешанную экспедицию из исследователей и переселенцев? Что-нибудь совершенно новое и в то же время очень похожее, с местным колоритом?
Эта нелепая карта с мертвой синью отодвигает Мексику от Марокко на века и тысячелетия, а ведь на самом деле их разделяет всего несколько недель пути. Даже не успеешь выспаться как следует, будь ты обезьяна, утка или какой-нибудь другой пассажир. Секунды в масштабе истории. Конечно, народы Америки не видели дощатых кораблей до прихода Колумба. Но народы Марокко, всего Средиземноморья и Месопотамии видели лодки из папируса и камыша, подобные тем, что сохранились в Америке. Я произвел лишь робкий эксперимент, построил две лодки с помощью горстки озерных жителей и за четыре месяца прошел 6 тысяч миль, причем при второй попытке достиг Америки. А построй мы сотню «Ра», мы могли бы, подобно Ханно, научиться спокойно ходить в оба конца мимо грозного мыса Юби. Но до тех пор сколько раз мы рисковали остаться со сломанными веслами и благодаря им очутиться в Америке? И одно небо знает, какую культуру стал бы насаждать смешанный экипаж «Ра»! Я закрыл окно. Взял карандаш и записал:
Я по-прежнему не знаю. У меня нет никакой гипотезы сверх того, что лодки из камыша и папируса вполне мореходны, а Атлантический океан работает как эскалатор. Но отныне я буду считать почти чудом, если из множества древних мореплавателей, которые тысячелетиями ходили в этих водах, никто не ломал руля в районе Ликсуса и не сбивался с курса, стараясь избежать крушения на опасных банках у мыса Юби. Что помогло нам совершить дрейф в Америку – беспрецедентное неумение обращаться с рангоутом или беспрецедентное умение сидеть на папирусе?
Вот моя гипотеза на этот счет: может быть, мы преуспели потому, что плыли в океане, а не на карте.
Классика путешествий и открытий
Среди современных нам ученых-первооткрывателей и путешественников вряд ли можно назвать человека, имя которого было бы более известно миллионам читателей, нежели имя Тура Хейердала.
Это объясняется и его личными человеческими качествами, и его особым талантом доступно, увлекательно и искренне довести до широкого читателя сущность своих научных идей и ход своих смелых экспедиций и полевых исследований, призванных подтвердить его гипотезы.
С чего же все началось? Как пришел Тур Хейердал к убеждению о связи древних обитателей Перу с Полинезией и затем посвятил десятилетия изучению и доказательствам трансокеанских миграций и культурных контактов?
В предисловии к русскому изданию своей первой книги, «В поисках рая», Хейердал писал:
«Я провел год на полинезийском острове, пытаясь жить, как жили первобытные люди, и не подозревал, что мои наблюдения и опыт заставят меня переключиться на совсем другую область науки и десять лет спустя я снова попаду в Полинезию уже на бальсовом плоту из Южной Америки»
[161].
Но хотя в увлекательной повести о бегстве двух молодых людей – Хейердала и его жены – из современной цивилизации к первобытности почти нет и намека на связь далекой Америки с Маркизскими островами, именно здесь впервые им овладела эта мысль.
Древние сказания стариков острова Фату-Хива о прошлом своего народа невольно перекликались с преданиями Перу, а найденные Хейердалами изваяния напоминали древние американские скульптуры.
Но само свадебное путешествие в первобытность никак не было вызвано подобными размышлениями. Как, впрочем, и зоологические изыскания 23-летнего студента были лишь официальным обоснованием поездки. На маленький остров Фату-Хива Хейердала привела романтическая мечта «расстаться с современностью, с цивилизацией, с культурой. Сделать прыжок на тысячи лет назад. Познать жизнь первобытного человека. Познать истинную жизнь во всей ее простоте и полноте.
Нелегко определить все причины, вызвавшие у Хейердала желание бежать от цивилизации.
Арнольд Якоби, друг и биограф Хейердала, отмечает критическое отношение молодого Тура к современному обществу, убежденность, что мир болен и болезнь неизбежно приведет к нарыву, который лопнет, к новой войне, которая будет страшней всех предыдущих. Тур был убежден, что люди совершенствуют только технику, а сами при этом не становятся лучше.
Эта мысль после первой мировой войны значительно распространилась. Протест против «машинного прогресса» принимал различные формы. Одни трактовали его как антисоциальное явление, другие теологически противопоставляли христианско-духовные ценности убивающему их техническому прогрессу. Некоторые, глядя на мир, где господствуют магнаты монополистической индустрии, мечтали о возврате к мелкому производству
[162]. Так различные социальные группы психологически воспринимали кризис системы, не видя и не понимая выхода из создавшегося положения революционным путем.
Однако для Хейердала, как нам кажется, бегство к девственной природе и первобытности было подготовлено его представлением об отношении человека к природе, глубокой любовью к ней большим интересом к дальним странам и народам, населяющим «дикие» районы, то есть качествами, которые складывались у него с раннего детства. Еще маленьким мальчиком он мечтал: «Когда я вырасту, буду сам себе хозяин, буду делать все, что захочу, и уеду к пальмам и негритятам». Сохранился рисунок семилетнего Тура его будущего дома-хижины на сваях среди экзотической тропической природы.
Тур Хейердал родился 6 октября 1914 года в маленьком городке Ларвик у входа в Осло-фиорд. Он был единственным ребенком богатой и уже немолодой четы. Его мать до этого была дважды замужем и имела одного ребенка от первого брака и трех от второго. Отец также был уже один раз женат и имел троих детей. Однако дома Тур рос в обществе взрослых, под влиянием своей матери, образованной женщины, убежденной дарвинистки, решительно порвавшей с религией. Она развивала и укрепляла его любовь к природе и окружающему миру. Ему дарили игрушечных зверей, изображения доисторических животных, книги о путешествиях и народах.
Туру было пять лет, когда мать впервые повела его в зоологический музей. А в семь лет собственные коллекции Хейердала уже не помещались в его комнате, и он устраивает свой «зоомузей», а затем аквариум и террариум. Он читал и запоминал все, что его интересовало из жизни природы и человека, не признавая стихов и беллетристики. Во время болезни в постели он изучал «человеческие расы». В школе застенчивый ученик-середняк поражал учителей естествознания своими глубокими знаниями. Будущую профессию, зоологию, он выбрал в раннем детстве.
Любовь к природе, длительные экспедиции в горы, лыжи закалили неловкого и избалованного мальчика, панически боявшегося плавать после двух случаев, когда он в детстве тонул. Упорно и целеустремленно Хейердал воспитывал в себе «настоящего мужчину», сильного, выносливого, не боящегося трудностей.
Уже в старшем классе школы он начинает размышлять о неустройстве современного мира, его тянет к простой первобытной жизни, которую можно было испытать лишь на отдаленном, почти необитаемом острове, где нет европейцев.
На зоологическом факультете, куда он поступил, его разочаровало кабинетное обучение, оторванное от природной среды. Признавая важность научной методики, необходимость микроскопии и анатомии, он считал, что «надо больше заниматься географическим распространением и повадками животных». Он мечтал изучать живое единство природы, связи между живыми организмами и средой. Это тоже толкало его на бегство в первобытность, к природе.
Эксперимент на Фату-Хиве показал Хейердалу невозможность осуществления его романтической мечты. Но впечатления от местного фольклора, древних изваяний, возникшие аналогии определили решительный перелом в его жизни и интересах. Вернувшись на родину, он со страстью и целеустремленностью приступает к изучению всех доступных материалов по Полинезии и древним американским культурам.
При первой же возможности Тур с женой отправляется в Северную Америку. Но здесь его застает вторая мировая война. Тяжелые испытания и почти нищета на чужбине в первые годы войны, участие в военных действиях добровольцем в последние ее годы – все это прервало его сосредоточенные исследования. Но после войны он с удвоенным рвением возвращается к ним. Огромный материал, прочитанный и изученный на месте, приводит его к убеждению о существовавших в древности связях между Южной Америкой и Полинезией, мысли о которых родились на Фату-Хиве. Так возникла идея экспедиции на плоту из Перу в Полинезию.
С затаенным дыханием повсюду следили за движением бальсового плота со смельчаками по бурным просторам Тихого океана. В 1948 году появилась книга «Экспедиция “Кон-Тики”». Она была опубликована на Западе более чем на 50 языках в количестве 2,5 миллиона экземпляров. В нашей стране на ряде языков «Кон-Тики» выдержала свыше 20 изданий общим тиражом более одного миллиона.
После «Кон-Тики» советский читатель познакомился с первой книгой Хейердала «В поисках рая»
[163] и повестью о научной экспедиции на остров Пасхи – «Аку-Аку»
[164]. Наконец, русский перевод сборника научных статей Тура Хейердала «Приключения одной теории»
[165] сделал доступной для широкого читателя теоретическую основу его положений.
И вот сейчас вместе с «Кон-Тики» появляется в русском переводе новая и пока последняя повесть – об экспедиции через Атлантику на папирусной лодке «Ра». Повесть не менее увлекательная, чем «Кон-Тики».
Читателя «Кон-Тики» пленял не только подвиг смельчаков. Он невольно подпадал под обаяние личности автора – замечательного человека с огромным кругом интересов и знаний. Страстная убежденность Тура Хейердала заставляла верить в его научные идеи, для подтверждения которых была предпринята экспедиция. Верить, несмотря на то, что в книге его гипотеза была изложена схематично, кратко и не подкреплялась даже теми солидными аргументами, которые уже были собраны им в то время. Первое научное обоснование своей гипотезы Хейердал изложил в рукописи «Полинезия и Америка» еще до своей экспедиции на «Кон-Тики».
Тем не менее специалисты обрушились на «Кон-Тики», вовсе не претендовавшую на изложение и обоснование миграционной теории Хейердала. Это заставило автора снабдить последующее издание книги «Экспедиция “Кон-Тики”» послесловием, где он подчеркивал: «Успешный результат экспедиции на “Кон-Тики” не доказал правильности моей миграционной теории, как таковой. Мы доказали лишь, что южноамериканский бальсовый плот обладает качествами, о которых современные учение раньше не знали, и что Тихоокеанские острова расположены в пределах досягаемости для доисторических судов, отплывавших из Перу»
[166].
Нельзя было отрицать факт, что бальсовый плот достиг Полинезии, хотя Хейердал и его спутники не владели древней техникой управления плотами при помощи выдвижных килей – гуар. Но противников Хейердала подобное, как они утверждали, чисто спортивное достижение не могло заставить отказаться от господствующей теории заселения Полинезии, выдвинутой известным знатоком Полинезии полуирландцем-полумаори Питером Баком (Те Ранги Хироа) и изложенной в его блестяще написанной работе «Мореплаватели солнечного восхода».
Выступая в 1964 году в Лондоне, в Королевском Географическом обществе Тур Хейердал говорил в связи с награждением его медалью Общества: «Сочетание одобрения и противодействия – вот главный двигатель научного поиска. Одобрение – желанная награда, противодействие – вызов, не позволяющий успокоиться... Противодействие, возражения, а иногда и поражения необходимы, чтобы идти к научной истине, расширять пределы человеческого знания».
«Противодействий-вызовов» выпало на долю ученого более чем достаточно. Ему пришлось встретить широкий фронт противников, в котором объединились признанные этнографы, ботаники, археологи.
Тур Хейердал засел за подготовку аргументированного научного обоснования своей теории, расширяя и перерабатывая рукопись, написанную до экспедиции.
В 1952 году вышел его монументальный труд «Американские индейцы на Тихом океане. Теоретические предпосылки экспедиции “Кон-Тики”»
[167], где были систематизированы и обобщены исторические, географические, ботанические и другие свидетельства и доказательства, тщательно разобраны возражения противников. Но и после выхода в свет этого научного труда резкая критика его теории не прекратилась.
Однако теперь уже трудно было относиться к автору, как к «недоучившемуся студенту», «авантюристу» и т.д. После выхода научного труда Хейердала резко изменилось отношение если не к его теории, то к нему самому многих крупных ученых. Известный, французский этнограф Альфред Метро, выступавший до того с резкой критикой против него и не допускавший, в частности, возможности какого-либо сходства между изваяниями на острове Пасхи и древними статуями Перу, писал: «Хейердал, ставший одним из самых популярных героев нашего времени, теперь привлекает внимание публики новым достижением. Этот исследователь, вполне заслуживающий славы, которой он пользуется, был вправе обижаться на презрение, выпавшее на его долю. Он смиренно просил не выносить приговора, пока не опубликован труд, где он собирался представить свои идеи, подкрепленные документами. Он исполнил свое обещание. Всякий, кто откроет этот труд, занимающий 821 страницу, невольно будет поражен таким обилием познаний. Не подготовь нас Тур Хейердал заранее к этому труду, естественно было бы спросить, как мог один человек в такой короткий срок прочесть столько трудов, сделать выписки и представить итог исследования в виде подлинного свода фактов из области этнографии,
археологии, лингвистики, ботаники, географии и истории. Мало кому под силу такой подвиг».
Сейчас, когда советскому читателю уже хорошо известна история жизни и научной борьбы Хейердала, написанная Арнольдом Якоби, нет необходимости излагать сложный путь новатора от критики и насмешек к постепенному признанию его как ученого.
Вместе с биографом читатель может проследить неутомимый исследовательский труд ученого, мобилизацию все новых аргументов и доказательств в защиту своих положений. В послесловиях советских ученых Г. И. Анохина к книге Якоби
[168] и В. М. Бахты к сборнику научных статей Тура Хейердала
[169] читатель также найдет краткое изложение этапов нелегкого научного пути норвежского исследователя.
Хотелось бы лишь подчеркнуть одну особенность научной борьбы Хейердала:
критике своих противников он неуклонно стремится противопоставить новые фактические доказательства.
Ради этого он предпринимает сложные полевые работы – экспедиции на отдаленные острова, вновь изучает остатки древних культур Америки.
В результате организованной Хейердалом экспедиции с участием археологов на Галапагосские острова было доказано, что задолго до европейцев сюда неоднократно доходили древние обитатели Америки. Были обнаружены их стоянки в удобных местах для причаливания плотов и лодок. Специалисты изучили собранные экспедицией черепки и установили их американское происхождение. Были найдены, в частности, остатки полихромной керамики, относящейся к доинкскому периоду. В 1956 году результаты экспедиции были опубликованы
[170]. Археологические свидетельства убедительно подтвердили доиспанские плавания на Галапагосские острова.
После тщательных полевых работ по изучению древнего доинкского центра культуры Тиауанако в районе озера Титикака и доинкских сооружений и каменных скульптур Хейердал организует археологическую экспедицию на остров Пасхи.
Впервые проведенное стратиграфическое исследование обнаружило несколько культурных и этнических слоев, отодвинуло по крайней мере на тысячу лет предполагавшееся время первоначального заселения острова человеком. Были опровергнуты представления о том, что остров Пасхи с древнейших пор лишен растительности и что именно отсутствие дерева побудило заселивших его полинезийцев перейти к изготовлению каменных изваяний.
Добытые Хейердалом рукописи открыли новый этап в историческом объяснении и толковании загадочной письменности острова Пасхи – ронго-ронго.
Именно глубокий анализ фактов – одна из причин убедительности аргументов Хейердала.
Вторая причина – это подход к решению поставленной проблемы с позиций компетентного использования и обобщений данных и аргументов различных наук.
В наше время жизнь убедительно подтверждает, что крупные научные открытия совершаются на стыках различных наук. Их дифференциация и растущая специализация лишь все более настоятельно требуют кооперации. И тем не менее часто узкие специалисты встречают в штыки всякую попытку «непосвященного» вторгнуться в заповедник их специальности.
Однако, научные исследования Хейердала убедительно показали, что он обладает необходимыми данными и эрудицией, чтобы сопоставлять и объединять материал различных наук и смело выносить свои выводы на суд различных специалистов.
После экспедиции «Кон-Тики» не было почти ни одного конгресса американистов, ни одного международного конгресса антропологов и этнографов, на котором Хейердал не выступал бы с обоснованием того или иного аспекта своей гипотезы.
Пишущему эти строки впервые довелось встретить Тура Хейердала на X Тихоокеанском конгрессе в Гонолулу в августе 1961 года. Этот конгресс явился, пожалуй, первым его крупным успехом на международном собрании ученых, примечательным еще и потому, что Тихоокеанские конгрессы в отличие от специализированных конгрессов, подобных антропологическим, объединяют в своих секциях и симпозиумах ученых всех областей естественных и гуманитарных наук. И тут сказалось влияние идей Хейердала в различных секциях и симпозиумах. А принятая конгрессом резолюция явилась признанием не только его научного вклада в исследование Полинезии, но и его точки зрения о заселении также из Америки.
За 20 лет, прошедших со времени экспедиции «Кон-Тики», многие идеи Хейердала, подкрепленные дальнейшими исследованиями, получили признание. Что же толкнуло его на новый сенсационный рейс, на этот раз через Атлантику на папирусной лодке?
Сравнивая свои два путешествия, Хейердал пишет, что перед экспедицией из Перу у него «была гипотеза, были веские данные и логический вывод. Теперь нет ни того, ни другого, ни третьего».
Предусмотрительно он предупреждает: «Я вовсе не предполагаю, что египтяне принесли свою культуру на далекие острова или континенты. Многие считают, что задолго до Колумба древние египтяне достигали тропической Америки. Я такой гипотезы не выдвигаю, у меня нет свидетельств ни за, ни против. Я увлечен проблемой, но не вижу убедительного ответа».
Научная добросовестность Хейердала не позволяет ему выдвигать положение, которое он не может подтвердить бесспорными доказательствами. Но каждый, кто внимательно прочитает «Ра» и ознакомится с разбросанными в других работах мыслями Хейердала и возникшими у него аналогиями, невольно приходит к выводу, что в глубине души он допускает и верит в существование в древности хотя бы односторонних контактов между Африкой и Месоамерикой.
Переход Атлантики на папирусной лодке для нас, конечно, не просто экспериментальное доказательство мореходности этого судна.
Тур Хейердал уже давно был знаком с лодками из камыша тоторы. Он тщательно изучал их использование в наши дни. Он наблюдал их на острове Пасхи и доказал, что камыш тотора был завезен в древности мореплавателями из Америки. Хейердал пишет, что, готовя свою первую экспедицию, он имел небольшой выбор древних морских судов империи инков: бальсовый плот, камышовую лодку и понтоны из связанных бурдюков – надутых тюленьих шкур. Надувные понтоны для длительного перехода им были отвергнуты сразу. Бальсовый плот казался более солидным. Экспедиция и дальнейшие изыскания Хейердала убедили, что плот мог явиться мореходным средством, принесшим древних мореплавателей и их культуру в Полинезию. С точки зрения доказательств миграционной гипотезы Хейердала уже несущественно – совершались или нет плавания древних перуанцев в Полинезию не только на бальсовых плотах, но и на камышовых ладьях.
Другое дело – мореходные связи между Африкой и тропической Америкой. Бальсовых плотов в Африке не построишь. Следовательно, остается ладья из папируса. Доказанная возможность перехода через Атлантику на папирусном судне открывает реальный путь, по которому могли достигнуть Америки выходцы из Старого Света.
Книга «Ра» – описание экспериментального доказательства этой возможности, обладающая такой же притягательной силой, как «Кон-Тики». В этой работе вновь ярко отражены характерные черты автора как ученого, вдумчивого организатора научных экспедиций и замечательного человека.
Его идеи, кажущиеся сперва фантастическими – это результат аналогий и обобщений, выявленных в процессе многолетней работы. Способность удерживать в памяти все виденное, прочитанное, поразившее в природе, в древних памятниках, в искусстве и фольклоре, несомненно, облегчает возникновение плодотворных ассоциаций. Сила его сравнительного анализа в равной мере сказывается, когда он рассматривает явления природы и творения человека. И каждый раз Хейердал стремится проверить эти ассоциации, вновь сопоставляя и изучая лежащие в их основе явления.
В считанные дни, оставшиеся до прибытия лодочных мастеров в Каир, он переносится из страны в страну, комплектует команду для будущей «Ра», договаривается с У Таном о поднятии на папирусном судне флага ООН и умудряется вновь попасть на озера Титикака. Ему надо проверить свои догадки, касающиеся лодок из тоторы и папируса. Он летит к пирамидам Перу и Мексики, чтобы освежить свои впечатления. «После увиденного мной неделю назад нельзя было не поражаться сходству здешних пирамид с древнейшими египетскими», – отмечает Хейердал.
Сочетание острой догадливости и наблюдений позволило Хейердалу опровергнуть утверждение специалистов, будто бальсовый плот в короткий срок теряет свою плавучесть, понять, как древние мореплаватели предотвращали эту опасность.
Это же свойство ученого помогло ему понять, почему современный папирусный кадай, применяемый для плавания по озеру Чад, как и камышовые лодки Титикаки, не требует постоянной просушки, понять, что восстановление древней конструкции папирусной ладьи вернет ей ее прежние мореходные качества. Как и с бальсовым плотом, Хейердал смог стерва теоретически опровергнуть утверждение специалистов о невозможности мореплавания на судах из папируса, а затем и доказать его мореходные качества своей экспедицией.
В книге «Ра» вновь выступают научно-организационные способности Хейердала, всегда поражавшие его спутников и сотрудников, будь то подготовка «Кон-Тики» или экспедиция на остров Пасхи.
Нужна большая целеустремленность, организованность и энергия, чтобы преодолеть все препятствия, свести вместе строителей лодок из племени будума, папирус из Эфиопии и создать судно по древним изображениям на каменных стенах гробницы фараона.
И прежде чем «Ра» отчалит в дальний путь через океан, перед читателем развернется увлекательная повесть о поисках камышовых лодок, строителей, папирусного сырья и т.д. Повесть, насыщенная талантливым описанием первобытной природы, людей, быта и сохранившихся древних обычаев.
Как и в прежних книгах, в этом произведении выступает Хейердал-человек. Его глубокая вера в интернациональность людей и их возможности – результат не только собственного восприятия мира, больших знаний, но и контактов с самыми различными народами и племенами разных рас и разного уровня социального развития. Она органична. В предисловии к советскому изданию «В поисках рая» Хейердал писал: «Один из самых полезных уроков, которые мне преподала жизнь, заключается в том, что человек остается человеком, будь он норвежец, полинезиец, американец, итальянец или русский, когда и где бы он ни жил – в каменном или атомном веке, под пальмами или у кромки ледника. Добро и зло, отвага и страх, ум и глупость не признают географических границ, они есть в каждом человеке... Все мы люди, об этом надо помнить и стремиться к дружбе, взаимопониманию и сотрудничеству, чтобы человечество могло выжить на нашей маленькой планете, исправляя все, что было испорчено в веках из-за недостатка знаний и уважения к ближнему»
[171].
И это человеческое уважение, подлинный демократизм, очевидно, чувствуют в Хейердале люди, отделенные от него, казалось бы, непреодолимыми барьерами языка, психологии, многовекового разрыва с современным уровнем развития человеческого общества.
Поражает та простота и легкость, с какой устанавливались близкие контакты между молодым Хейердалом и местным населением еще во время его первого путешествия («В поисках рая»). И в дальнейших его экспедициях и полевых работах способность как-то естественно завоевать доверие открывает ему, в нарушение всяких табу, путь к сокровенным тайнам древних обычаев, к ритуалам и священным гробницам, заставляет хранителей и владельцев древних реликвий уступать их Хейердалу.
Со всем этим мы опять встречаемся в «Ра», читая страницы, посвященные подготовке экспедиции. Так же как старики на острове Пасхи высекали для Тура Хейердала каменными орудиями копии древних статуй и поднимали на платформу поверженных исполинов, старики на африканской реке связывают для него по старым, почти забытым канонам камышовую лодку.
Философский взгляд Хейердала на единство человека и природы, единство людей во времени и пространстве приводит его к глубокому убеждению в необходимости совместных усилий народов для сохранения мира и спасения человечества. «Сама жизнь, – пишет Хейердал, – говорила о том, как важны любые, даже самые скромные попытки наладить сотрудничество между народами». Составляя команду «Ра», он стремился объединить на тесной ладье представителей различных народов, различных идеологических концепций. «Мне хотелось собрать вместе столько наций, сколько позволит площадь». Европеоиды и негроид с озера Чад. Египтянин и мексиканец как символ экспедиции, призванной подтвердить возможность контакта между древними цивилизациями Африки и Америки. По одному человеку из США и СССР, чтобы были представлены идеологические контрасты.
Так был составлен экипаж «Ра» из семи человек. Этнографический эксперимент становился своеобразным социальным. «Я задумал плавание как эксперимент, как научную экспедицию в далекое прошлое древних культур. Но этот эксперимент вполне мог сочетаться с другим – с экспедицией в тесный перенаселенный мир завтрашнего дня... Нам надо научиться сотрудничать, если мы не хотим пойти ко дну с нашим общим грузом».
Надо признать, что перенаселенная «Ра» с честью выдержала испытания, надо отдать должное Хейердалу – его человеческим качествам, его такту и находчивости не только в моменты, грозившие гибелью, но и в спокойные дни плавания. Его умение разрядить пусть незначительные конфликты, неизбежные при длительном пребывании в предельно тесном пространстве перегруженной лодки и крохотной каюты, несомненно сыграли огромную роль в сплочении участников плавания «Ра» в дружный коллектив.
Видимо, каждый согласится, что только личное обаяние Тура Хейердала, отношение к нему его спутников могло подвигнуть их на повторение трудного и опасного рейса в столь короткий срок.
Для Хейердала организация этой второй экспедиции чрезвычайно характерна. Казалось бы, первое плавание, хотя и кончилось уходом с развалившейся «Ра», достаточно убедительно доказало возможность мореходства между Африкой и Америкой.
Но ему этого мало. И к тому же он должен был исправить ошибки строителей папирусной лодки и команды и показать древнее средство связи в его подлинных возможностях. Впрочем, так же он совершенствовал технику управления бальсовым плотом после экспедиции «Кон-Тики». Очень удачно, что в этом томе читатель познакомится, пусть более кратко, и с экспедицией на «Ра II».
Можно не сомневаться, что «Ра», как и другие произведения Хейердала, займет свое место среди классики путешествий и открытий, станет одним из лучших ее образцов.
Думается также, что откроется и новая страница в исследованиях контактов между древним «старым» и древним «новым» светом.
Александр Губер
В ПОГОНЕ ЗА ОДИНОМ
По следам нашего прошлого
Последний поход великого искателя
(предисловие к русскому изданию)
Много ли найдется читателей, никогда не слышавших о главном авторе этой книги? Много ли на свете стран, где бы не издавались описания его путешествий? Если и есть такие, то число их день ото дня убывает. Соотечественники уже объявили Тура Хейердала (06.10.1914 — 18.04.2002) самым знаменитым норвежцем XX в. А он гордился родиной и считал себя гражданином Мира, посвящая жизнь идее исторического и культурного единства человечества.
Тезка древнегерманского бога-громовержца Тора, Тур Хейердал приобрел мировую известность в 1947 г., совершив на бальсовом плоту «Кон-Тики» путешествие из Южной Америки в Полинезию. Потом были папирусные лодки «Ра» и «Ра-2», пересекшие Атлантику, и тростниковый «Тигрис», покоривший Индийский океан. Были раскопки в Перу, на острове Пасхи, на Канарских, Мальдивских и Галапагосских островах, экспедиции в страны Африки, Азии, Южной Америки… Тур Хейердал взялся доказать, что Мировой океан не разделял, а связывал цивилизации, созданные на разных континентах. Он заново осваивал пути древних мореплавателей и восстанавливал технологии корабелов, ваятелей, зодчих. Он сделал собственную жизнь ставкой в научных спорах и неизменно выходил победителем, открывая беспредельные возможности человека и отказываясь делить народы на «примитивные» и «культурные».
Ему приписывали возрождение диффузионизма, объяснявшего распространение культурных явлений через контакты между народами. Его реальные заслуги связаны с достижениями экспериментальной истории и антропологии. Исторический эксперимент, как исследовательский метод, известен с начала XVIII в., но лишь Т. Хейердал вывел его за пределы узкоспециальных (чаще археологических) реконструкций на простор масштабных историко-культурных проектов. Все гипотезы, реконструкции и теории Т. Хейердала объединены простой и грандиозной сверхзадачей — попыткой преодолеть мозаичность описания мира, в котором мы живем. Желая вернуть научному знанию многомерную полноту, он настаивал на тесном сотрудничестве ученых разных специальностей, а в свободе от политических и иных пристрастий видел путь к взаимопониманию между людьми. Все экспедиции Т. Хейердала были организованы как интернациональные и междисциплинарные сообщества.
Легко ориентируясь в пространстве и времени, этот удивительный человек относился к всемирной истории, как к собственной биографии. Большая часть его жизни прошла вдали от родных фьордов, а образы воинственных скандинавских мореплавателей древности всегда сопутствовали ему в смелых проектах, помогая доказать его идею трансокеанских связей человечества на заре возникновения цивилизации. Т. Хейердалу исполнилось 86 лет, когда он наконец принялся осуществлять давнюю мечту. Должно быть, ученый викинг решил, что откладывать больше нельзя. Может быть, чувствовал, что Один назначил ему последний поход.
Эта книга, в которой описаны поиски прародины Одина, так же отлична от множества других книг, как не был похож на остальных сам Тур Хейердал — неугомонный исследователь и путешественник, писатель и мудрец. Кто же еще мог отправиться в Россию, чтобы найти родину верховного бога древних германцев, указанную Снорри Стурлусоном (1178–1241), великим собирателем скандинавских древностей? Сама идея впервые высказана Т. Хейердалом в 1978 г., но тогда экспедиция не могла состояться: его книги издавали в СССР, но не забывали упрекнуть в несоответствии «ленинским принципам». «Я и не знал, что товарищ Ленин был антропологом», — гордо отвечал Т. Хейердал и ждал своего часа. Добравшись до Приазовья и Кавказа уже в самом конце века, он лишь посетует: «…Нашу неосведомленность можно объяснить как присущей нашему времени узкой географической специализацией, так и длительной политической изоляцией Кавказа».
Соавтор Т. Хейердала, его товарищ по экспедиции в Азов — известный шведский историк и писатель Пер Лиллиестрём. Вся книга построена как равноправный диалог, в котором знания и опыт историка убедительно подтверждают географические, естественнонаучные, археологические, культурологические и даже лингвистические аргументы исследователя-антрополога. Собеседники не скованы академическими формальностями, но всегда подчеркнуто корректны, называя источник информации, имя автора открытия или гипотезы. Если речь идет о не знакомых им областях науки, слово предоставляется коллегам.
У Т. Хейердала нет ни случайных, ни малоинтересных текстов, но книга об Одине претендует стать самой близкой по теме и самой захватывающей по изложению для российского читателя. И дело даже не в том, что интрига повествования — в гипотезе о южнороссийском происхождении германских богов-асов, которые, по мнению Т. Хейердала, ушли на Север и стали там обожествленной дружиной исторических асов — реального народа, известного в древности и Средневековье. Куда важнее широта привлекаемых фактов (от географии до музыки) и приглашение к открытой дискуссии, которая будит мысль и подчеркивает евразийские масштабы отечественной истории, ее наднациональные, консолидирующие традиции и абсолютную неразрывность этнокультурных связей народов России и Европы, России и Азии.
Комментарий к изложенным в книге фактам и предположениям мог бы составить пухлый том. Объемными оказались бы и дополнительные сведения по истории южнорусских степей и Кавказа, публиковавшиеся преимущественно на русском языке, они остались недоступны авторам. Однако в подробных комментариях нет нужды: диалог Т. Хейердала и П. Лиллиестрёма — не научный трактат, а свободное изложение и обсуждение идей, к участию в котором приглашен читатель. Историко-археологические результаты Азовской экспедиции будут опубликованы в трудах ее российских участников, упоминаемых в книге с особым уважением и надеждой. Специалисты продолжат исследование германской мифологии и эпоса, германо-аланских и германо-славянских контактов. Здесь же не обойтись без минимально необходимого ориентира в перечне упоминаемых предков и потомков народа асов с их не всегда совпадающими названиями. Полезно привести и существующие в науке мнения о возможной связи исторических и мифологических асов и названия книг, в которых внимательный читатель отыщет нужную информацию.
Итак, «асы» (в славянском и венгерском «ясы») — это одно из названий народа алан, сложившегося на рубеже новой эры как конфедерация родственных скифо-сарматских племен во главе с воинственным союзом, вышедшим из степей Центральной Азии. Политически история скифов, сарматов, асов-алан может быть представлена и как последовательные этапы истории так называемых северных иранцев — особой ветви индоиранцев (ариев), занимавших в 1-м — начале 2-го тыс. южные районы нашей страны. «Алан» — закономерная скифо-сарматская форма древнеиранского самоназвания «aryana» («арии», «арийские»), происхождение имени «ас» не ясно
[172]. Нашествия монголов и Тамерлана свели средневековую Асию-Аланию к небольшой территории на Центральном Кавказе. С возобновлением русско-аланских отношений в середине XVIII в. в русском языке взамен забытого славянского имени «ясы» закрепился грузинский вариант названия страны и народа — «Осети» (от «оси» — «асы-аланы»). Из русского языка слова «Осетия» и «осетины» попали и в другие европейские языки. Существует обширная отечественная литература об асах-аланах
[173].
Блестящий русский историк американского происхождения Георгий Вернадский, говоря об Азовском регионе в раннем Средневековье, отмечал сложность четкой дифференциации асо-славян (антов) от асо-иранцев (алан, осетин). По его убеждению, название «Русь», привнесенное пришельцами из Скандинавии и ставшее обозначением славянского народа и государства, первоначально было именем сильнейшего аланского клана «рухс-ас» («светлые аланы»)
[174].
Известный итальянский историк Франко Кардини, описавший скифо-сарматское влияние на сферу мифологии и концептуальной религиозности германцев, ставит проблему прародины Одина в широкий контекст культурных заимствований, которыми германцы обязаны народам, жившим в Понтийском регионе между Дунаем и Кавказом: «Источники, откуда можно почерпнуть основные сведения о происхождении Вотана-Одина, — это „Деяния данов“ Саксона Грамматика и „Эдда“ Снорри Стурлусона. Они сходятся на двух фактах: Один обитает в той части света, которая находится на Юге, откуда он и совершил завоевание Севера, употребив все свое магическое искусство»
[175].
Выдающийся французский ученый Жорж Дюмезиль, убедительно доказав родство осетинской и скандинавской мифологии, оставил открытым вопрос о происхождении этой тесной связи, которую отнюдь нельзя свети к общему индоевропейскому наследию
[176]. Опираясь на изыскания исландского историка Барди Гудмундссона и норвежского рунолога Карла Марстрандера, крупнейший российский исследователь языка и культуры скифов-сарматов-алан Василий Абаев сделал вывод о посреднической роли германского племени герулов. Герулы, обитавшие у Азовского моря в соседстве с сарматами, затем участвовали вместе с норвежцами в заселении Исландии: «Этот „поток культуры“ между Черным морем и Скандинавией далеко еще не исследован во всех его аспектах, но его реальность не вызывает сомнения. Память о нем не угасала у скандинавов в течение многих веков. Знаменитый исландский знаток истории С. Стурлусон считал Донские степи родиной древнескандинавской культуры и древнескандинавских богов и был убежден, что именно там, у Азовского моря, находился легендарный город асов —
Asgard»
[177].
Норвежский лингвист Георг Моргенстьерне видит прямую связь имени богов асов с названием народа асов: «Находясь при дворах королей и вождей Норвегии и Западной Швеции, Снорри мог слышать от очевидцев, побывавших в Южной России, о существовании многочисленного народа асов, или ясов, в степях вокруг дельты Дона. Мы знаем, что асы были предками осетин, занимавших в то время обширную территорию в Южной России, где река Дон и поныне носит осетинское название. Что могло быть более естественным для Снорри, чем идентификация норвежского ass с этническим названием As? Это давало ему возможность объяснить имя и локализовать прародину Одина и его асов. Идя дальше в этом направлении, нельзя было не соблазниться и исправить Тана-квисл в Вана-квисл, делая тем самым возможным поместить ванов в непосредственном соседстве с асами. Таким любопытным образом древнее название осетин было использовано в далекой Исландии для объяснения происхождения нордического бога»
[178].
Словом, Т. Хейердал и П. Лиллиестрём не одиноки в своем путешествии по следам Одина. Конечно, их угол зрения — это взгляд с Севера, где многие сюжеты Юга пока неизвестны. Наверное, отсутствие амбиций и догматизма извиняет неточности. Наивные сопоставления имени Одина с этнонимами «удины», «утии», «будины» и титулом китайского императора Ву-ди; поиски асов в Азербайджане, чье название происходит от имени Атропата, сатрапа Дария III; образ Урарту как «хеттско-армянской цивилизации»; албанцы, переселившиеся с Кавказа на Балканы; слово «алан», означающее «воин» то ли в Иране, то ли у турок… — все это и многое другое не имеет отношения к реальности, оставаясь своеобразной «гимнастикой ума», формой предварительного освоения не известного на Севере пространства культуры. И пока поиски продолжаются, вряд ли есть другая популярная книга, в которой с такой же легкостью, любовью и знанием дела была бы представлена почти необъятная и столь разнообразная информации о Скандинавии и ее древних связях с народами нашей страны.
Тур Хейердал не считал свой последний поход оконченным. Его занимало нечто более важное, чем разница между верным ответом и заблуждением. Он думал и действовал так же, как когда-то суровые рыцари Одина: цель эпических походов — не личный успех, а достоинство и правда. «Мне не обязательно доказать, что я прав, — сказал он в Азове, — просто хочется узнать правду о том, каким был мир тысячи лет назад, откуда и куда двигались народы». Узнавать правду — достойнейшее из занятий, и приключения обязательно будут продолжены, потому что пример великого искателя — безупречная проекция воинской этики асов и викингов на ученые занятия потомков.
Руслан Бзаров, доктор исторических наук, профессор Северо-осетинскою государственного университета
* * *
Редакция исторической литературы издательства «Менеджер» представляет читателю новую книгу из серии «Мифы и герои». Перевод на русский язык и последующее издание книги «В погоне за Одином» известного норвежского исследователя и путешественника Тура Хейердала стали возможны благодаря спонсорской помощи Басати Вячеслава Борисовича. Он в очередной раз оказал издательству «Менеджер» финансовую поддержку, за что редакция исторической литературы издательства выражает ему искреннюю благодарность.
Благодаря содействию Вячеслава Борисовича ранее увидели свет такие значительные в научном, культурном и социальном отношении книги, как «Аланы в древних и средневековых письменных источниках» (авт. А. Алемань), «Артур — король драконов» (авт. Г. Рид), «От Скифии до Камелота» (авт. С. Литлтон и Л. Малкор). Редакция благодарит также Басати Бориса Бештауовича за дружескую поддержку в период подготовки книги к печати.
Редакция исторической литературы издательства «Менеджер»
Удивительные вещи
В мире много удивительных вещей, очень много. Но некоторые из них, более чем удивительные.
У женщины, открывшей нам дверь небольшого домика номер пять на улице Дзержинского, было достаточно причин для удивления, когда мой друг Сергей спросил ее, не разрешит ли она одному иностранцу из Норвегии вести раскопки в ее огороде.
Тихо и равномерно текла жизнь в маленьком южно-российском городе Азове, и ничего особенного там не происходило. Иностранцев эта женщина не встречала, разве что приезжал кто-нибудь, чтобы удостовериться в том, что знаменитая река Дон так же тиха, как и прежде, и несет свои воды в мелкое Азовское море, а оттуда в бесконечное Черное. Хозяйка только что засадила свой огород: от дома до соседского забора теснились грядки с зеленой рассадой клубники. Со стороны главной улицы забор участка был как раз такой высоты, что позволял прохожим, если встать на цыпочки, заглянуть за него и отпустить комплимент первым ландышам хозяйки.
Обитатели дома номер пять еще больше удивились, когда иностранец заплатил им за разрешение выкопать из земли клубнику и отдал ее соседке из дома номер девять. Так начались раскопки. Мы копали и просеивали землю, выбирая хлам и черепки, остававшиеся в сите, а просеянную землю увозили и сваливали в одно место, обещая потом засыпать ее обратно.
Удивлению людей за соседними заборами не было предела, когда глубина вырытой ямы достигла человеческого роста и на дне ее обнаружили лежащий на спине человеческий скелет. Наклонясь над скелетом, присели рядышком иностранец и русский и принялись кисточкой очищать череп и длинные кости.
Хозяйка дома, увидевшая все это из окна кухни, потеряла дар речи. Она тут же выскочила из дома и подбежала к яме. Я не помню, ни как ее звали, ни что она говорила, но я никогда не забуду выражение ее лица, на котором отразилась смесь изумления, благоговения и вполне обоснованного недоумения: ведь все это происходило у нее в огороде, где приехавший издалека человек заплатил ей деньги за потерю клубники! Ведь именно я указал это место! Кто же лежал там, на дне ямы, с явными признаками перелома черепа? Кто это сделал? И как же я узнал об этом?..
Затем очередь дошла до соседки из дома номер девять. Она еще не успела посадить кустики клубники в землю, как к ней нагрянули землекопы с лопатами и археологическим ситом и предложили возмещение за разрешение вести раскопки и в ее огороде тоже. Вскоре раскопки шли в десяти различных местах маленького спокойного городка — в садах, парках, просто на открытых местах. В полуразрушенном здании бывшей обувной фабрики с помощью пневматического молота пробили бетонный пол, пустили в ход археологическое сито и извлекли из чернозема на свет божий еще один скелет. Должно быть, это был мусульманин, поскольку он лежал головой в сторону Мекки. Остальные скелеты лежали головой на север. Так оказалось, что обувную фабрику построили на неизвестной могиле. В этом идиллическом городке стоило только в любом месте воткнуть лопату в землю, как тут же обнаружились черепки тысячелетней давности и другие остатки Средневековья и более древних времен до нашей эры.
В Азове было множество садов и зелени и очень мало машин. Люди, проходившие по улице, часто заглядывали за забор, а выкопанные ямы становились все больше и глубже — два метра, три, четыре, пять и еще больше. Вскоре стало уже опасно близко подходить к краю ямы, и понадобились лестницы и подъемные устройства для удаления грунта из раскопа. Жители не переставали удивляться тому, что иностранцы и университетские профессора из областной столицы тратили время на сортировку и отбор множества старых обломков горшков, наконечников стрел, бронзовых пряжек и другого хлама. Студенты все это тщательно промывали, нумеровали и отвозили в городской музей. Этот музей славился скелетом самого крупного и древнего в мире слона, прародителя мамонта. Было также известно, что еще один скелет такого же гигантского слона лежит недалеко от города, наполовину зарытый в ил Азовского моря. И все знали, что в курганах за городской границей все еще есть золото. И поэтому казалось очень странным, что люди, приехавшие издалека, не нашли ничего лучшего, как вести раскопки внутри города, да еще привлекли к этому целую группу известных местных профессоров археологии и студентов.
Больше всех, наверное, удивлялся я сам. Удивлялся тому, что мы находили, и тому, что мне удалось увлечь за собой археологов из Ростовского государственного университета. Российские археологи также не переставали поражаться находкам. Им еще не приходилось копать в таком месте, где земля бы таила в себе доказательства контактов с таким количеством далеких стран и культур. Все знали, что множество курганов, раскинутых на равнинах вокруг Азовского моря вплоть до самой городской границы, содержат несметные сокровища золота и серебра, которые при раскопках находили как сами археологи, так и бессовестные грабители. Музеи города Азова и столицы Донского бассейна Ростова недавно отправили великолепное собрание скифского и сарматского золота и других местных сокровищ на выставку в Париж. Однако местным археологам не приходило в голову приехать в сам город Азов и просить разрешения вести раскопки в частных садах и огородах граждан, в городских парках и на площадях, где, казалось, ничего не было, кроме столетних отложений отходов и старого хлама. Шансы найти здесь хорошо сохранившиеся предметы, представляющие музейный интерес, не шли ни в какое сравнение с тем, что можно было обнаружить в курганах за городом.
Меня же интересовали древние отложения именно в старой части города. И археологи, производившие раскопки, быстро поняли, в чем дело. Город Азов имел бурную историю, и его тысячелетний юбилей городские власти решили отпраздновать в ближайшем будущем. Однако история города уходила своими корнями еще дальше, вглубь веков, и об этом можно было узнать только от археологов, которые вели раскопки в современном городе. Наши российские друзья превосходили нас в умении идентифицировать тип, происхождение и возраст найденных керамических фрагментов и бронзовых предметов, и вначале им казалось, что находки бедноваты. Мы же больше преуспели в стратиграфических методах раскопок, и вскоре все группы археологов согласились с тем, что город Азов представляет собой нечто исключительное: где бы мы ни воткнули лопату в землю, везде находили свидетельства старых культур и предметы торговли с дальними странами.
У русских были особые причины удивляться. Ведь всего несколько лет назад был обнаружен забытый древнегреческий город Танаис
[179], находившийся по другую сторону устья реки. Этот город погиб, был засыпан землей и забыт до тех пор, пока в послевоенное время российские и немецкие археологи не начали там раскопки. В результате возник небольшой полевой музей с бесчисленными амфорами и другими предметами обихода. Однако все находки относились к греко-римскому периоду начала нашего летоисчисления. Наша сторона реки представляла собой резкий контраст. Здесь перед нашим взором предстали древние предметы торговли, свидетельствующие о культурных контактах с множеством стран — от Китая на востоке до Испании на западе, от Древнего Египта на юге до Скандинавии на севере.
Чем же объясняется такая резкая разница между Танаисом и Азовом, двумя городами, находившимися в пределах видимости друг от друга по обеим сторонам дельты одной и той же реки?
Причина этого различия становится очевидной, если как следует подумать. Дон, носивший в старые времена название Тана, уже тогда был известен как пограничная река между Азией и Европой. Азов находился с восточной стороны устья и был конечным пунктом Великого шелкового пути из Китая. Сюда приходили с востока караваны с товарами, которые выгружали и обменивали на товары, привозимые из западных стран по Черному морю из Средиземного. Жители Азии прибывали сюда сухопутным путем на верблюдах, вьючных животных и повозках, и они не могли переправиться через реку, чтобы встретить корабли, приплывавшие со своим грузом из Африки и Европы. На заре цивилизации, в то время, когда центр культуры находился в азиатской части материка, в которой все перемещения совершались сухопутным путем, Азов оказался благоприятно расположен с восточной стороны дельты. Когда греки и римляне прибывали на кораблях по Черному морю, им было все равно, к какому берегу причаливать, чтобы выгрузить товар. Это ведь верблюдам было сложно переплыть реку, чтобы попасть в Танаис…
По прошествии почти двух месяцев мы открыли в общей сложности десять археологических шахт в Азове и в некоторых из них дошли до непотревоженного культурного слоя. Договор о раскопках с российскими и скандинавскими археологами на этот полевой сезон истекал через несколько дней. Я сидел на пеньке и смотрел вниз, в самую глубокую шахту. Вот из нее по лестнице показался Владимир с рулеткой. Он доложил, что копатели достигли глубины 7,70 м. Владимир был старшим в этой группе копателей. Теперь надо было устанавливать новые крепления из досок и опорных балок, чтобы предотвратить обвалы глинистых земляных стен. Археологи достигли почти нетронутых слоев земли, где находили уже только черепки горшков, характерные для I в. до н. э. Мы ушли почти на две тысячи лет вглубь веков. Однако нас ждал еще один сюрприз.
Норвежская и шведская команды, копавшие в соседнем саду, всего в 50 м от нашего места, сначала обнаружили многометровый слой, полный человеческих костей, осколков пушек и форменных пуговиц времен Петра I, который в 1696 г. отбил Азов у турок. После этого копатели попали в слой, где нашли первые ямы от столбов построек доисторического периода. Бьярнар и Нильс-Густав согласились с тем, что они не успеют дойти до непотревоженного культурного слоя, и предложили временно закрыть шахту до следующего сезона.
Аппетит у археологов разыгрался. Где еще в мире можно было вести раскопки на таком небольшом участке земли, как старый город в Азове, и найти доказательства древних контактов такого большого количества людей с высоким уровнем развития культуры, людей, принадлежавших к самым разным народностям трех континентов?.. Все находки попали в маленький городской музей Азова, туда, где хранились останки гигантского слона. Один только анализ этого материала требовал колоссальной работы. Свыше 35 тыс. находок было зарегистрировано и пронумеровано. Мы дошли до нетронутых слоев именно того периода, в который я хотел заглянуть, т. е. периода до появления здесь римлян в I в. до н. э. Здесь лежали ответы на наши вопросы, которые мы надеялись получить. Российские археологи уже готовы были дать нам ответ, за которым мы приехали: погребальные обычаи и новый вид керамики, обнаруженный в районах дальше, в южной части Кавказа, свидетельствовали о культурных изменениях, и этот период по времени совпадал с римским завоеванием местного азовского царства.
Слои земли, поднимаемые со дна шахт и до уровня современных городских улиц, раскрыли перед нами бурную историю и далекие торговые контакты в течение двух тысячелетий. Однако археологи увидели возможность идти дальше. Русские тоже убедились в том, что здесь можно больше узнать о контактах между людьми в древние времена. Столица Донского региона город Ростов, находившийся на расстоянии получасовой езды на машине, со своим полуторамиллионным населением не мог похвастаться ничем подобным. И ректор Ростовского государственного университета предложил нам продолжить сотрудничество и раскопки в будущем году. Так что мне было о чем подумать, пока я сидел на пеньке.
— Нашел ли ты следы Одина?
[180] — спрашивали журналисты. — Нашел ли доказательство своей теории?
Да разве я собирался отнимать эту честь у Снорри?
[181] Да мне самому никогда не пришло бы в голову отправляться куда-то к горам Кавказа, чтобы вести раскопки на восточном берегу этой реки, граничащей с Азией! Именно исландец Снорри Стурлусон около 800 лет назад, сидя на своем острове в Северной Атлантике, назвал это место чрезвычайно особенным. И вот теперь я сидел на том самом месте, куда Снорри в своих сагах поместил языческое капище легендарных асов. Именно здесь, на восточном берегу устья этой реки, по его словам, находился город, в котором верховный предводитель асов
[182] шаман Один и двенадцать могущественных жрецов приносили жертвы и вершили суд над людьми, пока римляне не вынудили их пуститься в бегство на Север. Там они все умерли своей смертью, а затем были возведены в ранг богов гостеприимным конунгом свеев Гюльви
[183] и аборигенами Севера. Так начинается у Снорри история норвежского королевского рода.
И вот я сидел здесь и спрашивал себя, почему Снорри указал именно это место. Чуть ниже по улице находились старинные крепостные стены Азова, восстановленные Петром Первым, и это место было единственной небольшой возвышенностью вблизи восточной стороны дельты. Азов расположен именно там, где, по Снорри, находилось святилище асов. Кажущаяся бесконечной равнина простиралась дальше с нашей стороны реки в сторону Азии, где за горизонтом возвышались невидимые отсюда могучие горы Эльбрус и Арарат. Здесь была очень плодородная земля, за которую на протяжении столетий сражались как кочевники, так и великие державы. Обращая взор в сторону Европы, я видел дельту Дона — сплошные болота с камышом, прорезанные, как стрелами, блестящими полосками воды, вплоть до Танаиса. Прямо под нами протекало восточное ответвление дельты Дона, по которому большие корабли и сегодня попадают в сердце России, до тех самых районов, где волок связывал все части Древнерусского государства во времена викингов. Наши российские и северные археологи знали, что уже в довикинговые времена реки использовались как
торговые пути от Черного моря на юге до Белого на севере.
Но откуда Снорри, живя в Исландии, мог знать о российских речных путях? Отнестись серьезно к географическим сведениям Снорри о кавказском происхождении северного королевского рода означало подвергнуть испытанию терпение многих норвежских историков. Когда мы с моим шведским коллегой Пером Лиллиестрёмом осенью 1999 г. выпустили книгу «Без границ», уже первая рецензия на нее содержала ясное предупреждение против того, чтобы вдохнуть жизнь в писания средневекового еретика Снорри. В статье под многозначительным заголовком «Наивные люди», появившейся в газете «Афтенпостен» 27 ноября 1999 г., один норвежский историк, специалист по религии, сообщал, что Снорри использовал прием, характерный для исторических трудов XIII в., т. е. превратил королевских мифологических предков в исторических персонажей: «Даже если в конце XIX в. историки принимали это всерьез, то сейчас эти взгляды устарели. Современные ученые уже давно отказались от идеи поиска первоначального происхождения жителей Севера» («Афтенпостен», 27.11 1999).
Специалисты придумали даже термин — «историзация» мифологических предков. И Снорри попал, таким образом, в одну компанию со всеми остальными авторами, занимавшимися подобной фальсификацией религиозной истории. В эпоху викингов Одина почитали как бога наряду с громовержцем Тором
[184]. И если Снорри спустил Одина на землю, оставив Тора в облаках, то это означало, что он
историзировал Одина, оставив Тора в покое.
Мы с Пером готовы были признать, что историки религии вправе утверждать, что Один был богом. Ведь и викинги так думали. Но если историки сейчас, на рубеже тысячелетий, по-прежнему верят своим коллегам XIX в., решившим, что бесполезно искать первоначальное место обитания жителей Севера, то их теория, скорее, похожа на догму. Мы больше верим в старую мудрость, которая гласит: тот, кто ищет, всегда находит. Во всяком случае, нет сомнений в том, что если не искать, то шансы найти сводятся почти что к нулю.
Когда я решил «поймать» Снорри на слове и отправиться в определенную точку на карте Кавказа, чтобы начать поиски, то мои противники, получившие широкий доступ к прессе, разохотились и вошли во вкус. А когда провалились все попытки умных голов уничтожить Снорри и вместе с ним нас, всерьез воспринявших его «антинаучные фантазии», в газете «Ослопостен», которая бесплатно раздается всем жителям столицы, на первой странице появился жирный заголовок «Неужели Тур Хейердал совсем спятил?» (18.4 2001)
Разумеется, все и каждый имели достаточно оснований удивляться, когда три профессора сообща устроили фронтальную атаку в газете «Афтенпостен», открыв там постоянную рубрику под заголовком «Вневременные фантазии Снорри и Хейердала». Проблема, по их словам, состояла лишь в том, что Хейердал в силу целого ряда недоразумений выбрал для раскопок Азов, хотя, конечно, это место было гораздо экзотичнее, чем, скажем, Меларен
[185]. А далее следовал вывод: «Мы не думаем, что наши возражения произведут какое-нибудь впечатление на Хейердала. Все профессиональные возражения, которые ему не нравятся, он отвергает, называя их профессорским чванством. И если мы все же считаем необходимым высказаться, то это для того, чтобы никто, в том числе и власти, не сомневались в том, что думают специалисты по поводу проекта, основанного на языковых недоразумениях и фундаменталистском прочтении Снорри» («Афтенпостен», 16.12 2000).
Так родился Азовский проект. Роды были тяжелыми, но зато с фейерверком. В газетной рубрике красовались маленькие фотографии всех троих: профессора общего языкознания Университета Осло, профессора древнескандинавской филологии Бергенского университета и доцента Норвежского университета технических и естественных наук в Тронхейме. Под ними был изображен и Снорри — известный портрет кисти Кристиана Крога
[186], написанный специально для издания книги знаменитого исландца. А еще ниже текст:
«Пиратская карта. Снорри, вероятно, от души бы посмеялся, если бы узнал, что его географические описания через 800 лет будут использованы в качестве пиратской карты с указанием, мест для раскопок».
Итак, захватив с собой королевские саги Снорри, мы отправились на Кавказ.
— Вот теперь Снорри действительно смеется, — сказал Пер, когда мы, несмотря на всю эту шумиху, начали раскопки в Азове.
— Над кем смеется? — спросил я.
Уже первые удары лопаты показали, что с нашей стороны было вовсе не так уж глупо отнестись к точным географическим указаниям Снорри более серьезно, чем это делали специалисты на протяжении двух последних столетий. Ведь Снорри все-таки жил на 800 лет ближе к описанным им историческим событиям, нежели мы, кто сегодня полагает, что человек во времена Снорри находился всего лишь на 800 лет ближе к стадии обезьяны.
Что касается меня, то я давно привык к тому, что поднимается шумиха, когда я позволяю себе прислушаться к людям, жившим в далеком прошлом, а не спрашиваю об этом современных специалистов, имеющих доступ ко всем фактам на книжной полке и на экране компьютера. Очень многие из них чувствовали себя оскорбленными, а некоторые даже приходили в ярость, когда я садился на плот или пучок камыша и доказывал возможность того, что они считали невозможным. И точно так же многие из них сердились, когда я находил что-нибудь, копая там, где, по их мнению, искать было нечего. Галапагос, остров Пасхи, Перу, Канарские острова. И вот теперь Кавказ. Меня, по сути дела, больше бы удивило то, если бы никто не протестовал против того, что я буду вести там раскопки, нежели то, что такое количество людей с профессорскими званиями — специалисты по истории религии так поспешили обратиться к прессе, чтобы изложить там свои познания и сообщить, что взгляды Снорри безнадежно устарели.
Пер же, наоборот, был ошарашен потоком ругани, выплеснутым на него в газетах. Художник по профессии, добряк по натуре, Пер вырос в физико-математической академической среде, где меньше поводов к ссорам и проявлению горячности, нежели в науке, где идет борьба между теоретическими реконструкциями происхождения видов и распространения культуры. Я получил высшее образование по естественным наукам, специализируясь на зоологии и теории наследственности, изучал также биологию, а кроме того, имею пятидесятилетний опыт сотрудничества с археологами. Попасть в компанию к Снорри и получить прозвище «пирата» — это не самое страшное из того, что мне пришлось пережить. Ведь я и сам принадлежал к научному миру, хотя уже в раннем возрасте успел попутешествовать по свету и побрататься с самыми различными народами. Основываясь на генной теории и учении о наследственности Менделя
[187], а также на археологическом опыте исследования древних культур, я пришел к выводу о том, что разница между людьми, жившими в далекие времена, и нами не так уж велика, как принято считать.
Снорри жил в период, который мы называем «темным» Средневековьем. Он написал свои исторические труды в первой половине XIII в. И если мы по этой причине подвергаем сомнению его способности и достоверность его исторических сведений, то почему же мы верим классикам, снабдившим нас сведениями о всемирной истории? Ведь Геродот
[188], Плиний
[189], Тацит
[190], Страбон
[191] и Плутарх
[192] жили на тысячу лет или даже еще раньше, чем Снорри!
Снорри был католиком, как и все в его время на Севере. Через несколько веков наступила Реформация, и на всей территории от Ирландии до Скандинавии заполыхали костры, в которых сжигались церковные архивы и еретические письмена. Возможно, Снорри, живший в относительно изолированной среде в Исландии, имел доступ к копиям греческих карт или документов, которые потом погибли? А иначе, откуда он мог знать, что Танаис — это бывший греческий город в дельте Дона? И почему он поместил святилище древних асов в то место, где теперь расположен город Азов?
В XIX в. наши протестантские религиозные историки заявили, что сведения Снорри недостоверны: Снорри, мол, будучи близким другом норвежского короля, написал, что Один был реальной личностью и стал родоначальником королевского рода на Севере. И все это Снорри написал якобы для того, чтобы угодить королевским семьям этих стран. Так родилась догма об историзации мифологических богов.
Однако не означает ли это — поставить все с ног на голову? Ведь то, что написал Снорри, было, скорее, оскорблением для королевского рода. А вот религиозные историки XIX в. в угоду своим христианским королям отвергли утверждение Снорри о том, что будто короли ведут свой род от языческого бога Одина. Короли могли происходить только от христианского бога!..
Так кто же виноват в фальсификации истории? Снорри, который рискнул утверждать, что все северные короли происходят от беженца из Танаиса у берегов Черного моря, или же те, кто принял догму о том, что Снорри придумал историю о происхождении королевского рода шутки ради или чтобы польстить королям?
Возможно, Один был не так уж плох, как его стали изображать после введения христианства, когда он из почитаемого бога викингов превратился в презренного языческого божка. А ведь отцы церкви встали на борьбу с Одином, вооружившись Библией и мечом, и представляли его своей пастве чуть ли не в виде самого дьявола.
А если Один действительно был родом из степей близ устья Дона, из региона, где в начале нашего летоисчисления происходила встреча мировых культур, может быть, он был не хуже других воинов, сражавшихся на полях боев в те времена? Иначе он вряд ли бы стал столь популярен среди северных народов, которые обожествили его несмотря на то, что он покорил их и обложил данью.
А что говорит об этом Снорри?
Снорри поместил начало истории Севера в устье Дона, и мы с Пером решили еще раз прочесть труды этого знаменитого исландца, который заложил основы истории северных народов.
Мир Снорри Стурлусона
Норвежец и швед сидели в уютной старой вилле на Канарских островах и вели беседу об истории своих стран.
Тур. В школе нас учили, что все короли имеют божественное происхождение, но тогда мы не задумывались о том, от какого бога они происходят. А чему вас учили в Швеции?
Пер. Нам говорили, что наш король происходит от одного из наполеоновских маршалов
[193], и больше мы на эту тему не рассуждали.
Тур. Значит, у нас было больше оснований для размышлений. Ведь нас учили, что Бог только один. Тот, что на небесах. И мы не задумывались над тем, как короли спустились вниз к обычным людям. А вообще-то, будучи норвежцем, я вырос с твердой верой в то, что всемирная история началась с Харальда Прекрасноволосого
[194]. Ведь именно он объединил Норвегию! А у него не было других предков, кроме отца, Хальвдана Черного
[195], который доехал лишь до Рансфьорда
[196], где утонул, когда его сани провалились под лед.
Пер. А ты не интересовался тем, откуда взялся этот конунг?
Тур. Нет. Нам и так приходилось зубрить даты жизни и царствования королей, которые были потом. В глубине души мы думали, что он выехал на своих санях из туманов Гудбраннсдален
[197] со своими домовыми, хюльдрами
[198] и троллями, бежавшими за ним по пятам. Ведь короли были из мира сказок вместе с Пером, Полом и Аскеладденом
[199], которые остались с нами после того, как с введением христианства исчезли тролли и вся остальная нечисть.
Пер. А все же интересно, откуда взялась вера в то, что в жилах королей течет божественная кровь?
Тур. Именно это и пытался выяснить Снорри, когда было введено христианство. Однако в XIX в. религиозные историки заявили, что королевские роды происходят от христианского бога. А поскольку Снорри утверждал иное, его обвинили в недобросовестной «историзации». Однако у Снорри были близкие друзья из королевского рода, которые слышали об Одине еще до того, как христианство одержало победу над язычеством на Севере. Возможно, Снорри, создавая свои королевские саги в XIII в., знал что-то такое, чего не знают сегодня те, кто осуждает его за «историзацию» Одина?
Пер. Когда короли принимали христианство, а было это незадолго до появления Снорри, они считали Одина своим прародителем. По всей Скандинавии было множество ярлов и семей знатного рода, исчислявших свою родословную от потомков Одина. Своих королевских предков они почитали, и в течение шестисот лет после смерти Снорри его никто не обвинял в том, что он «очеловечил» Одина. И только позже его осудили христианские историки за то, что он начал историю северных королей с обожествленного в эпоху викингов Одина.
А как же с королевскими родами в континентальной Европе? Разве все они не считались одного королевского рода и божественного происхождения? Сто лет назад мало кто в этом сомневался. Рассматривать Снорри как изолированное явление и недостоверный источник — явный пробел в историческом исследовании. Разве все королевские роды в Европе не связаны между собой? Ведь у Снорри имеются ясные намеки на это.
Тур. Давай еще раз обратимся к источникам об Одине. Два года назад мы отважились начать диалог «без границ» и без всякого плана. Мы просто задавали вопросы друг другу и в эфир и учились вместе с читателем, записывая ответы, которые получали на эти вопросы. Мы продолжали спрашивать и получили множество ответов. Мы убедились, что, задавая вопрос одному специалисту, часто узнаешь такое, чего не знают другие специалисты. И можно очень многое узнать, объединив то, что знают все специалисты, вместе взятые. Можно также многое открыть, объединив все то, что выпадает из ограниченного поля зрения отдельных специалистов.
Пер. Один находится как бы в свободном полете, поскольку ни один из религиозных историков не смог запереть его в свой земной рай: слишком многие видели его след в галерее своих предков. И это относится даже к тем, кто не читал королевских саг Снорри.
Тур. Мы должны вдохнуть новую жизнь в мужественного исландского скальда Снорри и привлечь его к погоне за Одином. Он обеими ногами стоял на земле, и на эту же землю он поместил Одина.
Пер. Да, ведь ты был в Исландии на конференции «круглого стола», посвященной значению саг во всемирно-исторической перспективе.
Тур. Чтобы понять саги и поверить в них, надо хорошо знать исландцев. А чтобы знать исландцев, надо знать природу Исландии. На исландской земле история не обрывается в настоящем, а плавно переходит в будущее. Люди здесь так же естественны и близки к природе и реальной действительности, как и твердые скалы, среди которых они выросли. И в то же время Снорри и все остальные жители этого острова — истинные европейцы, потомки пришельцев из других мест. И исландцам это известно.
Пер. Ну да, они пришли туда уже в исторические времена, и никакие чужеземные завоеватели не оказали влияния на историю, которую они принесли с собой.
Тур. Важно отметить, что история Исландии началась одновременно с историей Норвегии, будучи ее частью.
В школе мы учили, что история Норвегии началась в 872 г., когда Харальд Прекрасноволосый объединил Норвегию. Возможно, это произошло чуть ближе к концу IX в. Ведь мы не знаем точно, как далеко на восток от Нордкапа
[200] провел Харальд Прекрасноволосый границу своей страны. Это очень важный вопрос, и мы вернемся к нему несколько позже.
Однако есть вещи, которые мы не проходили в школе, и об этом я узнал на конференции в Исландии. Так, далеко не все мелкие конунги в Норвегии поддерживали тех, кто одерживал победу. И далеко не все во времена Харальда Прекрасноволосого имели корабли. Представители знати, потеряв свои владения, бежали на своих кораблях вместе с домочадцами и оставшимся добром, дабы не потерять вдобавок и голову. Так получилось, что элита норвежского населения, знать, спасаясь бегством, добралась до Исландии и образовала ядро свободолюбивого населения острова.
Пер. В этом, очевидно, кроется и причина того, что через несколько лет в Исландии возник первый в мире документально подтвержденный и избранный народом парламент — альтинг.
Тур. В 1000 г. — юбилейном году для христианской церкви — норвежский конунг Олав Трюггвасон
[201] послал вместе с Лейфом Эйрикссоном
[202] в Гренландию священника, однако в своей собственной стране ему самому приходилось вводить новую веру с помощью меча. В том же году исландский парламент единогласно решил принять христианство. Снорри Стурлусон родился в 1179 г. в богатой семье, имевшей усадьбу на западном побережье Исландии. Он был свободен, имел широкие возможности для получения образования. Благодаря этому ему удалось запечатлеть на пергаменте совокупные знания своих соотечественников, прежде чем на Британских островах и в большей части Северной Европы разразилась новая религиозная война.
Пер. Большое значение для Снорри имел тот факт, что в Исландии поселились ирландские монахи. Они искали здесь уединения и обосновались в Исландии еще до эпохи викингов, когда там появились беженцы из северных земель. Эти монахи отличались мудростью, обладали большими знаниями, которыми охотно могли поделиться с исландцами, но не со своими сородичами, оставшимися на родине. Уничтожающий огонь Реформации в Исландии не был так свиреп и беспощаден к историческому наследию, как в Ирландии.
Тур. Благодаря ирландским монахам узы между Ирландией и Исландией были гораздо крепче, нежели считалось раньше. На это указывают исландские археологи. И когда Снорри появился на свет Божий, Исландия имела намного более тесные контакты с католическими странами Южной Европы, чем можно было ожидать от населения острова, затерянного в океане между Норвегией и Гренландией, чуть южнее Северного полярного круга.
Пер. Это происходило главным образом и благодаря торговле вяленой рыбой, что составляло основную статью дохода в Исландии… Но вернемся к Снорри. Ведь он получил совершенно особое воспитание.
Тур. Когда Снорри был маленьким мальчиком, его отдали на воспитание к приемному отцу Йону Лоптссону в усадьбу Одди. Эта усадьба считалась культурным центром Исландии: здесь находилась семинария с преподаванием на латыни. Очень важно отметить все, что известно о воспитании Снорри. Он фактически попал в семью, имевшую тесные связи с Парижем, который в те времена был центром культурной жизни в Западной Европе. Мальчика отдали на воспитание в чужую семью в результате спора о наследстве, который был улажен по древнему скандинавскому обычаю путем обмена заложниками. Об этом обычае рассказывает сам Снорри, когда речь идет о сделке, заключенной Одином со своими местными врагами в стране асов еще до того, как он спасся от римлян. В исландской саге о Стурлунгах повествуется о том, как Снорри, сын Стурлы, в трехлетнем возрасте был отправлен на воспитание в качестве заложника.
Отец Снорри, Стурла, был знатного рода, но славился тем, что добыл себе богатство в раздорах и схватках с другими хёвдингами. Как-то раз, когда он выступал в качестве свидетеля в споре с семьей священника, к нему подбежала жена священника и попыталась воткнуть ему в глаз нож. «Почему бы мне не сделать тебя похожим на того, на кого ты так стремишься походить, — на Одина?» — выкрикнула она. Ее остановили, и Стурла не стал похожим на одноглазого Одина, а отделался шрамом на щеке. За эту рану Стурла потребовал большую виру, и тут священник обратился за помощью к своему родичу Йону Лоптссону, самому знаменитому хёвдингу в Исландии. На альтинге Йон Лоптссон уговорил Стурлу пойти на мировую, предложив воспитать его трехлетнего сына Снорри. Взять на воспитание чужого сына считалось тогда признаком подчинения и унижения. Стурла согласился и привез своего сына на воспитание к Йону в усадьбу Одди.
Усадьба Одди, как я уже говорил, была крупнейшим центром образования в Исландии, основанным дедом Йона, Сэмундом Мудрым, который сам получил образование во Франции. Таким образом, конфликт с семьей священника пошел на благо исландской культуре, поскольку дал возможность Снорри получить великолепное воспитание и образование.
Естественно предположить, что люди, бежавшие в Исландию в Средние века, были в большей степени изолированы от окружающего мира, чем те, кто оставался на Скандинавском полуострове. Однако дело обстояло вовсе не так, и главным образом по причине торговли вяленой рыбой. Римско-католическая церковь запрещала есть мясо в некоторые дни недели. Крестоносцы, а также целые флотилии кораблей викингов во времена Снорри вытеснили из Европы мусульман. Это привело к повышению спроса на вяленую рыбу из Северной Атлантики, и Исландия вскоре заняла центральное место в одной из самых прибыльных отраслей хозяйства в Европе. Треска — нежирная рыба и лучше всего годится для сушки с целью хранения и пересылки на длительные расстояния. А водится она только в холодных водах, главным образом в Северной Атлантике и в Гренландском море, где Исландия занимала довольно выгодное промежуточное положение. Исландцы отправляли вяленую рыбу через Британские острова в Руан и Нормандию, а также в католические средиземноморские страны. Благодаря походам викингов из Норвегии исландцы во времена Снорри имели дальних родственников в местах, где по пятницам разрешалось есть только рыбу.
До того, как в Норвегию пришло христианство с папского престола в Риме через епископства в Гамбурге и Бремене, исландцы уже познакомились с греческим вариантом христианского учения от монахов, приехавших морским путем из Средиземноморья в Ирландию, где норвежские викинги основали Дублин. Многие богатые бонды и люди знатного происхождения, бежавшие от единовластия в Норвегии и обосновавшиеся в Исландии, стали посылать своих сыновей для получения образования в кафедральные школы и зарождавшиеся университеты континентальной Европы.
Пер. Мы не должны также забывать, что там имелся доступ ко всей классической литературе. Я уверен в том, что, когда исландец Сэмунд вернулся домой из Франции и основал центр Одди, он уже прочитал, выучил наизусть или частично переписал произведения классиков древности — Гомера, Геродота, Тацита и Плиния. А как же иначе Снорри, живя в Исландии и пройдя курс обучения в Одди, мог бы упоминать в своей «Эдде», посвященной древненорвежской мифологии, древнегреческий город Трою?
Тур. В то время, когда Снорри получал свое христианское воспитание, в Ирландию приезжали ученые монахи не только из стран Средиземноморья, но и из Армении. Иными словами, с Кавказа, куда Снорри и поместил начало северного королевского рода.
Пер. Миссионеры греческой православной церкви из средиземноморских стран приезжали еще задолго до Снорри не только в Ирландию. Из «Книги об исландцах» Ари Мудрого
[203] мы узнаем, что уже в середине XI в. в Исландию приехали, по крайней мере, три известных епископа из Армении. Они стали очень популярными, к большому неудовольствию католического архиепископа в Бремене. Армянские епископы могли сообщить ученым Исландии все необходимые сведения о том районе, куда Снорри поместил землю асов. Как нам сегодня известно, именно из Армении пришли в Закавказье первые христианские миссионеры, о которых речь пойдет несколько позже.
Изучая ирландские миниатюры в священных книгах, созданных за несколько столетий до появления Снорри, ученые отмечают влияние в них искусства Востока. В одном исследовании, посвященном ирландским и англосаксонским рукописям, указывается на то, что уже в VIII в. в монастырь Линдисфарн, находившийся в северо-восточной части Англии, приезжали монахи из самых далеких стран, даже из Сирии.
Тур. Может быть, именно поэтому ирландское и английское христианство уже в то время так сильно отличалось от римского?
Пер. Когда ты говоришь о том, что выходцы из Норвегии после своего бегства в Исландию имели широкие контакты с окружающим миром, я вспоминаю статью из британской газеты «The Independent» (от 12.08 2000). У нее было смешное название «Викинги — секс-туристы». В ней рассказывалось, что исландцы охотно брали в жены женщин с Британских островов и прекрасно жили с ними. В этой статье научный редактор газеты Стив Коннор приводит выводы серьезного исландского молекулярного биолога Агнара Хелгасона, предпринявшего генетическое исследование исландцев. В названии статьи содержится шутливый намек на то, что из-за недостаточного количества женщин на борту ладей викинги, став исландцами, нашли себе спутниц жизни среди британок. Гены современных исландцев свидетельствуют о том, что подавляющее большинство первых исландских поселенцев были скандинавами, преимущественно норвежцами. Однако анализ митохондральной ДНК, которая наследуется только по материнской линии, показывает, что большинство матерей Исландии были родом из Британии или Ирландии. «Мы полагаем, что примерно половина женщин была с Британских островов», — утверждает Хелгасон.
В этой статье говорится также, что, согласно средневековым записям о заселении новых земель, страна была колонизирована примерно в 870–930 гг. н. э. четырьмя сотнями первопоселенцев. Исландский историк Харалдур Олавссон указывает также на то, что, хотя большинство из них приехали из Норвегии, многие жили какое-то время на Шетландских и Оркнейских островах, в Шотландии и Ирландии. В результате этого в жилах исландского населения прибавилось значительное количество кельтской крови. О том, как заключались браки с этими крутыми северными парнями — на добровольной основе или нет, гены ничего не говорят. Однако одно совершенно ясно: познания исландцев об окружающем мире значительно расширились с тех пор, как они в детстве и юношестве покинули Норвегию. Вернемся, однако, к Снорри. Ведь он сидел на школьной скамье не только у своего приемного отца.
Тур. Снорри смолоду оказался настолько способным в познании многих наук, что в 1215 г. был избран «законоговорителем» в исландском альтинге. Благодаря хорошему знанию законов и успешной коммерческой деятельности он сколотил значительный капитал, а когда в конце концов женился на самой состоятельной женщине в стране, то стал очень богатым человеком в Исландии. Таким образом, у него появилась возможность не утруждать себя никакими делами, а полностью посвятить все силы одной большой задаче — собрать вокруг себя образованных мужчин и женщин, чтобы записать на пергаменте все знания о прошлом, известные современникам. В те времена только богатые люди могли позволить себе писать саги. Исландские эксперты полагают, что для создания одной только книги надо было натянуть на рамы и обработать несколько сотен шкур новорожденных ягнят.
Снорри упоминает в своих королевских сагах поименно около 1300 человек, а во вступлении высказывает благодарность всем тем, кто предоставил ему письменные или устные источники. Особенно он выделяет исландского священника Ари Фруде, или Ари Мудрого (1067/69—1148), который был первым, кто писал латинскими буквами на древненорвежском языке
[204]. Предки Ари принадлежали, должно быть, к роду Лейфа Эйрикссона, так что саги не были так уж сильно отделены во времени от описываемых в них событий, произошедших в те времена, когда христианство праздновало свой тысячелетний юбилей.
Пер. Да и сам Снорри был в своем роде гражданином мира.
Тур. Он впервые приехал в Норвегию в 1218 г. после нескольких лет пребывания на посту «законоговорителя» в исландском альтинге. Он приплыл в Норвегию, чтобы посетить королевский двор, который в те времена находился в Тёнсберге на западном побережье Осло-фьорда. Хакону IV
[205] тогда было только 14 лет, и страной правил его дядя ярл Скули
[206], с которым Снорри установил тесные связи. Они поехали вместе в Гёталанд
[207], где Снорри встретился со своим шведским коллегой — судьей-старейшиной Аскелем. Южная Швеция и особенно остров Готланд
[208] были форпостом викингов на востоке и исходным пунктом всех походов в Россию и далее, вниз по рекам к Черному и Каспийскому морям.
После этого Снорри и ярл Скули объехали вдоль и поперек всю Южную Норвегию, вплоть до Тронхейма, и так сдружились, что Скули пожаловал Снорри титул ярла и звание лендрмана
[209]. Однако дружба с норвежской королевской семьей привела к осложнениям. Молодой Хакон Хаконссон
[210] только что стал королем. Он правил страной вместе с ярлом Скули и очень хотел подчинить Исландию норвежской короне. Снорри, вернувшись в Исландию, оказался, что называется, между молотом и наковальней. В Исландии соотечественники заподозрили его в том, что он заключил тайное соглашение с Хаконом. Хакон приказал ему вернуться в Норвегию, однако Снорри не подчинился. В это время в Бергене произошел несчастный случай, в результате которого утонул сын одного исландского хёвдинга. Отец обвинил в случившемся бергенцев и потребовал компенсации, а Снорри попросил быть посредником. Компенсацию получить не удалось, и тогда Снорри арестовал приехавших в Исландию норвежских купцов из Бергена и потребовал за них значительный выкуп. Кроме того, ему удалось выжать деньги из нескольких норвежцев, заехавших в Исландию по пути из Гренландии.
Дело чуть не дошло до войны между Исландией и Норвегией. Исландцы хотели сохранить свою независимость и демократическое правление, которое имели с тех пор, как 400 лет назад бежали от Харальда Прекрасноволосого. Снорри был вновь выбран «законоговорителем» в альтинге, но норвежский король все время добивался его возвращения в Норвегию. Дело кончилось тем, что Хакон IV направил посланца к Гицуру Торвалдссону, одному из бывших зятьев Снорри, с приказом схватить и убить Снорри, как предателя. Гицур и его люди ворвались в усадьбу Снорри Рейкхольт и убили его.
Как полагают многие, гибель Снорри в 1241 г. означала, что Королевство Норвегия стремится захватить Исландию и положить конец ее независимости, что и произошло 20 лет спустя. Однако это история. Об этом, Пер, ты знаешь больше меня.
Пер. Я совершенно уверен в том, что именно дружба Снорри с ярлом Скули предопределила его судьбу. Еще за два года до смерти Снорри Скули добился своего провозглашения королем на Эретинге
[211], недалеко от Тронхейма, где согласно традиции короновались норвежские короли. Скули был убит по приказанию Хакона в 1240 г., за год до убийства Снорри. А в 1247 г. Хакона в Бергене со всей роскошью и помпой короновал папский легат Вильгельм Сабинский
[212]. А знаешь ли ты, что папа Иннокентий IV предлагал Хакону корону Священной Римской империи германской нации? И что коронация в Бергене была, по-видимому, лишь подготовкой к этому? По этому случаю Хакон даже дал обет принять участие в крестовом походе, но это другая история. Все это — рассказ о поколении Снорри, жившем за 250 лет до Колумба. А теперь давай вернемся назад, к тому, что Снорри знал о прошлом.
Снорри рассказывает
Тур. Больше всего меня впечатляют познания Снорри в географии. Он начинает свои королевские саги с предисловия, которое свидетельствует о том, что во времена викингов люди довольно много знали о европейском континенте. Многие думают, что викинги считали Землю плоской и только Колумб открыл, что она имеет форму шара. Мы не должны забывать, однако, что уже создатели мировых культур на Ближнем Востоке знали, что Земля — шар, и пытались вычислить длину окружности. Даже полинезийцы, жившие на островах в Тихом океане, знали, что Земля имеет форму шара, и в их языке были слова, обозначавшие экватор, тропики и эклиптику. Стоит только немного поплавать по океану, как увидишь, что верхушки мачт появляются из-за горизонта до появления кораблей. Это говорит о том, что поверхность океана во всех направлениях изогнута.
Снорри решил начать свое географическое вступление к саге о первой миграции рода викингов с удивительного названия нашей планеты — «Круг земной» (Kringla Heimsins). Переводчики были настолько уверены в том, что, по мнению Снорри, Земля должна была быть плоской, что переводили слово «kringla» как «круглый диск Земли», или по-английски — «круглый диск» (round disk). В Исландии, где наш старый скандинавский язык сохранился почти нетронутым, мне довольно ясно объяснили, что слово «kringla» означает вовсе не диск, а, наоборот, что-то изогнутое во всех направлениях. На норвежском языке это означает «земной шар, на котором мы живем».
Пер. Совершенно верно, не следует думать, что во времена Снорри все считали Землю плоской. «Kringla Heimsins» для меня звучит, скорее, как прямой перевод латинского «Sphaera Mundi» — «О сфере». Это название трактата Иоанна де Сакробоско
[213] о шарообразной форме Земли. Сакробоско — современник Снорри. Он воспитывался в одном из монастырей Ирландии и стал профессором астрономии и математики в Парижском университете. В те времена, как мы Уже указывали, между Ирландией и Исландией существовали тесные связи.
Однако еще за 250 лет до Сакробоско Герберт из Орильяка
[214] пользовался на занятиях в кафедральной школе в Реймсе глобусом, а его ученики разъехались потом по монастырским школам всей страны. Герберт получил образование в Кордовском университете, где познакомился с трудами античных классиков. Эратосфен
[215], бывший главным библиотекарем большой египетской библиотеки в Александрии до пожара, еще за несколько столетий до Рождества Христова довольно точно вычислил длину окружности Земли. Герберт впоследствии стал папой Сильвестром II и находился на папском престоле, когда Лейф Эйрикссон открыл Винланд.
Я бы не удивился, если бы оказалось, что на книжных полках в Одди имелся экземпляр трактата «О сфере». Сыновья знатных исландцев нередко получали образование в Парижском или Оксфордском университетах.
Тур. Да, совершенно очевидно, что, имея предков, для которых вся Европа была территорией, по которой они свободно и быстро перемещались, Снорри и народ Севера знали о географии не меньше, чем народы, жившие в районе Средиземного моря.
Теперь мы знаем о Снорри достаточно много, чтобы судить о том, основывается ли его творчество на богатой фантазии или он знал гораздо больше, чем мы сегодня полагаем. Давайте проверим, прежде всего, его познания в географии. Исторические события можно слегка подтасовать, чего нельзя делать с географическими фактами, которые можно всегда проверить.
Мы получаем представление о географических познаниях Снорри из его королевских саг, а также из книги о скандинавских богах, которую он назвал «Эдда».
Снорри (из «Эдды»): «Весь мир разделялся на три части. Часть, которая лежит на юге, простираясь к западу и к Средиземному морю, зовется Африкой. На юге Африки жарко, и все сожжено солнцем. Другая часть лежит на западе и тянется к северу и к океану, она зовется Европой или Энеей
[216]. На севере этой части так холодно, что там не растет трава, и нельзя там жить. С севера на восток и до самого юга тянется часть, называемая Азией. В этой части мира все красиво и пышно, там владения земных плодов, золото и драгоценные камни. Там находится и середина Земли. И потому, что сама Земля там во всем прекраснее и лучше, и люди, ее населяющие, тоже выделяются всеми дарованиями — мудростью и силой, красотой и всевозможными знаниями.
Вблизи середины Земли был построен град, снискавший величавую славу. Он назывался тогда Троя, а теперь — страна Турков
[217]…»
Тур. Давай прервем Снорри на этом месте, ибо здесь он переходит в своей «Эдде» от географии к мифологии. Удивительно, однако, что он идентифицирует Трою со страной турок. Во времена Снорри о Трое можно было узнать лишь из поэм Гомера. Ведь Шлиману, который поверил в то, что в поэмах Гомера описываются действительные исторические события, удалось раскопать в Турции руины Трои только в 1870 г.
Теперь мы подошли к тому месту, куда Снорри поместил страну асов и ванов. Давай обратимся к королевским сагам, в которых он дает детальное описание маршрута к Средиземному морю и далее, к стране асов.
Пер. Постой, здесь есть одно несоответствие. Во времена Снорри эта часть Малой Азии не называлась Турцией. Она называлась по-прежнему Грецией и в 1204 г. частично вошла в Римскую империю. Турки же пришли туда гораздо позже. Они пришли в Константинополь лишь в 1453 г., предварительно завоевав всю Малую Азию. Что же имел в виду Снорри? Я нашел удивительный ответ на этот вопрос, когда открыл энциклопедию «Nordisk Familiebok» и посмотрел слово «Tyr». Там было написано, что Тюр — это не только бог войны в скандинавской мифологии, а что это имя употреблялось также как общее обозначение асов — «общее обозначение богов-асов». Так что слово «Тюркланд» могло обозначать страну асов. Но давай посмотрим, что говорит Снорри.
Снорри: «Круг земной, где живут люди, очень изрезан заливами. Из океана, окружающего Землю, в нее врезаются большие моря. Известно, что море тянется от Нёрвасунда до самого Йорсалаланда
[218]. От этого моря отходит на север длинный залив, что зовется Свартахав
[219]. Он разделяет трети света. Та, что к востоку, зовется Азией, а ту, что к западу, некоторые называют Европой, а некоторые — Энеей
[220]».
Пер. Нёрвасунд — так жители Севера называли в те времена Гибралтар, а Йорсалаланд был Святой землей… Но давай вернемся к Снорри и посмотрим, что он пишет о Черном море.
Снорри: «А к северу от Свартахава простирается Свитьод Великая
[221], или Холодная. Некоторые считают, что Свитьод Великая не меньше Великого Серкланда
[222], некоторые сравнивают ее с Великим Блаландом
[223]. Северная часть Свитьод не заселена из-за мороза и холода подобно тому, как южная часть Блаланда пустынна из-за солнечного зноя. В Свитьод много больших областей. Там есть и много разных народов, и много языков. Там есть великаны, и там есть карлики, там есть черные люди, и там есть много удивительных народов. Там есть также поразительно большие звери и драконы. С севера, с гор, лежащих за пределами всех населенных мест, течет через Свитьод река, правильное название которой Танаис. Раньше она называлась Танаквислом или Ванаквислом. Эта река впадает в Свартахав. Область по Ванаквислу звалась тогда Ваналандом или Ванахеймом
[224]. Эта река разделяет трети света. Восточная называется Азией, а западная — Европой».
Пер. Эта старая пограничная река называется сегодня Дон. В этом едины и историки, и географы.
Тур. Однако, прежде чем мы последуем за Снорри через границу в Азию, давай взглянем на его описание Африки. Меня всегда интересовал тот факт, что викинги считали африканский континент состоящим из двух частей. Средиземноморское побережье Африки они называли Серкландом, а остальную часть континента — Блаландом. Некоторые, пытаясь истолковать название «Серкланд», считают, что «серк» — это искаженное слово «сарацин» и что викинги называли североафриканское побережье «страной сарацин». Есть и другие мнения. По одной из версий, землю в центральной части Африки викинги называли Блаландом, поскольку считали, будто негры синего цвета. Меня эти объяснения совсем не удовлетворяют. Когда я впервые приехал в Африку как типичный молодой норвежец, то был убежден в том, что разница между полами обозначается тем, что мужчины ходят в брюках, а женщины в юбках. И в Африке меня больше всего поразили не пальмы и не запах мандаринов, а тот факт, что все мужчины носили длинные до земли юбки. Несомненно, викинги отреагировали на это точно так же, как и я, а в норвежском языке для обозначения юбки, кроме современного слова
skjørt, есть еще слово
serk, которое известно со времен викингов.
Пер. А как же Блаланд?
Тур. Такое объяснение, почему викинги хотели так назвать страну негров — это не что иное, как мышление сухопутных крабов, забывших, что викинги были мореходами. Они не ездили на верблюдах и не пересекали Сахару для того, чтобы повстречаться с неграми в Центральной Африке. Викинги плавали на юг вдоль африканского побережья. А если плыть на юг от пролива Гибралтар вдоль побережья Марокко, то встретишь туарегов, у которых цвет кожи в буквальном смысле синий, потому что они разукрашивают себя в синие цвета, одеваются во все синее, и на испанском языке их до сих пор называют
hombres azules — «синие люди».
Однако, что имеет в виду Снорри под Свитьод Великой, простирающейся к северу от Черного моря так далеко, что на ее окраине уже никто не живет из-за мороза и холода? Снорри пишет, что имеются различные мнения относительно площади Свитьод Великой, и включает в нее также часть Швеции. Точки зрения ученых на этот счет не совпадают. А ты как считаешь?
Пер. Во времена Снорри область вокруг озера Меларен, где первоначально обитали племена свеев, тоже называли Свитьод. А Снорри понимает под Великой Свитьод огромные степные пространства к северу от Черного моря, которые на три четверти состоят из
чернозема, а это могли толковать как «выжженную землю», что по-исландски звучит как
svidjordr. Я полагаю, что такое толкование вполне может быть правильным.
Тур. Возможно, свеи потому так и назвали свою страну — Свитьод, как и полагает Снорри. Посмотрим, однако, что Снорри пишет дальше. Возникает такое впечатление, что он вдруг резко переходит от чистой географии к древнескандинавской мифологии. Здесь нам следует быть начеку.
О́дин стране асов и ванов
Снорри: «Земля в Азии к востоку от Танаквисла звалась Асаландом или Асахеймом, а главный город, который был в той стране, называли они Асгардом
[225]. И в том городе был хёвдинг, который звался О́дином. Там было большое капище. Там существовал такой обычай, что верховных жрецов было двенадцать. Они должны были совершать жертвоприношения и судить народ.
Их называли диями и дроттинами. Все люди должны были служить им и оказывать им почтение»
[226].
«О́дин был великий воин, и много странствовал, и завладел многими державами. Он был настолько удачлив в битвах, что одерживал верх в каждой битве, и поэтому люди его верили, что победа всегда должна быть за ним. Посылая своих людей в битву или с другими поручениями, он обычно сперва возлагал руки им на голову и давал им благословение. Люди верили, что тогда успех будет им обеспечен. Когда его люди оказывались в беде на море или на суше, они призывали его, и считалось, что это им помогало. Он считался самой надежной опорой. Часто он отправлялся так далеко, что очень долго отсутствовал.
У Одина было два брата. Одного из них звали Be, а другого Вили. Они правили державой, когда Один был в отлучке. Однажды, когда Один отправился далеко и долго отсутствовал, асы потеряли надежду что он вернется. Тогда братья стали делить его наследство, и оба поженились на его жене, Фригг. Но вскоре после этого Один возвратился домой, и он тогда вернул себе свою жену.
Один пошел войной против ванов, но они не были застигнуты врасплох и защищали свою страну, и победа была то за асами, то за ванами. Они разоряли и опустошали страны друг друга. И когда это и тем, и другим надоело, они назначили встречу для примиренья, заключили мир и обменялись заложниками. Ваны дали своих лучших людей, Ньёрда Богатого и сына его Фрейра. Асы же дали в обмен того, кто звался Хёниром, и сказали, что из него будет хороший вождь. Он был большого роста и очень красив. Вместе с ним асы послали того, кто звался Мимиром, очень мудрого человека, а ваны дали в обмен мудрейшего среди них. Его звали Квасир. Когда Хёнир пришел в жилище ванов, его сразу сделали вождем, Мимир учил его всему. Но когда Хёнир был на тинге или сходке и Мимира рядом не было, а надо было принимать решение, то он всегда говорил так: „Пусть другие решают“. Тут смекнули ваны, что асы обманули их. Они схватили Мимира, отрубили ему голову и послали голову асам. Один взял голову Мимира и натер ее травами, предотвращающими гниение, и произнес над ней заклинание, и придал ей такую силу, что она говорила с ним и открывала ему многие тайны.
Один сделал Ньёрда и Фрейра жрецами, и они были диями у асов. Фрейя была дочерью Ньёрда. Она была жрица. Она первая научила асов колдовать, как было принято у ванов. Когда Ньёрд был у ванов, он был женат на своей сестре, ибо такой был там обычай. Их детьми были Фрейр и Фрейя. А у асов был запрещен брак с такими близкими родичами.
Большой горный хребет тянется с северо-востока на юго-запад. Он отделяет Великую Швецию от других стран. Недалеко к югу от него расположена страна турок. Там были у Одина большие владения. В те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений»
[227].
Пер. Мало кто, пожалуй, всерьез воспринял это вступление к королевским сагам Снорри (поскольку все знают, что Один считался у викингов одним из главных богов. Снорри же описывает его здесь как вполне земного хёвдинга, живущего среди обычных людей по другую сторону реки, служившей границей с Азией, к востоку от Черного моря и к югу по направлению к горам в Турции, куда совершали набеги римляне. Именно здесь историки религии обвиняют Снорри в «историзации» мифа. Однако теперь мы оба там побывали и получили подтверждение того, что Снорри прекрасно знает не только географию, а это следует как из «Эдды», так и из его королевских саг, но и названия народов, живших на территории к югу от Кавказа, вплоть до Турции. Ведь и асы, и ваны обитали именно там, куда поместил их Снорри.
Тур. К этому мы еще вернемся. Давай не будем прерывать Снорри в его повествовании о самом Одине. Ведь мы в погоне за Одином! И хотя люди, знакомые с историей, все это знают, мы все же последуем за Одином в его бегстве от римлян и проследим мимоходом судьбу потомков Одина, с которыми сам хёвдинг расстался по пути в Скандинавию. По Снорри, потомков Одина среди людей можно найти и в других родословных, кроме «Саги об Инглингах» Снорри. Прежде всего, отметим, что и в «Эдде» мы узнаём некоторые подробности о семье Одина. Так, мы узнаём, что отца Одина звали Фриалав. В Скандинавии это имя звучало как Фридлейв. А теперь вернемся к «Эдде» и предоставим слово Снорри.
Снорри (из «Эдды»): «У него был сын Воден, а мы зовем его Один. Он славился своею мудростью и всеми совершенствами. Его жену звали Фригида, а мы зовем ее Фригг. (И Один, и его жена умели гадать и предсказывать будущее.) Одину и его жене было пророчество, и оно открыло ему, что его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех конунгов. Поэтому он вознамерился отправиться в путь, оставив страну турков. Он взял с собой множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни лежал их путь, всюду их всячески прославляли и принимали скорее за богов, чем за людей. И они не останавливались, пока не пришли на Север в страну, что зовется страною саксов. Там Один остался надолго, подчинив себе большую часть страны. Для надзора над этой страной Один оставил там троих своих сыновей»
[228].
Тур. В королевских сагах Снорри рассматривает более детально и другие причины, побудившие Одина и Фригг покинуть родину, а не только предсказание будущего.
Снорри: «В те времена правители римлян ходили походами по всему миру и покоряли себе все народы, и многие правители бежали тогда из своих владений. Так как Один был провидцем и колдуном, он знал, что его потомству будет населять северную окраину мира. Он посадил своих братьев — Be и Вили — правителями в Асгарде, а сам отправился в путь, и с ним все дии и много другого народа. Он отправился сначала на запад в Гардарики,
[229] а затем на юг в страну саксов. У него было много сыновей. Он завладел землями по всей стране саксов и поставил там своих сыновей правителями»
[230].
Тур. Из «Эдды» мы узнаём, что одного из троих сыновей, которых он оставил в Северной Германии, звали Вегдег, другого — Бальдег, а третьего — Сиги. Мы узнаем даже целый ряд имен их потомков, однако мы умолчим о них пока, дабы сверить эти имена с именами королей европейских династий. По Снорри, потомки Одина правили землями, которые во времена Снорри назывались Восточным Саксландом, Вестфалией и страною франков. Сам же Один и его попутчики продолжили путь на север, в Скандинавию.
Снорри (из «Эдды»): «Потом Один пустился в путь на север и достиг страны, которая называлась Рейдготланд. И завладел в этой стране всем, чем хотел. Он поставил правителем той страны своего сына, по имени Скьёльд. Сына Скьёльда звали Фридлейв. Оттуда происходит род, что зовется Скьёльдунгами. Это датские конунги, и то, что называлось прежде Рейдготланд, теперь зовется Ютландией»
[231].
Тур. Об этом Снорри не пишет в своих королевских сагах.
Снорри: «Затем Один отправился на север к морю и поселился на одном острове. Это там, где теперь называется остров Одина
[232] на Фьоне»
[233].
Тур. Однако на этом Один не успокоился и, покинув Оденсе, отправился дальше на север.
Пер. Он по-прежнему чувствовал угрозу со стороны римлян. Они уже завоевали Англию, перешли через Рейн и находились по пути на север в Данмарк.
Тур. Один не рискнул сам отправиться через пролив Каттегат в страну свеев, а послал туда разведать обстановку свою жрицу Гевьон.
Снорри: «Затем он послал Гевьон на север через пролив на поиски земель. Она пришла к Гюльви, и он наделил ее пашней…
А Один, узнав, что на востоке у Гюльви есть хорошие земли, отправился туда, и они с Гюльви кончили дело миром, так как тот рассудил, что ему не совладать с асами… Один поселился у озера Лёг, там, где теперь называется Старые Сигтуны, построил там большое капище и совершал в нем жертвоприношения по обычаю асов. Все земли, которыми он там завладел, он назвал Сигтунами… Один и асы много раз состязались с Гюльви в разных хитростях и мороченьях, и асы всегда брали верх»
[234].
Пер. В «Эдде» Снорри дает более детальное описание прибытия Одина в страну свеев.
Один в Скандинавии
Снорри (из «Эдды»): «Потом Один отправился еще дальше на север, в страну, что зовется теперь Швецией
[235]. Имя тамошнего конунга было Гюльви. И когда он узнал, что едут из Азии эти люди, которых называли асами, он вышел им навстречу и сказал, что Один может властвовать в его государстве, как только пожелает. И им в пути сопутствовала такая удача, что в любой стране, где они останавливались, наступали времена изобилия и мира. И все верили, что это творилось по их воле. Ибо знатные люди видели, что ни красотою своею, ни мудростью асы не походили на прежде виданных ими людей.
Одину понравились там земли, и он избрал их местом для города, который зовется теперь Сигтуна. Он назначил там правителей подобно тому, как это было в Трое. Он поставил в городе двенадцать правителей, чтобы вершить суд, и учредил такие законы, какие прежде были в Трое и к каким были привычны турки. После этого он поехал на север, пока не преградило пути им море, окружавшее, как им казалось, все земли. Он поставил там своего сына править государством, что зовется теперь Норвегией. Сына же звали Сэминг, и от него ведут свой род норвежские конунги, а также и ярлы и другие правители, как о том рассказано в перечне Халейгов.
А с собою Один взял сына, по имени Ингви, который был конунгом в Швеции, и от него происходит род, называемый Инглингами.
Асы взяли себе в той земле жен, а некоторые женили и своих сыновей, и настолько умножилось их потомство, что они расселились по всей стране саксов, а оттуда и по всей северной части света, так что язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран. И люди полагают, что по записанным именам их предков можно судить, что имена эти принадлежали тому самому языку, который асы принесли сюда на север — в Норвегию и Швецию, Данию и страну саксов. А в Англии есть старые названия земель и местностей, которые, как видно, происходят не от этого языка, а от другого»
[236].
Тур. Вот так четко описывает Снорри Стурлусон путешествие Одина на север, из древних культурных центров на северную окраину Европы. Большинство современных историков религии придумывают самые дотошные толкования, чтобы понять намерение Снорри превратить мифический персонаж в историческую личность. Бессмысленно объяснять, почему Снорри именно так описывает Одина. В «Эдде», где Снорри излагает мифологию эпохи викингов, Один ясно и недвусмысленно представлен как реальный человек, спасающийся бегством от римлян. А тот бог, которому приносят жертвы Один и его двенадцать жрецов, должно быть, это бог викингов Тор, которого Снорри так же ясно помещает в мир мифов, где тот ездит по облакам на своей повозке, запряженной козлами, и высекает молнию ударом своего волшебного молота.
Снорри дает четкое географическое описание, уводя нас из знакомого ему мира Западной Европы через Гибралтар и Средиземное море к Черному морю. Там он помещает Одина в капище асов на восточном берегу реки Танаис, у ее устья, там, где сейчас находится Азов. Снорри дает четкие временные рамки событий, вплоть до вторжения римлян на Кавказ. Затем он излагает маршрут побега Одина, который также не нуждается ни в каком толковании. Совершенно ясно, что речь идет не о богах, хотя и не совсем обычные люди отправились в северную часть света после вторжения римлян через Турцию. Один отобрал свою гридь из лучших асов и полученных в качестве заложников мудрых ванов. Преследуемые победоносно наступающими римлянами, эти люди положили начало эмиграции из ставших опасными районов Кавказа. Маршрут пролегал от Черного моря к Балтийскому по водным путям и через непроходимые российские леса. Как поясняет Снорри, путь лежал сначала на запад через Гардарику (а ведь именно так викинги называли Русь), а затем либо вдоль южнороссийского черноморского побережья и вверх по Днепру, либо сразу вверх по Дону, а потом волоком, как это впоследствии делали викинги, следуя на юг по русским рекам или на запад по латвийским и эстонским рекам, а оттуда в Балтийское море.
Пер. Мы еще вернемся к этим российским речным маршрутам. Они были хорошо известны и использовались черноморскими купцами еще до вторжения римлян в турецкие земли. Мудрый Один знал путь, который ему следовало выбрать, чтобы быстро добраться до севера Европы. Он с самого начала избрал северные страны конечной целью своего путешествия и оставил нескольких своих сыновей править землями на теперешнем немецком побережье Балтийского моря и на побережье Северного моря, а сам обосновался на о. Фюн. Он пустился в путь вовсе не с целью географических открытий неизвестных земель. Божественный конунг очень хорошо знал, что едет не в пустынные края. Вот почему он послал свою жрицу через Каттегат, чтобы она с помощью хитрости и богатых даров втерлась в доверие к шведскому конунгу, и лишь затем отважился вторгнуться в чужое королевство.
Тур. Снорри гениально использовал образ шведского конунга Гюльви, поэтически представив уже хорошо известную древнескандинавскую мифологию. И если его королевские саги — это учебник, в котором собраны все существовавшие во времена Снорри знания по истории северных стран, прежде всего о норвежских конунгах, а в этой части история Норвегии совпадает с историей Исландии, то его «Младшая Эдда» — это учебник поэтического искусства скальдов. Две главы — «Язык поэзии» и «Перечень размеров» — посвящены непосредственно поэзии скальдов и стихосложению. Однако во вступительной главе «Gylfaginning» («Видение Гюльви»), что означает «Как был обманут Гюльви», Снорри излагает всю древнескандинавскую мифологию. Следуя примеру греческих классиков, шведский конунг Гюльви начинает размышлять о том, не обманул ли его Один, сказав, что он и его гридь прибыли из страны богов.
Снорри (из «Видения Гюльви»): «Конунг Гюльви правил тою страной, что зовется теперь Швецией. Сказывают о нем, что он даровал одной страннице в награду за ее занимательные речи столько земли в своих владениях, сколько утащат четыре быка за день и за ночь. А была эта женщина из рода асов. Имя ей было Гевьон
[237]».
Тур. Введя во вступительную главу реально существовавшего конунга Гюльви, Снорри уносит нас на крыльях поэзии в древнескандинавскую мифологию. Гевьон позвала своих четырех сыновей от великана из Йотунхеймена
[238], и они принялись пахать на четырех быках с такой силой, что быки потянули землю вокруг Меларен на запад в море. Так образовалась Зеландия, которая стала принадлежать Гевьон. Всё сходится, ибо в королевских сагах мы узнаем, что Гевьон после посещения Йотунхеймена в конце концов вышла замуж за сына Одина Скьёльда и стала датской королевой.
Снорри (из «Видения Гюльви»): «Конунг Гюльви был муж мудрый и сведущий в разных чарах. Диву давался он, сколь могущественны асы, что все в мире им покоряется. И задумался он, своей ли силой они это делают или с помощью божественных сил, которым поклоняются. Тогда пустился он в путь к Асгарду, и поехал, тайно приняв обличие старика, чтобы остаться неузнанным. Но асы дознались о том из прорицаний и предвидели его приход прежде, чем был завершен его путь. И они наслали ему видение»
[239].
Тур. Таким образом, Снорри использует Гевьон и Гюльви для того, чтобы начать свой рассказ о мифологии эпохи викингов. Гюльви начинает сомневаться в словах Одина и его божественности. Он оставляет Одина с его гридью в мире людей, отдав им часть своей собственной страны, и отправляется на поиски мира богов, о котором ему рассказали. Мы не знаем, что с ним случилось по пути туда, но Снорри не дает нам оснований обвинить конунга во лжи: асы исказили его видение мира. А затем Снорри заставляет асов самих повторять свои небылицы, мифы и верования, бытовавшие о мире богов. Мы встречаем всех древнескандинавских богов, которые нам так хорошо известны из мифов и песен эпохи викингов. Тор с молотом на самом почетном месте, Локи, Тюр, Имир и все остальные. Кроме Одина. Снорри заставляет всех богов самих рассказывать северному гостю обо всех своих сверхъестественных подвигах.
С того момента, когда Гюльви встречает богов в Вальхалле, он изменяет свое имя и зовется Ганглери во время своего волшебного путешествия в мире мифов… Давай, однако, вернемся к Снорри и посмотрим, как он заканчивает свое повествование о скандинавской мифологии, когда Ганглери после прощания в чертоге богов, как по мановению волшебной палочки, возвращается к действительности.
Снорри (из «Видения Гюльви»): «И в тот же миг Ганглери услышал кругом себя сильный шум и глянул вокруг. Когда же он хорошенько осмотрелся, то увидел, что стоит он в чистом поле, и нет нигде ни палат, ни города.
Пошел он прочь своею дорогой и пришел в свое государство, и рассказал все, что видел и слышал, а вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу.
Асы же стали держать совет и вспоминать все, что было ему рассказано, и дали они те самые имена, что там упоминались, людям и разным местностям, которые там были, с тем чтобы по прошествии долгого времени никто не сомневался, что те, о ком было рассказано, и те, кто носил эти имена, это одни и те же асы. Было тогда дано имя Тору, и это Аса-Тор Старый или Аке-Тор. И признали за ним все подвиги, совершенные Гектором в Трое. И люди думают, что турки рассказывали об Одиссее и называли его Локи, потому что турки были его заклятыми врагами»
[240].
Пер. В «Языке поэзии» Снорри использует известные имена из «Илиады» Гомера — Ахилл, Гектор, Елена и Александр, чтобы показать, что древнегреческие герои и боги появляются в скандинавской мифологии, но в ином образе и под другими именами. Так, Снорри прямо заявляет, что использует образы Приама и героев Троянской войны в качестве примера, чтобы «молодые скальды, желающие обучиться языку скальдов», узнали, как «пришельцы из Азии, назвавшиеся асами, исказили рассказ о событиях Троянской войны, чтобы люди думали, что они — боги».
Тур. Когда в прессе разгорелись дебаты об Одине и стало известно, что я всерьез воспринимаю королевские саги Снорри и собираюсь поехать в Азов искать обиталище асов, в одной из столичных газет появилась статья под громким названием «Тур верит в Одина». Это было задумано в виде шутки, но оказалось недалеким от истины. Сам я, скорее, сказал бы, что верю в Снорри. Он попытался рассказать историкам и теологам будущего, что Один был вовсе не богом, а обычным смертным человеком, пришедшим на Север как беженец. Нельзя было более четко провести грань между богами и простыми смертными, чем рассказать о них в двух различных книгах. Тот, кто хочет прочитать, как конунг асов Один пришел в качестве иммигранта в Гёталанд в Свеаланде и получил там от конунга свеев землю для себя и своих жрецов, пусть читает королевские саги Снорри. А тот, кто хочет узнать, как громовержец Тор правил наземным и подземным миром в Вальхалле, пусть читает «Эдду». Там Снорри рассказывает, как коварные асы с помощью хитрости Гевьон и дорогих подарков Одина надули свеев и заставили их рассказывать мифы асов о том, как Тор боролся с Мировым змеем и выпил весь океан, и все остальные сказки викингов, которыми нас потчевали в детстве.
Снорри изо всех сил пытается отделить Одина от всех богов. Один был великим колдуном, хёвдингом и верховным жрецом над гридью из двенадцати жрецов. По Снорри, это разумный военачальник, который благодаря своей смекалке и хитрости уводит элиту своего народа в поисках пахотной земли в чужих странах и тем самым спасает ее от неминуемой гибели в борьбе с римлянами. Его колдовские и пророческие способности — вполне обычные качества жрецов и знахарей того времени. В королевских сагах он предстает в образе типичного шамана, который мог менять свой облик, впадая в транс или с помощью переодевания, умел мумифицировать умерших с помощью грибов и лечебных трав, мог научить своих воинов становиться берсерками
[241]. И все же он был обыкновенным смертным, закончившим свои дни на шведской земле вместе со своими верховными жрецами.
Снорри: «Рассказывают как правду, что когда Один и с ним дии пришли в северные страны, то они стали обучать людей тем искусствам, которыми люди с тех пор владеют. Один был самым прославленным из всех, и от него люди научились всем искусствам, ибо он владел всеми, хотя и не всем учил.
Теперь надо рассказать, почему он был так прославлен. Когда он сидел со своими друзьями, он был так прекрасен и великолепен с виду, что у всех веселился дух. Но в бою он казался своим недругам ужасным. И все потому, что он владел искусством менять свое обличье как хотел. Он также владел искусством говорить так красиво и гладко, что всем, кто его слушал, его слова казались правдой. В его речи все было так же складно, как в том, что теперь называется поэзией. Он и его жрецы зовутся мастерами песней, потому что от них пошло это искусство в северных странах. Один мог сделать так, что в бою его недруги становились слепыми или глухими или наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем хворостинки, и его воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками.
Один мог менять свое обличье. Тогда его тело лежало, как будто он спал или умер, а в это время он был птицей или зверем, рыбой или змеей и в одно мгновение переносился в далекие страны по своим делам или по делам других людей… Один брал с собой голову Мимира, и она рассказывала ему многие вести из других миров, а иногда он вызывал мертвецов из земли или сидел под повешенными. Поэтому его называли владыкой мертвецов или владыкой повешенных. У него было два ворона, которых он научил говорить. Они летали над всеми странами и о многом рассказывали ему. Поэтому он был очень мудр.
Всем этим искусствам он учил рунами и песнями, которые называются заклинаниями. Поэтому асов называют мастерами заклинаний. Один владел и тем искусством, которое всего могущественнее. Оно называется колдовство. С его помощью он мог узнавать судьбы людей и еще не случившееся, а также причинять людям болезнь, несчастье или смерть, а также отнимать у людей ум или силу и передавать их другим. Мужам считалось зазорным заниматься этим колдовством, так что ему обучались жрицы… Эти его искусства очень его прославили. Недруги Одина боялись его, а друзья его полагались на него и верили в его силу и в него самого. Он обучил жрецов большинству своих искусств. Они уступали в мудрости и колдовстве только ему.
Да и другие многому научились у него, и так колдовство очень распространилось и долго держалось. Люди поклонялись Одину и двенадцати верховным жрецам, называли их своими богами и долго верили в них.
Один ввел в своей стране те законы, которые раньше были у асов. Он постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Вальхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю, а в память о знатных людях надо насыпать курган, а по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень (баутастейн). Этот обычай долго потом держался. В начале зимы надо было приносить жертвы богам за урожайный год, а в середине зимы — за весеннее прорастание, а летом — за победу. По всей Швеции люди платили Одину подать — по деньге с человека, а он должен был защищать страну и приносить жертвы за урожайный год»
[242].
Пер. Это очень важно. Перед нами великолепная возможность проверить археологически достоверность сведений Снорри как исторического источника. Снорри написал, что «Один ввел в стране законы…», в частности, постановил, что умерших следовало сжигать, и здесь он ссылается на Свитьод, т. е. Швецию. А ведь сам он умер там после тяжелой болезни за 23 поколения до того, как Олав Лесоруб
[243] пришел в Норвегию. Я проконсультировался у шведского специалиста по поводу древних обычаев захоронения в нашей стране. В «Истории Швеции» (изд. 1966 г.) профессор Йеркер Росен пишет по этому поводу следующее:
«В нашей стране сохранилось очень мало следов постоянного поселения людей в первые столетия после Рождества Христова, и поэтому о них можно судить лишь косвенно, по могилам и захоронениям… Совершенно очевидно, однако, что на больших территориях Южной и Центральной Швеции возникали новые поселения с оседлым населением… На месте этих поселений найдено большое количество захоронений сожженных трупов, когда останки костей и небольшое количество простых предметов складывались в глиняный сосуд или в вырытую в земле яму. В северном Гёталанде, а также в Эстерьётланде и Вестерьётланде сохранилось множество таких захоронений… Захоронения в восточной части Центральной Швеции начала нашего летоисчисления показывают примерно такую же картину, несмотря на различную форму могил. Здесь характерными являются захоронения с вертикально поставленными надгробными камнями — баутастейнами или камнями другой формы… Захоронения расположены на пустырях, на холмах или в близлежащих лесах, зачастую совсем не там, где находятся современные сельскохозяйственные районы. В этих местах около 500 г. н. э. произошло массовое переселение людей из старых деревень по причине поднятия почвы, которое привело к поднятию над уровнем моря большей части долин и плрдородных глинистых равнин».
Пер. Последними поднялись над уровнем моря Мелардален и Оппланн (Упланд), и именно здесь Один и его свита получили от конунга Гюльви землю и установили обычай сжигания трупов. А лучшим доказательством того, что «этот обычай долго потом держался», являются так называемые королевские курганы в Упсале. Они все представляют собой захоронения сожженных тел и датируются 400–500 гг. н. э.
Как пишет Снорри, введенный Одином обычай сожжения умерших был, как указывалось, географически ограничен Швецией, т. е. Мелардаленом и Упсалой, где находилась резиденция рода Инглингов. В этой связи интересно послушать, что говорит о курганах Упсалы известный шведский археолог профессор Биргер Нерман, бывший директор Государственного исторического музея в Стокгольме в энциклопедии «Имена и фамилии в северных странах»
[244]:
«Рядом со старинной церковью в Упсале на холме можно увидеть несколько курганов, и четыре из них — довольно большие. Из этих четырех один — низкий, так называемый Тингсхауген, и точно неизвестно, могильный ли это курган. Рядом с этим курганом расположены три знаменитых „королевских кургана“, гораздо более высоких. Восточный, самый близкий к Тингсхаугену и церкви, называется курганом Одина; тот, что посередине, — курганом Фрейра, а западный — курганом Тора. Курган Тора — самый высокий: диаметр его основания 60 м, а высота 10,5 м. Курган Одина был исследован в 1846–1847 гг., курган Тора — в 1874 г. Раскопки кургана Фрейра были также начаты в 1846–1847 гг., но затем прерваны, и сама могила не была исследована. Курганы Одина и Тора содержали останки сожженных тел. Были также найдены фрагменты золотых и иных украшений, шахматные фигуры, кусочки гребней из кости и прочее. И хотя все предметы говорят о том, что в курганах захоронены мужчины, как ни странно, но никаких следов оружия найдено не было. Над останками сожженных тел насыпана груда камней, причем в кургане Одина камни отличались огромными размерами и были очень тщательно уложены, а в кургане Тора камни были гораздо меньшего размера. Находки позволили точно датировать захоронения в курганах. По предметам, найденным в кургане Одина, захоронение произошло самое позднее в 500 г. н. э. Курган Тора датируется примерно 600 г. н. э. Курган Фрейра, по-видимому, несколько моложе кургана Одина. Было установлено также с относительно большой долей вероятности, какие конунги похоронены в этих курганах. Снорри Стурлусон пишет в своей „Саге об Инглингах“, что только три конунга Инглингов были захоронены в курганах в Старой Упсале: это Аун, Эгиль и Адильс. Сейчас, вероятно, не требуется доказывать, что они были историческими личностями, даты жизни которых установлены. Аун умер около 500 г. н. э., его сын Эгиль — в начале VI в., а внук Эгиля Адильс — в конце того же века. Видимо, именно эти три конунга были погребены в курганах Упсалы. Сын Эгиля и отец Адильса был Оттар, по прозвищу „Вендильская ворона“
[245]; он умер ок. 525 г. и похоронен в так называемом кургане Оттара в приходе Вендель».
Тур. Ты совершенно верно указал на то, что именно в Швеции Один установил закон о сжигании умерших. Этот обычай встречается и в более ранние периоды среди племен на Кавказе и на Севере, однако Один возвел его в закон, и постепенно этот обычай распространился и на норвежских хёвдингов. Мы имеем блестящий пример этого в одном из крупнейших курганов Норвегии — Ракнехаугене
[246]. Мы еще к этому вернемся. Интересно также и мнение по этому поводу норвежского археолога Ингара М. Гюндерсена, который присутствовал при раскопках захоронений сожженных трупов в Азове, относящихся примерно ко времени Рождества Христова. Вот что он пишет:
«Недооценка знаний Снорри о прошлом может довольно скоро привести в тупик, из которого будет трудно найти выход. Во-первых, Снорри очень тщательно изучил источники, которыми пользовался. Во-вторых, в предисловии к „Кругу земному“ он описывает обычаи тысячелетней давности, и эти обычаи, на Удивление, подтверждаются археологическим материалом. Он не только дает объяснение различным видам жертвоприношений, но и разделяет обычаи погребения на два периода — сжигание покойников и захоронение в курганах. По Снорри, период сжигания начинается с прихода в Скандинавию Одина, т. е. за два поколения до Рождества Христова. Мертвых сжигали со всем их добром. Девять поколений спустя начинается период захоронения в курганах, однако в Норвегии и Швеции оба обряда продолжают длительное время сосуществовать. Археологические раскопки показывают, что обычай сжигать мертвых восходит к концу бронзового века, но становится преобладающим за пару столетий до Рождества Христова. Для этих столетий характерны плоские захоронения в земле и очень мало сохранившейся утвари по причине кремации. В связи с этим точно датировать эти захоронения очень трудно, и Снорри, возможно, прав, когда пишет, что за несколько поколений до Христа обряд сжигания покойников становится преобладающим. В течение последующих столетий обряды кремации и захоронения в кургане существуют бок о бок, как об этом пишет Снорри, а затем все больше преобладают курганы. Далее Снорри упоминает о том, что в период трупосожжения на могилах часто ставились надгробные камни. В этой связи следует указать на то, что в соответствующем археологическом периоде имеется ряд примеров захоронений после кремации с надгробными памятниками, указывающими место захоронения. И хотя, конечно, есть целый ряд несоответствий между описаниями Снорри и археологическим материалом, все же стоит отметить довольно высокий уровень знаний Снорри о прошлом, который основывался целиком на устном предании. В целом описания Снорри соответствуют известным нам описаниям обычаев захоронения в этот период».
Род Инглингов
Тур. Похоже, шведские ученые больше доверяют Снорри как историческому источнику, чем некоторые у нас, в Норвегии. Однако давай вернемся к Снорри.
Снорри: «Ньёрд женился на женщине, по имени Скади. Но она не захотела жить с ним и вышла потом замуж за Одина. У них было много сыновей. Одного из них звали Сэминг. О нем сочинил Эйвинд Погубитель Скальдов такие стихи:
Родился
Сеятель злата
У Всеотца
С великаншей.
Когда были
Диса-лыжница
И родич асов
Женой и мужем.
Там вдвоем
Породили
Многих сынов
Один и Скади.
К Сэмингу возводил свой род ярл Хакон Могучий
[247]. Эта Швеция называлась жилищем людей, а Великая Швеция называлась жилищем богов. О жилище богов есть много рассказов»
[248].
Пер. Это также важно. Ведь из «Эдды» Снорри мы знаем, что именно Сэминга взял с собой Один, когда отправился дальше на север, к морскому побережью — в Норвегию. Мы знаем также, что ярл Хакон Могучий ведет свой род от Сэминга. Таким образом, не только Снорри утверждает, что Один был прародителем северных конунгов.
В нашей книге «Без границ» мы уже разбирали «Сагу об Инглингах», однако этот материал в качестве источника имеет такое решающее значение для изучения Одина и его рода, что мы позволим себе повторить кое-что, снабдив это новыми комментариями.
Снорри: «Один умер в Швеции от болезни. Когда он был при смерти, он велел пометить себя острием копья и присвоил себе всех умерших от оружия. Он сказал, что отправляется в жилище богов и будет там принимать своих друзей. Свеи решили, что он вернулся в древний Асгард и будет жить там вечно. В Одина снова стали верить и к нему обращаться. Часто он являлся свеям перед большими битвами. Некоторым он давал тогда победу, а некоторых звал к себе. И то, и другое считалось благом. Один был после смерти сожжен, и его сожжение было великолепным. Люди верили тогда, что, чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним.
Ньёрд из Ноатуна стал тогда правителем свеев и совершал жертвоприношения. Свеи называли его своим владыкой. Он брал с них дань. В его дни царил мир, и был урожай во всем, и свеи стали верить, что Ньёрд дарует людям урожайные годы и богатство. В его дни умерло большинство диев. Все они были сожжены, а потом им приносили жертвы. Ньёрд умер от болезни. Он тоже велел посвятить себя Одину, когда умирал. Свеи сожгли его и очень плакали на его могиле»
[249].
Тур. Сам Один, по его собственным словам, умер плачевной смертью, а за ним все дии и жрецы. Для мужчин не было ничего хуже, как умереть своей смертью, а не пасть на поле боя, сражаясь за своего конунга. Однако Снорри совершенно ясно заявляет, что Одину еще при жизни удалось заполучить для себя и своих жрецов место в мире скандинавских богов, а затем он быстро возвысился и поднялся на вершину божественной иерархии.
Мой тезка, громовержец Тор с молотом, даже не упоминается ни на родине Одина, к востоку от Черного моря, ни среди его спутников в Швеции. Единственный Тор, который вообще упомянут в королевских сагах Снорри, — это один из верховных жрецов, получивший в дар хутор Трудванг, когда Один с разрешения Гюльви раздавал своим двенадцати жрецам владения в Швеции. Тор, пришедший вместе с Одином, был не богом, а только жрецом.
Пер. Так, может быть, Один верил в Тора?
Тур. А в кого же еще ему было верить? Он знал, что его дии, которых он представил в виде богов, были обычными смертными, такими же, как и он сам. Вскоре после смерти предводителя асов Одина умер и его первый заместитель — принятый асами в свой род хёвдинг ванов Ньёрд.
Снорри: «Фрейр стал правителем после Ньёрда. Его называли владыкой шведов
[250], и он брал с них дань. При нем были такие же урожайные годы, как и при его отце, и его так же любили. Фрейр воздвиг в Уппсале большое капище, и там была его столица. Туда шла Дань со всех его земель, и там было все его богатство… Тогда были урожайные годы во всех странах. Свеи приписывали их Фрейру. Его почитали больше, чем других богов, потому что при нем народ стал богаче, чем был раньше, благодаря миру и урожайным годам. …Фрейра звали также Ингви. Имя Ингви долго считалось в его роде почетным званием. И его родичи стали потом называться Инглингами. Фрейр заболел, и когда ему стало совсем плохо, люди стали совещаться и никого не пускали к нему. Они насыпали большой курган и сделали в нем дверь и три окна. А когда Фрейр умер, они тайно перенесли его в курган и сказали свеям, что он жив, и сохраняли его там три года. Все подати они ссыпали в курган… Когда все свеи узнали, что Фрейр мертв, а благоденствие и мир сохраняются, они решили, что так будет все время, пока Фрейр в Свитьоде, и не захотели сжигать его, и назвали его богом благоденствия, и всегда с тех пор приносили ему жертвы за урожайный год и мир.
Фьёльнир, сын Ингви-Фрейра, правил тогда свеями и богатством Уппсалы. Он был могуществен, и при нем царили благоденствие и мир»
[251].
Тур. Однако, как пишет Снорри, он был большой дурак: как-то ночью, будучи мертвецки пьяным, он упал в чан с медом и утонул. На этом закончилось поколение богов, пришедших с Одином, и будущим поколениям уже не удавалось скрывать свою человеческую сущность.
Пер. Нам следует рассмотреть еще несколько поколений наследников Одина, ибо они предпринимали интересные поездки за границу. Фактически Шведское королевство перешло к потомкам хёвдинга ванов Ньёрда. Еще при жизни Один посадил своего сына Сэминга править Норвегией, а другой его сын Скьёльд, который получил в жены Гевьон из племени асов, стал конунгом в Данмарке и отцом Скьёльдунгов.
После того как Фьёльнир утонул в бочке с медом, власть в царстве свеев перешла к его сыну Свейгдиру, который, возможно, слышал рассказы своего деда Ингви-Фрейра о стране ванов, где тот родился и жил, прежде чем вместе с отцом попал к асам в результате обмена заложниками.
Снорри: «Свейгдир стал править после своего отца. Он дал обет найти жилище богов и старого Одина. Он ездил сам со своей гридью по всему свету. Он побывал в стране турок и в Великой Швеции и встретил там много родичей, и эта его поездка продолжалась пять лет. Затем он вернулся в Швецию и жил некоторое время дома. Он женился на женщине, по имени Вана. Она была из жилища ванов. Их сыном был Ванланди»
[252].
Тур. Снорри пишет также, что этот внук обожествленного конунга Фрейра еще раз отправился в путь на поиски обители богов. Очевидно, что среди своих родичей — ванов, живших в стране турок, он встретил обычных людей. Мы не знаем, кого он нашел во время следующего путешествия, так как его спутники вернулись назад мертвецки пьяные и сказали, что конунг исчез в большом камне.
Снорри: «Ванланди, сын Свейгдира, правил после него и владел богатством Уппсалы. Он был очень воинствен и много странствовал. Раз он остался на зиму в стране финнов у Сньяра Старого
[253] и женился на его дочери Дриве. Весной он уехал, оставив Дриву и обещав вернуться на третью зиму, но не вернулся и на десятую. Тогда Дрива послала за колдуньей Хульд, а Висбура, сына ее и Ванланди, отправила в Швецию. Дрива подкупила колдунью Хульд, чтобы та заманила Ванланди в страну финнов либо умертвила его. Когда шло колдовство, Ванланди был в Уппсале. Ему вдруг захотелось в страну финнов, но друзья его и советники запретили ему поддаваться этому желанию, говоря, что оно, наверно, наколдовано финнами. Тогда его стал одолевать сон, и он заснул. Но тут же проснулся и позвал к себе и сказал, что его топчет мара
[254]. Люди его бросились к нему и хотели ему помочь. Но, когда они взяли его за голову, мара стала топтать ему ноги, так что чуть не поломала их. Тогда они взяли его за ноги, но тут она так сжала ему голову, что он сразу умер. Свеи взяли его труп, и он был сожжен на реке, что зовется Скута, и поставили там в честь него баутастейн»
[255].
Пер. А сейчас начинается самое интересное, ибо этот Снэр Старый, который был тестем Ванланди — хёвдинга ванов и потомка Ньёрда, упоминается в другом документе, найденном на Оркнейских островах. Там его называют предком неких норвежских ярлов, бежавших от Харальда Прекрасноволосого, когда тот подчинил себе норвежское государство. Снорри об этом не знал. Мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем собирать сведения о том времени, когда Харальд Прекрасноволосый начал объединение Норвегии. Стоит заметить, однако, что Ванланди считают сыном Ваны, а ее, очевидно, назвали по племени, к которому она принадлежала. Это, возможно, поможет нам, когда мы будем исследовать происхождение имени Одина — прародителя асов.
Давай пройдемся по следующим поколениям шведских конунгов. Снорри рассказывает о них больше, чем нам нужно, чтобы пройти по следам Одина.
Тур. Когда финнам удалось лишить жизни Ванланди, отвергшего дочь Снэра Старого, сын Ванланди Висбур вернулся в страну финнов и потребовал корону отца. Он выгодно женился и получил в приданое большую усадьбу и множество золотых украшений, но затем нашел себе другую жену. Он имел детей от обеих. Дети начали ссориться из-за золотых украшений, и тогда сыновья от первого брака заперли отца и сожгли его.
После того как Висбура сожгли, к власти пришел его сын Домальди. В годы его правления в стране случился неурожай и начался голод. Стали приносить в жертву быков, а потом и людей, но, когда ничего не помогло, во всем обвинили конунга Домальди и принесли его в жертву.
Сын Домальди Домар сел на трон после того, как отца принесли в жертву богам. И даже Снорри не знает о нем больше ничего, кроме того, что Домар умер в своей постели.
После Домара правил Дюггви, который стал первым из рода Инглингов, получившим датский титул «конунга», поскольку его мать, датчанка Дротт, была из рода Одина и сестрой конунга Дана Гордого, именем которого названа Дания.
Пер. Таким образом, преемники Дюггви являются потомками и Ньёрда, и Одина.
Тур. И в них соединилась кровь асов и ванов… Даг, сын Дюггви, заподозрил как-то одного крестьянина в Готланде в том, что тот убил его ручного воробья. Собрав войско, Даг напал на Готланд, разя направо и налево, пока не свалился с коня замертво от удара вилами в голову. Но хуже всего пришлось его сыну Агни. Он был очень воинствен, много ездил и воевал. В стране финнов он убил конунга Фрости и наследного принца
и похитил королевскую дочь Скьяльв. Когда он затащил ее в шатер, она напоила его и повесила на дереве на его собственной золотой гривне.
Итак, мы дошли до одиннадцатого поколения после Ньёрда. До сих пор речь почти совсем не шла о Норвегии, за исключением того, что сам Один добрался до западного побережья этой страны и посадил там править своего сына Сэминга.
Я не перестаю удивляться Снорри, который часто пишет, что «викинги ездили туда и сюда». Один добрался до западного побережья Норвегии, а его потомки ездили обратно в Тюркланд и на Север, в страну финнов. Трудно представить себе, что предки викингов путешествовали по суше. Ведь на Севере были сплошь густые леса, и пешему человеку пришлось бы пробираться сквозь заросли с помощью топора, чтобы проложить себе дорогу. Трудно представить себе также, что викинги путешествовали верхом. Конечно, если поразмыслить, как следует, то мы вспомним, что викинги ели конину и приносили в жертву богам лошадиную кровь. Сам Один приехал на Север вместе со своим быстрым конем Слейпнером на складной кожаной лодке Скипландер
[256]. Мы вот говорили о короле Даге, который упал с лошади, когда поехал на остров Готланд в Балтийском море, чтобы отомстить за убитого ручного воробья. Лошадь была самым драгоценным имуществом знатного человека. Даже те, кто эмигрировал в Исландию, а оттуда через Атлантический океан в Гренландию, брали с собой лошадей. Вспомним, что Эйрик Рыжий упал с лошади и повредил бедро, когда скакал к кораблям, которые отправлялись в только что открытый Винланд. Снорри пишет о том, что лошадь была частью жизни королевского рода Инглингов.
Снорри: «Альрек и Эйрик, сыновья Агни, были конунгами после него. Они были могущественны и очень воинственны и владели разными искусствами. У них было обыкновение ездить верхом, приучая коня идти шагом или рысью. Ездили они верхом превосходно и очень соперничали в том, кто из них лучший наездник и у кого лучше лошади. Однажды братья выехали на своих лучших лошадях, отбились от других людей, заехали в какие-то поля и назад не вернулись. Их поехали искать и нашли обоих мертвыми с проломленными черепами. У них не было с собой никакого оружия, только удила, и люди думают, что они убили друг друга удилами»
[257].
Тур. В повествовании о более поздних конунгах, в том числе о тех, кто, как полагают, захоронен в курганах Упсалы, говорится, впрочем, о том, что потомки Одина любили лошадей.
Снорри: «Адильс конунг очень любил хороших лошадей. У него были лучшие в то время кони. Одного из коней звали Прыткий, а другого — Ворон. Он достался Адильсу после смерти Али, и от этого коня родился другой конь, которого тоже звали Ворон. Адильс послал его в Халогаланд Годгесту конунгу. Годгест конунг поскакал на нем и не мог его остановить, свалился с него и разбился насмерть»
[258].
Пер. Нет никаких указаний на то, что ближайшие потомки Одина и Ньёрда в давние времена правили мореходными нациями. Люди, среди которых поселились иммигранты из опустошенных войной равнин близ Азовского моря, вовсе не были викингами. Хёвдинги асов и ванов были великими воителями и отличными наездниками. Они разъезжали повсюду и обогащались путем разбоя и взимания дани с мирных оседлых крестьян, возделывавших землю. Первое, что сделал Один, когда его так дружелюбно приняли на Севере, это разместил повсюду своих сыновей и ярлов для сбора подати. Пахотная земля была ему нужна, чтобы прокормиться и как источник дохода для растущего числа более или менее добровольных подданных, которым он гарантировал защиту от нападения чужеземцев. Все подати шли к Фрейру, даже когда тот лежал в кургане мертвый, но не сожженный. Хороший конунг защищал своих подданных как в случае войны, так и неурожая.
Тур. По всей видимости, новый королевский род, пришедший с Одином из южных стран, встретился в северных странах с относительно мирным населением, состоящим из оседлых крестьян, которые жили на разбросанных хуторах и в небольших селах. На протяжении десяти — двенадцати поколений новая элита, по-видимому, укрепилась в новых землях в качестве сборщиков податей. Они ввели обычай приносить жертвы в честь своих предков и взимать дань за обеспечение мира.
В дальнейшем Снорри все больше начинает рассказывать о военных походах и междоусобицах между крупными и мелкими конунгами на Севере. Мы узнаем, что большая рать из Норвегии напала на Швецию. И случилось так, что Балтийские страны и Северная Германия также были вовлечены в эти распри. Так постепенно сложилась картина, какую рисуют древние и средневековые писатели об аланах
[259] и других воинственных всадниках, пришедших на Кавказ с востока через Волгу и живших не земледелием и скотоводством, а набегами и разбоем. Ворваться в чужую страну и отобрать плоды чужого труда считалось, очевидно, приличествующим занятием для королевских ратников и веселым времяпрепровождением для авантюристов среди крестьян и рыбаков. Итак, через двадцать поколений после Одина появились предвестники той эпохи, которую на Севере называют эпохой викингов.
Снорри: «Ингвар, сын Эйстейна конунга, стал тогда конунгом в шведской державе. Он был очень воинствен и часто ходил в морские походы, ибо на Швецию тогда регулярно совершали набеги и датчане, и люди из Восточных стран
[260]. Ингвар конунг заключил мир с данами и стал ходить в походы в восточные страны.
Одним летом он собрал войско и отправился в страну эстов, и разорял ее в том месте, что называется „У камня“. Тут нагрянули эсты с большим войском, и произошла битва. Войско эстов было так велико, что свеи не могли ему противостоять. Ингвар конунг пал, а дружина его бежала. Он погребен там в кургане у самого моря. Это в Адальсюсле. Свеи уплыли домой после этого поражения»
[261].
Тур. Считается, что рост населения и нехватка годной к обработке земли стали причиной возросших набегов на чужие земли с целью грабежа, что только еще больше способствовало кровной мести.
Снорри: «Энунд, сын Ингвара, правил после него в Швеции
[262]. В его дни в Швеции долго царил мир, и у него было очень много всякого добра. Однако сначала конунг Энунд отправился с большим войском в страну эстов, чтобы отомстить за своего отца. Высадившись там, он разорил всю страну и захватил большую добычу. Осенью он вернулся в Швецию. В его дни в Швеции были хорошие урожаи. Из всех конунгов Энунда любили больше всех. Швеция — лесная страна, и лесные дебри в ней настолько обширны, что их не проехать и за много дней. Конунг Энунд затратил много труда и средств на то, чтобы расчистить леса и заселить росчисти. Он велел также проложить дороги через лесные дебри, и тогда среди лесов появилось много безлесных земель. На них стали селиться крестьяне. Народу, который мог бы здесь поселиться, было достаточно. Конунг Энунд проложил дороги по всей Швеции через леса, болота и горы, поэтому его прозвали Энунд-Дорога
[263]. Конунг Энунд построил себе усадьбы во всех областях Швеции и ездил по всей стране по пирам»
[264].
Пер. Итак, мы узнали о необычайно добром конунге в земле свеев, которого прозвали Браут-Энунд, потому что он много сделал, чтобы выкорчевать лес и построить дороги. И все же сначала он отправился с ратью в страну эстов, чтобы отомстить за отца, погибшего там во время ратного похода. Кровная месть была еще во времена Снорри настолько само собой разумеющимся понятием, что ему и не надо было давать более детального объяснения. Энунд не мог принять бразды правления королевством, прежде чем он не отомстил за отца, погибшего в Эстланде. А поскольку кровная месть была обязательством не только перед родом, но и перед всем народом, то она превращалась в священный долг. И поэтому обычай кровной мести существовал на протяжении многих поколений.
По всей вероятности, именно Энунд погребен в «Кургане Энунда», недалеко от города Вестерос на западном берегу озера Меларен. Здесь находится довольно внушительный старинный могильник, в центре которого возвышается один из самых крупных курганов Севера — 14 м высотой и почти 60 м в диаметре. Никто не знает, сколько лет этому кургану и курганам вокруг. Они еще не раскопаны и могут с таким же успехом относиться как к бронзовому веку, так и ко времени переселения народов. Значение этого места как древнего культурного центра неоспоримо. У подножия огромного кургана расположены еще два необычайно длинных кургана в форме ладей, каждый по 50 м длиной, т. е. в два раза длиннее корабля Гукстада. Там стоит также рунический камень с именем Энунда; этот камень до 1960-х гг. лежал перевернутым. Исследователи полагают, что это могильный холм Браут-Энунда, и в таком случае он был воздвигнут в начале VII в., т. е. в так называемый «вендельский период»
[265]. Это было длительное время мирного развития и экспансии, что вполне соответствует описанию Снорри.
Тур. Однако следующее поколение характеризуется междоусобицами и распрями между потомками Одина по всему Северу. Сын миролюбивого Браут-Энунда — Ингьяльд Коварный вызвал целую лавину кровной мести, что привело к конфликтам по всей Скандинавии, в результате чего один из представителей рода Инглингов сбежал в норвежские земли и стал там конунгом.
Пер. Сын Браут-Энунда получил прозвище Коварный, и это прозвище перешло по наследству и к его дочери Асе. Сага рассказывает, что Ингьяльд Коварный стал таким злым и отвратительным, потому что в детском возрасте съел волчье сердце. Его жестокая дочь Аса унаследовала жуткий характер отца, в то время как ее младший брат Олав был человеком чести, как и дедушка. Именно Олав положил конец череде кровной мести, начатой его отцом, и сбежал от всех этих междоусобиц в Норвегию.
Тур. Ведь ты родом как раз из тех мест в Швеции, где ужасный Ингьяльд Коварный так внезапно разрушил мирный порядок, установленный его отцом. У Снорри написано, что Браут-Энунд погиб в лесу под лавиной камней, так что у его сына не было никаких причин для кровной мести. Что же тогда случилось?
Пер. Ингьяльд Коварный положил начало кровной мести сразу же, когда пил «кубок браги»
[266] на тризне по отцу: он поклялся увеличить свою державу вполовину во все четыре стороны или умереть. И он тут же начал выполнять свою клятву: запер и сжег шестерых из приглашенных на поминки соседних конунгов и забрал себе их земли. Еще шестерых конунгов в королевстве свеев он лишил жизни обманом. Свою жестокую дочь Асу Коварную Ингьяльд выдал замуж за конунга Гудрёда в Сконе. Сначала она заставила Гудрёда убить своего брата Хальвдана, а когда это было сделано, Аса убила его самого. Но тут случилось так, что сын Хальвдана, воинственный Ивар Широкие Объятия, вернулся в Сконе с победой, но оказался против своей воли вовлечен в страшнейший разгул кровной мести в истории Скандинавии. Во время своего морского похода он покорил земли от Англии на западе до Гардарики на востоке. Когда Ингьяльд и его дочь поняли, что не смогут противостоять войску Ивара, они пригласили гостей, подожгли зал и сгорели там заживо со всей своей гридью…
Все это мы проходили в школе по краеведению. У нас даже была экскурсия в замок Рэнинг, и мы видели руины королевского дворца Ингьяльда Коварного. Они находятся недалеко от дома, где я родился.
Прибытие Инглингов в Норвегию
Тур. После пожара в Упсале и самосожжения Ингьяльда в истории Скандинавии начинается новая глава. Олав, сын Ингьяльда, был малолетним и жил у своего дедушки по матери, конунга в Вестерготланде. Олав не имел причин для кровной мести, поскольку его отец сам был виноват в своей смерти. Однако у потомков двенадцати конунгов, которых убил его отец, все основания для мести имелись. Были они и у Ивара Широкие Объятия.
Это вынудило Олава бежать со своей гридью вглубь страны, в Вермланд, что возле теперешней норвежской границы. Он стал там корчевать лес и возделывать землю, как это делал его дед Браут-Энунд.
Пер. А согласно Снорри, в то же время фактически началось объединение Швеции в единое государство, ибо, когда Олав бежал в земли своего деда в Вермланде, Ивара Широкие Объятия чтили как героя в земле свеев: ведь среди двенадцати конунгов, убитых отцом Олава, прежде чем он сгорел сам, был и дядя Ивара Широкие Объятия — конунг Гудрёд Сконе.
Снорри: «Ивар Широкие Объятия подчинил себе всю шведскую державу. Он завладел также всей датской державой и большей частью Страны Саксов, всей Восточной Державой
[267] и пятой частью Англии. От его рода произошли конунги датчан и шведов, которые были единовластными в своей стране. После смерти Ингьяльда Коварного уппсальская держава ушла из рук Инглингов, насколько можно проследить их родословную.
[268]»
Пер. Многие шведские ученые не признают Ивара Широкие Объятия как историческую личность, а считают его легендарным персонажем. Однако на помощь Снорри приходит археология: обнаружено много общего между знаменитыми археологическими памятниками в Венделе и Вальсъерде близ Упсалы и находками в Саттон-Ху
[269] в Суффолке в Англии. Английские и шведские археологи едины в том, что существует удивительное сходство между предметами, найденными при раскопках могильников в этих различных географических районах. Особенно похожи специфические шлемы и украшения. Вендель и Вальсъерде находятся недалеко от Упсалы, где стал конунгом Ивар Широкие Объятия, а Саттон-Ху был расположен в той пятой части Англии, которая, согласно Снорри, досталась Ивару по наследству. Археологи указывают на сходство и видимую связь между этими местами раскопок, но никто ни в Англии, ни в Швеции не упоминает имени Ивара Широкие Объятия. В обоих местах находки датируются VII в., и это вполне совпадает с хронологией Снорри в отношении Ингьяльда Коварного и Ивара Широкие Объятия, которые, должно быть, жили именно в это время. И как раз в это время в районе Упсалы совершается переход от захоронений в курганах к захоронениям в ладьях.
Датчане же, напротив, сразу признали, что Ивар Широкие Объятия — личность историческая. В книге «История Дании в языческие времена»
[270] профессор Н. М. Петерсен, известный датский филолог и историк, ссылается на три различных датских источника, в которых упоминается Ивар Широкие Объятия. Это перечень предков XII в. и два так называемых «Ряда рун», где Ивар Широкие Объятия упомянут как дедушка известного датского конунга Рагнара Лодброка
[271], от которого в пятом колене произошел Харальд Прекрасноволосый. Эти датские родословные, к составлению которых Снорри не имел никакого отношения, восходят к Одину и его сыну Скьёльду, которого Один посадил править в Дании.
Тур. Итак, Ивар Широкие Объятия положил конец господству Инглингов в Свеарики
[272], однако в то же время именно он, согласно Снорри, начал объединение Швеции в единое государство.
Пер. Возможно, именно это и не понравилось шведским ученым: ведь Ивар Широкие Объятия был датчанином.
Тур. С уроженца Швеции конунга Олава начинается, собственно говоря, история Норвегии. В то время как Ивар подчинил себе большую часть Северной Европы, Олав спокойно жил в приграничной с Норвегией области и корчевал там леса.
Снорри: «Когда Олав, сын Ингьяльда конунга, узнал о смерти своего отца, он отправился в поход с теми людьми, которые захотели идти с ним, ибо большая часть шведов
[273] все как один хотели изгнать род Ингьяльда и всех его друзей. Олав отправился сначала в Нерики, но, когда шведы об этом проведали, ему нельзя было больше там оставаться. Тогда он направился на запад через леса к той реке, что впадает с севера в Венир
[274] и называется Ельв. Там они остановились, стали расчищать и выжигать леса и потом селиться. Вскоре край был заселен. Они назвали его Вермаланд. Там были хорошие земли. Когда в Швеции
[275] услышали, что Олав расчищает леса, его прозвали Лесорубом, и это было насмешкой над ним. Олав женился на девушке, которую звали Сёльвейг или Сёльва. Она была дочерью Хальвдана Золотой Зуб с запада из Солейяр. Хальвдан был сыном Сёльви, сына Сёльвара, сына Сёльви Старого, который первый расчистил лес в Солейяр»
[276].
Тур. Таким образом, Олав оказался первым конунгом из рода Инглингов, обосновавшимся на земле, которой впоследствии суждено было стать норвежской. К этому времени страна уже была обжита, возможно, частично потомками Сэмунда, сына Одина. Там было много мелких конунгов, каждый из которых управлял своей территорией, причем названия этих мест совпадают с современными географическими названиями местностей и губерний в Норвегии. Корчевать лес там начал дедушка норвежской невесты Олава, очевидно, примерно в то же время, когда этим на шведской стороне занимался дед Олава — Браут-Энунд. Однако в те времена не было границы между Швецией и Норвегией.
Пер. Я хочу обратить внимание на то, что Снорри пишет о Хальвдане Золотой Зуб, тесте Олава Лесоруба, а именно на то, что тот жил «к западу от Солейяр». Географически в этом месте находится известный курган Ракнехауген
[277] в Румерике. С помощью радиоуглеродного метода установлено, что курган насыпан около 600 г. н. э. ± 50 лет, т. е. в то же время, когда жил Олав Лесоруб. Конструкция кургана довольно необычная для Севера: он построен из 4 тыс. кубометров бревен, покрытых землей и песком. Один только верхний слой состоит почти из 25 тыс. бревен. Хотелось бы считать этот курган достойным монументом конунгу, прозванному Лесорубом, потому что он вырубал лес, чтобы возделывать землю. Здесь есть о чем подумать. А тот факт, что в могильнике захоронены сожженные тела, также дает пищу для размышлений.
Тур. Курган Ракнехауген был детально описан в 1996 г. в докторской диссертации известного норвежского археолога Дагфинна Скре
[278]: «Распределение археологических находок подтверждает гипотезу о том, что верхушка аристократии, господствовавшая над всей Румерике, обитала в Яссхейме. Большая концентрация могил на малом географическом пространстве свидетельствует о том, что господин, возможно, жил в одной из усадеб, а его приближенные получили большие усадьбы поблизости. Усадьбы центральной части Яссхейма примечательны тем, что такого количества огромных усадеб нет ни в одном другом месте…»
Сегодня это место называется Йессхейм. Я позвонил в коммуну Улленсакер и получил подтверждение того, что в старину это место действительно называлось Яссхейм. Привожу ответ директора местного управления культуры Кнута Эрика Хамберга: «Йессхейм — это название железнодорожной станции с 1850-х гг., а Ясхеймр, или Яссхеймр, — это бывшее название одного из трех сел в Улленсакере, которое, как полагают, принадлежало большой усадьбе и этимологически происходит от слова
heimr. Вот почему археологи выбрали старинное написание…»
В местном управлении культуры очень удивились тому, что я проявил интерес к этому названию. Тогда я объяснил, что в старинных кавказских рукописях упоминается народ асы, или яссы, живший там, где мы вели раскопки, т. е. в Азове. Однако мы еще вернемся к этому позже.
Пер. Интересно, что недалеко от кургана Ракнехауген, по словам археолога Дагфинна Скре, было место, под названием Одинсхоф. Таким образом, капище Одина и обитель ясов находились в одном и том же археологически интересном районе, который, согласно Снорри, был первым местожительством Инглингов в Норвегии. Однако давай вернемся к Снорри и посмотрим, что он пишет об Олаве Лесорубе.
Снорри: «У Олава и Сёльвы было два сына — Ингьяльд и Хальвдан. Хальвдан вырос в Солейяр у Сёльви, своего дяди по матери. Его прозвали Хальвдан Белая Кость.
Очень многие бежали из Швеции, будучи объявлены Иваром вне закона. Они слышали, что у Олава Лесоруба в Вермаланде хорошие земли, и к нему стеклось так много народу, что земля не могла всех прокормить. Случился неурожай, и начался голод. Люди сочли, что виноват в этом конунг, ибо шведы обычно считают, что конунг — причина как урожая, так и неурожая. Олав конунг пренебрегал жертвоприношениями. Это не нравилось шведам, и они считали, что отсюда и неурожай. Они собрали войско, отправились в поход против Олава конунга, окружили его дом и сожгли его в доме, отдавая его Одину и принося его в жертву за урожай. Это было у Венира озера…
Те из шведов, что умнее, однако, видели: голод из-за того, что народу больше, чем земля может прокормить, и конунг тут не при чем. Было решено двинуться со всем войском на запад через лес Эйдаског и неожиданно появиться в Солейяр. Там они убили Сёльви конунга и полонили Хальвдана Белая Кость. Они сделали его своим вождем и дали ему звание конунга. Тогда он подчинил себе Солейяр. Затем он двинулся с войском в Раумарики
[279], воевал там и подчинил себе этот край силой оружия.
Хальвдан Белая Кость был могущественным конунгом. Он был женат на Асе, дочери Эйстейна Сурового, конунга жителей Упплёнда. Он правил Хейдмёрком
[280]. У Асы с Хальвданом было два сына, Эйстейн и Гудрёд. Хальвдан захватил большую часть Хейдмёрка, Тотн, Хадаланд и бо́льшую часть Вестфольда. Он дожил до старости, умер от болезни в Тотне, и тело его было перевезено в Вестфольд, где он был погребен в кургане в Скирингссале, в месте, которое называется Скерейд…
Ингьяльд, брат Хальвдана, был конунгом в Вермаланде, но после его смерти Хальвдан конунг подчинил себе Вермаланд и до самой своей смерти брал с него дань и назначал туда ярлов»
[281].
Тур. Приходится только удивляться тому, откуда Снорри знал имена всех этих людей и названия местностей? Видимо, он располагал не сохранившимися в дальнейшем руническими письменами, которые ему удалось увековечить латинскими буквами на пергаменте, прежде чем они пропали. Снорри рассказывает далее, что сын Хальвдана Белая Кость — Эйстейн стал после отца конунгом в Румерике и унаследовал также Вестфольд, взяв в жены дочь тамошнего конунга, у которого не было сыновей. Таким образом он стал первым из рода Инглингов, кто владел большой территорией побережья в Норвегии, принадлежавшей раньше множеству незначительных конунгов. Создается впечатление, что именно этот факт способствовал началу того периода в истории Скандинавии, который мы называем эпохой викингов.
Снорри: «Эйстейн конунг приплыл с несколькими боевыми ладьями в Варну и стал грабить там. Он брал, что ему попадалось: одежду и всякое добро и орудия бондов. Скот они резали на берегу. Потом они уплывали… Когда они проплывали мимо острова Ярлсей, Эйстейн конунг сидел у руля, а другой корабль плыл Рядом. Были волны, и рея другого корабля сбросила конунга за борт. Так он погиб. Его люди выловили его труп. Его отвезли в Борро и там погребли в кургане на каменистой гряде у реки Вадлы… Хальвдан, сын конунга Эйстейна, стал конунгом после него. Его прозвали Хальвданом — „щедрым на золото и скупым на еду“. Рассказывают, что его люди получили столько золотых монет, сколько у других конунгов люди получают серебряных, но жили впроголодь. Он был очень воинствен, часто ходил в викингские походы и добывал богатство… Его главной усадьбой был Хольтар в Вестфольде. Там он умер от болезни и был погребен в кургане в Борро»
[282].
Тур. Сына его звали Гудрёд, и мы наконец подошли к последнему поколению, после которого начинается исторический период с точными датами. Снорри приводит любопытный пример сватовства конунга. Гудрёд сначала был женат на Альвхильд, дочери конунга Альварика из Альвхейма. Она родила ему сына Олава, которого потом прозвали Альв Гейрстадира. Когда Альвхильд умерла, конунг послал своих гонцов на запад в Агдер, чтобы посвататься к Асе, дочери конунга Харальда Рыжебородого. Однако гонцам отказали. Тогда Гудрёд рассердился, отправился сам в Агдер с большим флотом и убил своего будущего тестя конунга Харальда.
Снорри: «Гудрёд конунг взял большую добычу. Он увез с собой Асу, дочь Харальда конунга, и сыграл с ней свадьбу. У них был сын, которого звали Хальвдан…
В ту осень, когда Хальвдану исполнился год, Гудрёд конунг поехал по пирам. Он стоял со своим кораблем в Стивлусунде. Пир шел горой, и конунг был очень пьян. Вечером, когда стемнело, конунг хотел сойти с корабля, но, когда он дошел до конца сходен, на него бросился какой-то человек и пронзил его копьем. Так он погиб. Человека же этого сразу убили. А утром, когда рассвело, его опознали. Это был слуга Асы, жены конунга. Она не стала скрывать, что это она его подослала»
[283].
Хальвдан Черный
Тур. Итак, мы подошли к историческому периоду, который начинается с первого поколения норвежских конунгов, даты жизни или правления которых нам известны.
У Гудрёда было двое сыновей — Олав и Хальвдан. Олав много лет правил единолично, ибо, когда отец погиб, он уже был взрослым, а Хальвдану исполнился всего один год. По Снорри, Олав был воинствен, очень красив и высок ростом, но ему не сопутствовал успех в битвах. Другие, мелкие конунги забрали у него Румерике, Хейдмёрк, Тотн и Хадаланд, так что, когда власть перешла к его брату Хальвдану, государство Инглингов было ограничено лишь губернией Вестфольд. Хальвдан вырос сильным и высоким. Волосы у него были темные, и поэтому его прозвали Хальвданом Черным.
В школе мы учили, что Хальвдан Черный правил в 839–860 гг. Мы учили также, что его мать, королева Аса, была, по всей вероятности, захоронена в знаменитом корабле в Осебергском кургане, раскопанном в Вестфольде и хранящемся в Музее кораблей викингов в Осло.
Пер. Прошло пять поколений с тех пор, как Олав Лесоруб проник сквозь дремучие леса в Норвегию и получил здесь принцессу и небольшое королевство в приграничном районе. А говорит ли Снорри что-нибудь о других, мелких конунгах, которые правили каждый своим маленьким государством?
Тур. Очень мало. Однако, судя по именам этих конунгов, они все породнились между собой путем брачных союзов, и многие были тезками, будь то шведы, датчане или норвежцы. Нигде не упоминается о том, что у них возникали трудности при общении или что им нужен был переводчик. То же самое можно сказать и про общение с англосаксами в Англии.
Пер. Этому может быть двоякое объяснение: либо сам Один пришел на Север по следам своих древних предков, либо его потомкам удалось возвыситься и образовать элиту правящих конунгов и ярлов во всех северных странах. Иными словами, под давлением римских завоевателей Один, очевидно, проследовал на Север по известному и давнему речному торговому пути, который использовался с тех пор, как отошел ледник и стало возможным продвигаться по этим необжитым землям. Можно также предположить, что за 800 лет асы, пришедшие вместе с Одином, но не относящиеся к роду Инглингов, сумели распространиться по всем северным странам. Подобно тому, как Один был лично принят первым конунгом свеев Гюльви, так и его всевозможные малоизвестные отпрыски могли уговорить крестьян и рыбаков, живших в условиях родовой общины, платить им дань и подчиниться организованному сообществу под властью хёвдинга или мелкого конунга, которые с помощью законов и вооруженной дружины обязались защищать их от нападения врагов и всяческой несправедливости.
Тур. Я не вижу никакой другой альтернативы. Пусть этот вопрос выясняют лингвисты. Факт есть факт, и во всех Скандинавских странах встречаются одни и те же имена: Олав, Харальд, Хальвдан, Аса, Рагнхильд и пр. Ярким примером является семейство самого Хальвдана Черного. Сначала мы узнаем у Снорри, что он не удовлетворился полученным по наследству королевством Вестфольд на побережье Осло-фьорда и отправился вглубь страны. Отобрав у местных конунгов Румерике, Тотн, Данн и Хадаланд, он стал таким образом могущественным конунгом. А теперь посмотрим, что пишет далее Снорри.
Снорри: «Хальвдан Черный женился на Рагнхильд, дочери Харальда Золотая Борода. Он был конунгом в Согне. У них родился сын, которому Харальд конунг дал свое имя. Мальчик рос в Согне у Харальда конунга, своего деда. У Харальда конунга не было сына, и, когда он одряхлел, он уступил власть своему внуку Харальду и велел провозгласить его конунгом.
Вскоре после этого Харальд Золотая Борода умер. В ту же зиму умерла его дочь Рагнхильд. А весной умер от болезни и Харальд, молодой конунг в Согне. Ему было тогда десять лет. Когда Хальвдан Черный узнал о его смерти, он пошел с большим войском в поход на север в Согн… и завладел Согном»
[284].
Тур. Потеряв первую жену Рагнхильд, тестя и первенца-сына (оба были конунгами и звались Харальдами), Хальвдан Черный взял новую жену, которая также звалась Рагнхильд. У них родился сын, которого также назвали Харальдом и который впоследствии объединил Норвегию. С новой королевой в жилы норвежских Инглингов влилась датская кровь: мать Рагнхильд Тюррни была дочерью конунга Клак-Харальда из Ютландии и сестрой королевы Тюры, жены конунга свеев Горма Старого, который в то время правил всей Данавельди
[285].
Снорри ничего не говорит о том, как так получилось, что такая родовитая принцесса, как племянница датской королевы, попала в Норвегию и стала королевой в Рингерике. Дело в том, что Тюррни, мать Рагнхильд, была замужем за конунгом Сигурдом Оленем в Рингерике.
Снорри: «Конунг в Хрингарики
[286] звался Сигурд Олень. Он был статнее и сильнее других людей. Он был также очень красив с виду… Рассказывают, что Сигурду было двенадцать лет, когда он победил в единоборстве берсерка Хильдибранда с его одиннадцатью товарищами. Он совершил много подвигов, и о нем есть длинная сага. У Сигурда было двое детей. Его дочь звали Рагнхильд. Она была очень достойная женщина. Ей было тогда двадцать лет»
[287].
Тур. Снорри не рассказывает сагу об этом конунге, а сообщает лишь, как тот окончил свою жизнь. Сигурд имел обыкновение охотиться в лесу на крупных и опасных зверей. Однажды ему повстречался в лесу берсерк Хаки с тридцатью воинами. Двенадцать из них пали от руки Сигурда, а берсерк Хаки потерял руку и остался на всю жизнь калекой, но и конунга настигла смерть.
Снорри: «После этого Хаки со своими людьми поехал в усадьбу Сигурда, похитил его дочь Рагнхильд и ее брата Гутхорма, и захватил много добра и сокровищ, и увез в Хадаланд. Тут у него была большая усадьба. Он велел готовить пир и собирался справить свадьбу с Рагнхильд, но пир откладывался, потому что его раны не заживали. Хаки, берсерк из Хадаланда, пролежал, страдая от ран, всю осень и начало зимы
[288]. А на йоль
[289] в Хедмарк пожаловал конунг Хальвдан…»
Пер. И освободил принцессу!
Тур. Он послал на рассвете сотню своих людей через замерзшее озеро. Они окружили усадьбу Хаки, забрали все золото и серебро и привезли принцессу Рагнхильд и ее брата по льду озера в большой и красивой повозке с шатром.
Снорри: «Хальвдан конунг увидел, что едут по льду озера — он был очень зорок. Он увидел повозку с шатром и понял, что его люди выполнили его поручение. Он велел ставить столы и разослал людей по всей округе, и пригласил к себе многих. В тот же день был справлен роскошный пир, и на этом пиру Хальвдан конунг сыграл свадьбу с Рагнхильд, и с этих пор она стала могущественной правительницей»
[290].
Тур. Да, принцесса Рагнхильд удачно переправилась по льду озера. Так внучка ютландского конунга Клак-Харальда стала норвежской королевой и матерью Харальда Прекрасноволосого, объединившего Норвегию. Что касается самого Хальвдана Черного, то ему не повезло, когда он через несколько лет попробовал проехать по льду озера Рансфьорд на повозке, запряженной лошадью. Это произошло в 860 г., и с этого начинается первая глава общеизвестной истории Норвегии. Однако, прежде чем мы перейдем к этой главе, давайте посмотрим другой источник, совершенно независимый от Снорри и известный под названием «Сага об оркнейцах».
«Сага об оркнейцах»
Пер. Эта сага не так хорошо известна, не правда ли?
Тур. Она известна, но не в Норвегии и Швеции. Ее хорошо знают в Финляндии. В старые времена было много контактов между землями на Крайнем Севере, так как границ тогда не было.
Пер. Эта сага очень важна в связи с теми интересными сведениями, которые мы обнаружили в летописях других стран, о чем мы писали в книге «Без границ». И здесь нам следует вспомнить ее, дабы создалась целостная картина.
Тур. Согласен, тем более что мало кто имел доступ к этому тексту, который был записан в Исландии незадолго до того, как Снорри написал норвежские королевские саги. Речь в этой саге идет о предках ярлов, бежавших из Норвегии на Оркнейские острова. Там эти ярлы заявили, что их норвежские предки когда-то пришли в Норвегию через Финляндию с конунгом, по имени Нор. Текст саги переведен с древненорвежского Анне Холтсмарк в 1970 г. Вот что она пишет: «Сага о ярлах Оркнейских островов относится к древнейшим исландским сагам, к разряду королевских саг. Она начинается с древнейших времен, когда Норвегия заселялась, от первых мёрских ярлов, и доходит до ярла Йона Харалдссона, умершего в 1231 г., но еще жившего в период создания саги. В саге сообщается о смерти его брата Давида, а это случилось в 1214 г., и, судя по всему, можно сказать, что „Сага об оркнейцах“ в той форме, которая до нас дошла, была написана между 1214 и 1231 гг.».
А теперь я процитирую сагу с самого начала: «…Форньётр звали конунга; он правил теми землями, которые зовутся Финнланд
[291] и Квенланд
[292], это расположено к востоку от того залива, который простирается навстречу Гандвику; мы зовем его Хельсингьяботн…»
[293]
Пер. Хельсингьяботн — это самая внутренняя часть Финского залива, а Гандвиком называлось южное побережье Белого моря в Северной России. К востоку от Хельсингботн — это, значит, в сегодняшней России, в той ее части у Ладоги, которая раньше называлась земдей квенов и позднее попала под власть Новгорода.
Тур. «…У Форньётра было три сына. Звали одного Хлер, которого мы зовем Эгир, другого — Логи, третьего — Кари; он был отцом Фрости, отца Снэра Старого»
[294].
Пер. Погоди, о нем мы недавно слышали.
Тур. Верно. Это у Снорри говорится, что, когда Ванланди пришел в землю финнов, он взял за себя Дриву, дочку Снэра Старого. А когда он уехал от нее обратно в Швецию, финны так разозлились, что решили вернуть его назад. А когда он умер, то его сын Висбур приехал в землю финнов и потребовал престол своего отца. Так что и Снорри, и «Сага об оркнейцах» совершенно независимо друг от друга ссылаются на одного и того же старого конунга в земле финнов, точнее, в тех краях, что находятся к востоку от сегодняшней Финляндии. Однако вернемся к тексту саги.
«…Его сын звался Торри, у него было два сына, одного звали Нор, а другого — Гор; дочь его звали Гои
[295]. Торри славился любовью к жертвоприношениям; каждый год в середине зимы он устраивал праздник, который назвали „Жертвоприношение Торри“, и от этого произошло название месяца»
[296].
Пер. «Жертвоприношение Торри» означало, должно быть, жертвоприношение Тору… Давай продолжим.
Тур. «…Однажды зимой, во время этого праздника случилось так, что пропала Гои. Они искали ее, но не нашли. Когда месяц закончился, Торри велел продолжить жертвоприношения, и теперь они занимались этим, чтобы узнать, куда делась Гои. Они назвали это „жертвоприношение Гои“. Но о ней они все равно ничего не узнали.
Через три зимы ее братья дали обет, что будут искать ее таким образом: Нор будет искать на суше, а Гор во внешних шхерах и на островах, он отправился на корабле. У обоих братьев были большие дружины. Гор повел свои корабли по заливу и так в Аландсхав. Затем ведет он поиск повсюду в Свейских шхерах и на всех островах в Балтийском море, после этого — в Гаутских шхерах и затем в Данмарке и обследует там все острова. Он нашел там родственников, потомков Ле Старого из Лэсо, а оттуда он поплыл еще дальше, но ничего не узнал о своей сестре…»
Все это свидетельствует о том, что автор саги хорошо знал географию Балтийского моря. Речь пока шла об одном из братьев. Посмотрим, куда же отправился другой брат?
«…A Нор, его брат, дождался, пока на плоскогорьях ляжет снег и будет хорошая лыжня. После этого он отправился из Квенланда во внутреннюю часть фьорда и пришел туда, где жили люди, которые назывались лаппами; это за Финнмарком…»
Финнмарк начинается с Варангер-фьорда и полуострова Варангер. За ними находятся Кольский полуостров и Белое море, т. е. теперешняя Россия. Здесь жили только квены или саамы, которых Снорри называл лопарями. Очевидно, это была своего рода ничейная земля, поскольку здесь обитали только кочевники, однако они вовсе не хотели пускать сюда чужеземцев.
Продолжим. «…Лаппы хотели запретить им проезд, и началась там битва; и такая сила и колдовство были на стороне Нора и его людей, что недруги их были напуганы, едва они услышали их военный клич и увидели обнажаемые мечи; и пустились лаппы в бегство. А Нор отправился оттуда к горам Кьёль
[297]. Они долго шли и не встречали людей, охотились на зверей и птиц, чтобы раздобыть пищу. Так они шли, пока вода не начала течь на запад с гор, они шли вдоль берегов рек, пока не вышли к морю. Там они увидели большой фьорд, морской залив, и по берегу его большие селенья, и вдоль фьорда большие долины.
Народ собрался и пошел против них, началась битва, но все произошло так, как обычно случалось с людьми, которые сражались против Нора: они погибали или бежали, а Нор и его люди двигались вперед, заглушая все, как сорная трава. Нор проследовал вдоль всего фьорда и покорил себе все земли вдоль берега, и стал там конунгом. Нор остался там все лето, пока не пошел снег. Тогда он отправился по долине, которая шла от фьорда на юг. Эта земля на берегу фьорда называется теперь Тронхейм…»
Далее мы узнаем, что Нор велел части своих людей идти на юг вдоль берега, а сам отправился через горы в долину, ведущую к озеру Мьёса. Там он получил известие о том, что его люди проиграли битву конунгу, по имени Сокне, в одном из фьордов Вестланна
[298]. Нор отправился на запад и встретил конунга Сокне во фьорде, который теперь называется Согнефьорд. Там конунги сразились друг с другом, и Сокне погиб со многими своими людьми. Вот текст из саги:
«…После этого Нор отправился вглубь страны по фьорду, идущему на север от Согнефьорда, где раньше правил Сокне. Теперь эта местность называется Сокнеланн. Нор пробыл там долго, и сейчас этот фьорд называется Нуре-фьорд. Там он встретил своего брата Гора, но ни один из них не узнал ничего о Гои. Когда Гор пришел с юга, он подчинил себе всю землю вдоль берега, и теперь братья поделили между собой земли. Нор получил все земли на материке, а Гор — все острова, между которыми и материком можно было проплыть на корабле прямым курсом, не поворачивая руля. Оттуда Нор отправился в Оппланн и пришел в местность, которая сейчас называется Хедмарк. Там правил конунг, которого звали Хрольв из Берга. Он был сыном великана Сваде из местности к северу от Довре. Именно Хрольв похитил Гои Торрисдаттир и увез ее из земли квенов. Он тут же вышел к Нору и предложил ему поединок. Они долго боролись, но никто из них так и не был ранен. Наконец, они помирились. Нор взял в жены сестру Хрольва, а Хрольв получил Гои…»
Пер. Тот факт, что Хрольв похитил Гои из земли квенов, означает попросту, что уже тогда были контакты между Норвегией и землей к востоку от Варангер-фьорда, к берегам Белого моря.
Харальд Прекрасноволосый
Тур. Таким образом, содержание «Саги об оркнейцах» соответствует содержанию королевских саг Снорри, созданных в Исландии. Легко понять, каким образом эта сага, повествование которой заканчивается Рёгнвальдом ярлом, попала на Оркнейские острова. Ярл Рёгнвальд получил Оркнейские острова от Харальда Прекрасноволосого в благодарность за то, что тот боролся на его стороне. Согласно Снорри, сын ярла Рёгнвальда погиб в борьбе за объединение Норвегии, поскольку сражался вместе с отцом на стороне конунга Харальда. Чтобы возместить ярлу Рёгнвальду эту утрату, конунг Харальд подарил ему Оркнейские и Шетландские острова. Ярл тотчас же отдал обе земли своему брату Сигурду, который получил таким образом титул ярла и поселился на Оркнейских островах, а сам Рёгнвальд последовал за конунгом Харальдом в Норвегию.
Ярлы Рёгнвальд и Сигурд велели, по всей вероятности, записать сагу о конунге Норе, потомке Снэра Старого, пришедшего с востока в самую северную часть Норвегии. Эта боковая ветвь скандинавского королевского рода упоминается Снорри лишь в связи с рассказом о Ванланди, взявшем за себя дочь Снэра Старого, и его сыне Висбуре, пятом по счету в роду Инглингов, потребовавшем для себя титул конунга в земле финнов. Таким образом, когда конунг Харальд Прекрасноволосый вместе с ярлом Рёгнвальдом отправился из своего скромного королевства в Вестфольде на север для завоевания остальной части Норвегии, он имел в лице ярла своего дальнего родственника. Мы не знаем, как далеко заехал Харальд, но он покорил все земли, вплоть до Варангера в Финнмарке, расположенного рядом с землями, которые примерно в то же время оформились как Древнерусское государство.
Пер. Однако конунг Харальд, начав совершать походы за границу, встречался со своими дальними родственниками не только в Скандинавских странах и на островах Северного моря. Расскажи немного о Харальде Прекрасноволосом. Ты же ходил в школу в Норвегии. Ведь этот конунг оставил заметный след в мировой истории.
Тур. Совершенно верно. Хотя он и не был родоначальником всемирной истории, как я когда-то думал в детстве, когда весь мир для меня был Норвегией, но то, о чем мы
рассказываем теперь, никто из нас не проходил в школе. А именно, то, что наш Харальд Прекрасноволосый во время своих походов встречал чужеземных конунгов, утверждавших, что они ведут свой род от Одина, т. е. точно так же, как Харальд и другие скандинавские конунги.
Мы добрались до действительно переломного момента в истории всей Европы. Харальд Прекрасноволосый правил в 865–933 гг., был язычником и гордился своим королевским происхождением от Одина. Христианство уже было известно, но оно не признавалось пока норвежскими викингами. Новая вера проникала в Скандинавию из стран Средиземноморья тремя различными путями: с берегов Черного моря вверх по рекам Древней Руси; из королевства франков на север через европейский континент и через Гибралтар, Ирландию и Англию.
Конунг Харальд вырос в период расцвета эпохи викингов. Скандинавы носились на своих военных ладьях вокруг всей Европы. Харальд получил престол от отца в Вестфольде, когда ему было всего десять лет, а его дядя возглавил дружину. Когда он повзрослел настолько, что стал подумывать о выборе королевы, то завоевал сначала Рингерике и Хедмарк, Гудбраннсдален и Хаделанн, Тутен и Румерике и послал гонцов к красавице Гюде, дочери конунга в Хёрдаланде, которая воспитывалась у одного крупного бонда в Вальдресе. Она была горделива и, должно быть, слышала, что Норвегия когда-то была единым государством. Во всяком случае, согласно Снорри, именно ей мы обязаны объединением Норвегии.
Снорри: «Когда гонцы приехали, они передали девушке, что им было велено. Она же ответила им, что не хочет тратить свое девство ради конунга, у которого и владений-то всего несколько фюльков.
„И мне удивительно, — сказала она, — что не находится такого конунга, который захотел бы стать единовластным правителем Норвегии, как Горм конунг стал в Дании или Эйрик в Уппсале“… И тогда ответил конунг Харальд, что Гюда не сказала ничего дурного и не сделала ничего такого, за что ей следовало бы отомстить. Скорее, он должен быть ей благодарен, ибо „мне кажется теперь удивительным, — сказал он, — как это мне раньше не приходило в голову то, о чем она мне напомнила. Я даю обет и призываю в свидетели бога, который меня создал и всем правит, что я не буду ни стричь, ни чесать волос, пока не завладею всей Норвегией с налогами, податями и властью над ней, а в противном случае умру“»
[299]
Тур. История ничего не говорит о том, какого бога взял в свидетели конунг Харальд, однако он завоевал все области в Норвегии, вплоть до самого севера, направив посланников даже к саамам для взимания дани. И только тогда он попросил постричь себе волосы и сбрить бороду.
Снорри: «Харальд конунг был однажды на пиру в Мёре у Рёгнвальда ярла. Он теперь подчинил себе всю страну. Он помылся в бане и велел причесать себя. Рёгнвальд ярл постриг ему волосы, а они были десять лет не стрижены и не чесаны. Его называли поэтому Харальд Косматый. А теперь Рёгнвальд дал ему другое прозвище и назвал его Харальдом Прекрасноволосым. И все, кто его видели, говорили, что Харальд по праву носит это прозвище, ибо волосы у него были густые и красивые…»
[300]
Пер. Это уже фантазия, чистая символика. «Сага об оркнейцах» была написана до мёрских ярлов… Итак, теперь круг замкнулся: мёрский ярл Рёгнвальд в Мёре постриг Харальду волосы, так как он стал единовластным конунгом всего норвежского королевства.
Снорри: «Конунг Харальд стал теперь единовластным королем всей Норвегии. Тут он вспомнил, что ему когда-то сказала та гордая девушка, и послал людей за ней, велел доставить ее к нему и положил её с собой. У них были такие дети: Алов была старшей, затем шли Хрёрек, Сигтрюгг, Фроди и Торгильс…»
[301]
Тур. Алов была дочерью, а Хрёрек старшим сыном от первой любви Харальда… Мы еще увидим, насколько важно то, что Снорри называет имена многих детей Харальда Прекрасноволосого. И хотя далеко не все унаследовали его престол, многие из сыновей были викингами и ходили в походы в чужеземные страны, а кое-кто оставил след в истории других стран.
Снорри: «У Харальда конунга было много жен и много детей. Одну из его жен звали Рагнхильд. Она была дочерью Эйрика, конунга Йотланда
[302]. Ее называли Рагнхильд Могущественная. Их сыном был Эйрик Кровавая Секира. Другой его женой была Сванхильд, дочь Эйстейна ярла. Его детьми от нее были Олав Альв Гейрстадира, Бьёрн и Рагнар Рюккиль. Еще был Харальд конунг женат на Асхильд, дочери Хринга из Хрингарики, сына Дага. Его детьми от нее были Даг и Хринг, Гудрёд Скирья и Ингигерд. Люди говорят, что, когда Харальд женился на Рагнхильд Могущественной, он прогнал девять своих жен…. Дети Харальда конунга воспитывались там, где жила родня их матери»
[303].
Тур. Самому последнему из сыновей Харальда Прекрасноволосого было суждено сыграть очень важную роль в нашей погоне за Одином. Этот младший сын заслуживает особого внимания, поскольку он стал первым из родившихся в Норвегии королевских сыновей, который рос за границей и получил христианское воспитание.
Снорри: «Когда Харальду было почти семьдесят лет, ему родила сына женщина, которую звали Тора Жердинка с Морстра, потому что она была родом с острова Морстр. У нее была хорошая родня, она была в родстве с Хёрда-Кари. Она была красавица на редкость. Ее называли рабыней конунга. Многие, и мужчины, и женщины, были тогда обязаны службой конунгу, хотя и происходили из хорошего рода. Тогда было в обычае у знатных людей тщательно выбирать тех, кто должен окропить водой ребенка и дать ему имя. И вот, когда Торе подошла пора рожать, она захотела поехать к Харальду конунгу. Он был тогда на севере, в Сэхейме, а она была в Морстре. Она отправилась на север на корабле Сигурда ярла. Однажды ночью они стояли у берега, и тут Тора родила ребенка на скале у конца сходен. Это был мальчик. Сигурд ярл окропил мальчика водой и назвал его Хаконом по своему отцу Хакону, хладирскому ярлу. Мальчик скоро стал красивым и статным и очень похожим на отца. Харальд конунг позволил мальчику остаться при матери, и они с матерью жили в поместьях конунга, пока мальчик не вырос.
Адальстейном звали конунга, который правил тогда в Англии. Он начал править недавно. Его прозвали Победоносным или Верным. Он послал людей в Норвегию к Харальду конунгу с таким поручением: посланец должен предстать перед конунгом и вручить ему меч с позолоченной рукоятью и навершием. А ножны этого меча были отделаны золотом и серебром и украшены самоцветными камнями. Посланник протянул рукоять меча конунгу и сказал:
— Вот меч, что Адальстейн конунг просит тебя принять от него.
Конунг взял рукоять, и посланец сразу же сказал:
— Вот ты взял меч, как и хотел наш конунг, и теперь ты — его подданный, ибо ты принял от него меч.
Тут конунг понял, что это было сделано ему в насмешку. Он не хотел быть ничьим подданным. Но он вспомнил, что обычаем его было, когда он вдруг почувствует ярость или его охватит гнев, сдержать себя, дать гневу улечься и рассмотреть дело спокойно. Он так и сделал и рассказал о случившемся своим друзьям. Они все посоветовали ему, что прежде всего надо позволить посланным беспрепятственно вернуться домой.
На следующее лето Харальд конунг послал корабль на запад в Англию и назначил корабельщиком Хаука Длинные Чулки. Хаук был доблестным витязем и очень любезен конунгу. В его руки Харальд отдал Хакона, своего сына. Хаук поплыл на запад в Англию к Адальстейну конунгу и застал его в Лундуне. Там как раз шел торжественный пир. Хаук говорит своим людям, когда они входят в пиршественную палату, как они должны там держаться: тот должен последний выйти, кто первый входит, и все должны стоять в ряд перед столом, и у каждого меч должен быть на левом боку, но прикрытый плащом, так чтобы его не было видно. И вот они входят в палату. Их было тридцать человек. Хаук подходит к конунгу и приветствует его. Конунг отвечает на приветствие. Тогда Хаук берет мальчика Хакона и сажает его на колени Адальстейну конунгу. Конунг смотрит на мальчика и спрашивает Хаука, почему он так делает. Хаук отвечает:
— Харальд конунг просит тебя воспитать его сына от рабыни.
Конунг был в большом гневе и схватил меч, который лежал рядом с ним, и взмахнул им, как бы желая зарубить мальчика.
— Он сидел у тебя на коленях, — говорит Хаук. — Теперь ты можешь убить его, если хочешь, но этим ты не уничтожишь всех сыновей Харальда конунга. Затем Хаук и все его люди удалились и отправились к кораблю, и, когда они приготовились к плаванью, они вышли в море и вернулись в Норвегию к Харальду конунгу. Тот был очень доволен. Ибо люди говорят, что тот, кто воспитывает чужого ребенка, менее знатен, чем отец этого ребенка. Из этих столкновений конунгов видно, что каждый из них хотел быть выше другого. Однако Достоинство ни того, ни другого не пострадало от этого. Каждый из них оставался верховным конунгом в своей стране до самой смерти»
[304].
Тур. Когда маленького сына конунга Харальда Прекрасноволосого посадили на колени английскому конунгу Адальстейну, произошла символическая встреча двух потомков Одина, предки которых жили в различных местах в течение тысячи лет, т. е. с тех самых пор, когда Один по дороге на Север посадил троих своих сыновей править в Саксланде. Итак, посланник Хаук посадил маленького принца Хакона на колени английскому конунгу. Принц вырос в Англии и получил имя Хакон Воспитанник Адальстейна
[305]. Так были завязаны нити между многими королевскими родами. Кольцо Одина замкнулось.
Один в английской королевской династии
Пер. Этот заголовок кажется, на первый взгляд, чистым вымыслом. Если мы не сможем документально подтвердить этот тезис, то мы будем лить воду на мельницу тех, кто не доверяет Снорри и критикует нас за веру в Одина.
Тур. Однако все оказалось не так сложно. Я заказал из Лондона экземпляр «Англосаксонских хроник». Ведь Майкл Свантон, профессор по средневековой истории Эксетерского университета, перевел основные старейшие английские рукописи, снабдив их списками предков британской королевской династии.
Пер. Эти рукописи появились за триста лет до Снорри, и никто не отважился сомневаться в их подлинности. Мы можем, пожалуй, согласиться с профессором в том, что Винчестерская рукопись
[306] является важнейшей. Вот его слова:
«Винчестерская рукопись (Кембридж. Колледж Корпус-Кристи, рукопись 173) — это старейшая рукопись из всех сохранившихся и единственная, язык которой не был приведен в соответствие с поздней западносаксонской литературной нормой. В конце IX в. один ученый монах из Кафедрального собора в Винчестере записал генеалогию короля Альфреда, а затем приступил к копированию рукописи. Он переписал ее до конца хроники за 891 г., поставил на полях дату DCCCXCII и на этом остановился».
Тур. Давай начнем с генеалогии короля Альфреда, которая приводится в предисловии к этой старинной Винчестерской рукописи. Ведь король Альфред был дедом короля Адальстейна, на колени которого посадили Хакона. Рукопись не идет дальше 891 г., однако у Адальстейна были те же предки, что и у его деда. Итак, мы ищем старейшего прародителя короля Альфреда. Цитирую:
«Генеалогия короля Альфреда. Когда закончился 494 г. после Рождества Христова, Кердик
[307] и его сын Кинрик приплыли на пяти кораблях и вышли на берег Кердикесора. Кердик был потомком Элесы, а Элеса — потомком Эслы, а Эсла — потомком Гевиса, а Гевис — потомком Вига, а Виг — потомком Фриавайна, а Фриавайн — потомком Фритхугара, а Фритхугар — потомком Бранда, а Бранд — потомком Бальдега, а Бальдег — потомком Водена.
Через шесть лет Кердик и Кинрик завоевали королевство западных саксов. Они были первыми предводителями, отвоевавшими у бриттов земли западных саксов…»
Пер. Мало кто знает о том, что коренным населением Англии были бритты. В начале нашего летоисчисления Англия была завоевана римлянами. В 410 г. после ухода римлян сюда из Дании и Северной Германии пришли англосаксы и начали свои завоевания. Смесь этих народов образовала сегодняшнее население Англии.
Тур. В своей книге «Боги и герои Северного мира»
[308] историк Кристина Е. Фелл установила очень важный факт, что «тот бог, которого англосаксы называли Воден и который на древнегерманском языке называется Водан или Вуотан, в Скандинавии называется Один…»
Далее она указывает еще на один интересный факт: «Специалисты, занимающиеся скандинавскими языческими верованиями, полагают, что Один (англосаксонский Воден) был богом королей, воинов и поэтов, а Тур был богом крестьян и пахарей. Распространяется ли это положение на англосаксонскую Англию, сомнительно. Однако в пользу этого предположения говорит тот факт, что предки большинства англосаксонских королей восходят к Водану (Водену), но не к Тору (Тунор) …И вообще, имя Воден встречается в англосаксонских рукописях главным образом в генеалогии королевских семей…»
Пер. Это вполне согласуется с доводами Дж. С. Райана, которые он приводит в своей диссертации «Один в Англии», опубликованной в журнале «Folklore» (Vol.74, 1963). По мнению Райана, в Англии нет никаких указаний на то, что Воден был богом войны или занимал особое место в пантеоне богов. Он занимал, скорее, одно из мест в королевском ряду. Так что миф о том, что он сидит в Вальхалле и ожидает там всех, кто пал в бою, возник, очевидно, после того, как Один попал в Скандинавию.
Один был, по всей вероятности, не более божественен, чем остальные конунги, когда он оставил на континенте своих сыновей, ставших прародителями англосаксонских королевских династий. Лишь придя в Швецию, он сумел хитростью возвысить себя и своих жрецов и обожествить их.
Тур. Мы никогда не думали, что «Эдда» Снорри содержит нечто иное, кроме мифологии. Однако когда мы узнали из «Англосаксонских хроник», что самым древним прародителем короля Альфреда был Воден, то решили, что неплохо бы вновь обратиться к «Эдде». Там сказано, что Один оставил троих сыновей управлять в Саксланде, а сам продолжил свое путешествие в Скандинавию. Мы подумали, что стоит вернуться к именам сыновей Одина, которых он оставил по дороге на Север. Мы раньше не воспринимали эти имена всерьез. Однако, если наше предположение верно, они, должно быть, встретятся нам в английской генеалогии.
Снорри (из «Эдды»): «Они не останавливались, пока не пришли на Север в страну, что зовется страною саксов. Там Один остался надолго, подчинив себе всю страну. Для надзора над этой страной Один оставил там троих своих сыновей. Одного из них звали Вегдег. Он был могучим конунгом и правил восточной страной саксов. Сына его звали Витргильс, у него были сыновья Витта, отец Хейнгеста, и Сигар, отец Свебдега, которого мы зовем Свипдаг. Второго сына Одина звали Бальдег, а мы называем его Бальдр. Ему принадлежала земля, что зовется теперь Вестфаль. У него был сын Бранд, а у того сын Фрьодигар, которого мы называем Фроди. Сына Фроди звали Фреовин, а у того был сын Увигг, а у Увигга — Гевис, которого мы зовем Гаве»
[309].
Тур. Третьего сына Одина звали Сиги, а сына его — Рерир. Однако нам следует взять на заметку Бальдега, которого, как отметил Снорри, в Скандинавии называют Бальдр, но в англосаксонской летописи он зовется Бальдег.
Пер. Да, стоит только сопоставить имена потомков Одина, приводимые Снорри, с именами в англосаксонской летописи, и мы получим отличное доказательство того, что английский Воден совпадает со скандинавским Одином.
| «Эдда» Снорри |
«Англосаксонские хроники» |
| Один |
Воден |
| Бальдег / Бальдр |
Бальдег |
| Бранд |
Бранд |
| Фрьодигар / Фроде |
Фритхугар |
| Фреовин |
Фриавайн |
| Увигг |
Виг |
| Гевис / Гаве |
Гевис |
| |
Эсла |
| |
Элеса |
| |
Кердик |
Сходство настолько бросается в глаза, что можно было бы заподозрить Снорри в том, что он, сидя в Исландии, скопировал английский список королей. Однако тогда он не закончил бы Гевисом, ибо английский список доходит до Альфреда, и Снорри мог бы добавить то, что отсутствует в английском списке от Альфреда до Адальстейна. Начиная с двух мореплавателей Кердика и его сына Кинрика, приплывших в Англию на пяти кораблях, «Англосаксонские хроники» приводят не только имена, но и годы жизни и время правления каждого из королей, вплоть до Альфреда. У Снорри список потомков Бальдега заканчивается до того, как Кердик и Кинрик вышли на английский берег. В таком случае у нас есть основания полагать, что контакты между Скандинавией и Саксландом после поколения Гевиса были прерваны и Снорри не имел доступа к информации о тех, кто пришел в Англию.
Винчестерская рукопись заканчивается сообщением о братьях Этельберте и Этельреде, которые передали престол своему брату Альфреду. Вот этот текст: «И затем их брат Альфред сел на престол; ему было тогда 23 года; и прошло 300 и 96 лет с тех пор, как его предки завоевали у бриттов земли западных саксов…»
Тур. Давай взглянем и на Кентерберийскую рукопись
[310]. Она несколько моложе, но все же на сто лет старше «Эдды» Снорри. В ней приводятся точные даты. Начнем с 547 г. н. э.
Согласно рукописи: «Ида, который происходил из королевского рода Нортумбрии, взошел на престол и правил двенадцать лет. Он построил Бамбург, окружив его сперва частоколом, а потом каменной стеной. Ида был потомком Эоппы, а Эоппа был потомком Эзы, а Эза — потомком Ингуя, а Ингуй — потомком Ангенвита, а Ангенвит — потомком Алока, а Алок — потомком Бенока, а Бенок — потомком Бранда, а Бранд — потомком Бальдега, а Бальдег — потомком Водена, а Воден — потомком Фритховульфа, а Фритховульф — потомком Финна, а Финн — потомком Годвульфа, а Годвульф — потомком Геатса.
В 552 г. н. э. Кинрик сражался с бриттами в местечке под названием Сейлсбери и обратил их в бегство. Кердик был отцом Кинрика и потомком Элесы, а Элеса — потомком Эслы, а Эсла — потомком Гевиса, а Гевис — потомком Вига, а Виг — потомком Фриавайна, а Фриавайн — потомком Фритхугара, а Фритхугар — потомком Бранда, а Бранд — потомком Бальдега, а Бальдег — потомком Водена».
Пер. Да, сюда попали не только потомки Одина, но даже его предки. Давай вернемся к «Эдде», в которой Снорри также прослеживает мифологические времена.
| «Эдда» Снорри |
Кентерберийская рукопись |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| Бьяв / Бьяр |
|
| Ят |
Геатс |
| Гудольв |
Годвульф |
| Финн |
Финн |
| Фриаллав / Фридлейв |
Фритховульф |
| Один |
Воден |
| Бельдег / Бальдр |
Бельдег |
| Бранд |
Бранд |
| |
Бенок |
| |
Алок |
| |
Ангенвит |
| |
Ингви |
| |
Эса |
| |
Эоппа |
| |
Ида (AD 547) |
Откуда Снорри знал про Трою?
Тур. Ту часть «Эдды», которая предшествует рассказу об Одине, мы, как и все остальные, считали плодом воображения Снорри. Однако, обнаружив, что приведенная Снорри последняя часть списка мифологических предков Одина из Трои частично совпадает со списком нортумбрийских королей в Англии, мы понимаем, что Снорри не мог сочинить все это, сидя в Исландии. Должно быть, Снорри и автор Кентерберийской рукописи имели доступ к документам, которые в последующее тысячелетие были утеряны и стали недоступными для современного мира. К тому же Троя теперь больше не является мифом, как думали ученые до тех пор, пока Шлиман в 1870 г. не раскопал ее руины и не доказал ее существование.
Пер. Давай посмотрим, что Снорри пишет о Трое.
Снорри (из «Эдды»): «Вблизи середины земли был построен град, снискавший величавую славу. Он назывался тогда Троя, а теперь страна турков. Этот град был много больше, чем другие, и построен со всем искусством и пышностью, которые были тогда доступны. Было там двенадцать государств, и был один верховный правитель. В каждое государство входило немало обширных земель. В городе было двенадцать правителей. Эти правители всеми присущими людям качествами превосходили других людей, когда-либо живших на земле.
Одного конунга в Трое звали Мунон или Меннон. Он был женат на дочери верховного конунга Приама, ее звали Троан. У них был сын, по имени Трор, мы зовем его Тором. Он воспитывался во Фракии
[311] у герцога, по имени Лорикус. Когда ему минуло десять зим, он стал носить оружие своего отца. Он выделялся среди Других людей красотой, как слоновая кость, врезанная в дуб. Волосы у него были краше золота. Двенадцати зим отроду он был уже в полной силе. В то время он поднимал с земли разом десять медвежьих шкур, и он убил Лорикуса герцога, своего воспитателя, и жену его Лору, или Глору, и завладел их государством Фракией. Мы зовем его государство Трудхейм.
Потом он много странствовал, объездил полсвета и один победил всех берсерков, всех великанов, самого большого дракона и много зверей. В северной части света он повстречал прорицательницу, по имени Сибилла, а мы зовем ее Сив, и женился на ней. Никто не ведает, откуда Сив родом. Она была прекраснейшей из женщин, волосы у нее были подобны золоту. Сына их звали Лориди, он походил на своего отца. У него был сын Эйнриди, а у него — Вингетор, у Вингетора — Вингенер, у Вингенера — Моди, у Моди — Маги, у Маги — Сескив, у Сескива — Бедвиг, у Бедвига — Атри, а мы зовем его Аннан, у Атри — Итрманн, у Итрманна — Херемод, у Херемода — Скьяльдун, его мы зовем Скьёльд, у Скьяльдуна — Бьяв, мы зовем его Бьяр, у Бьява — Ят, у Ята — Гудольв, у Гудольва — Финн, у Финна — Фриалав, мы зовем его Фридлейв, а у того был сын Воден, мы зовем его Один»
[312].
Тур. Здесь Снорри совершенно четко идентифицирует Водена с Одином. И если английские и исландские историки указывают идентичных предков и потомков этой личности, то не может быть сомнений в том, что речь идет об одном и том же человеке.
Пер. А, кроме того, Снорри называет здесь имена, непосредственно связанные с историей Древнего мира. Так, он называет верховного царя Трои Приама, а так оно и было, согласно Гомеру и другим письменным источникам древности.
Тур. Мы имеем веские доказательства того, что Снорри знал источники по литературе Древнего мира, которые в те времена не были известны в Норвегии. Он называет также Меннона, и речь идет, конечно, об Агамемноне, поскольку «ага» — это древнегреческое почетное звание правящих монархов. Ага-Мемнон, или царь Мемнон, жил одновременно с царем Приамом, или Приамосом, как его называет Снорри. И, согласно Гомеру, именно царь Агамемнон из Микен в Древней Греции осадил Трою и победил царя Приама. По тогдашним обычаям, царь-победитель обычно брал в жены одну из дочерей побежденного. У Гомера в «Илиаде» нет принцессы Троан из Трои, которую Снорри называет женой царя Мемнона. И все же упоминание Снорри имен Приама и Меннона в связи с Троей свидетельствует о том, что он не просто сочинял истории про разных людей и разные страны, сидя в Исландии и не имея доступа к историческим источникам.
Арнт Лёфтингсму, норвежский специалист по истории религии, анализируя расположение Трои на древней карте мира в своей книге «Эдда на востоке»
[313], ссылается на украинского историка Омельяна Прицака.
Вот что он пишет: «Прицак приводит, в частности, данные о том, что название „Троя“ отмечено на реке Дон на карте мира, составленной арабским географом Аль-Идриси в 1154 г. …Это подтверждает сведения, приводимые Снорри в „Саге об Инглингах“ и „Видении Гюльви“…»
Пер. Аль-Идриси был, как известно, придворным географом нормандского конунга Рожера, ставшего королем Сицилии.
История франков
Тур. Под заголовком «Троянцы переселяются» Лёфтингсму, продолжая свое повествование, пересказывает сказание франков о Трое из так называемой «Истории франков», датируемой примерно 720 г.
[314]. Из этого сказания следует, что после Троянской войны последовали битвы в болотистой местности недалеко от впадения реки Дон в Азовское море.
«История франков» повествует о том, как греческие цари, объединившись, пошли войной на Трою. Произошла большая битва, в которой большинство троянцев погибло. Оставшиеся в живых разделились на две группы. Часть из них отправилась на запад под предводительством царя Энея
[315], легендарного родоначальника Рима и римлян. Остальные, сев на корабль, поплыли на восток и добрались до впадения реки Танаис в Азовское море. Там они и поселились, т. е. в том самом месте, где Один впоследствии основал свое государство.
Как пишет Лёфтингсму, позднее здесь побывал и римский император Валентиниан, который воевал с аланами
[316] и одержал над ними победу. Аланы бежали на Меотийское болото, т. е. к Азовскому морю, и засели там. Император объявил, что тот, кто отважится проникнуть в болото и изгнать оттуда алан, будет на десять лет освобожден от налогов. Тогда троянцы зашли в болото и убили мечами алан. И за это, согласно «Истории франков», римский император назвал победивших троянцев «франками»
[317]. «Именно это племя позднее пришло на запад к берегам Рейна в земли теперешней Франции…», — пишет Арнт Лёфтингсму.
Пер. Этим, видимо, объясняется тот факт, что франки первый же завоеванный ими у римлян город назвали Троей (современный Труа — Troyes).
Тур. Мы еще вернемся к аланам, жившим на берегу Азовского моря и упоминаемым в «Истории франков». Это были самые первые асы.
Пер. Здесь Снорри еще раз приводит очень интересный географический факт. Троя находилась на восточной стороне Босфорского пролива, а значит, в Малой Азии. Фракия, также упоминаемая Снорри, находилась с западной стороны Босфорского пролива, т. е. в Европе. Однако это название во времена Снорри уже вышло из употребления. Таким образом, налицо еще одно доказательство того, что Снорри пользовался древней птолемеевой картой мира
[318], ибо на этой карте Фракия помещена в европейской части. К XIII в., когда жил Снорри, фракийцы
[319] уже давно ассимилировались с другими народами. Полагают, что легендарные средиземноморские «народы моря»
[320] были родом из Фракии. Они исчезли из мировой истории, проиграв большую морскую битву египетскому фараону Рамзесу II в XIII в. до н. э., т. е. примерно одновременно с падением Трои.
Тур. Я был очень удивлен, когда узнал, очутившись на берегу Азовского моря, что пролив, ведущий из Азовского моря в Черное, который сейчас называется Керченским, греки называли Боспором
[321]. Они как будто перенесли с собой пролив со своей родины в свое новое царство у берегов Азовского моря. Это царство, основанное ими в Крыму на западной стороне пролива, идущего из Азовского моря, получило название Боспорского царства
[322]. Как мы увидим, оно сыграло большую роль в истории крепости Азов в течение столетий, предшествовавших рождению Христа. Интересно также отметить, что граница между двумя частями света в старые времена шла по реке Тана, Азовскому морю, далее по одному Боспору в Черное море, а затем по другому Боспору, образующему границу между Европой и Малой Азией.
Однако давайте вернемся к сказанию о Трое. Достаточно указать на то, что Снорри был не первым, упомянувшим тот факт, что беглецы из Трои в Малой Азии поселились около Танаиса, там, где река Тана, т. е. Дон, впадает в Азовское море. Об этом упоминается и в «Истории франков», написанной независимо от «Англосаксонских хроник» в первой половине VIII в. н. э., т. е. за 500 лет до того, как Снорри создал свою «Эдду». Интересно, какими же источниками он пользовался?..
Пер. Очевидно, «История франков» была известна в Исландии в центре Одди, созданном благодаря французскому влиянию. Даже наш шведский профессор Виктор Ридберг, начавший травлю Снорри в 1880-х гг., признавал, что эта часть «Истории франков» заслуживает внимания. Затем этот факт был упомянут в 1990 г. норвежцем Арнтом Лёфтингсму в книге «Эдда на востоке». Он ссылался на известного украинского историка Омельяна Прицака, который проанализировал знаменитую древнерусскую повесть «Слово о полку Игореве» о походе князя Игоря Святославича в 1185 г. к берегам Дона. Согласно Арнту Лёфтингсму: «Омельян Прицак не видит причин сомневаться в том, что автор повести переместил древнегреческий город Трою из Малой Азии в город Тмутаракань
[323], находившийся к югу от устья Дона. Это свидетельствует о том, что такая версия была, видимо, известна на Руси и что, возможно, имеется связь с утверждением Снорри о том, что асы жили когда-то в городе Троя на реке Дон.
Прицак приводит, в частности, данные о том, что название „Троя“ отмечено в районе реки Дон на карте мира, составленной арабским географом Аль-Идриси в 1154 г.
На этот факт несколько лет назад обратил мое внимание Хокон Станг. Он подтверждает сведения, приводимые Снорри в „Саге об Инглингах“ и в „Видении Гюльви“.
…Люди в Западной Европе давно привыкли думать, что Троя находилась в Малой Азии, и ни в каком ином месте. Однако франкское сказание о Трое указывает на то, что Троянские войны частично происходили в районе реки Дон, недалеко от Азовского моря.
Франкское сказание содержится в сочинении „Деяния франков“
[324], составленном около 720 г. Приведем его в кратком изложении по изданию Виктора Ридберга: „Троянцы в Малой Азии были великими воителями, грабившими соседние страны. Тогда греческие цари объединились и пошли войной на троянского царя Энея. Произошла битва, и большинство защитников Трои погибли. Однако царь Эней и часть войска продержались еще десять лет, после чего греки взяли город и Троя пала. Эней и те, кто за ним последовал, отправились в Италию. Остальные — 12 тысяч человек — поплыли на кораблях на восток и добрались до берегов реки Танаис (Дон). Они прибыли в Паннонию
[325] на берегу Азовского моря и основали там город, который назвали Сикамбрия…“ Затем рассказывается о том, что римский император Валентиниан начал войну с аланами и победил их, однако они бежали на Меотийское болото (Азовское море) и засели там…»
Тур. Эти факты еще раз оправдывают Снорри, которого обвиняли в сочинительстве. А оказывается, что он воспользовался тем же материалом, корни которого обнаруживаются в Англии, Франции и России.
Пер. Одна из жемчужин Азовского музея — большой «горит». Это комбинированный колчан для лука и стрел, который носили на боку скифские воины. Это великолепная работа греческого золотых и серебряных дел мастера, датируемая IV в. до н. э. Колчан изготовлен, по всей вероятности, в Танаисе. Эта роскошная вещь имеет удивительный декоративный рельеф, изображающий сюжеты из Троянской войны, в том числе сцены сказания об Ахилле. Колчан был найден российскими археологами в районе Азова в большом кургане, в котором был захоронен скифский вождь. Однако задолго до того, как был насыпан этот курган, в этом месте находилось захоронение бронзового века, т. е. захоронение времен Троянской войны. Интересно, почему этот скифский вождь заказал себе у греков колчан для стрел с сюжетами из Троянской войны? Здесь есть над чем подумать…
Тур. Давай вернемся к историческим источникам. Мы проследили прямых потомков Одина, начиная от Бальдега, пришедшего вместе с отцом с восточных берегов Азовского моря в Вестфалию в Северной Германии. Мы проследили далее потомков Бальдега, вплоть до Кердика, приплывшего на пяти кораблях в Британию и высадившегося на Кердикесора, а затем — до короля Альфреда Великого, потомка Водена, т. е. Одина в двенадцатом поколении. И не нашли никаких свидетельств того, что Один был более чем человек, как и все его потомки в королевской династии, вплоть до короля Альфреда.
Рассказ короля Альфреда о плавании норвежцев в Заполярье
Пер. Альфред был королем Англии в 871–899 гг., и он уже много знал о Норвегии задолго до того, как его внуку, королю Адальстейну, посадили на колени сына Харальда Прекрасноволосого.
Тур. По распоряжению Альфреда были записаны важные географические сведения, которые помогают понять, каким образом потомки Одина становились сборщиками податей и правителями. Именно Альфреду Великому лично стало известно о том, что существует путь на север вокруг Финнмарка к важнейшим древне-русским центрам торговли мехами и моржовым клыком, иными словами, путь к Белому морю, первому заливу по пути от незамерзающего северного побережья Норвегии. И это произошло благодаря тому, что двор короля Альфреда посетил могущественный норвежский хёвдинг из Северной Норвегии, по имени Оттар. Англичане называли его Отхере (Охтхере). Он был, по всей вероятности, знатного рода и жил за счет подати с народа, населявшего побережье Гандвика
[326], т. е. территории, расположенной сегодня со стороны российской границы. Так жители Севера называли Белое море.
В IX в. король Альфред включил путевые заметки Оттара (или Отхере) в качестве географического дополнения к первой главе исторического труда латинского автора Павла Орозия
[327], написанного в V в. В Англии до сих пор хранятся две роскошные рукописи IX–X вв. с описанием путешествия Оттара.
Вот что записал король Альфред: «Отхере сказал своему господину, королю Альфреду, что он бывал у самых северных из всех людей Севера. Он сказал, что живет в той земле к северу по Западному морю. Он сказал, однако, что эта земля находится далеко к северу отсюда; но вся она пустынна, кроме немногих мест, где то там, то здесь живут финны, охотясь зимой, а летом занимаясь рыбной ловлей у моря. Он сказал, что как-то раз захотел он выяснить, как далеко эта земля простирается на север и живет ли кто к северу от той пустыни. Тогда он отправился к северу вдоль той земли; три дня у него пустыня была все время по правому борту, а открытое море — по левому. Тогда он оказался так далеко на севере, что не заходили дальше него и охотники на китов. Тогда отправился он еще дальше на север, так далеко, как только мог он проплыть за другие три дня. Потом повернула земля на восток, или море повернуло в ту землю, он не знает, что из них, зато он знает, что там он ждал ветра западного и немного северного, и плыл потом вдоль земли так далеко, как только мог он проплыть за четыре дня. Потом он должен был там ждать хорошего северного ветра, поскольку земля повернула там к югу или море в землю, он не знает, что из них. Потом плыл он оттуда вдоль земли так далеко, как только мог он проплыть за пять дней. И там протекала большая река дальше вглубь по той земле…»
[328]
Пер. Итак, он плыл в общей сложности пятнадцать суток и сначала обогнул полуостров Варангер на крайнем севере Норвегии, а потом Кольский полуостров, зашел в Белое море и доплыл до устья Двины. А затем он поплыл вглубь страны, т. е. теперешней России. Перед нами, без сомнения, самое первое в Северной Европе описание путешествия, которое соответствует сегодняшним географическим данным. Река, до которой добрался Оттар и пошел вверх по течению, это, несомненно, Двина. Давай же вернемся к записям короля Альфреда.
«Тогда они свернули прямо в ту реку, поскольку они не осмелились дальше реки той (по морю) плыть, чтобы не вызвать вражду, поскольку земля та была вся заселена по другому берегу реки. Не встречал он до этого ни одной населенной земли, с тех самых пор как отправился он из своего дома; и на всем пути была у них справа по борту земля пустынная, если не считать рыбаков, охотников и птицеловов, и все они были финны; а слева по борту у них было открытое море…»
[329]
Тур. Это описание как по времени, так и по географическим данным соответствует маршруту вдоль побережья в северном направлении от Нурланна, затем на восток мимо Нордкапа и полуострова Варангер, затем на юг в Белое море и после этого в устье Двины. Берег реки вблизи устья и сейчас густо заселен. На восточном берегу находится город Архангельск, а когда-то здесь был построен и торговый город Хольмгард
[330]. Как и тысячу лет назад, вверх по Двине идет множество судов, вплоть до древних волоков, связывавших Двину с навигационными русскими реками, текущими в противоположном направлении — на юг и впадающими в Каспийское, Азовское и Черное моря.
У меня возникло подозрение, что Оттар был не первым норвежцем, отважившимся обогнуть Северный калот
[331] и войти в Белое море. А иначе, откуда король Альфред мог знать древнескандинавское название Белого моря — Гандвик и писать, что там имеется оседлое население — бьярмы?
Вот что пишет о них король Альфред: «Беармы
[332] весьма густо населяли землю свою; но они (Отхере и его спутники) не осмелились туда пойти. Терских
[333] же финнов земля была вся пустынна, не считая охотников, поселившихся там, и рыбаков, и птицеловов.
Много историй ему рассказали беармы как об их собственной земле, так и землях, которые есть рядом с ними, но он не знает, что там было правды, поскольку сам он не понял этого финского наречия, а беармы говорили почти на одном (с финнами) языке. Так далеко он зашел туда, помимо исследования земли, ради конекитов, поскольку у них есть прекрасные кости на месте зубов их. Несколько этих зубов они привезли королю, а шкура их (коне-китов — моржей) весьма хороша для корабельных канатов…»
[334]
Пер. Моржовый клык был самым привлекательным товаром, поступавшим из устья Двины в Белом море в торговый центр Новгород, будущую первую столицу Руси, а затем вниз по рекам — в гавани Балтийского моря и на юг, к купцам, торговавшим в устьях рек Каспийского и Черного морей. Впрочем, король Альфред называет моржа китом, только маленьким. А норвежец утверждал, что он и еще пятеро охотников убили 60 моржей за два дня охоты. Кроме того, мы узнаем также, чем обычно занимался этот гость из Норвегии, когда не путешествовал по другим странам.
Согласно королю Альфреду: «Он был очень богатый человек в той собственности, в которой у них богатство бывает, т. е. в северных оленях. Он имел еще… прирученных животных — шесть сотен. Этих животных он называет северными оленями; у него было шесть оленей-приманок, которые очень ценятся среди финнов, потому что с их помощью ловят диких оленей.
Отхере был лучшим в их земле. Было у него, однако, не более чем двадцать коров, двадцать овец и двадцать свиней, а небольшую свою землю он пашет лошадьми. Имущество таких людей в основном состоит из той дани, что платят им финны. Эта дань бывает дикими животными, птичьим пухом, китовой костью и судами, которые делаются из шкур китов и тюленей. Каждый оплачивается по его рождению. Самым высокородным должны платить пятнадцать куньих шкурок и пять оленьих, одну медвежью шкуру, десять корзин перьев, одну шубу медвежью или из выдры и два корабельных каната, каждый чтоб был длиною 60 аленов
[335]: один — из моржовой кожи, а другой — из тюленьей…»
[336]
Тур. Остальная часть записей короля Альфреда о путешествии Оттара содержит сведения о Скандинавском полуострове и походе норвежца на юг, в Данию, который он совершил до поездки к королю Альфреду.
Пер. Совершенно естественно, что Снорри ничего не сообщает в своих королевских сагах об этом Оттаре, приехавшем по собственной инициативе к королю Альфреду. Однако от английского короля мы узнаем, что этот норвежец, живший на севере среди саамов, существовал за счет высоких податей. Должно быть, Оттар был ярлом или мелким конунгом, действовавшим самостоятельно на такой большой территории — от Древнерусского государства на востоке до Британских островов на западе. Король Альфред упоминает, что Оттар был знатного рода, а это ведь происходило до того, как Харальд Прекрасноволосый установил границы Норвегии. Оттар проплыл вокруг Северного калота, не пересекая сухопутных границ и не встретив оседлого населения, пока не добрался до бьярмов на севере Руси. Финны или саамы, которые встречались ему по пути, были типичными кочевниками, которые постоянно перемещались и не устанавливали границ.
Тур. Король Альфред правил за два поколения до Харальда Прекрасноволосого, и в то время, когда
Оттар рассказывал королю Альфреду о своем путешествии, страна, которую мы сейчас называем Норвегией, не имела четких сухопутных границ. Харальд Прекрасноволосый жил одновременно с внуком Альфреда — Адальстейном, которому посадили на колени сына первого единовластного правителя Норвегии. Если понимать «Сагу об оркнейцах» буквально, то сын финского конунга Нор еще раньше объединил Норвегию в одно государство. Однако поскольку он сам был родом из района вблизи Финского залива, то он вряд ли проводил какие-либо границы между странами, расположенными к северу от полярного круга: ведь там не было каких-либо естественных природных границ и вся земля воспринималась как единое целое. После того, как растаял огромный ледник, покрывавший в ледниковый период Северную Европу, люди из более южных широт стали продвигаться на север — либо пешком вдоль речных берегов, либо на судах по рекам. Для кочующих племен существовал только один путь в Швецию или Норвегию — северный, там, где Скандинавский полуостров к северу от полярного круга соприкасается с Россией. Мы об этом никогда не думаем, но ворота к норвежскому побережью в послеледниковый период находились на северо-западе Руси. До того, как на континенте получило развитие судоходство, именно Варангер-фьорд на севере, а не Осло-фьорд на юге пережил первую иммиграцию.
Путь из Варангера к Белому морю
Пер. Видимо, существовала причина, по которой Харальд Прекрасноволосый решил поместить столицу Норвегии в Трёнделаге. Тронхеймс-фьорд расположен гораздо ближе к Северному полярному кругу, чем южная оконечность Норвегии. Ведь Харальд жил за счет податей от народа, так что, должно быть, он собирал большую дань в северных районах, если переместил свою резиденцию из Осло-фьорда дальше на север. Имеются ли у нас какие-либо археологические данные, подтверждающие завоевания Нора в Норвегии, или еще что-то, кроме записей короля Альфреда, о контактах между Норвегией и населением Северной Руси во времена до Харальда Прекрасноволосого?..
Тур. Да. Самым надежным доказательством является тот неопровержимый факт, что раковины каури с Мальдивских островов в Индийском океане — так называемые «денежные раковины» — прошли долгий путь из арабского мира через Азов, а затем вверх по русским водным путям в Финляндию и очутились в женских захоронениях на Лофотенских островах, и все это задолго до времени Харальда Прекрасноволосого. К этому мы еще вернемся. Я только что получил письмо из Народного музея Нур-фьорда, которое дает пищу для размышлений. Теперешний Нур-фьорд в «Саге об оркнейцах» называется Нуре-фьорд. В саге написано, что Нуре-фьорд идет на север от Согне-фьорда, а ведь Нурфьорд расположен как раз к северу от Согне-фьорда. Сага говорит о том, что Нор долго находился в Нурефьорде, который поэтому и был назван в его честь. И именно там он встретил своего брата. Комиссия по рукописям, работающая над ежегодником музея, хочет знать мое мнение о так называемом «кольце мыслей», вырезанном на деревянной дощечке, найденной 112 лет назад в местном захоронении хёвдинга, которое известно как «захоронение хёвдинга в Эйде». Эта вещица до сих пор будоражит мысли археологов и историков. Они спрашивают, не приходилось ли мне видеть что-либо подобное во время моих путешествий, поскольку в могиле найдены предметы из самых отдаленных уголков мира. Я не видел ничего похожего, однако сам факт находки подтверждает, что похороненный там хёвдинг имел при своей жизни контакты и за пределами Норвегии.
Пер. А когда это было?
Тур. Согласно сведениям музея, это было задолго до эпохи викингов.
Пер. А что рассказали в музее об этом захоронении?
Тур. В статье под заголовком «Археологические находки времен переселения народов в Глоппен в Норвегии» сообщается, что «захоронение хёвдинга в Эйде» было раскопано в 1889 г. Могила датируется концом V b. н. э. Как раз в ней среди прочего и было найдено «кольцо мыслей». Это продолговатая дощечка, разделенная на четыре части, которые связаны друг с другом и могут соединяться, образуя различные фигуры. Дощечка лежала на груди хёвдинга в могиле. Никто не знает, какую функцию она выполняла, но похожие предметы были найдены в Иране и Афганистане. В этой роскошной могиле было еще несколько находок со Среднего Востока, например, золотая монета — солид
[337] и стеклянный бокал. Далее в статье говорится, что летом 2000 г. проведены дальнейшие раскопки в районе вокруг захоронения в Эйде под руководством Сёрена Диинхоффа из Бергенского университета. Были обнаружены фундаменты двух длинных домов размерами 48 × 8 м и 24 × 7 м. Оба были примерно одного возраста — ок. 450 г. н. э. Сёрен Диинхофф опишет эти раскопки в ежегоднике музея за 2001 г.
Пер. Это были внушительные сооружения. Хёвдинг в Эйде был, должно быть, по меньшей мере, мелким конунгом. А может быть, в этой могиле захоронен сам Нор? Впрочем, кажется совершенно невероятным, чтобы за 400 лет до эпохи викингов товары из южных стран могли попасть так далеко на север — в Нур-фьорд на северном побережье Норвегии.
Тур. Я думаю, нам следует отойти от старых стереотипов, когда мы чертим на карте кратчайшие пути. Нельзя исключить и возможности того, что эти товары попали на западное побережье Норвегии с севера. Король Альфред дает нам первое письменное описание маршрута из Северной Норвегии в Россию, а ведь археологические раскопки свидетельствуют о том, что торговля с помощью денежных ракушек следовала тем же путем и гораздо раньше. И когда мы читаем у Снорри об объединении Норвегии, мы узнаем также, что этот маршрут был хорошо известен Харальду Прекрасноволосому и его роду. На Русь в то время ходили его собственные сыновья, причем двумя морскими путями: или, обогнув на севере Норвегию, через Белое море, или, обогнув с юга Швецию, через Балтийское море. Они посещали торговые центры, возникшие в устьях рек на заре становления Древнерусского государства, приплывая с севера к устью Двины или с запада к торговым центрам в устьях судоходных рек теперешних Эстонии и Латвии. В самом начале истории Норвегии, до того как появились границы между североевропейскими нациями, норвежские викинги торговали и грабили как в Белом, так и в Балтийском морях.
Пер. А пишет ли Снорри о том, что в этих походах принимали участие сыновья Харальда Прекрасноволосого?
Тур. Конечно. Двое близнецов от королевы Асы — Хальвдан Черный и Хальвдан Белый, названные так в честь деда, посетили страну эстов и разграбили ее. Главный торговый центр на Руси находился в глубине залива, который мы сейчас называем Финским. Снорри рассказывает, что один из близнецов — Хальвдан Белый погиб во время этого похода викингов в страну эстов. А его брат после неудачного похода вернулся домой, в Тронхейм.
Другому сыну Харальда Прекрасноволосого, Эйрику, повезло больше. Снорри пишет, что, когда Эйрику исполнилось двенадцать лет, отец подарил ему боевую ладью. Эйрик отправился в поход сначала в Данию, в страну фризов и страну саксов. Этот поход продолжался четыре года. Затем он отправился в Шотландию, Ирландию и Францию, и этот поход продолжался еще три года. Потом он отправился на север в Финнмарк и дошел до Бьярмаланда. Там произошла большая битва, в которой он победил. Сын Эйрика, Харальд Серая Шкура, также одержал большую победу на берегах Двины и был прославлен скальдом Глумом Гейрасоном. Снорри приводит отрывок из его песни:
«Дерзкий на слово,
Побеждающий всех конунгов,
Обагрил сверкающий меч на востоке
Перед северным селением,
Там, где я видел, как бегут племена бьярмов.
Примиритель мужей,
Снискал себе добрую славу в этом походе:
Ему, молодому, выпало сразиться на берегу Вины…»
[338]
Тур. Самое лучшее сохранившееся описание похода на север Руси связано со следующим поколением, когда конунг Олав Харальдсон также понял, что на севере, на берегах Двины, есть много интересного. Правда, Олав направился туда не сам, а снарядил корабль для одного из своих сторонников — Карли Халогаландца и дал ему множество товаров.
Снорри: «…Для поездки на север в страну бьярмов Карли заключил с конунгом договор: каждому из них должна была достаться половина прибыли от этой поездки. Ранней весной Карли повел свой корабль на север в Халогаланд. С ним отправился и его брат Гуннстейн. Он тоже взял с собой товаров. На корабле у них было около двадцати пяти человек. Ранней весной они отправились на север в Финнмёрк. Торир Собака, узнав об этом, послал своих людей к братьям. Он просил передать, что тоже хочет летом плыть в страну бьярмов и предлагает плыть вместе и добычу разделить поровну»
[339].
Пер. Ведь это происходило в самый разгар эпохи викингов. А они берут с собой товары и собираются торговать в стране бьярмов?..
Тур. Вот именно. В рассказе Снорри об этом путешествии много интересных деталей. Карли и его брат, у которого с собой были собственные товары, имели на борту 25 человек и поэтому настороженно относились к Ториру Собаке, у которого корабль был больше и 80 человек на борту.
Пер. Получается, что у Торира Собаки было больше людей, чем у Колумба на его корабле «Санта Мария»!..
Снорри: «…Все лето они плыли, как позволял ветер. Когда ветер был несильный, быстрее шел корабль Карли и его брата, и они тогда оказывались впереди, а когда ветер дул сильнее, то впереди шел корабль Торира. Они редко оказывались рядом, но каждый все время знал, где другой. Когда они приплыли в страну бьярмов, они пристали у торжища и начали торг. Все те, у кого было чем платить, накупили вдоволь товара. Торир накупил много беличьего, бобрового и собольего меха. У Карли тоже было много денег, и он тоже накупил много меха. Когда торг кончился, они отправились вниз по реке Вине и объявили, что не будут больше соблюдать мир с местными жителями. Потом они вышли в море и стали держать совет. Торир спросил, не хотят ли они пристать к берегу и добыть себе еще добра. Ему ответили, что хотят, если только добыча будет богатой. Торир говорит, что если поход удастся, то добыча будет, но возможно, что поход многим будет стоить жизни. Все сказали, что готовы отправиться в поход, если есть надежда захватить богатую добычу…»
[340]
Тур. Значит, Торир бывал здесь раньше! Он, впрочем, также плавал и вниз по русским рекам, а умер во время паломничества в Иерусалим, так что он был мастак путешествовать. Мы узнаем также, что ему было известно об обычае бьярмов делить движимое имущество между умершим и его наследниками. Мертвому доставалась половина или треть, а иногда еще меньше. Это сокровище относили в леса, а иногда зарывали в курганы. Потом на этих местах строили дома.
Викинги уже решили не соблюдать мира с местными жителями, и, когда наступил вечер, они сошли на берег, оставив на корабле нескольких сторожей. Торир, знавший местность, шел впереди, а остальные следовали за ним. Они вошли в лес и дошли до большой поляны, где был высокий частокол с запертыми воротами. Торир подошел к частоколу, всадил повыше свою секиру, подтянулся и перелез через частокол, а двое братьев вынули засов и открыли ворота. А теперь мы дадим слово Снорри для дальнейшего детального рассказа.
Снорри: «…Тут все бросились внутрь. Торир сказал: „Здесь, внутри ограды, есть курган. В нем золото и серебро перемешано с землей. Надо туда войти. В ограде стоит также бог бьярмов, который называется Йомали. Пусть никто не смеет его грабить“. Они пошли к кургану и выкопали из него столько сокровищ, сколько могли унести в своих одеждах. Как и следовало ожидать, сокровища были смешаны с землей. Потом Торир сказал, что пора возвращаться обратно: „Вы, братья Карли и Гуннстейн, пойдете первыми, а я пойду сзади“. Все побежали к воротам, а Торир вернулся к Йомали и взял серебряную чашу, которая стояла у того на коленях. Она была доверху наполнена серебряными монетами. Он насыпал серебро себе в полы одежды, поддел дужку чаши рукой и пошел к воротам.
Когда все уже вышли за ограду, обнаружилось, что Торира нет, Карли побежал назад за ним и встретил его у ворот. Тут Карли увидел у Торира серебряную чашу. Он побежал к Йомали и увидел, что на шее у того висит огромное ожерелье. Карли поднял секиру и рассек нитку, на которой оно держалось. Но удар был таким сильным, что у Йомали голова слетела с плеч. При этом раздался такой грохот, что всем он показался чудом. Карли взял ожерелье, и они бросились бежать.
Как только раздался грохот, на поляну выскочили стражи и затрубили тревогу. И скоро норвежцы со всех сторон услышали звуки рога. Они побежали к лесу и скрылись в нем, а с поляны доносились крики и шум, туда сбежались бьярмы…»
[341]
Тур. В своих описаниях Снорри обнаруживает высокое мастерство рассказчика. Так, развивая захватывающий сюжет о том, как беглецам удалось невредимыми ускользнуть от бьярмов и добраться до своих кораблей, Снорри не упускает многие детали, рассказывая, как они убрали шатры и подняли якоря, прежде чем поднять паруса.
Как в настоящем разбойничьем романе, все заканчивается ссорой между самими разбойниками из-за добычи. А ссора разгорелась, когда они пристали к острову Гейрсвер на севере Норвегии. Торир захотел, чтобы они выгрузили на берег все награбленное золото и серебро и поделили добычу. Торир потребовал, чтобы Карли отдал ему золотое ожерелье, которое тот снял с бога Йомали, поскольку именно он, Торир, указал путь к усадьбе в лесу. Карли же возразил и сказал, что ожерелье должен получить конунг Олав как часть своей доли. Тогда Торир воткнул в него копье так, что оно пронзило Карли насквозь.
Пер. Вывод: не надо рубить головы чужим богам! Ведь Карли верил в Одина, а Йомали, по-карельски, значит «небо», т. е. «небесный бог»… Таким образом, можно считать, что морские контакты между Норвегией и гаванями в устье Двины в Белом море существовали уже в глубокой древности и, конечно, еще до объединения Норвегии. И хотя Снорри рассказывает нам только о конунгах, которые отправлялись туда сами или посылали своих купцов, контакты были довольно оживленными. Ведь расстояние от Тромсё до Бьярмаланда короче, чем от Тромсё до Бергена… Интересно было бы узнать, какие монеты лежали в серебряной чаше Йомали…
О чем рассказывают клады монет?
Тур. Содержимое серебряной чаши Йомали можно представить себе, изучив поздние археологические раскопки в этом районе. Два российских исследователя — археолог Анатолий Куратов и историк Олег Овсянников — написали в книге «Помор» главу под названием «Северная Норвегия и Северная Россия на протяжении тысячи лет». Вот что они пишут: «Осенью 1989 г. в Северной России во время земляных работ был обнаружен большой клад. Находка была сделана на правом берегу маленькой речушки, впадающей в один из притоков Двины, недалеко от Архангельска. Клад состоит из серебряных украшений и монет…
Клад дает представление о древнерусском художественном ремесле, а также свидетельствует о множестве пересекающихся культурных импульсов… Находка содержит более двух тысяч монет. Три монеты идентифицированы как арабские (куфийские дирхемы
[342]). Большинство монет западного происхождения. Среди монет — две норвежские: одна — времени Харальда Сурового (1046–1066), а другая — чуть более позднего времени. Обе, по всей видимости, отчеканены в Тронхейме. В целом, монеты относятся к периоду с X в. по 1130 г. Большая часть серебряных предметов и фрагментов аналогична находкам вдоль великих торговых путей Древней Руси. …Хочется выдвинуть гипотезу о том, что Архангельский клад свидетельствует о связях между Белым морем (Бьярмаланд) и Скандинавией в эпоху викингов и чуть позже. Вполне вероятно, что большая часть этого клада представляет собой оплату за различный товар во время торговли мехами и шкурками в раннем Средневековье».
Тур. Да, о торговле и взимании податей в Бьярмаланде сообщает и Снорри, рассказывая о норвежцах в эпоху викингов. А что касается монет из российского клада, то в Эрмитаже в Санкт-Петербурге есть интересный материал о северных граффити на восточных монетах, подготовленный тремя специалистами — И. Г. Добровольским, И. Б. Дубовым и Е. К. Кузьменко. Этот материал содержится в книге Елены Мельниковой «Скандинавские рунические надписи». Вот что пишут эти специалисты:
«Исследование восточных монет, предпринятое Государственным музеем Эрмитаж, привело к тому, что была обнаружена целая серия монет с надписями-граффити, т. е. значками и рисунками, вырезанными острыми предметами. Самую значительную и интересную группу образуют монеты с граффити в форме рунических надписей и отдельных рун… Мы нашли всего двенадцать монет с руническими граффити…»
Это свидетельствует о том, что девять монет из двенадцати были отчеканены в VIII в. в мусульманской империи Омейядов в 701–702 гг. и 740–741 гг. и при Аббасидах в Багдаде между 770–820 гг. Центры чеканки монет имелись в самых различных частях арабского мира. Руны были вырезаны на монетах позднее, без всякой связи с арабским текстом на монетах, и это доказывает, что они побывали в руках у скандинавов.
Цитирую далее: «…Находки рунических надписей и значков на территории Древней Руси имеют большое значение для изучения российско-скандинавских связей в раннем Средневековье. Рунические граффити представляют собой, таким образом, источник совершенно нового типа, и чрезвычайно сложно определить историческую ценность этого источника… Единственно надежным материалом являются монеты из клада Тимерёво
[343], закопанные в конце IX в. В некрополе, находившемся рядом с тем местом, где был найден клад, имеются также скандинавские захоронения…»
Пер. Где расположено Тимерёво?
Тур. Недалеко от города Ярославля на Волге. Российские эксперты утверждают, что если руны вырезаны на этих монетах в том же месте, где были закопаны монеты, то можно говорить о том, что граффити на монетах заполняют хронологическую лакуну, которая существует между руническими надписями в Старой Ладоге и Новгороде и кладом на о. Березань под Киевом. Не исключена также и возможность того, что монеты побывали в Скандинавии.
Далее российские специалисты пишут следующее: «…И наконец, возможно также, что руны были вырезаны на монетах в Скандинавии, а оттуда попали в Древнюю Русь с обратным потоком серебра. Это вполне правдоподобно, если учитывать оживленные контакты между русскими и скандинавами. В Скандинавских и Балтийских странах были найдены самые ранние арабские монеты, относящиеся к периоду с конца VIII в. до первой трети IX в.».
И совсем интересно становится, когда эти ученые называют в этой связи имя Одина. Они затрудняются ответить на вопрос, почему эти руны были вырезаны на монетах, и приводят одну из теорий шведской исследовательницы У. С. Линдер Велин, которая пишет, «что эти надписи, возможно, были нанесены для оберега или же имели культовое значение». Смысл рунических надписей и отдельных рун подтверждает ее предположение, что рунические граффити создавались с целью защитить монеты от разбойников и навлечь на них всяческие несчастья и болезни, а может быть, эти граффити были предметом жертвоприношения богам. [См. надписи с упоминанием слова «бог» на монете № 127 или «Гаут» (Один) на монете № 128.] Об этом много пишут в литературе. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что на определенной стадии развития арабского общества серебряные монеты в некоторых случаях служили, очевидно, не выражением финансовой мощи и богатства, а имели сакральное значение.
Так, викинги тоже считали необходимым предстать перед своим богом Одином вместе со всем своим богатством, а на Кавказе, вплоть до середины прошлого столетия, существовал обычай закапывать культовые сокровища. Об этом же свидетельствует большое количество находок арабских монет в Скандинавских странах.
Эти арабские монеты относятся к переходному периоду между языческой эпохой викингов, продвижением ислама от Каспийского моря вверх по Волге и проникновением христианства из Византии в район впадения Днепра в Черное море. С учетом этих обстоятельств следует рассматривать и размышления российских ученых по поводу слова «бог» на одной из монет.
Пер. Не надо забывать о том, что на арабских монетах обычно были цитаты из Корана, а жители Севера, возможно, хотели устранить упоминание об Аллахе.
Тур. Согласно российским специалистам: «…Монета № 127 относится к периоду второй половины VIII — первой половины IX в. Эта монета из клада Тимерёво, и на ней имеется надпись „бог“. В данном случае слово „бог“ могло обозначать и языческих богов, однако тогда слово должно было бы стоять во множественном числе — „боги“, в то время как христианский бог обычно упоминается в единственном числе. В рунических надписях это слово никогда не использовалось для обозначения языческих богов. …Наиболее вероятно, что эта надпись была сделана человеком, уже знакомым с христианством. Монета могла служить амулетом. …Не исключено, что эта монета — из культового пожертвования. Снорри Стурлусон пишет в „Саге об Инглингах“, что Один взимал дань со шведов и взамен обеспечивал им Урожайный год и мирную жизнь. Возможно, что подать состояла из таких пожертвований. Весьма вероятно, что скандинавы уже в эпоху викингов были знакомы с христианством, но обращались к христианскому богу, используя языческий ритуал…»
Пер. Монеты были найдены как раз в той части Большой Свитьод, которую Снорри называет также Гюдехеймом.
Тур. Другая монета, золотая, относится к 701–702 гг., т. е. она старше. На ней имеется надпись «Гаут» и неясное изображение руны, обозначающей не то R, не то S.
Российские специалисты считают возможным, «что надпись „Гаут“ может быть переведена как „принадлежащий Гауту“. Другое возможное толкование этой надписи связано с тем фактом, что слово „Гаут“ является одним из наиболее распространенных обозначений Одина… И тогда монету, по всей вероятности, следует считать культовым пожертвованием… Трудности толкования объясняются еще и тем, что имена языческих богов появляются в рунических надписях только в конце языческой эпохи и в этих надписях вместо Одина обычно называется имя Тора…»
Пер. Мы все время сталкиваемся с тем фактом, что конунги-викинги были специалистами по взиманию дани. Вероятно, сам Один научил их этому как самому верному источнику дохода. И недаром одно из известных имен Одина — Гаут было вырезано на золотых монетах.
Тур. Во времена после Торира Собаки один из конунгов Хакон Воспитанник Торира
[344] тоже ходил походом в Бьярмаланд для торговли, но и одержал там победу в битве. Обитателям Севера путь вокруг Кольского полуострова в Белое море не казался таким долгим. Викингам из Варангер-фьорда в Норвегии плыть на своих ладьях к устью Двины казалось не намного дальше, чем к рыбацким поселкам на Лофотенах. А Варангер-фьорд издавна был самым большим и густо населенным фьордом в Северной Норвегии, где сегодня расположены три города — Вардё, Вадсё и Киркенес. Для жителей Варангера во времена викингов плавание в торговый город Хольмгард на Белом море было делом весьма обычным. В Хольмгарде
[345] русские сейчас занимаются раскопками и находят убедительные доказательства тесных контактов с Норвегией в описываемый Снорри период. При этом важно отметить, что в начале IX в., до того, как купцы будущего Древнерусского государства договорились и основали единую нацию с центром в Новгороде, ни Норвегия, ни Россия не были едиными государствами. Не существовало сухопутной границы, согласно которой земли к востоку от Варангер-фьорда принадлежали бы одной нации, а к западу — другой. Можно было свободно плыть вдоль устья фьорда, не замечая никаких границ, а на материке обитали саамы-кочевники, которые одинаково хорошо чувствовали себя по обеим сторонам Варангерфьорда.
Призвание варягов на Русь
Пер. Уже много столетий яблоком раздора среди историков является вопрос, кто же первым собрал воедино все области и части страны в единое государство — Харальд Прекрасноволосый в Норвегии или купцы на Руси? Снорри пишет, что Харальд Прекрасноволосый был родом из Вестфольда и объединил Норвегию в 872 г. Древнейшая русская летопись гласит, что купцы на Руси пригласили к себе трех именитых братьев-варягов, которые и основали русское государство, и это произошло на несколько лет раньше Харальда, по летописным данным — около 860 г. Эксперты спорят о том, откуда пришли эти «братья-варяги»? А ты как думаешь?
Тур. Конечно, из Варангера. Жители Варангера были ближайшими соседями этих купцов и никому не подчинялись. Они могли принимать мирные предложения о правлении и коалициях, ни у кого не спрашивая разрешения и никого не обманывая: ведь русские сами пришли к ним и предложили им править и взимать дань. А Харальд Прекрасноволосый сам взял в свои руки власть и потребовал подать.
Мы знаем, что вся Скандинавия была разделена на области и владения ярлов, которые управлялись потомками Одина. Некоторые вели свой род от сына Одина Сэмунда, другие — от конунга Нора из страны финнов или конунга Олава Лесоруба из страны свеев. На Руси пока еще не было правителей королевского статуса. Надо думать, что братья-варяги, которым предложили прийти на Русь и править там, не были случайными людьми.
Мы знаем также, что многие сыновья норвежских конунгов были авантюристами и морскими разбойниками и бесчинствовали на всем западном побережье Восточной Европы, так что отдельные племена, согласно древнерусской летописи, решили объединиться и образовать оборонительный союз. Один из сыновей Харальда Прекрасноволосого одержал победу в битве в устье Двины на Севере, а другой бежал, когда его брат погиб во время похода викингов в Финском заливе, т. е. недалеко от самого центра союза русских племен. Еще одного брата звали Рёрек. О нем мы знаем только то, что он был старшим сыном Гюды, первой юношеской любви Харальда, входил в дружину конунга и получал большую вейтслу в Хордаланде и Согне. А что с ним стало потом, Снорри не пишет в своей саге. Можно исходить из того, что люди, жившие на побережье Белого моря, куда так часто наведывались норманны, не очень-то хорошо знали географию и думали, что все, кто приплывает с запада по Полярному морю
[346], родом из Варангера. А Варангер представлял особый интерес для заселения в древние времена, поскольку раньше других мест освободился ото льда. На это указывает Сверре Г. Нильсен. Он пишет: «Археологические находки древности — стоянки со следами шатров и построек, очаги и остатки пищи — свидетельствуют о том, что и в нашей части света жили не известные нам люди. В одном только Варангере было обнаружено 16 древних поселений и почти 200 построек, причем возраст 10 поселений и 35 домов — около 10 тыс. лет. Самый высокий дом находится на высоте 63 м над сегодняшним уровнем моря…»
[347]
Тур. Нильсен рассказывает о том, что на хуторе Хольмен на берегу Варангер-фьорда был обнаружен лабиринт из небольших камней с таким же узором, какой имеется на старинных монетах и украшениях бронзового века, найденных на острове Крит.
Пер. В одном из выпусков популярного английского журнала «Nature» за 2001 г. опубликована интересная статья под названием «Люди жили в арктической части Европы почти 40 тыс. лет тому назад». Авторы статьи — российские и норвежские ученые Павел Павлов, Йон Инге Свендсен и Свейн Индрелид. В их работе активное участие принимал Бергенский университет. Они пишут о результатах раскопок поселения эпохи палеолита в Мамонтовой Карье, в европейской части российской Арктики. Ученые пришли к выводу, что ледяной покров на северном побережье Скандинавии был гораздо меньшим, чем думали раньше. Это открытие свидетельствует о ранее не известных возможностях миграции в эти районы.
Тур. В этой связи необходимо еще раз обратиться к древней русской летописи. В ней указывается, что одного из братьев-варягов, приглашенных править Древнерусским государством, звали Рюрик. Совершенно очевидно, что Рёрек и Рюрик — это одно и то же имя.
Пер. Этот материал достаточно взрывоопасный, и мы знаем об этом. Однако украинский историк Омельян Прицак опередил нас и указал путь из тупика. Ни один исследователь этого периода не может игнорировать выводов Прицака, иначе можно заблудиться во множестве версий того, кем были братья-варяги. Прежде всего, необходимо выяснить, куда, собственно, пришли эти братья. Мне кажется, что об этом очень интересно сказано в книге оксфордских ученых Р. Бизли, Н. Форбса и Г. Бирхетта «Россия. От варягов До большевиков»
[348].
Вот что они пишут: «Можно считать, что история русского народа началась в середине IX в. (примерно в 852–862 гг., согласно летописи Нестора
[349]). В это время один пришелец из Скандинавии основал на восточноевропейской равнине новый национальный центр — вдоль восточноевропейских рек, пересекающих огромные пространства между Балтийским и Черным морями.
В это время (ок. 860 г.) славянские племена населяли лишь часть современной европейской территории России, причем это была западная часть современного государства. На севере славянские поселения доходили до реки Невы в районе современного Петрограда и финского залива, но не до Балтийского моря. На востоке славянские земли простирались примерно до долготы Москвы. На юге огромные степные просторы отделяли эти земли от Черного моря…»
Пер. Заметим, что этот труд по российской истории вышел в годы революции в России.
Бизли, Форбс и Бирхетт пишут далее: «Революция в России, совершившаяся в этом году, дает нам повод вспомнить о том, что Россия не всегда была самодержавной империей. И хотя можно спорить о том, насколько ошибочными были издевательские слова Наполеона: „Поскреби русского — найдешь татарина“, все же татарское завоевание, господство татар и вообще татарское наследие оказали влияние на жизнь в России… Однако татары появились лишь в XIII в. Всего за несколько лет — с 1237-го по 1243 г. (эти годы идентичны половине царствования Генриха III в Англии или времени строительства Вестминстерского аббатства) монголы и их потомки разрушили и подчинили себе свободное Древнерусское государство…
Дело в том, что происхождение русского народа как нации и как объединенного союза мелких княжеств восходит к IX в., т. е. ко времени начала царствования короля Альфреда. В течение первых 400 лет правители на Руси не были деспотами. И как это ни удивительно, здесь преобладали демократические идеи, свободный образ жизни и даже республиканская организация. Формирование русской нации началось с того, что группа скандинавов (согласно летописи) под руководством некоего Рюрика поселилась на востоке Балтийского региона, недалеко от древнего города Новгорода и в 160 км к югу от современного Петрограда, т. е. к северо-востоку от современной российской столицы…»
Пер. Интересно, что демократические идеи, характерные для пришедших на Русь колонистов, примерно в то же время получили развитие в Исландии. И когда три оксфордских профессора утверждают, что возникновение Древнерусского государства произошло в IX в., они основываются так же, как и другие историки, на так называемой летописи Нестора, самой старой русской летописи
[350]. Они утверждают, что название «Русь» принесли с собой «варяги» (предположительно родом из Швеции) и это название закрепилось потом за всем народом на востоке. Далее авторы цитируют одного еврейского ученого X в., который писал следующее: «Северные племена, в том числе народ „русь“, подчинили себе славянские племена и живут среди них до наших дней, и причем так перемешались, что даже стали говорить на их языке».
Летопись Нестора названа так по имени летописца, который жил примерно в 1056–1114 гг. и был иеродиаконом Киево-Печерского монастыря.
Тур. Ученые из Оксфорда сами перевели ту часть летописи Нестора, на которой они основывают свою теорию. Вот их перевод. Отрывок из «Повести временных лет»: «…B год 6360 после сотворения мира, когда начал царствовать Михаил
[351], стала прозываться Русская земля
[352]…»
Пер. Нестор исходил, естественно, из тогдашнего летоисчисления, основанного на библейском Ветхом Завете. Авторы из Оксфорда пересчитали эту дату и получили 852 г. н. э. Однако эта дата не совсем совпадает с датой коронации императора Михаила в Константинополе, ибо коронация произошла в 842 г. К этому мы еще вернемся… Продолжаю: «Варяги из заморья взимали дань с чуди
[353]…»
Народ чудь жил на самом Севере, на берегу Белого моря, т. е. это были бьярмы, как называл их король Альфред.
Идем дальше: «Изгнали варяг за море и не дали им дани. И начали сами собой владеть, и не было среди них правды. И встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали тогда: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русь, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные — готландцы. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший Рюрик у Ладоги, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были славяне…»
[354]
Тур. Бизли, Форбс и Бирхетт не верят в поразительные сведения из летописи Нестора, а именно в то, что мирные люди, главным образом славяне, занимавшиеся торговлей, пригласили на правление чужеземных воителей. Эти три автора принимают как данность, что на Русь пришли, должно быть, шведские викинги, ибо с противоположной стороны Балтийского моря находится Швеция. Они полагают, что трое братьев-варягов пришли, возможно, из района Упсалы, причем пришли как непрошенные гости и покорили славян силой.
В таком случае их теория уже не основывается на древнерусской летописи, ибо в ее тексте нет ни слова о том, что на Русь пришли завоеватели-чужеземцы. И нет также ни слова о том, что они высадились на берегу Балтийского моря. Говорится лишь, что народ чудь в согласии со славянами пригласил трех братьев-варягов. А народ чудь обитал далеко на Севере, на берегу Белого моря.
Три оксфордских автора, несомненно, правы в одном, когда утверждают, что братья-варяги обладали воинственным характером викингов и вели соответствующий образ жизни. Вот как об этом сказано в их книге «Россия. От варягов до большевиков»: «Не успели они обосноваться, как начали „строить города и везде воевать“. Местные восстания жестоко ими подавлялись. Правление варягов продолжалось только два года, а потом народ в Новгороде поднялся и сказал: „Мы только рабы и страдаем под Рюриком и его вождями“. Это восстание, однако, быстро улеглось, так как его предводитель погиб, а все его участники были наказаны и высланы. „Через два же года, — пишет Нестор, — умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик. Он отправился к озеру Ильмень, укрепил небольшой город на реке Волхов и назвал его Новгород. Он сел там княжить и стал раздавать мужам своим города: тому — Полоцк, этому — Ростов, другому — Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — славяне…“»
[355]
Пер. Обычно нас, шведов, либо ругали, либо превозносили за то, что мы взрастили этого Рюрика, но Рюрик вовсе не шведское имя, так что все это — лишь домыслы.
Давно ведутся споры о том, достоверна ли летопись Нестора. Дело в том, что до сих пор Хольмгард, первую столицу Гардарики, искали в самом Новгороде. Однако теперь местонахождение города викингов Хольмгарда обнаружено. Он был расположен, как указывает само его название
[356], на небольшом острове на реке Волхов, в двух километрах севернее сегодняшнего Новгорода, что означает «новый город». Здесь российские археологи совсем недавно обнаружили остатки «крепости Рюрика», первой резиденции русских князей. Так, через 1100 лет в земле было найдено то, о чем когда-то было написано в тексте. Шведский археолог Катарина Ингельман-Сундберг пишет об этом в газете «Свенска Дагбладе» от 23.01 2001 г. следующее:
«Во время раскопок в Новгороде в 1900 г. археологи не нашли ни древней крепости, ни каких-либо других вещей скандинавского происхождения. И вообще, не было найдено предметов, датируемых временем до X в.
Старинный Хольмгард с крепостью находился, очевидно, в другом месте. Уже в 1970-х гг. русский археолог Евгений Носов высказал предположение о том, что Городище (по-русски — „покинутый город“) было, очевидно, предшественником Новгорода. В 1970-е гг. были начаты раскопки, а с 1994 г. на этом месте работали шведские и российские археологи. По мере того, как археологи забирались вглубь истории, напряжение нарастало. Грейферные ковши неторопливо прошли сквозь средневековые слои, XI–X вв. и очутились наконец в IX в. Там, в сырой глине, в защитном рву лежали предметы, которым было более 1100 лет.
„Мы нашли здесь заостренные столбы изгородей, остатки укреплений и множество предметов скандинавского происхождения, — сообщила доцент Ингмар Йанссон, руководитель шведских археологов из Стокгольмского университета. — Находки говорят о том, что крепость была построена в IX в. и начала приходить в упадок на рубеже IX–X вв.“.
В то время как Рюрик, Олег, Игорь и другие князья правили страной, живя внутри крепости, народ селился за ее пределами вдоль берега. Вскоре население этого места составило около 600 человек. Впоследствии, к концу X в., город переместился в Новгород, однако княжеский двор оставался на прежнем месте, и князья жили там вплоть до XVI в.
В защитном рву и вокруг него археологи сделали множество находок — пряжки скандинавского образца, молоты наподобие молота Тора, подковы и украшения. К интересным находкам относятся также несколько лошадиных голов и задушенная собака (видимо, жертвы языческих обрядов), а также стол эпохи викингов, покрашенный в золотой и синий цвета. Этому столу около 1100 лет, и это самый древний окрашенный предмет эпохи викингов из всех известных археологам. Сам стол, однако, видимо, византийского происхождения.
Результаты сделанных недавно анализов различных культурных слоев и изучение предметов позволили ученым составить описание находок.
По мнению археологов, в Хольмгарде, расположенном на острове посреди реки, куда в эпоху викингов плавали шведские и другие северные купцы, жила небольшая община. Крепость, которую можно сравнить с Свеаборгом эпохи викингов, представляла собой густо населенную часть города и вмещала около 200 человек. Здесь, за крепостной стеной, жил и князь и члены его дружины с семьями, купцы, прислуга и люди, имевшие определенный статус в управлении. Именно здесь и были сделаны самые богатые находки.
За пределами крепости, на живописном берегу реки, жили еще примерно 400 человек — моряки, судостроители и ремесленники: литейщики, кузнецы, скорняки, пекари и их семьи».
Тур. Это было невероятно важное археологическое открытие, которое подтвердило достоверность старинных источников, считавшихся спорными. Таким образом, мы вновь возвращаемся к тому факту, что Русь — это люди, обитавшие на территории от Белого моря вплоть до Новгорода. В те времена их главная резиденция находилась в двух километрах севернее этого города. Викинги называли ее Хольмгард. Во время моего последнего визита в Санкт-Петербург я вместе с группой российских антропологов поехал в Новгород. В то время там не велись раскопки, так что мы зашли в современный археологический музей, где обнаружили множество интересного археологического материала из этого региона.
Шведское побережье находилось ближе к России, чем какой-либо отрезок побережья Норвегии или Дании, и поэтому большинство ученых полагали, что купцы на Руси пригласили к себе правителей с противоположного берега Балтийского моря. Однако самые последние исследования заставляют нас отказаться от этой теории, как совершенно необоснованной. Мы возьмем на себя смелость утверждать, что нельзя игнорировать Омельяна Прицака, если собираешься исследовать самые ранние контакты между жителями Севера и основателями Древнерусского государства. Прицак, лингвист и профессор истории в Гарвардском университете, при создании своего 800-страничного труда «Происхождение Руси»
[357] проанализировал древние рукописи, написанные на древненорвежском, англосаксонском, арабском, древнеперсидском, древнееврейском, сирийском, древнегреческом, латинском, славянском, турецком и китайском языках. По всей видимости, от него ничего не ускользнуло. Во всяком случае, он основательно подготовился к борьбе против устоявшейся догмы.
Норманисты и антинорманисты
Тур. Прицак начинает с изложения исторического спора по поводу рождения России как нации. Вот что он пишет: «В течение последних 250 лет образовалась колоссальная многоязычная библиотека специальных трудов на эту тему. Есть ли в таком случае необходимость делать еще один вклад в это огромное собрание? После сорокалетней работы и размышлений на эту тему я склонен дать положительный ответ, ибо проблема так и не решена. Наоборот, в течение этих лет получили развитие две абсолютно противоречивые и догматические теории. И поэтому для меня единственным выходом было начать все сначала, отбросив в сторону всю дотошную специальную литературу и совершенно непродуктивные дискуссии на эту тему. Я решил применить новый подход и иные методы, обратившись непосредственно к первоначальным источникам…
…Герард Фридрих Миллер (1705–1783), официальный летописец Российской империи и член Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, поднялся со своего места на ежегодном заседании академии 6 сентября 1749 г., чтобы выступить с докладом о происхождении России
[358]. Доклад его был построен на исследованиях,
опубликованных в 1736 г. основоположником норманнской теории Готлибом Зигфридом Байером (1694–1738), который познакомил восточноевропейскую науку с такими источниками, как „Бертинские анналы“
[359] и труды византийского императора Константина Багрянородного (913–959). На этой основе академик Миллер развил теорию о том, что Киевская Русь была основана жителями Севера, и именно эту теорию он собирался изложить в своей речи.
Однако Миллеру не суждено было закончить свое выступление. В знак протеста против его высказываний русские члены и адъюнкты Императорской академии подняли шум во время его речи. Один из них, астроном Никита Иванович Попов, воскликнул: „Ты, известный писатель, и позоришь нашу нацию!“ Об этом было доложено президенту академии… и тот назначил специальную комиссию, которой поручили выяснить, наносят ли труды Миллера вред интересам и чести империи… Миллеру запретили продолжать исследования по древнерусской истории, а его труды были конфискованы и уничтожены. Униженный таким образом ученый обратил свой взор к другой, менее острой теме — истории Сибири. Тем не менее 6 сентября 1749 г. стало важной датой в восточноевропейской историографии. Эта дата знаменовала начало ожесточенного спора между сторонниками и противниками норманнской теории, спора, который продолжается и по сей день»
[360].
Пер. Ну вот, опять то же самое. Как сильно все-таки влияют на историю политические интересы! Политические отношения между Россией и Швецией были далеко не лучшими в 1749 г., после войны и мира, заключенного в Або
[361] за шесть лет до этого. Миллеру тогда еще повезло, что он остался в живых. И царский, и коммунистический режимы далеко в прошлом, однако ученые по-прежнему спорят между собой, как и двести пятьдесят лет назад. В чем суть спора?
Тур. Омельян Прицак излагает ее так: «Норманисты убеждены в том, что слово „рус“ скандинавского происхождения. Они считают, что именно жители Севера, точнее шведы, положили начало политической жизни сначала на берегу озера Ильмень (вблизи Новгорода), а позднее на берегу Днепра (в Киеве). Противники норманнской теории утверждают, напротив, что народ русь — это славяне, жившие к югу от Киева с доисторических времен, задолго до того, как жители Севера появились в Европе. …Антинорманисты придают славянскому элементу решающее значение в создании государственности на Руси в тот ранний период, в особенности Киевской Руси. Официальная российская историография заняла позицию противников норманнской теории на том основании, что „норманнская теория является политически вредной, поскольку отрицает способность славянской нации самостоятельно создавать независимое государство…“»
Пер. Теперь царизм пал, и коммунистический период в истории России также закончился, и Прицак наконец получил возможность высказаться. Народ, который противники норманнской теории называют «славянской нацией», другие историки называют иначе. Так, например, Тамара Талбот-Райс в своей книге о скифах называет их «царскими скифами». Царство скифов в Южной России располагалось по берегам Днепра. В этой связи интересно вновь обратиться к карте Птолемея I в. н. э. Американский ученый Уильям Б. Уильямс, посетивший нас в Азове, говорит, что первоначальное название Киева было Азагариум. Корень этого слова «Азагар» он идентифицирует с Асгардом — легендарной столицей асов в Асаланде. Во всяком случае, ученый считает, что народ Одина — асы — побывали там. Может быть, оттуда они отправились в Азов, а может, наоборот…
Тур. Прицак отбрасывает в сторону как политические мотивы, так и научные догмы и опирается на первоначальные источники. Сначала он перечисляет многих известных ученых, считающих, что именно скандинавы являются основателями русского государства. Сторонники норманнской теории прежде всего ссылаются на тот факт, что древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» перечисляет русь среди других народов — шведов, норманнов, англов и готов. Далее эти ученые полагают, что название «Русь» связано с областью Рослаген
[362] в Швеции, поскольку финны называют шведов
руотсилайсет. Более того, норманисты указывают на то, что имена большинства посланцев из Руси в Византию в 911–944 гг. говорят об их скандинавском, а не славянском происхождении. Византийский император записал ок. 950 г. названия всех порогов на реке Днепр между Киевом и Черным морем на русском и славянском языках
[363]. Большинство этих названий — древнескандинавского происхождения. Арабские географы и путешественники IX–X вв. всегда проводили четкое различие между народом русь и славянами…
Затем Прицак перечисляет всех основных противников норманнской теории и приводит их аргументы. Антинорманисты утверждают, что название «Русь» первоначально было связано не с древнерусской столицей Новгородом неподалеку от озера Ильмен, а с Киевом, т. е. с южной местностью, где народ русь жил с незапамятных времен. В качестве аргумента эти ученые ссылаются на то, что к югу от Киева протекает река Рос, приток Днепра, а также что в Скандинавии не было народности, под названием русь, и это название также не встречается в скандинавских сагах. Далее, в одной сирийской церковной хронике
[364] 555 г. упоминается название «хрос», или «рус», по отношению к одному из северокавказских племен, живших к югу от Киева. Антинорманисты указывают также на то, что один из старейших арабских писателей около 880 г. причисляет русь к славянским племенам
[365].
Пер. Ну вот! Мы опять попали через Днепр к Черному морю и к кавказским племенам. Похоже, что противники норманнской теории правы в том, что название «Русь» — русского происхождения. Однако откуда известно, что это действительно было славянское племя, и что говорит по этому поводу Прицак?
Тур. А вот что: «Критический анализ аргументов обнаруживает слабости обеих точек зрения, и в этом, очевидно, причина того, что споры продолжаются до сегодняшнего дня».
Прицак не придерживается ни той, ни другой стороны и не выдвигает никакой собственной теории. Не надо забывать, что, когда он писал свою книгу о происхождении Руси, древний город викингов Хольмгард, находившийся в двух километрах к северу от Новгорода, еще не был раскопан и идентифицирован. Однако Прицак все же склоняется к точке зрения противников норманнской теории, считая, что и народ, и само название «Русь» происходят от местности к югу от сегодняшнего Киева. С другой стороны, он верит в то, что русский княжеский и царский род происходит от братьев-варягов, пришедших на Русь в 862 г. с запада из-за моря. И здесь он цитирует древнейший русский письменный источник — «Повесть временных лет». Иными словами, Прицак проводит грань между локальным культурным и политическим становлением Руси как нации и приходом правителей из-за моря. Оба эти тезиса могут сосуществовать и быть правильными. Вот что он пишет:
«Автор „Повести временных лет“ начал описание большой политики с прихода на Русь трех братьев-варягов в 6370 г. после сотворения мира, или в 862 г. н. э. Однако такой „взгляд“, вполне обычный для автора XII в., неприемлем для современных историков. Процесс создания цивилизации в Восточной Европе был длительным и очень сложным, как и в других областях. Его нельзя ограничить рамками жизни одной группы героев. Этот процесс продолжался, по крайней мере, с 770 — го до 1072 г. …и был полон неясностей и случайностей, как, к примеру, выбор славянского языка для культурного общения…. Поэтому точной датой создания Руси как исторического единства в Восточной Европе не может быть ни 862-й, ни какой-либо другой отдельный год. Это был длительный период, начавшийся около 770 г. и закончившийся христианизацией в 988 — 1036 (1072) гг.».
Пер. Прицак не находит вообще никаких свидетельств того, что братья-варяги, возможно, были шведами.
Тур. Совершенно верно. Он проводит широкий и интересный анализ распространения судоходства и вместе с ним культуры с Ближнего Востока на север в Европу. Миролюбивые еврейские и арабские купцы, жившие у впадения русских рек в Черное и Каспийское моря, торговали со славянами и стали их партнерами в торговле с северными районами. Ведь славяне, жившие у истоков Днепра, налаживали связи с другими племенами, вплоть до народа чудь на берегу Белого моря, у которого имелись моржовый клык и шкурки животных. Так возник славянский торговый центр Русь в районе Новгорода на берегу озера Ильмень и Ладожского озера, откуда шли речные пути на север, на юг и через Балтийское море в Северное. Именно тогда речь зашла о фризах. Прицак считает, что славянские купцы, возможно, нанимали себе в качестве военных охранников не шведов, а фризов
[366]. Прицак считает фризов предшественниками скандинавов в судостроении: они ведь жили на побережье Северного моря на Фризских островах, раскинувшихся от Дании до Голландии в Северном море. Вот его аргументация:
«Фризы развили свою бурную деятельность на море с началом англосаксонской колонизации Англии (ок. 440 г. н. э.) и довольно долго занимали главенствующее положение в северных морях. Однако по мере расширения их торговой деятельности они все больше передавали свой навигационный опыт скандинавам, которые в VIII в. добились потрясающих успехов в судостроении».
Пер. Вряд ли эта теория понравится скандинавским историкам!
Тур. Но такова точка зрения Прицака. Продолжаю: «Скандинавские ученые традиционно считают битву у Броваллы
[367] историческим событием колоссального значения. Современные историки датируют эту битву примерно 770 г. Это была битва между старыми датскими Скьёлдунгами и фризско-рутенской династией, и закончилась она победой последних. Среди участников битвы фигурирует племя русь…»
Пер. Здесь Прицак, однако, ошибается. Старейший источник о битве у Броваллы — это Саксон Грамматик
[368] (ок. 1200 г.), а Саксон опирался на древний скандинавский эпос. Битва у Броваллы была между датским конунгом Харальдом Боезубом и его племянником, шведским конунгом Сигурдом Кольцо. Саксон приводит имена всех хёвдингов и конунгов, участвовавших в этой битве. На стороне Харальда сражались только датчане и саксы, а на стороне Сигурда — свеи, готы и норманны. Участвовал только один фриз, причем на стороне Харальда, которая потерпела поражение. Одним из конунгов на стороне свеев был Рагнвальд Русский, родом из Гардарики, т. е. Руси. Так что название «Русь» действительно фигурирует среди участников битвы.
Тур. Откуда ты все это знаешь?
Пер. Из книги профессора Н. М. Петерсена «История Дании в языческие времена», которую я уже упоминал ранее. Там рассказывается о дочери Ивара Широкие Объятия — Ауд, которая сначала была замужем за датским конунгом Рёриком. Овдовев, она поехала со своим сыном в Гардарику и вышла там замуж за конунга, по имени Радбард. С ним у нее родился сын Рандвер, а Рагнвальд Русский был сыном Рандвера. Кроме корабля из Гардарики для участия в битве у Броваллы пришел также корабль из страны квенов, находящейся на севере Финского залива. Это была великая битва.
Тур. Прицак проделал колоссальную работу в своем 800-страничном труде «Происхождение Руси» и собрал море информации из всевозможных источников на всех возможных языках. И приходится только удивляться тому, как мало сохранилось сведений, которые помогли бы нам выйти на след братьев-варягов. Прицак пришел к выводу, что название «Русь» происходит от географического местоположения страны. Это мнение совпадает с мнением большинства российских ученых. Приводятся веские аргументы в пользу того, что первые купцы на Руси использовали это название в качестве корня для старинных славянских названий мест к югу от Киева вдоль Днепра и его притоков. Однако попытка Прицака вывести братьев-варягов с Фризских островов, т. е. с побережья Северного моря к западу от Дании, на редкость плохо обоснована, чтобы быть результатом такого объемного труда. Прицак поддерживает норманнскую теорию, но не дает нам определенного вывода. Однако нельзя не согласиться с его точкой зрения о важной роли викингов в этот ключевой период на Севере.
Прицак считает, что «бесполезно пытаться установить, какой национальности были викинги и варяги. У них не было национальности. Они были попросту профессионалами и были готовы служить любому, кто нуждался в их умении и сноровке и мог оплатить их услуги».
Пер. Мы можем, впрочем, согласиться также и с тем, что он говорит о народе русь. Цитирую: «Перед нами неожиданный феномен. Народ русь, который только что вынырнул из глубин истории, уже имел способных купцов, торговавших с другими народами. Кто же были эти русы? Ну, уж наверняка не примитивными племенами без знания географии, иностранных языков или азов экономики. Они, очевидно, придерживались купеческих законов и, должно быть, пользовались доверием в мире торговли».
Тур. Прицак приходит к выводу, что, когда славянские поселения достигли статуса городов, купцы пригласили с запада представителей харизматических кланов «править ими». Смотри, что он пишет: «С помощью фризских посредников купцы на Руси получили в свое распоряжение способных навигаторов, обученных суровыми скандинавскими королями, так называемыми конунгами. Эти мореходы образовали „датское“ сообщество морских кочевников и к концу VIII в. начали свою деятельность как викинги.
Вскоре они обогнули Скандинавский полуостров и открыли землю, под названием Бьярмия (Заволочская чудь)…».
По словам моего российского коллеги, антрополога Александра Давыдова, чудью заволочской называли племена, говорившие на древнефинском языке. Они жили в районе между Онежским озером, Белым морем и Уралом, в степных районах к северу от Великого Новгорода в период между VI–XI вв. н. э. Слово «чудь», или «чуд», означает «странный народ», «чужеземный народ», «не такой, как мы», «отличный от нас».
Прицак, описав северный маршрут вокруг Скандинавии, попадает точно в цель. Бьярмия, или Заволочская чудь — это как раз та область, которую король Альфред называет Бьярмаландом в своем пересказе путешествия Оттара, т. е. речь идет о населенной чудью части будущего русского государства. Эта область на Крайнем Севере, у берегов Ледовитого океана, была расположена вне пульсирующей зоны европейского культурного сообщества, испытывавшего влияние Ближнего и Среднего Востока, на котором сосредоточил свое основное внимание Прицак. Таким образом, ясно, что Прицак узнал об использовании этого маршрута во времена викингов из географического описания короля Альфреда. А если бы Прицак посмотрел на карту и нашел этот северный маршрут, то увидел бы, что Бьярмия, земля народа чудь на побережье Белого моря и Кольского полуострова, граничит с областью Варангер на побережье Варангер-фьорда и на полуострове Варангер, которая сегодня является пограничной областью в Норвегии у российской границы.
Именно народ чудь помог своим более южным соседям — славянам пригласить своих соседей — братьев-варягов для обеспечения внутреннего спокойствия в Древнерусском государстве. Варягам не пришлось идти издалека: им надо было только обогнуть один фьорд и зайти в другой.
Пер. В рассуждениях Прицака хромает хронология. Северный маршрут в Россию вокруг полуострова Варангер был открыт вовсе не потому, что фризы обучили северян судоходству. Этот маршрут использовался еще до эпохи викингов, когда торговые люди привозили в Норвегию раковины каури. По всей вероятности, чаще всего этот путь использовали мореходы — северяне из Варангера, направляясь торговать и взимать дань с чуди в Бьярмаланде, и гораздо реже купцы народа чудь, приезжавшие предлагать свои товары населению Варангера. Согласно «Повести временных лет», чуди и славянам так надоели варяги, требовавшие с них дань, что они сначала их прогнали, а затем сами отправились за море и пригласили их «править ими».
Не следует забывать, что, согласно «Саге об оркнейцах», финский конунг Нор пришел в Норвегию из района Ладоги, расположенного к востоку от Финского залива. Этот район сейчас находится у финской границы с российской стороны. Согласно другой старинной летописи, повествующей о приходе Рюрика, так называемой Ипатьевской летописи
[369], должно быть, именно здесь, у Ладожского озера, обосновался Рюрик, когда пришел на Русь. А точнее, у Старой Ладоги, на берегу судоходной реки Волхов.
Археологические находки показывают, что уже в VIII в. там был большой торговый город с укрепленной крепостью, который в исландских источниках называется Алдейгьюборг
[370]. По кольцам на стволах деревьев установлено, что самые старые бревна домов были срублены в 753 г. Таким образом, это торговое поселение существовало одновременно с тремя старейшими известными торговыми центрами в Скандинавии: Каупангом в Норвегии, Рибе в Дании и Биркой в Швеции. В Старой Ладоге сохранилось также старейшее в России захоронение эпохи викингов. Вероятно, именно отсюда отправился Рагнвальд Русский, чтобы присоединиться к войску, одержавшему победу в битве у Броваллы, которой Прицак придает такое большое значение. Ведь именно шведы и норманны победили датчан и их фризских и саксонских союзников.
Тур. А где находится Бровалла, около которой произошла эта знаменитая битва?
Пер. Историки полагают, что битва была недалеко от бухты Бровикен у поселения Норчёппинг, т. е. на шведском берегу прямо напротив Финского залива. Прицак датирует эту битву примерно 770 г., в то время как датский профессор Н. М. Петерсен, которого я уже упоминал, считает, что она произошла, вероятнее всего, в 730 г., т. е. за сто лет до того, как братья-варяги появились на исторической арене в качестве основоположников Древнерусского государства. В этой связи представляет интерес точка зрения старейшего российского археолога Б. А. Рыбакова, которую он высказал в интервью британско-исландскому журналисту Магнусу Магнуссону. Он сказал следующее:
«Роль викингов в развитии русского государства была довольно незначительной, поскольку русское государство существовало уже за 300 лет до прихода викингов. В VI в. уже возникла конфедерация племен в районе среднего течения Днепра, причем в одной восточной хронике этот народ называется „народом великанов“. Этот народ составил, так сказать, ядро будущего Киевского княжества. Позднее это ядро расширилось, и вполне возможно, что викинги были наслышаны о процветании Киевского царства, которое было достигнуто благодаря его оживленной торговле с Константинополем…»
Обрати внимание, что речь идет о районе в среднем течении Днепра. Ведь именно там археологи в последнее время обнаружили поселения городского типа. Английский журналист Нил Эшерсон, получивший в 1986 г. премию за свою книгу «Черное море», дает в ней живописные описания археологических находок: укрепленные частоколы вокруг больших поселений с фруктовыми садами, керамическими мастерскими, кузницами и захоронениями за пределами земляного вала. Одно из самых значительных поселений находится у притока Днепра и имеет оборонительные укрепления длиной 30 км. Это самый большой земляной вал в мире. Возможно, именно это укрепление Геродот описал в V b. до н. э. как поселение народа будинов
[371]. Сам Геродот долго жил в греческом городе Ольвии, который находился в дельте Днепра и имел контакты с районами вверх по течению реки.
Тур. Российские историки хорошо знают, что племя, которое Геродот называет народом будинов, это тот же народ, что современные удины, о которых вскоре пойдет речь. Цитирую Геродота:
«Будины — большое и многочисленное племя; у них у всех светло-голубые глаза и русые волосы. В их землях находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторона городской стены — длиной в 30 стадий
[372]. Городская стена высокая и вся деревянная. Из дерева построены также дома и святилища, ибо там есть святилища эллинских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными по эллинскому образцу. Каждые три года будины справляют празднества в честь Диониса и приходят в вакхическое исступление. Жители Гелона издревле были эллинами. После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов. Говорят они частью на скифском языке, а частично — на эллинском…»
[373]
Пер. Тогда совершенно естественно, что именно эти светловолосые будины позднее были названы народом хрос или рус, согласно сирийскому церковному историку, на которого Прицак ссылался ранее… Послушаем дальше Геродота про народ будинов:
«Однако у будинов другой язык, чем у гелонов. Образ жизни их также иной. Будины — коренные жители страны
[374], кочевники. Это единственная народность в этой стране, которая питается еловыми шишками. Гелоны же, напротив, занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему виду и цвету кожи они вовсе не похожи на будинов. Впрочем, эллины зовут гелонами и будинов, хотя и неправильно. Вся земля их покрыта лесами разной породы. Среди лесной чащи находится огромное озеро, окруженное болотами и зарослями тростника. В этом озере Ловят выдру, бобров и других зверей с четырехугольной мордой. Мехом этих зверей будины оторачивают свои шубы…»
[375]
Зверек с четырехугольной мордой — это, по всей вероятности, соболь. Тот факт, что будины охотились на пушных зверей и были единственным племенем в этой стране, употреблявшим в пищу еловые шишки, — это важная в географическом отношении информация. Меня еще в детстве научил есть еловые шишки мой финский друг Пекки, которого во время войны эвакуировали из Карелии и привезли в Швецию. Как хрупкие красные еловые шишки, так и светло-зеленые побеги содержат массу витамина С. А если бросить взгляд на карту Птолемея, то легко обнаружить, что племена будинов, гутонов
[376] и финнов жили к северу от истоков Днепра. Следовательно, как географически, так и хронологически мы приближаемся к северным районам, откуда Нор и Гор, согласно «Саге об оркнейцах», отправились в Норвегию. В этих широтах еловые шишки были, очевидно, важной пищевой добавкой, позволявшей пережить зиму, не заболев цингой.
Тур. Да, географически мы переместились на Север. Ведь Геродот в V в. до н. э. поместил будинов в среднем течении Днепра, в то время как Птолемей на своей карте примерно на 600 лет позднее поместил их в северных хвойных лесах. Это говорит о том, что все первоначальное население бассейна Днепра переселилось на Север.
Прицак указывает на тесные связи между скандинавами и русами на протяжении всей эпохи викингов. Он чаще других ссылается на существовавший уже тогда северный путь вокруг Норвегии, в то время как принято считать, что транспортные пути между северными странами и Россией проходили по Балтийскому морю. Прицак, исследуя историю Древнерусского государства, перечисляет чудские поселения, расположенные в устьях северных рек по берегам Белого моря. Правда, он полагает, что эти контакты между Норвегией и Россией на Севере по Ледовитому океану возникли благодаря морским походам во времена викингов. Во всяком случае, он четко обозначает, как проходил этот маршрут вокруг всей Скандинавии в обоих направлениях: в Белое море — с севера, а затем вверх по русским рекам к Ладожскому озеру и окрестностям, к тем местам, откуда пришли конунг Нор и Рагнвальд Русский, а в противоположном направлении — в Балтийское море с юга и через Финский залив к тому же Ладожскому озеру, а оттуда на север — к Белому морю и на юг — к Черному и Каспийскому. Чтобы получить полную ясность относительно этого северного маршрута, я написал письмо Александру Давыдову в Архангельский университет и попросил его изучить этот вопрос подробнее. Он прислал мне сведения, содержащиеся в российских источниках в 1136 г. Давыдов пишет следующее:
«Как я уже упоминал, название „Заволочская чудь“ в период между VI–XI вв. употреблялось в отношении народа, жившего на берегу Белого моря. „Заволочье“ означает „земля, лежащая за волоками между Новгородом и северными реками и озерами“. Русское слово „волок“ означает „место перетаскивания судов из одной реки в другую“. Обычный маршрут, существовавший со времен викингов из Новгорода к Белому морю, был такой: Новгород — река Волхов — Ладожское озеро — река Свирь — Онежское озеро (волоком) — река Водла — озеро Водлозеро (волоком) — Кенозеро — река Кена — река Онега — Белое море».
Пер. Вот как важно знать значение географических наименований и насколько важны такие источники информации! Тот факт, что определенная область в Северо-Западной Руси называлась «местом перетаскивания судов», объясняет важное событие в истории северных стран. Эта область, которая по-шведски называлась Саволакс, согласно мирному договору с русскими от 1323 г., попала под опеку шведско-норвежского короля Магнуса Эрикссона. Историки не могли понять, что за интерес представляет эта область. По всей видимости, никому не пришло в голову, что здесь проходил важный торговый путь между Белым и Балтийским морями. Маршрут, описываемый Александром Давыдовым, в наши дни усовершенствован с помощью каналов в местах волоков и вновь обеспечивает связь между этими морскими территориями. Геологи полагают, что в этой области происходит поднятие почвы, по меньшей мере, на один метр за сто лет. Это означает, что до эпохи викингов и во время нее в волоке необходимости не было. …Ты ведь был в этом северном районе в качестве солдата союзных войск во время Второй мировой войны?
Тур. Да. Я был там в норвежской форме вместе с русскими войсками, освобождавшими Финнмарк от нацистской оккупации в 1944–1945 гг. Киркенес — последний незамерзающий порт на побережье Ледовитого океана. У русских такого порта не было, поэтому русские во время Второй мировой войны контролировали именно эту часть Норвегии — Варангер-фьорд и полуостров Варангер. Они прогнали нацистов от этого фьорда и со всего полуострова, вплоть до реки Таны.
Пер. Река Тана? Но ведь Тана — это старинное название реки Дон! Это же хорошо известно.
Тур. Однако Тана и самая большая река в Северной Норвегии, отделяющая полуостров Варангер от остальной Норвегии. Никто не знает, где проходили границы в то время, когда русские купцы пригласили трех братьев-варягов управлять своей страной. Может быть, незамерзающий Варангер-фьорд был частью Бьярмаланда, а река Тана была в то время пограничной рекой на севере, так же как река Тана на юге была, согласно Снорри, пограничной рекой между Европой и Азией.
Пер. Ну, конечно! Русские купцы, имевшие торговые связи с чудью на Белом море, пригласили трех братьев-варягов придти и княжить в 862 г., а в то время Харальд Прекрасноволосый еще не подчинил себе район Варангера. Он сделал это лишь в 872 г., как сообщают исторические хроники. Интересно отметить, что на саамском языке название «Варангер» звучит как «Варьяг», и некоторые шведские переводчики использовали именно это название, а не «Варангер», как в английских и других европейских документах.
Тур. Теперь история про братьев-варягов обретает смысл и проливает свет на то, почему русским купцам пришла в голову мысль приглашать на правление «иностранцев». Возможно, эти трое братьев-варягов были потомками рода Нора и имели корни в королевской династии с реки Тана на юге. Это звучит как чистая фантазия, однако археология показывает, что и в этом случае действительность превосходит фантазию. У русских купцов были посредники, которые в свою очередь имели посредников, предки которых жили на территории от реки Тана на севере до реки Тана на юге, от города Ростова у истоков Волги до города Ростова в устье Дона. И мы вскоре получим этому доказательства.
Пер. А что думает Прицак относительно рассказа Снорри об Одине и его родине в устье реки Тана в Азовском море?
Тур. Ему хорошо известно, что у Снорри было много источников более ранних времен. Так, Снорри ссылается на Ари Фруде, который утверждал, что прародитель рода Инглингов Ингве был конунгом у турок. Ари умер в 1148 г. …Вся сила новаторского труда Прицака состоит в его небывалом географическом охвате и огромном количестве использованных источников на многих языках, распространенных на пограничной территории между Азией и Европой. Так, большинство жителей Севера воспитаны на вере в то, что асы и ваны — это придуманные Снорри волшебники-великаны. А Прицак считает, что это — названия народов, действительно существовавших в древние времена именно в тех районах на Кавказе, куда поместил их Снорри. И вместо того, чтобы называть королевские саги Снорри выдумкой, Прицак задался целью узнать, откуда Снорри черпал свои сведения.
В прошлом веке среди историков в северных странах бытовало стремление подозревать Снорри в мошенничестве и фальсификации описаний Одина, асов и ванов на Кавказе. Очень многие прямо обвиняли Снорри в недобросовестности. Прицак же, наоборот, обладая хорошими знаниями восточных источников, принял единственно правильное решение: он подверг Снорри испытанию! Так, он обнаружил, например, что, описывая путешествие Харальда Сурового, Снорри употребляет необычное название места у впадения Днепра в Черное море — «Эллипалтар». И Прицак задает вполне обоснованный вопрос, откуда Снорри взял это название. Вот что он выяснил:
«В труде Аль-Идриси имеется название „Эллипалтар“ в районе Азовского моря. Это название использовали и жители Севера, и оно известно из саги о Харальде Суровом… Во второй половине VIII в., когда на Русь начали проникать купцы и авантюристы с Севера, в древней эпической традиции еще были живы воспоминания о великой войне между тюрками и асами, с одной стороны, и ванами (оногур-булгарами), с другой, и заключенном после этого мире».
Тур. Мы видим, что Прицак пытается выяснить, откуда Снорри черпал свои сведения, в противоположность ряду скандинавских ученых, отвергавших интересные описания Снорри как выдумку. Так, среди прочего Прицак упоминает, что нормандский конунг Рожер II
[377] поручил знаменитому марокканскому путешественнику Аль-Идриси, который создал свой географический труд «Книга Рожера» и составил карту мира, включить в него географические сведения, почерпнутые из опыта северян, совершавших походы к Черному морю. А самое важное: он считает войну между асами и ванами реальным событием, которое продолжало жить в народной памяти в форме эпической традиции на Руси в те времена, когда туда вернулись викинги, незадолго до Снорри.
Пер. Это в немалой степени свидетельствует об опасностях узкой специализации в наши дни. Почему некоторые наставники в северных странах хотят убедить нас в том, что асы и ваны — сверхъестественные существа, придуманные Снорри? Что это — пример ограниченного взгляда на вещи? Почему никто не интересуется тем, что открывают ученые в других странах, исследуя свои источники? А вот Прицак обнаружил, что асы и ваны — это известные названия племен на Кавказе во времена Снорри. И всё благодаря тому, что Прицак интересовался, откуда Снорри взял свою информацию.
Тур. Меня это тоже поразило, когда я встретился со специалистами по древним племенам в районе Кавказа. Асы и ваны оказались известными названиями народов, живших в то время, когда Снорри писал свой «Круг земной». Ведь именно в этот период оседлые потомки кочевого народа алан были известны как асы, а их соседи — как ваны. Вот что пишет об этом Прицак:
«Исламские источники различают две группы народности аланов: истинное племя аланов (по-арабски — „ал-лан“) и тех, кто назывался асами (по-арабски — „ал-ac“). Абу-ль-Фида
[378] (ок. 1321) приводит старую историю о том, что асы были тюркским племенем, обитавшим вблизи ал-лан (аланов) и имевшим то же происхождение и ту же религию, что и аланы».
Верно, и к этому мы очень скоро вернемся при встрече с российскими археологами и историками, которые живут в этих районах. Вернемся к Прицаку:
«В эпоху переселения народов иранские аланы заключили тесный союз с германскими воителями, особенно с готами и вандалами, поэтому вполне вероятно, что аланы, которые политически были тюрками, а этнически — асами (т. е. иранцами), принесли северным торговым и воюющим народам свои варианты традиций степных народов, ставшие известными как религия тюрков, или асов».
Пер. Это новый и очень порядочный способ изучения вопроса об источниках, которыми пользовался Снорри. Однако у меня создается впечатление, что культ Одина пришел в Норвегию только в начале эпохи викингов, а это слишком поздно…
Тур. А мне кажется, что попытки Прицака объяснить познания Снорри излишне усложнены. Ведь ты нашел в исландских анналах гораздо более простое объяснение этому, а именно, что два епископа из Армении — страны ванов побывали в Исландии до того, как Снорри написал свой «Круг земной». Они наверняка принесли с собой в Исландию все познания о жизни в районе Кавказа. Ведь родичи Одина, оставшиеся на земле асов и ванов, приняли христианство через пару столетий после Рождества Христова именно в его армянском варианте. Во втором столетии н. э. христианским стал весь так называемый народ Одина — на всей территории от Южной России у берегов Черного моря до Азербайджана у берегов Каспийского моря.
Одно совершенно несомненно: во всемирно-исторической перспективе и норвежская, и русская нации сформировались во время жизни одного и того же поколения, хотя точная датировка становления обеих наций может вызывать споры. И поэтому тем более вероятно, что Рёрек, упоминаемый Снорри, — это то же лицо, что и Рюрик из летописи Нестора. В первом случае речь идет о королевском сыне из рода Одина, а во втором — о человеке, приглашенном править объединением нескольких племен в той стране, откуда пришел Один.
Когда жил Один
Пер. Ты говоришь, что история начинается с дат. Однако у меня складывается впечатление, что составители исландских саг писали историю своего времени ещё до появления понятий о датах. Рассудительные замечания и географические познания этих авторов свидетельствуют о том, что они не сочиняли мифов, а рассказывали об обычных смертных людях, а не о богатырях, которые держат на своих плечах земной шар, сражаются с драконами или скачут на козлах по облакам… Ведь именно римляне вынудили Одина покинуть родные места, а римляне не имеют никакого отношения к древнескандинавской мифологии.
Тур. Совершенно верно. Один только факт упоминания о наступлении римлян дает нам возможность еще раз убедиться в достоверности тех событий, о которых говорится в сагах. Я могу рассказать об одном исключительном письменном свидетельстве, посвященном пребыванию римлян на Кавказе, в частности, в западной части земли асов — в сегодняшнем Азербайджане. В память о своем пребывании римляне вырубили там на скале надпись, причем сделали это на первичной горной породе, так что последующие вандалы не смогли ее уничтожить. Надпись, свидетельствующую о пребывании римлян в этом районе, я увидел, когда впервые приехал в Азербайджан, чтобы посмотреть наскальные изображения кораблей, похожих на норвежские. У подножия горы Беюкдаш, где проходил древний караванный путь из Месопотамии на север вдоль западного побережья Каспийского моря, современные асы показали мне плоский выступ скалы с высеченной на нем латинской надписью. Я забыл этот текст, но, когда впоследствии заинтересовался асами и историей Азербайджана, мне прислали его из Академии наук в Баку. Надпись не содержала точных дат пребывания римского войска в этих местах, но там назывался император, при котором это было. Вот точная копия этой надписи
IMP DOMITIANO
CAESARE AVC
CERMANIC
L•IVLIVS
MAXIMVS
LAC XII•FVL
По-латыни это следует читать так:
Imperator Domitiano
Caesare Augusto
Germanicus
Lucius Iulius
Maximus centurio
Legionis XII Fulminatae.
А вот перевод: «В правление императора Домициана Цезаря Августа Германского Луций Юлий Максим центурион XII Громоносного легиона»
[379].
Император Домициан получил титул «Германикус», или «Германский», в 84 г. н. э.
[380] После его убийства в 96 г. римский сенат приказал разрушить все статуи императора и удалить его имя со всех надписей из-за его жестокости и самоуправства. Значит, надпись в Гобустане была сделана между 84–96 гг. н. э. После смерти Домициана римляне больше не появлялись в этих краях.
Пер. Эти данные совпадают по времени с тем, о чем рассказывает Снорри в другом своем произведении — «Эдде», где он пишет о внуке Одина — Фроди, жившем в Дании.
Снорри: «Он наследовал своему отцу в те времена, когда Август кесарь водворил на всей земле мир. Тогда родился Христос»
[381].
Пер. Поскольку Фроди стал датским конунгом, когда родился Христос, его дедушка Один был, должно быть, на два поколения старше. А так как в Европе поколение принято считать в среднем равным 30 годам, значит, Один жил примерно в 60-е гг. до н. э. И это поразительно!
Typ. Почему же?
Пер. В 60-е гг. I в. до н. э. в восточной части современной Турции бушевали Митридатовы войны
[382]. В 65 г. римское войско прорвало оборону Митридата и его союзников, которые уже давно препятствовали продвижению римлян на восток. Тогда Митридат бежал к своим союзникам в район Азовского моря, где жили асы, а когда его собственный сын перешел на сторону римлян, Митридат покончил с собой. Это было в 63 г. до н. э.
Тур. А нельзя поподробнее? Что это за Митридатовы войны?
Пер. Митридат был царем Понта
[383], небольшого царства на южном берегу Черного моря, граничащего со страной турок. Столицей Понта был город Синопа
[384], крупнейший порт на южном побережье Черного моря, основанный греками-колонистами. Синопа имел тесные торговые связи с Азовом, где мы недавно видели такое множество греческих амфор, изготовленных в Синопе во времена Митридата. Митридат VI родился в Синопе, и его имя означает «Дарованный Митрой»
[385]. Однако сам он называл себя «новым Дионисом», как греки называли Вакха. Примерно в 100 г. до н. э. греческие колонии в районе Азова и Азовского моря подверглись нападению скифов и попросили Митридата о помощи. Митридат разгромил скифов, и в результате весь район в дельте Дона от Азова до Крыма, так называемое Боспорское царство, был включен в Понтийское Царство. Как уже указывалось, Керченский пролив, ведущий из Черного моря в Азовское, назывался Боспором (современный Босфорский пролив ведет из Черного моря в Средиземное). Воодушевленный победой над скифами, Митридат начал захватническую войну и покорил почти всю Малую Азию. Это противоречило интересам римлян и привело к длительным войнам с ними.
Тур. Все это вполне соответствует рассказам Снорри о том, что неспокойные времена заставили Одина бежать из района Азова.
Пер. Совершенно верно. Именно в 65 г. до н. э. Митридат потерпел поражение от римлян, и, по всей вероятности, это произошло недалеко от страны ванов. Тогда он бежал в Крым и пытался продолжить войну против римлян вместе со своими последними союзниками, обитавшими в районе Азовского моря. Однако, когда его собственный сын перешел на сторону римлян, Митридат покончил с собой. Это случилось в 63 г. до н. э. Боспорское царство попало в зависимость от Рима.
Таким образом, всё, что в концентрированном виде излагает в своих сагах Снорри, совпадает с тем, что мы знаем сегодня об этом периоде из других письменных источников. А если сравнивать с другими источниками, например, с тем, что писал Плиний Старший в I в. н. э., становится ясно, что нельзя считать саги Снорри простой выдумкой.
Тур. А что пишет Плиний?
Пер. Плиний — это римский историк, упомянувший народ удин
[386]; он поместил этот народ в район Азовского моря.
Тур. Все современные историки считают труды Плиния вполне достоверным источником, и, следовательно, совершенно ясно, что сообщение Снорри об асах и ванах — это не фантазия. Действительно, на их родине, к востоку от Черного моря по направлению к стране турок шли войны. А когда римляне одержали победу над Митридатом, Один, очевидно, уже отправился в более спокойные земли на далекий Север. Так, беженец от римлян стал богом на Севере. А теперь мы можем еще раз убедиться в достоверности того, о чем писал Снорри.
Пер. Каким образом?
Тур. Я предлагаю обратиться к тому количеству имён конунгов, о которых пишет Снорри в королевских сагах. Снорри ведёт рассказ о генеалогии королевского рода в Скандинавии, начиная с Одина, но, когда речь заходит о Норвегии, Снории сразу переходит от конунга асов Одина к хёвдингу ванов Ньёрду (ведь именно Ньёрд унаследовал престол после Одина), а затем от Ньёрда, перечисляя всех преемников, к норвежскому конунгу Хальвдану Черному. Таким образом Снорри приводит двадцать восемь имен конунгов, называя их в прямой последовательности от отца к сыну. Это ведь так?
Пер. Давай посмотрим. Вот весь королевский род
у Снорри, начиная с современника Одина — Ньёрда:
1. Ньёрд (ок. 60 г. до н. э.).
2. Фрёйр.
3. Фьёльнир.
4. Свейгдир.
5. Ванланди.
6. Висбур.
7. Домальди.
8. Домар.
9. Дюггви.
10. Даг.
11. Агни.
12. Альрек.
13. Ингви.
14. Ёрунд.
15. Аун.
16. Эгиль.
17. Отар.
18. Адильс.
19. Эйстейн.
20. Ингвар.
21. Браут-Энунд.
22. Ингьяльд.
23. Олав Лесоруб.
24. Хальвдан Белая Кость.
25. Эйстейн.
26. Хальвдан.
27. Гудрёд.
28. Хальвдан Черный (ок. 830 г.).
Мы знаем, что конунг свеев Фьёльнир, в третьем колене после Ньёрда, жил одновременно с датским конунгом Фроди, который сел на престол после отца во времена Христа (Снорри сообщает о том, что Фьёльнир утонул в чане с медом, когда был в гостях у Фроди в Селунде). Следовательно, перед нами двадцать шесть поколений, включая Фьёльнира, жившего во времена Христа, и Хальвдана Черного, который жил примерно в 830 г. А если принято считать (в среднем) поколение равным 30 годам, то вполне вероятно, что список Снорри основывается на фактах.
Тур. Тысячу лет
назад народ на Севере перестал уже верить в то, что Один был богом. Сегодня здесь мало кто верит и в то, что Один вообще существовал как человек. А вот на Кавказе это имя не забыто. Здесь и теперь живут удины, которые гордятся своим происхождением. Они фактически и заставили меня заинтересоваться тем, не взял ли хёвдинг асов себе имя по названию племени, во главе которого он стоял, или же оставшиеся после него люди назвали свой народ по имени покинувшего их великого хёвдинга. Сам я склоняюсь к первому объяснению. Удины жили в области между Черным и Каспийским морями задолго до пришествия римлян. Они живут там и сейчас, пытаясь выжить среди новых народностей, как мусульман, так и христиан.
Пер. От Геродота нам известно, что удины существовали, по крайней мере, за 500 лет до нашего Одина. У Одина было множество имен, и Снорри называет около ста различных вариантов. Имя Гаут считается старейшим. В «Песне о Вегтаме» («Старшая Эдда») написано:
«Нет, ты не Вегтам,
Как я считала,
Ты, верно, Один,
Народ Одина — асы и ваны на Кавказе
Пер. Что побудило тебя вновь отправиться на Кавказ? Ведь ты уже побывал там несколько раз и изучал в Азербайджане наскальные изображения кораблей?
Тур. Это верно, но я не мог больше сидеть дома в Северной Европе и спорить в газетах с местными специалистами о значении таких слов, как «Один», «асы» и «ваны». Ведь эти специалисты вбили себе в голову, что всё, написанное Снорри, — сплошная выдумка и ерунда.
Так, декан историко-философского факультета Университета Осло утверждал в печати, что глупо верить в то, будто на Кавказе когда-либо существовало что-нибудь еще, кроме озера, под названием Ван. По словам этого декана, нигде никогда не было ни народа, ни языка, названного по этому озеру. А я, как бывший биолог, заглянул в Британскую энциклопедию издания 1969 г. и обнаружил там нечто совсем иное. Там сказано: «Ван — столица провинции с тем же названием в Восточной Турции. На побережье обращает на себя внимание отдельно стоящий горный хребет протяженностью около 1 км и высотой до 100 м с руинами крепости на вершине.
На руинах каменной постройки у подножия горы имеется клинопись, датируемая VIII–VII вв. до н. э., когда Ван был столицей Урарту. На гладкой вертикальной поверхности скалы есть другие надписи, в том числе на древнеперсидском языке».
Пер. Когда ты все это рассказал, я открыл издание энциклопедии от 1979 г. и прочитал следующее: «К 860 г. до н. э. ассирийцы начали употреблять название „Урарту“ в отношении государства, возникшего вокруг озера Ван в Турции, и это государство иногда называют Ванским царством»
[388].
Тогда я посмотрел, что там написано о языке ванов, а там написано: «Ванский язык — древний язык в северо-восточной Анатолии, был официальным языком в государстве Урарту…»
Тур. Таким образом, в древности на Кавказе было такое множество языков, что даже современные лингвисты зачастую не знают, что ванский язык — язык крупного государства и народности, населявшей в древние времена и раннем Средневековье обширные районы на Кавказе, так что Ван — это не только озеро, которое все могут найти сегодня на карте. Слишком узкая специализация в наше время ведет к тому, что не только историки, но и лингвисты теряют общее представление о ситуации.
Бессмысленно было продолжать спор со специалистами в тех областях, в которых я сам не был таковым, даже если Британская энциклопедия и была на моей стороне. И я решил вновь отправиться в те края, чтобы еще раз попытаться найти в современном мире и вытащить на свет Божий забытые имена и названия из саг Снорри. Я решил поехать туда, где живет народ, который и по сей день называет себя
азери, т. е. народ Одина. И хотя лингвисты так и не пришли к единому мнению по поводу современного названия Республики Азербайджан, фактом является то, что все жители этой страны называют себя
азери, что соответствует норвежскому
åsir — «асы». Это относится и к потомкам племени Одина, живущим изолированно высоко в горах. Конечно, эти люди никогда не слышали об Одине или асах и не читали саг Снорри.
Пер. В Азербайджане пишут странными восточными знаками, не понятными нам, европейцам. Так, норвежцы пишут название страны «Азербайджан» через букву «s», англичане пишут через «z», ay нас, в Швеции, возможны оба варианта. Я выдвинул гипотезу о том, что от слова «az», т. е. «железо», произошло название
azzi, обозначавшее хеттов, обитавших какое-то время вокруг озера Ван. Если это верно, то будет интересно посмотреть на карту полезных ископаемых Кавказа. Там мы увидим, что одно большое месторождение железа находится к северу от озера Ван, а другое, самое крупное, — на берегу Азовского моря. Если Азов был когда-то главной резиденцией асов, а Ван — ванов, то очевидно, что эти два укрепленных города постоянно воевали друг с другом в течение всего железного века, поскольку месторождения железа привлекали и хеттов, и другие соседние народы, пока греки и римляне не добрались до Средиземного моря и не завоевали как страну асов, так и ванов.
Тур. Да, независимо от того, как пишется Азербайджан — через букву «s» или «z» и что́ это означает, важно главное: когда-то в этих краях жил народ под этим именем. Снорри совершенно верно отмечает, что ко времени появления римлян на Кавказе к востоку от Черного моря между горной цепью и страной турок жили два народа — асы и ваны. Также важно сознавать, что и по сей день на территории от Азовского и Черного морей до Азербайджана у берегов Каспийского моря живут несколько тысяч людей, которые считают себя потомками древнего племени Одина и называют себя удинами. Так что Снорри, который писал историю северных стран, сидя в Исландии, действительно знал названия мест и народов на Кавказе, а не выдумал их, как мы привыкли думать.
Пер. Представь себе, ведь нам нужно вернуться в Средневековье, чтобы найти историка, который бы без колебаний нарисовал маршрут Одина, а с ним асов и ванов с Кавказа к нам, на Север. Почему же это не в состоянии сделать высококвалифицированные современные историки?
Тур. Все дело в специализации. Высококвалифицированные ученые нашего времени, как на Севере, так и на Кавказе, знают настолько больше средневековых ученых мужей, что ни один из них не хочет затрагивать ту область, какой занимается другой. Расстояние от Кавказа до северных стран кажется нам, привыкшим сегодня к поездам и самолетам, неизмеримо большим, чем во времена Снорри, когда путь измеряли неделями, а не часами.
Пер. Согласно Снорри, Один годами ходил в военные походы против ванов, и он покрывал, должно быть, изрядные расстояния, раз его братья как-то решили, что он умер. Так, от Черного до Каспийского моря можно было добраться на лошади за несколько дней. У древних греков и римлян были такие же средства передвижения, как у асов и ванов, и они ходили в походы так же далеко на восток и на запад от своего дома, как, возможно, Один от Черного моря до Скандинавии.
Я думаю, что многие представляют себе путь Одина от Азовского моря до Балтийского как миграцию, продолжавшуюся, должно быть, несколько лет, если она в действительности состоялась. Здесь я хотел бы для сравнения вспомнить поход одного из наследников его престола, у которого были такие же транспортные средства, какие имелись у Одина и его спутников.
Тур. Кого ты имеешь в виду?
Пер. Шведского короля Карла XII, который, между прочим, закончил свои дни на норвежской земле. После неудачного похода в Россию и пребывания в Турции, в конечном итоге в качестве пленника, он осенью 1714 г. проскакал через всю Европу, покрыв расстояние 2400 км за четырнадцать дней. Переодетый и с паспортом собственного изготовления на имя капитана Петера Фриска, Карл и еще два молодых офицера проделывали путь на лошадях по 170 км в день. (От Азова до Ютландии — расстояние примерно такое же.) Вскоре остатки шведской армии проделали тот же путь домой — 1168 человек и 1625 лошадей. Они везли с собой 147 нагруженных доверху повозок, что, конечно, замедлило их путь, который продолжался три месяца. Вполне можно сравнить с путешествием Одина, который вез с собой женщин и детей и, видимо, немало добра.
Тур. За последние пять тысяч лет центральная часть Кавказа пережила столько переселений народов, что несведущий человек легко придет в замешательство, если попытается разобраться в соответствующей литературе. Не случайно Кавказский хребет называют «горой языков», а равнину с южной стороны — «перепутьем» при переселении народов. Плиний писал о том, что римлянам приходилось брать с собой, по крайней мере, сто переводчиков, когда они шли в эти земли. Вся эта территория — настоящий плавильный котел для различных переселенцев. Это теперь многие народы Кавказа ощущают каждый в отдельности свою принадлежность к определенной нации со своим национальным языком. И надо побывать там, чтобы понять притягательную силу этих мест! Ведь не только множество полезных ископаемых привлекало сюда представителей великих держав — хеттов, греков и римлян, а задолго до них — кочевников с севера и востока. По этой плодородной и красивой местности между двумя внутренними морями проходил старинный Великий шелковый путь из Китая
[389]. Этот путь шел на запад от побережья Каспийского моря и заканчивался в Азове, где караваны верблюдов и ослов освобождались от своих товаров, которые перегружались на корабли, отправлявшиеся в европейские и африканские портовые города Черного и Средиземного морей.
Пер. Азов и Танаис — не случайные города на карте Древнего мира. Оба города были тогда центрами мировой торговли.
Тур. В те времена, о которых повествует Снорри, Азов и Ван представляли собой две крупнейшие укрепленные столицы на всем Кавказе, а гора Арарат служила своего рода демаркационной линией между двумя воюющими народами. Эта старая вражда подспудно проявляется и сегодня, и я ощутил это, когда побывал в местах, где живут удины, которым приходится больше других бороться за сохранение своей идентичности подлинным асам.
Пер. Однако впервые тебя заманили в Азербайджан вовсе не асы?
Тур. Нет. В первый раз я приехал туда во времена холодной войны, когда Азербайджан входил в состав Советского Союза, но явно враждовал с Арменией — древним царством ванов. Тогда я приехал в Азербайджан в качестве гостя академии наук, так как был приглашен в несколько советских республик, чтобы рассказать о моей теории длительных морских путешествий в древние времена. Местные археологи обнаружили тогда наскальные изображения в Гобустане, на берегу Каспийского моря, к югу от столицы Азербайджана Баку. Некоторые глыбы с изображениями древних кораблей рухнули с нависающего выступа и были погребены под более поздними отложениями. Возраст этих изображений определяли с помощью радиоуглеродного метода. Старейшим из них было по пять-шесть тысяч лет, и они изображали серповидные камышовые ладьи, некоторые — с солнцем в носовой части. Это самые старые изображения кораблей в мире, даже старше египетских. Другие корабли имели совершенно иную форму. Они были вырезаны в виде прямой линии, загибающейся с обоих концов. Гребцы на них напоминали зубья гребешка. Эти рисунки удивительно походили на наскальные изображения ладей в Скандинавии, датированные примерно бронзовым веком и ранним железным веком (с 500 г. до н. э. по 200 г. н. э.).
Пер. Но не это заставило тебя поверить в Одина Снорри.
Тур. Нет! Интересно было узнать, что тогда уже азербайджанские археологи предполагали возможное существование контактов с северными странами вверх по Волге. Я тогда и не подозревал, что нахожусь в стране асов. Меня интересовали камышовые ладьи и зарождение судоходства. Когда местные археологи пытались пробудить мой интерес к возможным контактам с северными странами, мне не пришли в голову иные предположения, кроме тех, которые уже считались фактом, а именно, что викинги в конце 1-го тыс. н. э. спустились по Дону и Волге и посетили остров Сара недалеко от Баку и важный торговый город Барда в Гобустане, где недалеко от мест с наскальными изображениями до сих пор имеются руины, оставшиеся после пребывания викингов.
В Скандинавии, и особенно в Швеции, хорошо известна «Сага об Ингваре»
[390], в которой географически точно описывается поход 700 воителей вниз по рекам к Черному морю, а оттуда на восток, к Каспийскому.
Пер. Да, в Швеции имеется множество рунических надписей в память об этой экспедиции. А в Исландии была написана известная «Сага об Ингваре». Менее известно, однако, что сын Ингвара Свен предпринял еще один поход по следам своего отца и женился на королеве той страны, которую звали Силкесиф. Он построил большую церковь на могиле своего отца, которая была названа в честь Ингвара и посвящена «всем святым».
Тур. Не будем вдаваться в детали, ведь экспедиция Ингвара была детально исследована армянским историком Самюэлем Маркаряном. Он писал: «Мы знаем кое-что о походах славян и варягов (норманнов) на Кавказ и в район Каспийского моря. Такие походы имели место в 860, 907, 913–914, 944, 969, 1030–1033, 1043–1044 и 1047–1049 гг. Славяне и варяги приходили вниз по Волге к Каспийскому морю. Экспедиция Ингвара прошла в 1047–1049 гг. по довольно необычному маршруту: сначала к восточному побережью Черного моря, затем вдоль реки Риони в Западной Грузии и от Боржоми через долину Мтквари к Каспийскому морю».
Я объездил все побережье Каспийского моря в поисках наскальных изображений. В поездке меня сопровождал президент Азербайджанской академии наук, и я таким образом случайно познакомился с президентом республики, который был его братом. Через несколько лет Горбачев положил конец холодной войне, и вскоре Азербайджан стал самостоятельной республикой с народно избранным главой государства. Так мой друг Гейдар Алиев был избран президентом страны.
Когда западные нефтяные державы начали борьбу за право участвовать в разработке месторождений в Каспийском море, меня пригласили в качестве гостя компании «Статойл», поскольку я был лично знаком с главой государства. В результате я начинал все официальные речи со слов «Господин президент, дорогие асы!». Вот тогда меня внезапно осенило, что, возможно, имеется связь между местными наскальными изображениями типичных кораблей викингов и страной, описанной у Снорри как страна асов. Я сразу же позвонил в Осло и попросил прислать мне по факсу первые страницы королевских саг Снорри. Именно тогда я начал размышлять об этой истории.
Я помню, как сидел на берегу Каспийского моря и читал факсимильную копию саг, и тогда у меня родилась мысль, которая не давала покоя. И я понял, что мне необходимо опросить всех специалистов, которые, возможно, знают то, чего не знают другие: откуда пришли предки викингов. Занимаясь расспросами в Азербайджане, я узнал, что в этой стране асов имя Одина хорошо известно. Они пишут его «Удин», но произносят точно так же, как мы по-норвежски.
Пер. Не надо забывать, что, например, в греческом и русском языках буквы «б» и «в» совпадают, так же как «о» и «у», так что, пообщавшись с местным населением, понимаешь, что их «Удин» произносится, как наше слово «Один», и что Один и асы по-прежнему живут в памяти людей на нашей планете.
Тур. Да, в Азербайджане я услышал об Одине сначала из устных преданий, а уж потом прочитал в книгах. Если только начать копаться в библиотеках, то утонешь в именах, которые зачастую пишутся по-разному на разных языках.
Пер. Ты уже говорил, что цитировал источники, в которых Кавказский хребет назывался «горой языков», а равнина к югу от него — «крупнейшим в мире перепутьем». Ведь в этом регионе хаотически переплетены различные языки и народы, не правда ли?
Тур. Совершенно верно. Весь регион — это плавильный котёл мигрантов. И я полагаю, что для этого есть множество причин. Великий шелковый путь из Китая в Европу шел, как уже упоминалось, вдоль подножия Кавказского хребта, пересекал плодородную равнину от Каспийского до Черного моря и заканчивался в Азове в устье Дона, откуда товары отправлялись дальше на судах по Черному морю в Средиземное или же вверх по русским рекам. Транспорт между Азией и Европой как бы направлялся из одного внутреннего моря в другое через эту область, обозначенную на севере массивной цепью Кавказских гор, а на юге — такой же горной цепью в Армении с горой Арарат, возвышающейся как церковный шпиль среди гор-небоскребов.
Мифы — плавильный котел многих религий
Тур. Когда сегодня едешь на машине вдоль подножия Кавказского хребта, то не сразу понимаешь, что эти места — настоящий коктейль из древних племен. Расстояние от столицы Азербайджана Баку на берегу Каспийского моря и далее через Грузию и Южную Россию до Черного моря и Азова не такое уж большое: при лучшем качестве дорог и более легкой процедуре пересечения государственных границ его можно было бы одолеть на машине за один день. На этой территории расположены три современные республики, каждая из которых имеет свой национальный язык — азербайджанский, грузинский и русский. Однако если ненадолго остановиться между старыми ореховыми деревьями и вечными отвесными скалами и поговорить с местными жителями, то сразу почувствуешь дыхание живой истории, и окажется, что здесь, у подножия гор, еще живо прошлое. Когда я был в Азербайджане в прошлый раз, меня интересовали уже не наскальные изображения ладей на берегу Каспийского моря. Я ехал в колонне машин, державших путь в горы, чтобы найти древнейшие следы христианства. Я собирался ближе познакомиться с таким народом, как удины.
Пер. А откуда ты узнал про этот народ?
Тур. От одного норвежца, которого я вначале принял за миссионера, посланного обратить удин в христианство. Но он оказался специалистом по истории религии и приехал изучать руины старинных церквей удин, старейших церквей на Кавказе.
Пер. Удивительно! Неужели именно удины построили в Азербайджане самые первые церкви?
Тур. Вот именно! И как это ни парадоксально, инициатива изучения этого народа принадлежала не обычному исследовательскому институту, а Норвежской миссии для санталов
[391]. После распада Советского Союза в 1991 г. эта миссия получила возможность направить в Азербайджан писателя Бьёрна Вегге для изучения истории религии этой страны, в которой удины играли совершенно особую роль.
Пер. Именно этот народ носит имя языческого бога Одина?
Тур. Да, это очень забавно. Из сорока народностей, живших на Кавказе во времена Христа, удины были первыми, кто отказался от язычества и принял христианство. Когда сюда в VII в. н. э. пришли арабы и принесли с собой учение Мухаммеда, удины оказались единственным народом в Азербайджане, сохранившим христианскую веру. Вегге прислал мне свою небольшую книжку, которую он назвал «Азербайджан — страна, где Восток встречается с Западом». В ней он рассказывает о положении религии в этой бывшей советской республике. В предисловии он пишет о том, что ему особенно запомнилась встреча с удинами и их старинная церковь. Вегге и последовавшие за ним миссионеры вначале использовали английское написание в названии этого христианского народа —
Udin, затем, однако, они признали, что сами удины произносят название своего народа так же, как мы произносим имя древнескандинавского языческого бога. Вот что пишет Вегге: «Удины сохранили свою христианскую веру в первоначальной албанской церковной традиции и представляют собой настоящий живой музей в море мусульманских народностей, имея разве что таких соседей, как армянская апостольская и грузинская православная церкви. Сегодня, когда прошло столько лет после зарождения христианства, из тумана истории всплывают маленькие серенькие церквушки и массивные, поросшие мхом могильные камни, уходящие вглубь времени, к первым апостолам и началу распространения христианства в I в. н. э.
Удины, возможно, — один из древнейших народов мира, однако нет письменных источников, которые могли бы рассказать его историю. У этого народа не было Снорри, создавшего саги, которые уводят нас в далекое прошлое…»
[392]
Пер. Забавно, что он упоминает саги Снорри, ничего не говоря о том, как Снорри написал об Одине.
Тур. Может быть, он думал об этом подсознательно. Когда все полностью станет известно, возможно, окажется, что удины на Кавказе — такие же правомерные наследники саг Снорри, как и мы на Севере.
Пер. А говорит ли Вегге что-нибудь особенное о религии этого народа? Во что верили удины до прихода римлян и принятия христианства?
Тур. Он пишет, что, хотя многие из этого народа потеряли свою христианскую идентичность и стали коммунистами и атеистами, они все равно остались верующими. Вегге увлекательно рассказывает об их ночных походах к «святым местам» (
пир), где они приносят жертвы духам. А потом добавляет, что старейшие удины по-особому относятся к солнцу, луне и огню, а также к человеческому сердцу и своим предкам.
Пер. Это у них общая черта с асами. Существовали довольно тесные связи между асами в Азербайджане и Сасанидами в Иране, религия которых — зороастризм — оставила свои следы на Кавказе. Бьёрн Вегге пишет: «Зороастризм — религия огнепоклонников. Отдельные лингвисты полагают, что название страны „Азербайджан“ происходит именно от этой религии, ибо это название
[393] появилось в эпоху Сасанидов
[394] и означает „страна огней“…»
Пер. На каком языке?
Тур. Этого он не говорит. Он только констатирует, что с этнической, языковой и религиозной точек зрения Кавказ — один из сложнейших регионов в мире. До арабско-мусульманского нашествия на Кавказе были три христианских царства: Армения, Грузия и Кавказская Албания
[395]. В этих трех царствах сосредоточилось огромное количество народностей. В самом конце X в. на юге произошла неудачная попытка восстания против халифа. Те, кто тогда не захотел подчиниться правлению халифа, были вынуждены перейти под покровительство армянской церкви. Когда христианская Кавказская Албания была уничтожена, уцелевшие удины скрылись в горах. Они никогда не принимали ислам, но и не подчинились армянской церкви. Согласно Вегге, удины сами утверждали, что в середине 90-х гг. XX в. их численность составляла около 10 тыс. человек, из них почти половина жила в поселке Нидж, расположенном в 300 км к западу от Баку. Именно туда я и направлялся после посещения храма в Азербайджане. Этот храм — конечная цель паломничества огнепоклонников, ибо пламя огнепоклонничества не погасло в Азербайджане до сих пор.
Недалеко от столицы республики Баку, рядом со старым караванным путем, находится священная местность, под названием Сура Кани, или «Красное место», где из земли вырывается огненное пламя. Благодаря этим местам Альфред Нобель и другие нефтяные магнаты в конце XIX в. заработали себе огромные состояния, начав бурить здесь нефть, которая залегала буквально на поверхности. Сегодня вся эта местность — настоящий ад: повсюду — нефтяное загрязнение и тысячи заброшенных нефтяных вышек, которые напоминают мертвые деревья на кладбище растраченного богатства. Вдоль побережья появились новые вышки, полные жизни и движения, а нефтяные платформы в Каспийском море вселяют надежду на лучшее будущее для жителей этой неописуемо красивой страны. А сегодня в эту забытую богом местность по асфальтовой дороге ездят автобусы с туристами…
А в памяти людей еще живы воспоминания о караванах верблюдов, следовавших по Великому шелковому пути из стран к востоку от Каспийского моря. Здесь путники останавливались на своем пути в караван-сарае в Сура Кани. Здесь и по сей день сохранились маленькие домики вокруг открытой площадки посередине, на которой стоит небольшой храм, в центре которого из груды камней вырывается вечное пламя. Возможно, какие-нибудь любопытные туристы остановятся здесь, чтобы поразмышлять о развитии мировых религий, и спросят, почему варвары поклонялись огню, а не Святому кресту, звезде Давида или лунному серпу Мухаммеда. А ведь огонь в те времена был своего рода земной иконой для тех, кто поклонялся солнцу на небесах как видимому символу бога, дающего свет. Удины, жившие высоко в горах Кавказа, знают, как и мы, что за две тысячи лет в мире сменились религии и священные символы, но… солнце по-прежнему освещает и нас, и наши символы.
Солнцу поклонялись все известные нам древнейшие цивилизации как в Старом, так и в Новом Свете. И местность, где сближаются друг с другом Азия, Африка и Европа, где родились основатели великих религий, в этом смысле не является исключением. Цари Шумера и фараоны Египта — все почитались богами как при жизни, так и после смерти, ибо люди верили в их божественное происхождение.
Обычай возведения людей в ранг богов существовал на Среднем Востоке еще во времена Агамемнона. Это подтверждает и Снорри в своей генеалогии Одина, возводящей его предков к Элладе. И потому Вовсе не удивительно, что жители Севера во времена конунга Гюльви в земле свеев возвели в сонм богов Одина, пришедшего к ним с солнечного юга в золоте и блеске, с большой свитой и именитой родословной.
Пер. Согласно Снорри, Один сам попросил, чтобы его сожгли на костре после того, как он пометил себя копьем, чтобы умереть как воин на поле боя. И Снорри сообщает, что костер этот был большим и красивым. Снорри придает большое значение тому, что Один принес на Север обычай трупосожжения. Один ввел закон, предписывавший сжигать всех умерших, и заставил людей верить в то, что, чем выше поднимается дым от костра, тем более высокое место займет на небе умерший.
Тур. Трупосожжение было известно на Севере и в более ранние времена, но Снорри, несомненно, связывает обычай кремации именно с появлением здесь Одина. Религия огнепоклонников зороастризм не предписывала сжигать трупы людей, принадлежавших к низшим слоям населения, дабы не загрязнять священный огонь. Сжигались лишь тела тех, кто был достоин этого! А знаешь, что сказала мне одна азербайджанка, узнав, что я прочитал доклад об исландских сагах в Азербайджанской академии наук? Она сказала:
«На нашем языке
Один означает „огнепоклонничество“:
Од — это огонь, а
дин — религия, или поклонение».
Я не лингвист и не эксперт по языкам и поэтому не могу оценить правильность этого перевода, но, когда я попал в горы, к удинам, то невольно начал задаваться вопросом, не взял ли наш северный Один себе имя по названию своего племени, а, может, его подданные, уцелевшие здесь и после прихода римлян, назвали свое племя по имени покинувшего их хёвдинга…
Пер. Один стал, в первую очередь, богом аристократов, воителей и викингов, в то время как Тор сохранил свою популярность в широких слоях населения, прежде всего среди земледельцев, поскольку был, кроме того, и богом погоды. То, что я узнал в Азербайджане об Одине (то, что его имя означает «огнепоклонничество»), чрезвычайно интересно. Теперь я понимаю, почему арабы в Испании думали, что викинги — огнепоклонники, и называли их словом «ал-маджус», которое затем преобразовалось в более испанское слово «маго», которое, как я прочитал в испанской энциклопедии, означает жрецов в зороастризме. Этих жрецов считали волшебниками за их познания в астрономии. Три святых короля называются по-испански
Los Reyes Magos. В 1955 г. арабист с мировым именем Арне Мельвингер опубликовал свою докторскую диссертацию, посвященную слову
al-magus, которое означало «викингов и жителей Севера вообще». Самое раннее свидетельство, которое у нас имеется о религии викингов, — это интересный рассказ арабского поэта и дипломата Аль-Газаля
[396], который посетил в 845 г. одного из конунгов-викингов в качестве посланника. Этот рассказ был записан Ибн-Альгамой (804–896) со слов Аль-Газаля. Вот что говорил Аль-Газаль: «Там (на том острове) живут маджусы в огромных количествах. Недалеко от того острова есть еще много других, больших и малых, где все жители — маджусы. Близлежащий материк также принадлежит им, он такой большой, что требуется много дней, чтобы проехать по нему. Они все были прежде маджусами, но сейчас исповедуют христианскую религию, отказавшись от огнепоклонничества и своей прежней религии и перейдя в христианство, за исключением обитателей нескольких изолированных островов в океане. Там жители сохранили свою старую религию с огнепоклонничеством, браками с матерями и сестрами и другими нелепостями».
Последнее согласуется с тем, что Снорри рассказывает о Ньёрде, который был женат на своей сестре. Этот обычай он принес с собой из страны ванов.
Итак, Один стал родоначальником религии и сумел возвыситься до главного бога у народов Севера. Культ его продолжался до введения христианства на Севере. Однако мы не знаем достоверно, кому поклонялся и приносил жертвы сам Один, кого он ожидал встретить в мире богов. Разве что Тора? Мы не знаем также, какой веры был конунг свеев Гюльви и его народ до того, как пришел Один с асами и обманом отнял у него власть в его собственном царстве.
А какое впечатление произвели на тебя удины?
Тур. Мне показалось, что они воздвигли вокруг себя как бы невидимую крепость. Приняв позитивные стороны цивилизации, они все же не отказались от прошлого, которое они хранят внутри себя и между собой и которое незримо присутствует в окружающей их местности.
В гостях у народа удин
Тур. Когда мы с Жаклин приехали из Осло в село удин Нидж, нас приняли как близких родственников, вернувшихся домой. Село Нидж находится в горах, на расстоянии пяти часов езды на автомобиле от современной столицы Азербайджана у Каспийского моря. Вегге не смог поехать с нами, но в поездке приняли участие два представителя Миссии для санталов в Азербайджане и ректор Бакинского университета.
Большая часть удин (около 5 тыс. человек) живет в настоящее время в горном селе Нидж в построенных между старыми деревьями домиках. Когда мы с Жаклин приехали почти что с официальным визитом в двух автомобилях с полицейским эскортом и мигалками, то нам показалось, будто все жители во главе с мэром собрались на открытой площадке перед скромным поселковым домом собраний. Оказалось, что президент Азербайджана сообщил о нашем приезде в интервью по телевизору. И вот мы, норвежцы, оказались в царстве асов, и у нас было такое чувство, будто мы попали в страну из саг. Мэр сразу же пригласил нас в гости. В саду, где густо росли ореховые деревья, под крышей из виноградных лоз был накрыт огромный стол, ломившийся от всяческих блюд, начиная от гусей и жаркого из свинины и кончая южными фруктами, пивом и домашним вином. Мы упирались головами в виноградные лозы, когда вставали, чтобы произнести тост и осушить наполненные бокалы. Мэр по традиции был провозглашен тамадой и руководил трапезой.
В своей вступительной речи он, не мешкая, изложил суть дела и сообщил, что мы приехали в страну, где удины проживают без малого уже две тысячи лет. Удины представляют собой истинных асов, ведущих свой род от первоначального населения Азербайджана, т. е. от тех, кто жил здесь еще до появления христианства и ислама. Когда после смерти Иисуса в Азербайджан из южных стран проникло христианство, удины были среди первых, кто принял новую веру. И этот народ стал единственным в здешних местах, кто и сохранил веру своих предков в течение двух тысяч лет. Все остальные народности перешли в ислам, так как вступали в браки с арабскими завоевателями и различными иными пришельцами. Сейчас здесь всё, как в Америке. В Америке все — американцы, и в Азербайджане все сейчас — асы, но не у всех асов одни и те же предки…
Затем мы узнали, что не так-то легко принадлежать к удинам в стране асов. Конечно, в Азербайджане сейчас — свобода вероисповедания, и после падения коммунизма и распада Советского Союза каждый может придерживаться той веры, какой хочет. Проблема же удин состоит в том, что они исповедуют ту же веру, что и армяне, которые всегда недолюбливали азербайджанцев. Злые языки стали распространять ложные слухи, будто удины на самом деле происходят не от асов, а пришли из Армении. Постоянные пограничные конфликты между Азербайджаном и Арменией никогда не прекращались с начала нашего летоисчисления. И хотя недавно было подписано мирное соглашение между двумя соседними странами, расположенными по обе стороны горы Арарат, там всё равно постоянно вспыхивают конфликты. Мэр сообщил нам, что до недавнего времени в одном только маленьком селе Нидж проживало около 10 тыс. удин, но, когда разразился последний конфликт с армянами, бо́льшая часть удинской молодежи переселилась на север, в Россию. Так, за время жизни одного поколения население Ниджа сократилось почти наполовину. Удины живут в домиках среди ореховых деревьев, плоды которых наряду с земледелием являются для них основным источником существования. Остальная часть удин рассеяна по разным территориям. Ближайший поселок, население которого тоже состоит из удин, меньше Ниджа и находится по другую сторону границы — в Грузии; еще один — в России, на другом берегу Азовского моря.
Когда мэр сел на свое место и объявил следующего оратора, я подумал о том, что рассредоточение удин в наше время связано, возможно, с местами проживания асов во времена Одина. Заклятые враги асов проживали южнее, по другую сторону горы Арарат, в стране турок. В те времена там находилось государство Урарту, или царство Ван, со столицей у озера Ван. Может быть, ваны и были древним населением Армении? Ведь и удины, и асы все время упоминаются, когда речь идет о Кавказе?..
Пер. А ты не спросил об этом мэра?
Тур. Мне не удалось и рта раскрыть, потому что мэр уже дал слово следующему оратору. Им оказался местный школьный учитель, подробно изучивший историю своего народа в столичных библиотеках. Он сказал следующее: «Удин? Разве вам, жителям Севера, неизвестно, что удин — это не один человек, а целый народ? Только здесь, в области Шора удины живут в двенадцати из четырнадцати районов! Сегодня представители этого народа живут в трех странах — Азербайджане, Грузии и России, однако этнически они родом из Азербайджана. Геродот упоминает народ удин в V в. до н. э.
[397] В своем историческом труде он пишет, что народ удин — это конники из Албании, „страны блондинов“. На старых картах Албания помещена на границе Кавказских гор (это потом албанцы переселились в теперешнюю Албанию, в Европе). Историк Геродот писал, что в V в. до н. э. удины жили по берегам Днепра и сражались с греками в персидском войске. Александр Македонский называл удин
„otena“ и на своей карте поместил их на территории сегодняшнего Азербайджана. Разве скандинавские историки не изучали трудов об удинах, написанных их азербайджанскими коллегами — доктором Гамарша Явадовым и профессором Кемалем Алиевым?..»
Познания этого учителя произвели на меня сильное впечатление. Я подумал, что этот простой школьный учитель с Кавказа знает об удинах больше любого университетского профессора в северных странах. Однако, когда еще один школьный учитель рассказал нам о структуре удинского языка и его генетическом происхождении от праалбанских пришельцев, я понял, что нашу неосведомленность можно объяснить как присущей нашему времени узкой географической специализацией, так и длительной политической изоляцией Кавказа. В своей речи этот учитель упомянул также местную легенду о том, что в далекие времена часть удин ушла на Север. И вот это упоминание особенно заинтересовало нас. Старики помнили легенду о том, что когда-то очень-очень давно часть народа удин покинула свои места и отправилась на Север. Они никогда не вернулись! Об этом помнили лишь самые древние старики. Наш спутник Торе Сейерстад, который еще собирался некоторое время пробыть в этой стране, заручился обещанием получить текст легенды, записанный со слов одного старого человека, знавшего ее наизусть. Впоследствии я узнал из письма Торе следующее: «К сожалению, Георгий Коассари сейчас не совсем здоров. Он обещал дать мне текст мифа о народе, который ушел на Север, но не успел. Я узнал от него только, что среди удин известен миф о том, что часть их народа когда-то покинула эти места и никогда не вернулась. Удины даже сложили пословицу: „Люди, которые уезжают на Север, никогда не возвращаются“. Эта пословица в ходу и сегодня».
А когда мне подарили книги об удинах и сверхзапутанной истории Кавказа, написанные на азербайджанском языке со странными буквами, я сразу же простил всех иностранцев, никогда не слышавших об удинах из их собственных уст и не знающих об их существовании…
Удины очень понравились нам всем, кто сидел на скамьях за невероятно длинным столом в саду. Длина этого стола, который наверняка стоял там постоянно, свидетельствовала об их гостеприимстве, а множество гостей хозяев произнесли такое количество тостов, что мы, как ни старались, не могли за ними поспеть. И хотя мысленно мы вспоминали старинные саги, но в действительности мы находились среди наших современников. Удины отличались знаниями, умом, чувством юмора и знали толк в хорошей еде. Когда все встали из-за стола и разошлись в разные стороны среди фруктовых деревьев, мы едва стояли на ногах от обилия съеденного и мечтали лишь о том, чтобы принять горизонтальное положение.
Мы с Жаклин последовали за мэром. Подходя к его дому, мы увидели в саду его супругу. Она встречала нас со стеариновыми свечами в руках и пригласила в дом, где был накрыт небольшой стол, который ломился от яств — целиком зажаренная утка, яичница, овощи, йогурт, сметана и свежеиспеченный хлеб. Избежать этого угощения было невозможно, и мы порадовали себя и хозяев, вкусив и пережив еще одну трапезу удин. Затем стеариновые свечи были зажжены в «ванной комнате», которая представляла собой гениальную систему: на дереве перед домом висело ведро с водой, в дне которого была проделана дырка и заткнута пробкой. Рядом на ветках висели мыльницы и полотенца. Лестница с внешней стороны дома вела в огромную спальню для гостей с книжными полками вдоль стен, обилием мебели и пианино около двуспальной кровати.
На следующее утро после завтрака в саду, состоявшего из целиком зажаренного цыпленка и водки, мы отправились осматривать одну из старейших церквей в мире. Никто не знал точно ее возраст, но было известно, что ее построили предки удин около тысячи лет назад. Церковь была каменная, внушительных размеров, с хорошо сохранившимися внутри колоннами. Церковь была заброшенной, и издалека между гигантскими деревьями она походила на руины.
Никому из наших спутников, приехавших сюда с полицейским эскортом, не доводилось бывать здесь раньше — ни ректору Бакинского университета, ни переводчику, ни полицейским. О существовании удин мне рассказал Бьёрн Вегге, а в этой поездке нас сопровождали двое его сотрудников из Миссии для санталов, которые бывали здесь раньше и занимались изучением церкви удин. Это были Торе Сейерстад — руководитель проекта по раскопкам и Эйвинд Скейе — специалист по истории религии. Они отозвали меня в сторону, повели за церковную стену и показали огромный валун, напоминавший перевернутый могильный камень. На этом камне и на каменной стене над входом в церковь был вырезан рельефный христианский крест. Вверху он заканчивался декоративными языками пламени, которые казались здесь совершенно не к месту. «Крест горит, — прошептал Эйвинд, чтобы не привлекать внимания мусульман. — Это одна из первых церквей, построенных в стране, жители которой были огнепоклонниками. Первые церкви строились на местах, где прежде были языческие капища. А чтобы переход от огнепоклонничества не ощущался слишком резко, крест изображали с языками пламени…»
Пер. Извини, что я тебя прерываю, но разве в церквях и сегодня не горят свечи? И еще я хотел спросить, не начали ли археологи раскопки под зданием церкви?
Тур. Под этой церковью еще не копали, но велись раскопки под полом другой церкви удин, также заброшенной и расположенной еще выше в горах, ближе к Грузии.
Пер. Вы там тоже побывали?
Тур. Да. Из Ниджа с его разбросанными среди садов домиками мы отправились по этим удивительно красивым местам дальше в старинный город караванов Шеки. Он был когда-то важным узловым пунктом между Востоком и Западом на Великом шелковом пути из Китая. Здесь с древнейших времен проходили караваны верблюдов. Они перевозили товары по суше между побережьем Каспийского моря и Азовом на Азовском море, где совершалась перегрузка на корабли, которые везли товары в порты Черного моря или через Черное море и пролив у Дарданелл в порты Средиземного моря.
Когда наш маленький кортеж из автомобилей завернул на городскую площадь в Шеки, там нас встречали мэр и собравшиеся жители, которые тепло приветствовали нас. Уже был накрыт длинный стол в настоящем райском саду, где пели птицы и шумел водопад между огромными деревьями. На этот раз принимали нас не удины и не христиане, а асы. Однако удины когда-то жили и здесь. Чуть выше на холме на фоне возвышающихся Кавказских гор виднелась небольшая группа домиков в селении, под названием Киш, где находилась заброшенная церквушка народа удин. Как нам сказали, это была самая старая христианская церковь на всем Кавказе. Старинные каменные стены еще поддерживали башню посередине, как в старые времена в церквях на Севере или в самых старых церквях в России. Однако, если самые первые церкви на Севере были воздвигнуты в начале 2-го тыс. после Рождества Христова, эта церковь удин была построена почти на тысячу лет раньше. На крутом склоне под церковью ютились несколько маленьких домиков из серого камня. Они были очень низкими и невзрачными и, казалось, будто цеплялись друг за друга и за крутую гору с самых древних времен, чтобы не обрушиться каменной лавиной в этот безумный современный мир, представленный городом Шеки внизу в долине.
Когда мы приехали, раскопки вокруг стен башни и внутри церкви шли полным ходом. Раскопками руководили американский археолог норвежского происхождения Бьёрнар Стурфелл и его коллега из Бакинского университета Назиб Мухдаров. Когда мы подошли ближе, археологи отложили в сторону лопаты и метлы, и мы смогли увидеть хорошо сохранившиеся целые скелеты — длинные и белые. Прямо у входа
в церковь лежала небольшая куча черепов и скелетов. По-видимому, работа уже была почти закончена, но, как это часто бывает с археологами, они не могли прийти к единому мнению в толковании результатов. Несколько целых скелетов лежали так, что голова и верхняя часть туловища оставались под церковной стеной, а нижняя часть — снаружи. Азербайджанский археолог считал, что эти захоронения старше самой церкви, но его норвежский коллега сомневался в этом. Он заполз под стену и утверждал, что могила была вырыта под стеной, когда церковь уже стояла на месте. Местный археолог полагал, что церковь была построена, по-видимому, во II в. н. э., а норвежец считал, что она более поздняя. Мне понравился этот спокойный, по всей видимости, очень опытный археолог, но тогда мне и в голову не могло прийти, что он будет возглавлять скандинавскую команду археологов, когда мы через два года начнем раскопки в западном конце Великого шелкового пути.
Внутри церкви пол был откопан наполовину, и здесь мнения археологов сходились. Раскопки проходили стратиграфически, и археологи раскрыли несколько слоев утоптанного церковного пола, находящихся один над другим. Под самым старым слоем они дошли до языческих времен. Церковь была построена на кладбище дохристианского времени.
Пер. И тут-то ты заинтересовался!
Тур. Совершенно верно. А знаешь, что я там увидел? В могильнике с остатками трупосожжения, с золой и грязными черепками лежал череп козла с рогами. Мы, норвежцы, сразу же подумали, что это были те самые козлы, которые должны были подвезти Тора в мир богов, и вспомнили, что именно Один ввел на Севере обычай трупосожжения для всех тех, кто хотел после смерти попасть к Тору и к нему самому.
Пер. Но ведь скелеты около церковной стены не были сожжены?
Тур. По-моему, мы имеем дело с двумя различными обычаями захоронения в одном и том же святилище. Кто был захоронен под церковными стенами и когда, покажет исследование с применением радиоуглеродного метода датировки ДНК костей. Различие слоев под церковным полом свидетельствовало о том, что кремация уже была известна в Азербайджане в то время, когда удины перешли к христианству и построили первую в стране церковь. «Трупосожжение имело место только в Индии», — отвечали мне каждый раз азербайджанцы, когда я спрашивал, не был ли известен этот обычай их предкам. Горящий крест, который я увидел на церкви удин в Нидже, навел меня на некоторые размышления, а профессиональные раскопки должны были раскрыть истину. Под церковным полом было полно золы и черепков, и археолог Назиб с 25-летним опытом местных раскопок удивлялся не меньше меня.
Назиб рассказал, что в Азербайджане нередко находили некрополи с остатками кремации в курганах, которые называют
тапабаши, что означает «верхушка холма». Он раскопал немало таких курганов и находил там золу от сожженных скелетов и кувшинов и черные от сажи осколки. Все считали, что здесь происходили жертвоприношения животных. Угольки, остававшиеся от трупосожжения, складывали в кувшины, а золу рассыпали по могилам.
Пер. А ты узнал то, что тебя интересовало? Что Один и его народ практиковали трупосожжение? Но тогда почему скелеты, найденные вне церковных стен, сохранились целыми?
Тур. Причина ясна. Удины и асы вообще очень боялись, что христиане в Армении объявят, будто эти церкви в Азербайджане — армянские, если их построили после прихода в их страну христианства. Асы же считали, что могут доказать, будто к их предкам апостол пришел еще раньше.
Пер. Опять этот старый спор. Спор между асами на севере и ванами на юге не закончился с приходом христианства! Возможно, что в Азербайджан христианство пришло раньше, однако в Армении, расположенной с северной стороны горы Арарат, христианство пришло и осталось, в то время как асы после короткого переходного периода перешли в ислам.
Тур. Очень трудно заставить людей на Кавказе и вообще в мире понять, что Иисус и Мухаммед возвестили одного и того же бога и одни и те же законы Моисея, унаследованные из еврейской религии. Весьма примечателен один эпизод, произошедший около стены церкви в Кише. В Азербайджане сейчас — свобода вероисповедания, и, когда настало время ланча, мы все сели у церковной стены — представители норвежской церкви и наши хозяева-мусульмане. На фоне жуткого зрелища скелетов, лежащих буквально у наших ног, завязалась мирная беседа. Неожиданно с дерева рядом с нами взлетела черная птица. Торе, хороший знаток птиц, изменился в лице и вскрикнул: «Во́рон!» Шутки ради, он спросил переводчика, не означает ли ворон что-то особенное в местной мифологии. «Знание! Мудрость!» — хором прокричали нам в ответ, и мы все рассмеялись. Громче всех смеялись мы, норвежцы, ибо сразу же вспомнили миф о двух воронах Одина
[398].
Пер. Теперь ты сам побывал и познакомился с живыми удинами в стране асов. Когда мы в последний раз рассуждали о древнескандинавской мифологии, ты упомянул, что пограничная область между мифом и реальностью имела, очевидно, магическую притягательную силу для многих поколений жителей Севера — от эпохи викингов до наших дней. Два норвежца, лауреаты Нобелевской премии, Фритьоф Нансен и Кнут Гамсун описали свои путешествия по этим местам.
Тур. Совершенно верно. А швед Альфред Нобель, учредивший Нобелевскую премию, сам находился в числе пионеров, начавших добычу нефти в Азербайджане. Писатель Кнут Гамсун описывает свой визит в «новый рай для нефтяных магнатов» в книге под названием «В сказочном царстве: мечты и впечатления о Кавказе»
[399]. Ученый и полярный исследователь Фритьоф Нансен, получивший Нобелевскую премию мира (1922 г.) за работу в качестве комиссара Лиги Наций по делам военнопленных после Первой мировой войны, приехал сюда в 1920-е гг. В своей книге «Через Кавказ к Волге» он очень близко подошел к проблеме происхождения скандинавов, отметив, как горная цепь Кавказских гор с вершинами высотой более 5 тыс. м могла способствовать «волнам переселения народов» в этой пограничной области между Азией и Европой.
Фритьоф Нансен писал: «…эти волны накатывались на крутые склоны с юга и севера и разбивались о скалы, но в недоступных узких долинах, где было легко защищаться, засели остатки прошедших мимо народов, которые загородились от остального мира в своем узком мирке. Таким образом в этих горах на маленькой территории собралось больше различных народностей, чем в каком-либо другом уголке мира…»
Нансен был профессором биологии в Университете Осло и преподавал на биологическом факультете за несколько лет до моего поступления в университет. В своей книге он уделяет особое внимание одному кавказскому народу, который он называет осетинами, но который, по его словам, арабские и средневековые авторы называли асами, а иногда аланами. По его сведениям, в начале прошлого века там еще жили около 225 тыс. представителей этого народа. Их страну он называет Осетией, которая находится по обе стороны Кавказских гор, включая степные территории на западной стороне.
Пер. Там, где находится Азов? И вовсе не на востоке Азербайджана, хотя те асы, должно быть, те же самые, что и сегодняшние асы? А что пишет о них Фритьоф Нансен?
Тур. А пишет он следующее: «О них много спорили и писали ученые… Они пришли на Кавказ, должно быть, с Севера и в первые столетия после Рождества Христова широко расселились на юге теперешней России, а точнее, в нижнем течении Дона. …В отличие от других кавказских народов, особенно в восточной части Кавказа, осетины имеют удлиненную форму черепа (средний индекс, возможно, около 81). Глаза у них большей частью голубые или серые, волосы и борода светлые, каштановые или рыжеватые. Лица широкие, носы большие и прямые, а губы тонкие. Цвет кожи светлый, часто румяный. Они среднего роста и крепкого телосложения, как мужчины, так и женщины. Осетины, возможно, первоначально принадлежали к нордической расе, или же произошло переселение народа с Севера, однако их язык указывает на связи с Востоком, с народом Ирана. Встречаются среди них и такие, у кого иная форма черепа, темные волосы и карие глаза, но это говорит лишь о смешении их с другими народностями в более позднее время.
Для нас, жителей Севера, этот народ представляет некоторый интерес потому, что их название связывают с древненорвежским словом åss, означающим богов».
Пер. Оказывается, Нансену уже давно пришла в голову мысль о том, что осетины, или асы, были, возможно, скандинавского происхождения?
Тур. Он пошел еще дальше. Обнаружив черты сходства между образом жизни и мифологией осетин и древних скандинавов, он пытается найти причины. Во времена Нансена для этого кавказского народа было характерно особое почитание святого пророка Илии, который был взят на небо в огненной колеснице. Нансен указывает на то, что осетины называли бога грома и молнии святым Илией
[400], и находит определенное сходство между святым Илией и древнескандинавским богом грома и молнии Тором. Если кого-то убивало молнией, считалось, что его наказал Илия за какую-то обиду. Убитого молнией хоронили либо на том же месте, либо клали на двухколесную повозку, запряженную двумя козлами. У могилы резали черного козла, а шкуру вешали на шест. Нансен видит связь между козлами громовержца Илии и повозкой Тора. Он находит также связь местного сказания о драконе Руймоне
[401], который родился слепым и живет в подземном царстве и которого Илия ловит и вытаскивает на поверхность, с древнескандинавским мифом о Торе, поймавшем в Йотунхейме на крючок Мирового змея и вытащившем его на поверхность. Нансен находит еще некоторые черты сходства между этим кавказским народом и нашими древнескандинавскими предками. Он пишет о громадных трехметровых камнях, воздвигнутых на старинных могилах, и сравнивает их со скандинавскими баутастейнами. Нансен пишет, что и плоские лепешки напоминают лепешки на норвежских хуторах, или же обращает внимание на то, что они и лес сплавляют по рекам на скандинавский манер. Он пишет: «Тот факт, что многие черты образа жизни и обычаи осетин, их орудия труда очень похожи на наши, северогерманские, объясняется, возможно, общим индоевропейским происхождением, а, может быть, вытекает из схожих условий жизни».
Нансен ближе других подошел к решению загадки, но даже такому отважному полярнику и путешественнику вряд ли могла прийти в голову мысль о том, что намеки на происхождение рода Инглингов можно найти у Снорри, одиноко сидевшего на своем острове в Полярном море и сочинявшего саги в Средневековье.
Однако воздадим честь тому, кто ее заслуживает! Я уважаю Нансена больше всех остальных европейцев XX в. Он один добился разрешения Лиги Наций на изготовление «нансеновских паспортов», спасших после Первой мировой войны жизни миллионов обреченных на смерть беженцев из Армении и других восточных стран. На своем полярном судне «Фрам» он прошел по направлению к Северному полюсу дальше, чем кто-либо до него. А во время своего путешествия по Кавказу он ближе других подошел к истине об Одине, когда объединил осетин и асов и поместил их «на юг России, в низовья Дона…»
Как и все скандинавы, Нансен считал, что предки викингов всегда жили на Севере, так что, если у асов на Кавказе и есть что-то общее с асами из северных сказаний, это значит, что именно кавказские асы пришли с Севера. Однако российские археологи считают сегодня, что асы пришли на Кавказ с Востока и были иммигрантами из Азии.
В Азове — колыбели асов
Тур. Прежде мы могли бы попасть к Азовскому морю, просто продолжая следовать по Великому шелковому пути. Однако этот путь идет через теперешнюю Грузию, а затем углубляется в российскую территорию, туда, где река Дон впадает в Азовское море. На этом пути нас поджидали проблемы на границе. В результате мы полетели на север, в Москву, а затем в Ростов, расположенный прямо в верховьях дельты Дона. Везде мы наблюдали только мир и спокойствие и не заметили никаких признаков беспорядков на Северном Кавказе. Правда, нас удивляло отсутствие туристов в этой части мира, где от глаз европейцев с Запада в течение поколений скрывалось столько интересного. Русские в дельте Дона оказали нам такой же радушный прием, как и азербайджанцы, и грузины, чем мы уже были изрядно избалованы. Холодная война не убавила в людях жизнерадостности и хорошего настроения. Весь Кавказский регион — это смешение народов, которых в большей степени, чем какие-либо другие нации в мире, объединяло общее историческое прошлое, изобилующее бесконечными переселениями. И вот прибыли мы с далекого Севера, чтобы найти подтверждение тому, что и наша часть мира имеет отношение к той культурной экспансии, которая распространялась во все стороны с Кавказа каждый раз, когда этот регион захватывала новая сверхдержава.
Времени в Тбилиси у нас почти не было, так что нам пришлось отказаться от приглашения грузинских археологов посетить раскопки в Октомбери, единственной деревне в Грузии, где все еще жили удины. Нам нужно было попасть в Азов в дельте Дона, откуда, согласно Снорри, был родом Один. И нам хватило времени только на то, чтобы осмотреть коллекции Тбилисского археологического музея и тысячелетние рукописи в ультрасовременной государственной библиотеке.
В этот раз я приехал изучать более поздний период человеческой истории. Раньше, в годы холодной войны, я интересовался происхождением мировых культур и возможностями их распространения через океаны. Теперь меня интересовало, не могли ли русские реки сподвигнуть людей в эпоху Римской империи к бегству на Север.
В прошлый раз я был в этой части Кавказского региона в качестве гостя Советского Союза со своей международной командой после пересечения Атлантического океана на тростниковой лодке «Ра». Поскольку в этот раз, чтобы попасть в дельту Дона, пришлось лететь через Москву, мне пришла в голову мысль позвонить русскому участнику трех моих экспедиций Юрию Сенкевичу. Я подумал, что бывший врач советских космонавтов, а теперь известный ведущий телевизионных программ о путешествиях, вероятно, смог бы порекомендовать гостиницу в городе на Дону и подсказать, с кем там можно связаться.
Я не ошибся в своих предположениях. Когда мы совершили посадку в московском аэропорту, Юрий уже ожидал нас. Он отвез нас на своей машине на другой аэропорт, откуда мы вылетели в Ростов. Когда мы поздно ночью сошли с трапа, нас встречала целая делегация. Мы вновь были на Кавказе, но уже по русскую сторону границы, в аэропорту недалеко от Ростова — современного города с миллионным населением в низовьях Дона, столицы этого региона. Всего в 40 км отсюда, где Дон впадает в Азовское море, находились древние портовые города Азов и Танаис — цель нашего путешествия. Другого путеводителя, кроме саг Снорри, у нас не было. Однако складывалось впечатление, будто к нашему визиту готовились уже много месяцев, а не один день, после телефонного звонка Юрия. Ночью нас встречал ростовский вице-губернатор Валерий Леонидович Евтеев, а на следующий день у нас была встреча с местными археологами и историками из Ростовского государственного университета и из региональных музеев Ростова и Азова.
Пер. Как было воспринято ими наше предположение о том, что следует внимательнее отнестись к сагам Снорри?
Тур. Они не особенно удивились моим цитатам из Снорри. Напротив, как и Нансен, они вполне отдавали себе отчет в том, что существуют основания для предположений об общем происхождении. Особенно если сравнить находки из могильников в Скандинавии с их собственными. Местные археологи подчеркивали сходство между длинными мечами викингов и мечами, относящимися к тому же периоду и найденными в районе Азова. Я почувствовал, что они больше, чем скандинавские специалисты, уверены в том, что миграция имела место. Может быть, потому, что их собственный регион постоянно завоевывался пришельцами из таких далеких стран, как Персия и Рим, и их предки, в свою очередь, также отправлялись в не менее отдаленные регионы. Мы на Севере находились в большей изоляции. Нам нравится верить в то, что наши предки бывали везде, но сами оставались исконным населением.
Пер. Что они думают о королевских сагах Снорри?
Тур. Они удивились, когда я рассказал, что исландцы еще 800 лет назад называли Дон Таной, точно так же, как и они сами, а, по свидетельству Снорри, греки еще раньше называли его Танаисом.
Пер. Что они думают по поводу утверждения Снорри о том, что весь этот регион, вплоть до турецких земель, населяли народы, которые назывались асами и ванами?
Тур. Они подтвердили это. В то время, когда римляне и их союзники пришли сюда и обосновались в крепости Азов, народ, называвший себя асами, жил как раз в этом регионе, от Азовского моря и восточной части Черного моря и далее на восток, до Азербайджана. Об асах им известно больше всего, потому что асы оставили множество археологических памятников по всему району дельты Дона. Профессор археологии Ростовского государственного университета Владимир Максименко лучше всех знал английский, а потому в основном говорил с нами он, в то время как другим пришлось воспользоваться услугами переводчика из министерства культуры. Мы с Жаклин писали так быстро, насколько были способны держать карандаш, чтобы зафиксировать все, что нам довелось услышать от местных специалистов: о золотых украшениях, о длинных мечах с узкими лезвиями, о найденных здесь кольчугах. Все эти предметы напоминали соответствующие находки из захоронений викингов.
Пер. А слышали ли они о ванах?
Тур. Когда я узнал, что они слышали об асах, потому что асы жили на территории их собственного региона с главной крепостью в Азове, я спросил, не знают ли они о ванах, и тут же получил ответ Владимира Максименко: «Конечно. Они жили в районе озера Ван, а крепость Ван была центром хеттско-армянской цивилизации Урарту».
Мне стало немного стыдно, когда другие с вежливой улыбкой добавили, что об этом они узнают буквально в начальных классах школы. «Только не мы, — подумал я. — Мы узнаем об асах и ванах только из рассказов Снорри о жилище богов…»
Пер. А теперь, когда ты сам оказался в «жилище богов», каковы были твои первые ощущения?
Тур. Было странно находиться среди взрослых людей, тем более ученых, и слышать их рассказы об асах и ванах, как будто те реально существовали. Когда мы приехали из Ростова в древний порт Азов в низовьях Дона, то действительно возникло ощущение, будто мы попали в мир скандинавских богов, где теперь жили самые обыкновенные люди, которые повиновались течению времени, жили и выглядели точно так же, как и все остальные люди на Земле.
До цели нашего путешествия, красивого городка Азова, — всего час езды на машине по шоссе с недавно посаженными деревьями по обеим сторонам вдоль восточного берега дельты Дона. Перед въездом в город поздно ночью нас встретил мэр и хор красавиц в национальных костюмах. За ними выстроились отряды конной милиции из казаков, все в парадной форме. Нам пришлось выйти из машины и угоститься хлебом и солью, которые нам преподнесли две белокурые красавицы.
Вскоре, проехав мимо низеньких домиков, мы оказались в старинном городе Азове. Ил из Дона, протекавшего возле городской стены, сделал Азовскую бухту такой мелкой, что большие суда уже не могут туда заходить. Весь этот залив Черного моря, достаточно большой, чтобы называться Азовским морем, с течением времени постепенно превращается в огромное болото.
Пер. Да, во времена викингов его и называли Меотийским болотом, и это само по себе интересно. Его название — это дословный перевод с латинского
Palus Meotis. Это древнейшее известное нам географическое название Азовского моря.
Тур. На прогулочном судне мы смогли выйти из Азова по этому мелкому морю прямо к устью Дона. В древние времена Азов был одним из важнейших портов мира: здесь нагружались и разгружались караваны Великого шелкового пути. В городе рабочие разрывали глубокую траншею. Парень, стоявший в траншее, показал нам полную пригоршню больших разноцветных бусинок и загадочно добавил, что, вероятно, на этом месте в Средние века была городская бойня, поскольку в траншее полно огромных костей животных.
«Здесь нужно провести археологические раскопки», — подумал я и спустя короткое время сказал об этом местным археологам. Азовский этнографический и исторический музей находился буквально в нескольких шагах на этой же улице, и вскоре мы уже сидели за столом переговоров вместе с культурным руководством города и научными сотрудниками музея.
Пер. А сказал ли ты о том, что упоминаемая в исландских письменных источниках крепость асов и древний город Азов, возможно, как-то связаны между собой? Ведь город Азов находится как раз на восточной стороне дельты Дона, именно там, где Снорри поместил Асгард в Асахейме!
Тур. Меня опередил Николай Фомичев, скромный историк из Азовского музея. Он сделал такое же предположение. В его научном труде «Очерки по истории Азова», опубликованном на русском языке в музейных периодических изданиях, название «Азов» тесно связывается с историей асов. Правда, его труд не вышел за пределы региона, но мне дали эту публикацию сразу же, как только началась встреча.
Пер. На русском?
Тур. Да, но прежде, чем получить перевод этого исследования, я узнал, что автор в первую очередь пишет о происхождении названия «Азов» и тесно связывает его с названием «Танаис», которое Снорри упоминает, рассказывая о земле асов. Теперь я получил подтверждение, что это было не только старинное название реки Дон, но и название древнего города, чьи развалины лежат теперь как раз напротив Азова по ту сторону дельты. Фомичев цитирует известного немецкого лингвиста Г. Й. Клапрота, исследовавшего Кавказ в начале XIX в. Труды Клапрота являются единственным источником по ряду исчезнувших кавказских языков. Он связывает название «Азов» с асами, которые, по его мнению, являются также предками осетин
[402]. Фомичев цитирует и двух других лингвистов — П. Ульсара и Л. И. Лулье, которые связывали название «Азов» с асами через ныне живущих абхазов.
Фомичев и сам придерживается мнения, что название «Азов» имеет отношение к асам. Ранее город был известен как
Ас-ак. («Ак» означает «белый», и, как прилагательное, оно должно было бы стоять впереди, т. е. «Ак-ас», но нужно было специально выделить слово «Ас», которое составляло главную часть этого названия.) Аланов, предков современных осетин, тоже называли асами, ясами или осами.
Фомичев упомянул также и других исследователей, утверждавших, что здесь, в Азовском регионе, постоянно жили оседлые асы-христиане, в то время как кочевые аланы и их союзники боролись против нашествия монголо-татар как раз в районе дельты Дона. Он также сказал: «Асы и осы — для нас это одно и то же, и употребляются эти слова как раз так же, как вы в Скандинавии употребляете слова „асы“ и „эсы“. Вы тоже говорите, что асы и эсы — одно и то же. Иногда вы пишете, что асы жили в Асгарде, а иногда — в Осгорде. По-русски, город — это название поселения, как вы на своем языке произносите „gåråd“ или „gård“. „Ås-gård“ вы по-норвежски произносите так же, как мы сказали бы „Ос-город“, „город осов“…»
Пер. То есть как раз во времена Снорри в Асахейме еще оставались немногочисленные асы.
Тур. Осгорд, должно быть, и есть «город осов». …А ведь таким же образом назвали город эпохи викингов Новгород, куда русские призвали Рюрика на княжение. Он лежит у истоков русских рек, связывающих водные пути из Балтийского в Черное море. «Новгород» означает «новый город», а «Ас-город» — «город асов».
Пер. Независимо от того, имеет ли Азов отношение к колыбели асов, но Ас-ак, или Азов, судя по всему, когда-то был городом асов или их главной крепостью. Он находится как раз там, где Снорри поместил Асгард, или Осгард. Да, в эту логическую цепочку попадает и Яссхейм, где был построен Ракнехауген: он означает не что иное, как «дом ясов или асов».
Тур. Иначе говоря, независимо от того, как можно перевести название «Азов», именно там Снорри расположил колыбель асов. Я должен признаться, что сначала запутался во всех этих названиях, которыми оперировали местные ученые. Им удалось найти правильный метод. В этом историческом хаосе в Кавказском регионе они ориентируются, сопоставляя конкретные археологические находки с названиями племен и народов, почерпнутыми из старинных карт или древних письменных источников. Таким образом ученые дошли до тех времен, когда сюда в поисках новых земель прибыли из стран Ближнего Востока и Средиземноморья первые представители цивилизованных народов для открытия новых земель. Вот и возникло множество названий, переходивших из одного языка в другие и обозначавших одно и то же.
Пер. Да, если какие-то ученые через тысячу лет будут рыться в остатках европейских архивов и раскапывать развалины зданий, они тоже запутаются, прежде чем поймут, что слова «немецкий», «German», «aleman», «tedesco» обозначают одно и то же, а именно: немецкий язык, на котором говорил один и тот же народ и которому они, вероятно, уже дали новое имя в своей научной литературе.
Тур. Да, судя по всему, необходимо принимать во внимание смешение языков и этнических групп, если хочешь получить результат и найти связь между всеми названиями, повторяющимися в литературе с тех пор, как греки и римляне вторглись на Кавказ. Аланы, асы, осы, азербайджанцы, осетины, удины, будины, сарматы
[403], парфяне
[404], адыги
[405], фракийцы
[406], тохары
[407], скифы и готы — это лишь часть из тех племен, которые сложились в результате миграций со всех направлений, в первую очередь, скорее всего, с востока и юга.
Пер. Необходимо очень тщательно все анализировать, чтобы совсем не потерять асов в хаосе собственных имен и имен их ближайших родственников.
Тур. Я чуть было не потерял надежду получить хоть какое-то общее представление об этом историческом периоде. И тогда мне на помощь пришел в Азовском музее Николай Фомичев. По его утверждению, сарматы, аланы, асы, осы и осетины — это одно и то же. «Алан» в Иране значит «воин», а сарматы как раз и были воинственными азиатскими племенами, которые переправились через Волгу и смешались с коренным населением Кавказа. Вот тогда они и превратились в оседлых асов, или осетин.
Пер. Получается, что русские ученые сами решили проблему названия асов.
Тур. В Азербайджане все население по-прежнему называет себя «азери», а мы произносим это как «ассери». Однако на Северном Кавказе, примерно на полпути между Азовом и селением народа удин в Азербайджане, находится маленькая республика, где живут осетины. Это Республика Осетия, она граничит с Чечней…
В этих местах можно найти море материала. В маленьком городском музее Азова, где работает историк Фомичев, есть собственная библиотека, в фондах которой хранится почти 40 тыс. книг и рукописей. Археологи из Ростова и Азова хорошо ориентируются в источниках — греческих, латинских, персидских, арабских и древнерусских, написанных на языках, которые в Скандинавии знают лишь немногие.
Однако в силу географической удаленности Кавказа от Исландии, находящейся в Северном Ледовитом океане, и в России мало кто, за исключением Фомичева, задумывался над тем, что писал об асах, живших к востоку от Танаиса, Снорри Стурлусон 800 лет назад.
Нам пришлось признать, что наши ученые смотрели каждый только на свою часть на карте мира. Тем не менее многие из местных археологов склонялись к мнению о связи викингов с их собственными предками.
Пер. А ведь Снорри писал только об асах. Он не говорил ни об аланах, ни об осетинах.
Тур. Не забывай, что Снорри жил и писал в Исландии в XIII в. В то время именно асы доминировали в регионе от Танаиса и к востоку. Судя по описаниям того времени, это была оседлая часть воинственных алан. Трансформация названий из асов в осов и осетин впервые произошла в конце Средневековья, на что обратил внимание Фритьоф Нансен.
Со времен Одина до начала нашей эры и даже до VI–VII вв. н. э. в дельте Дона и в восточной части Азовского моря доминировали аланы. Затем, согласно литературе о том времени, название «аланы» было вытеснено названием «асы», и это название племён чаще всего упоминалось среди мусульман, претерпевая широко известные вариации, когда «а» постоянно заменялось на «э» или «о», т. е. как в скандинавском варианте: асы — эсы или Асгард — Осгард.
Пер. Все это свидетельствует о том, что Снорри, должно быть, узнал об Одине, асах и ванах из мусульманских или христианских источников, а не от прямых потомков Одина, отправившихся на Север из родного дома раньше, чем аланы стали известны как асы.
Что же тогда такое Танаис, о котором пишет Снорри? Сначала историки думали, что Азов — это поселение на Танаисе, как об этом сказано в Британской энциклопедии…
Тур. Я узнал, что Танаис был основан как порт греками в западной части устья реки в V в. до н. э. Из-за своего географического положения в западной части дельты он в древнее время не имел такого значения, как Азов, находившийся на азиатской стороне, так как в Танаисе, чтобы привезти или получить товары с Востока, надо было переправиться через реку. Когда я прибыл в Танаис, группа немецких и русских археологов производила обширные раскопки. Они соорудили маленький полевой музей, где было выставлено множество греческих амфор. Валерий Чеснок, директор музея и ответственный за безопасность района раскопок, рассказал, что город Танаис был сожжен, а все население перебито в 370 г. н. э. Город был обнаружен археологами несколько лет назад, и на данный момент раскопана только небольшая часть. Все это происходило на правом берегу устья Дона, т. е. напротив лежащего на левом берегу этой широкой дельты Азова. Единственным обнаруженным поселением была Недвиговская, которую мы тайком переименовали в Недвигсгород, поскольку это поселение находилось ближе всего к заливу.
Там не было никаких примечательных строений: лишь тесное скопление низких стен из нетесаного камня — остатки жилых домов, да земля, черная от пепла. Директор маленького местного музея, проводивший для нас экскурсию, рассказал, что здесь археологи откопали сосуды с пеплом внутри, относящиеся к I–II в. н. э. Раскопки показали, что и здесь, на западном берегу Дона, территорию населяли аланы, находившиеся под греческим господством. Танаис был греческой колонией, возглавляемой небольшой греческой элитой из купцов, которые поддерживали тесные связи с постоянно живущими здесь аланами, более известными впоследствии как асы, или осетины. Чеснок по собственной инициативе и без какого-либо к тому побуждения добавил, что у алан были характерные длинные с узкими лезвиями мечи такого же особого типа, как у поздних викингов, поэтому у него сложилось впечатление, что по типу оружия и своему воинственному образу жизни аланы могли быть также предками скандинавов.
По воде расстояние от Танаиса до Азова столь незначительно, что не заслуживает упоминания, однако на машине по хорошей дороге пришлось ехать почти час до ближайшего моста. Вернувшись в Азов, мы смогли сравнить экспонаты маленького полевого музея в Танаисе с коллекциями гораздо более обширного и древнего музея Азова. Меня больше всего поразила практически одинаковая коллекция как греческих, так и эллинских амфор в Танаисе, где весь археологический материал свидетельствовал об удивительном единообразии и преемственности культур. Но, когда мы вместе с археологами спустились в подвальные хранилища Азовского музея, у нас просто захватило дух: все эти помещения были уставлены рядами полок с находками. Здесь хранились самые мыслимые и немыслимые экспонаты, целые и фрагментарные, причем такие разнообразные, как будто их собрали с разных континентов.
Директор музея Анатолий Горбенко, сам археолог, устроил нам эту подземную экскурсию в сопровождении более молодого коллеги, Сергея Лукьяшко, главного археолога Азова. Сергей удивительно много знал и имел богатый послужной список местных раскопок под своим руководством. Он достаточно хорошо владел английским и был переводчиком, отвечая на наши вопросы. Все это предвещало широкое сотрудничество. Местные археологи смущенно улыбались, когда я с помощью слов и жестов давал понять, что поражен, увидев это огромное и хорошо систематизированное собрание археологического материала в маленьком городке, находящемся вдали от всех главных путей. «Вся честь создания этого музея принадлежит Анатолию, — сказал Сергей Лукьяшко. — В этом лабиринте хранилищ у нас имеется более 150 тыс. археологических находок, внесенных в каталог. Все — из окрестностей Азова. За городом находятся сотни курганов разных периодов. Большинство из них давно разграблены, но расхитители в основном брали декоративные изделия из золота и серебра, имеющие коммерческую или музейную ценность. Керамику и предметы быта, как правило, никто не трогал. Если бы курганы были на территории города, их бы уже давно сровняли с землей аланы, асы, мусульмане, татары, русские и все остальные, владевшие Азовом за столетия существования города…»
К счастью, оказалось, что не все курганы были разграблены. В 1986 г. Анатолий и Сергей участвовали в раскопках большого кургана за южной границей города, где был найден клад I в. н. э. Он состоял из более чем 1500 золотых предметов, которые свидетельствовали о высокой технологии при изготовлении изделий художественной культуры. Сергей собирался организовать в Париже большую выставку серебряных и золотых украшений из района дельты Дона. Обычно эти сокровища выставляются в скромных музейных помещениях, которые каждый год посещают около 200 тыс. человек. Сюда приходят практически только русские. Музей никогда не посещали иностранцы…
Пер. Таким образом, в хранилищах музея полно археологических материалов из Азова и окрестностей, и там так много всего, что никто уже не стал вести раскопки на территории самого города?
Тур. Недавно, закладывая фундамент современного жилого дома, строители обнаружили в земле несколько скелетов. После изучения старых карт Азовской крепости времен Петра Великого ученые пришли к выводу, что на территории сегодняшнего Азова существовали два отдельных комплекса построек: крепость — на том самом месте, где сейчас находятся музей и старая часть города, и гораздо более поздний средневековый город, располагавшийся на теперешней окраине Азова. Есть документальные свидетельства того, что оба эти поселения находились в политической и экономической зависимости от греков из Танаиса, называвших крепость Панеардисом, а поселение на окраине — Патарвой
[408]. Крепость, возраст которой около двух тысяч лет, была в то время одной из крупнейших на всей территории нижней дельты Дона.
Пер. Должно быть, эта крепость две тысячи лет назад была центром какого-то крупного царства, и, возможно, как раз в то время Один отправился из Асгарда, который Снорри поместил именно в том месте, где находится Азов. А как азовские археологи прокомментировали рассказ Снорри об Одине?
Тур. Они сказали, что это имя им известно так же, как и в Азербайджане. Как я уже говорил, удины все еще живут по другую сторону Азовского моря, как раз напротив Танаиса. Археологи, конечно, знают, что Геродот упоминал в V в. до н. э. о большом племени, называвшем себя «будинами». О них упоминается и спустя несколько столетий, но уже не как о каком-то важном народе. Геродот писал о них, как о блондинах с голубыми глазами, сообщая, что они кремировали своих покойников. По свидетельству Максименко, археологи обнаружили много сходства между находками из могильников этого племени и из курганов викингов.
Азовских археологов больше интересовало проведение раскопок и поиск фактов, чем теоретические рассуждения. Они не сомневались в том, что в древние времена существовали и интенсивные и обширные по охвату территорий контакты между различными народами. Это подтверждали археологические находки. Археологи в буквальном смысле проникали гораздо глубже, чем историки. Археологические находки позволили ученым классифицировать различные племенные союзы и народы, в том числе алан (асов), в многочисленные этнические и культурные подгруппы, каждую со своим названием, и установить, что все они мигрировали: не только кочевники и профессиональные воины, как сарматы и аланы, но и оседлые жители, которых не оставляли в покое вторжения извне.
Пер. Какие аргументы они приводили в пользу существования обширных контактов?
Тур. В погребальных курганах за городом они нашли китайские наконечники копий, египетского скарабея и финикийские керамические украшения. Я видел собственными глазами не только в подвале музея, но и в выставочных залах обнаруженные при раскопках раковины каури, что еще раз подтверждало наличие торговых отношений со странами Персидского залива и островами Тихого океана.
Пер. А ведь ты, как биолог по образованию, очень интересовался этим еще во время твоих первых археологических экспедиций.
Тур. Да, мы столько об этом говорили раньше, что нет нужды теперь подробно описывать детали. Однако это настолько важное биологическое свидетельство о дальних контактах, что мы вновь должны вернуться к этому. Ведь так называемые раковины каури с Мальдивских островов служат лучшим подтверждением существования торговли с дальними странами. И это может подтвердить любой биолог археологам, обсуждающим старинные торговые пути.
Раковинные деньги с Мальдивских островов
Тур. Когда мы говорили о раскопках могил хёвдингов в Нур-фьорде, где археологи нашли подтверждение существования импортных товаров из восточных стран еще задолго до эпохи викингов, я упомянул, что раковины каури с Мальдивов того же раннего периода были найдены и в более северных районах страны, на Лофотенских островах. Я использовал это в качестве доказательства того, что импортные товары доставлялись вдоль северного побережья вокруг Финнмарка, о чем первое письменное свидетельство оставил король Альфред.
Пер. Но ведь ты сам тоже побывал на Мальдивах, откуда родом так называемые раковинные деньги
[409].
Тур. Когда я приехал туда в первый раз, то и не догадывался, какое огромное значение имели эти раковины в древние времена для мировой торговли. Не знал и того, что они побывали в Северной Норвегии задолго до эпохи Харальда Прекрасноволосого. Пытаясь найти доказательства дальних морских походов еще в дописьменную эпоху, я взял с собой на Мальдивы, эти далекие коралловые острова в Индийском океане, трех норвежских археологов и организовал там первые археологические раскопки.
В то время считалось, что первыми достигли этих далеких островов арабы, которые прибыли туда за несколько веков до того, как Васко да Гама открыл для европейцев морской путь в Индию. У островитян была своя история, которую европейцы игнорировали, так как она была написана на мальдивском языке, доступном только самим мальдивцам. Древние записи были сделаны на тонких медных пластинках, которые теперь хранятся в маленьком музее на главном острове Мале.
Пер. А ведь первую сенсационную находку сделали сами островитяне!
Тур. На одном из тысяч своих коралловых атоллов они обнаружили огромную каменную голову с торчащими из песка удлиненными ушными раковинами. Президент Мальдивской Республики пригласил меня приехать и предоставил в мое распоряжение госпитальное судно. Тогда я только что пересек Индийский океан на тростниковой лодке «Тигрис». Каменная голова, которую они нашли, не могла быть сделана их предками, потому что они были мусульманами, а у них существовал запрет на изображение людей. Поскольку я взял с собой трех норвежских археологов, мы сразу же начали первые профессиональные раскопки на Мальдивах. Один из этих археологов продолжает их до сих пор на других островах этого удаленного архипелага.
Пер. Кто же это?
Тур. Эгиль Миккельсен, профессор археологии Университета Осло. В настоящее время он — директор Норвежского археологического музея и Музея кораблей викингов. И вот трое норвежских археологов однажды во время раскопок увидели, как маленький местный мальчик сидел и играл с ведерком, полным денежных ракушек. Археологи вытаращили от удивления глаза: это был один из курьезов для норвежской археологии. Согласно мнению Эгиля Миккельсена, раковины каури, о которых мы так много говорим, появились в Скандинавии ок. 600 г. н. э. Поток этих раковин из Индийского океана шел, скорее всего, через Россию… В Северной Норвегии, за полярным кругом, нам на сегодняшний день известны четыре захоронения, где были найдены от одной до шестнадцати раковин каури, которые, вероятнее всего, датируются VII в. н. э., т. е. временем до арабской экспансии.
Пер. Ты как-то говорил, что археологи серьезно спорили о том, когда люди впервые начали торговать между собой.
Тур. В американской археологии практически существует табу на слово «торговля». «Бартер», т. е. обменная торговля, — самое большее, на что может согласиться большинство американистов, когда речь идет об обмене ценностями. Вот почему я, как биолог по образованию, так удивился, получив подтверждение тому, что раковинные деньги пришли к нам в Норвегию, на Север, за полярный круг с самого экватора, пересекающего Мальдивы, и пришли явно как платёжное средство за товар.
Пер. Ты как-то говорил, что ни один из природных или рукотворных продуктов не является столь убедительным доказательством дальних торговых связей между людьми, разбросанными по трем частям света, как эти раковины.
Тур. Именно поэтому я считаю, что нам надо еще раз проследить их путь, поскольку раковины не ржавеют и не гниют, и у нас есть возможность определить, где они образовались. Существует множество разнообразных ракушек, а раковины каури имеют немало разновидностей. Задолго до того, как люди научились изготавливать монеты как символический эталон ценности в профессиональной торговле, они использовали для этой цели ракушки. В Перу предки инков еще на заре цивилизации отправлялись за тысячи километров на бальзовых плотах, нагруженных красными раковинами «спондилус», которые до появления европейцев пользовались
большим спросом в качестве ценностного эквивалента, чем золото. Никто не знает, почему, но довольно рано в Древнем мире выбор пал на маленький белый вид каури, который вообще-то ничего особенного собой не представляет ни по форме, ни по цвету. Раковины получили латинское название
Cypraea moneta, или «раковина-монета», именно потому, что их использовали как обиходную монету в совершенно далеких друг от друга частях мира. На заре цивилизации неродственные народности в Азии, Африке и Европе, не имеющие прямых контактов между собой, принимали этот особый вид ракушек как реальное платежное средство, или магический символ ценности.
Пер. Да, этот вид каури совершенно не приметен ни по форме, ни по цвету, к тому же он распространен только на таких далеких островах, как Мальдивы. В древнее время, пожалуй, невозможно было найти более труднодоступное место.
Тур. Возможно, именно поэтому выбор пал на этот вид каури. Ракушек у себя, на родном берегу, мог набрать кто угодно и сколько угодно. Мальдивы же лежали в стороне от обычных пиратских маршрутов, а поскольку в качестве единственного изготовителя раковин каури выступала природа, то это платежное средство было надежно защищено от фальшивомонетчиков.
Именно потому, что эти ракушки генетически образуются в очень ограниченном регионе, но засвидетельствованы археологами на трех континентах, это, несомненно, служит козырной научной картой в дискуссиях о развитии культурных контактов и распространении идей на дальние расстояния в доевропейское время. Там, куда попадали
Cypraea moneta, туда добирались и идеи человеческого разума. Раковины каури, экспортируемые на три континента из одних и тех же маленьких лагун отдельной островной группы в Индийском океане, — лучший аргумент для сторонников научной теории о распространении элементов культуры против утверждения изоляционистов о якобы тотальной изоляции стран в доевропейское время. Вот почему я посвятил много времени изучению маршрутов раковинных денег.
Египетский монах Косма Индикоплов
[410] писал еще в 552 г. н. э., что Мальдивы в Индийском океане известны своим экспортом раковин каури, а в Азии их в то время использовали для жертвоприношений в буддийских храмах. Китаец Ma Хуан, принимавший участие в экспедициях Чен Хо
[411] на Мальдивы и Суматру в 1433 г. до появления там европейцев, писал, что островитяне с Мальдивов экспортировали большое количество раковин каури в Бенгалию и Таиланд. В арабском мире раковинные деньги циркулировали долгое время вместе с собственными арабскими монетами, и никто не знал, откуда они взялись. Только в конце X в. н. э. купец Сулейман смог рассказать, что моряки нашли «денежные острова» и обнаружили, откуда берутся эти замечательные ракушки. Оказалось, что денежные раковины производили в массовом порядке для экспорта сами островитяне, которые выращивали их на пальмовых листьях, помещая их в тихие лагуны. В 1030 г. географ Аль-Бируни
[412] описал этот удаленный архипелаг как «Острова Каури». В 1344 г. известный арабский путешественник Ибн-Баттута
[413] попытался обогатиться за счет большого груза денежных раковин с Мальдивов, но шхуна потеряла мачту и руль и оказалась в Шри-Ланка вместо Бенгалии. Как он писал, королева Мальдивов была сказочно богата, и у нее был Целый дом, заполненный денежными раковинами, предназначенными для экспорта. Сами островитяне экспортировали их в Бенгалию, на другую сторону полуострова Индостан, и в Йемен на Аравийский полуостров, где они пускались в обращение в качестве обменной монеты. Баттута добавлял, что африканские жители тоже использовали их как деньги, и он видел, как их обменивали на рынке в Мали и Бенине по курсу 1150 ракушек за динар.
Пер. Значит, Мальдивы были населены величайшими в мире гениями-предпринимателями или же их выбрали в качестве почетных и неприкосновенных производителей монет умные купцы из той части Азии и Африки, где находилась колыбель цивилизации?..
Тур. Вероятно, есть больше оснований полагать, что крупные мореходные нации древности на Ближнем Востоке решили основать своего рода мировой банк в безопасном месте, где-то в океане между Африкой и Азией, чем думать, что эти островитяне сами посылали купцов по материкам, чтобы убедить разные неродственные народы принимать их раковины в качестве монет. Удивительнее всего то, что даже арабы не смогли отнять у мальдивцев их денежный экспорт. Когда пришел Васко да Гама и португальцы ввели торговую монополию в древней зоне свободной торговли в Индийском океане, Мальдивы все еще оставались мировым банком. Португальские солдаты нашли, что раковинные деньги с Мальдивов пользовались большим спросом, чем медные монеты, в портах как на западном, так и на восточном побережье Индии. И в 1563 г. португальский историк Жоао де Барруш
[414] писал о роли Мальдивских островов в морской торговле. Даже в Португальское королевство в свое время в отдельные годы привозилось до 300 т раковинных денег с Мальдивов для использования в качестве платежного средства в Гвинее, Бенине и Конго. Английский шкипер писал в своем отчете в 1683 г., что он закупил 60 т раковин каури на Мальдивах, но ему пришлось воспользоваться корабельными пушками, чтобы получить «разрешение» на вывоз на собственном судне.
Пер. Можно ли рассчитать, как долго раковины с Мальдивов были ходовой монетой на материке?
Тур. Прямо с того времени, когда началось развитие мореплавания, которое и привело к возникновению и расцвету цивилизаций на Ближнем Востоке, т. е. за две-три тысячи лет до того, как викинги начали выходить в море.
После пребывания и раскопок на Мальдивах мы получили свидетельства того, что задолго до арабов на островах побывали буддисты и индуисты, а также легендарный народ редины
[415], оставившие здесь изображения своих богов и развалины храмов. Я решил посетить самые древние из известных нам портов, которые могли торговать с Мальдивами до появления там арабов. Самая старая искусственная гавань в мире — это Лотхал, порт первой цивилизации Индской долины Мохенджо-Даро
[416]. Когда я прибыл туда, индийские археологи показали мне большое количество раковинных денег с Мальдивов, найденных в могильниках периода расцвета Индской долины — примерно 2500–1500 гг. до н. э. На мелководье у берегов Индии никому не удалось заняться разведением каури, чтобы конкурировать с Мальдивами. Затем я отправился в Южный Йемен на Аравийском полуострове, где работали русские археологи. Они показали мне раковинные деньги, найденные ими при раскопках. Эти ценные сокровища лежали предположительно со времени ок. 1800 г. до н. э. Такие же древние раковины археологи нашли и в Южном Йемене, и в Сомали на побережье Африки.
Пер. Я только что прочитал в книге шведской исследовательницы-синолога Сесилии Линдквист «В стране знаков»
[417], что такие же раковины каури в каменном веке нашли дорогу даже в Китай. Она пишет, что изображениями раковин каури часто украшали глиняные сосуды каменного века, а в некоторых раскопах были найдены и настоящие раковины.
А путь из портов Индийского океана до норвежских Лофотенских островов гораздо дальше.
Тур. Эти сведения дают нам возможность понять, что мореплавание в мире началось отнюдь не в эпоху викингов. Норвегия находилась дальше всех от торговых путей в Мальдивы, однако предметы с этих островов дошли до нас, на Северном Калоте, раньше, чем наши викинги отправились в свои знаменитые походы.
Английский историк Альберт Грэй одним из первых обратился к древним арабским письменным источникам, повествующим о торговле и мореплавании среди других народов. Еще в 1888 г. он попытался убедить нас, европейцев, в том, что основателями торговых путей через Индийский океан стали вовсе не европейские народы, а как раз наоборот: когда проникли туда европейцы, свободная торговля, характерная для того региона на протяжении нескольких тысяч лет, прекратилась. Грэй указывал на то, что во времена парусного флота никому не удавалось обогнуть южную оконечность Индии, не пройдя через узкий экваториальный пролив в протяженной группе Мальдивских атоллов и рифов. Суда с Дальнего Востока, пройдя через пролив, расходились в разные стороны, беря курс на Красное море или в Персидский залив. Товары, предназначенные для Месопотамии и соседних стран, перегружались в Ормузском проливе на корабли, следовавшие в Персидский залив. В старые времена там велась довольно бойкая торговля. Грэй цитировал арабского купца и историка Абд-ар-Раззака
[418], который побывал там в 1442 г., за полвека до Васко да Гама. (Дело в том, что с началом европейской экспансии свободной торговле в Индийском океане пришел конец. Сегодня Ормузский пролив представляет собой обычный узкий пролив с маяком на голых скалах, который супертанкеры и грузовые суда стараются как можно быстрее пройти без остановки, и никто не вспоминает о том, что когда-то он был одним из основных центров свободной торговли.) Как свидетельствует Абд-ар-Раззак, Ормузской гавани в те времена не было аналогов. Он рассказывал, что там одновременно можно было встретить корабли из Египта, Сирии, Туркестана, Китая, Явы, Бирмы, Бенгалии, Мальдивов, Малабара, из долины Инда и Занзибара. Там встречались моряки всех национальностей, и там разрешались все религии, включая язычество. Никакая несправедливость не допускалась ни в какой форме! В Ормузе товары перегружались и отправлялись дальше на других кораблях через весь Персидский залив и вверх по реке Тигр в Багдад.
Пер. Таким образом, кольцо вокруг Мальдивов замыкалось по всем направлениям, даже для древних мореплавателей. Ты ведь сам плавал на таких же тростниковых лодках, как шумеры, вниз по реке Тигр и через Ормузский пролив, сначала на восток, к долине Инда, а оттуда на запад, в Красное море!
Тур. Багдад находился в сердце Древней Вавилонии. Когда Геродот побывал там за пять столетий до Рождества Христова, он описал бойкую торговлю между Багдадом и странами Кавказского региона. Торговля осуществлялась следующим образом: купцы из Армении спускались вниз по Тигру на кожаных лодках и обменивали свой груз на товары, которые затем везли обратно на Кавказ на ослах вместе со складными кожаными лодками. А исток Тигра находится как раз недалеко от озера Ван.
Пер. Таким образом, нам стал ясен маршрут прямо от лагун Мальдивских островов и до ванов на Кавказе. Что тогда с асами?
Тур. Я последовал за раковинами-монетами сам, пересекая весь регион между Каспийским и Черным морями. Эти раковины встречаются в археологических находках по всему древнему ареалу асов, от Азербайджана через Грузию до Азова. Даже в скромном поселковом музее современного народа удин в горном селении Нидж выставлен экземпляр раковины-монеты с Мальдивов. Торговым маршрутом был, скорее всего, старинный Великий шелковый путь. В Русском государственном музее в Ростове среди экспонатов есть красивый широкий ремень с золотой пряжкой, на котором 52 раковины наклеены бок о бок на красную основу. Он был найден в мужской могиле в кургане под Азовом и датируется примерно I в. до н. э. — I в. н. э.
Раковинные деньги, однако, нашли дорогу не только в дельту Дона, они проникли и вверх по Волге. Арабские источники указывают, что их везли наземным транспортом с верховьев Тигра в Тавриз и далее в Каспийское море. Там, в устье Волги, на протяжении всей эпохи викингов существовало Булгарское царство
[419]. Ибн-Фадлан
[420], который приехал туда в 922 г., писал, что тамошние купцы принимали раковины каури от арабских купцов и экспортировали их дальше, вверх по Волге, где основали торговый город Булгар. Раковины, под названием «змеиная голова», были известны и у народов мари
[421] на Верхней Волге, которые, согласно письменным источникам, принимали их в уплату за мех из северных краев.
Посетитель Эрмитажа в Санкт-Петербурге будет весьма удивлен, увидев, что раковины каури с Мальдивских островов украшают роскошные свадебные наряды и головные уборы народов с верховьев Волги.
Пер. Водный путь в верховьях Волги заканчивался, но с помощью волока торговые суда попадали в Балтийское и Белое моря.
Тур. Именно так! И раковины продолжали свой путь в обоих направлениях. Шведский археолог Густав Тротциг написал в специальном коллективном труде «Торговля и обмен в доисторическую эпоху»
[422] главу о находках денежных раковин на острове Готланд. В музее Хельсинки выставлено немало образцов раковинных денег, найденных финскими археологами в собственной стране. Морской путь вдоль побережья Белого моря — еще одно объяснение того, как эти ракушки попали в женские погребения на Лофотенских островах задолго до того, как король Альфред написал свой рассказ о путешествии Оттара.
Пыльца из земли асов
Тур. Когда обсуждаются маршруты и датировка Ранних переселений народов, необходимо дать слово и ботаникам. Один из наиболее интересных и убедительных материалов в этой головоломке, которую мы пытаемся разгадать, по моему мнению, содержится в докторской диссертации, посвященной анализу пыльцы и ее значению при изучении ранних поселений в Норвегии. Работа опубликована в Сборнике древностей Университета Осло в 1997 г., а имя автора — Хельге Иргенс Хэег. Он связался со мной, когда узнал, что мы занимаемся изучением утверждения Снорри о переселении народов с Кавказа на Север в начале нашей эры. Он сказал: «Я еще раньше указывал на то, что не всё у Снорри заслуживает доверия. Как, к примеру, отнестись к такому его заявлению, что датский король во времена Снорри приходил и требовал дань с района вокруг Осло-фьорда, поскольку с древних времен этот район платил дань датчанам? Теперь норвежскому королю нужна „нейтральная“ история Норвегии, которая могла бы заставить датского короля отказаться от своих прав, однако любые другие сведения вполне могут оказаться правильными…»
Я спросил, не могут ли его результаты по анализу пыльцы оказаться нам полезными.
Он ответил утвердительно: «Конопля может кое-что рассказать. Она появилась в Норвегии задолго до эпохи викингов, а родина ее — Кавказский регион…»
Я спросил его, не могла ли конопля распространиться естественным путем, на что Хельге Иргенс Хэег ответил: «Коноплю выращивали для производства канатов. Частицы пыльцы конопли и хмеля очень трудно различить. Отдельные крупинки этих видов можно найти в болотах и озерцах с достаточно давних времен. Вероятнее всего предположить, что это — пыльца хмеля, который растет в Норвегии: на некоторых диаграммах мы наблюдаем значительно большее количество пыльцы этого типа. А можно считать, что здесь речь идет о конопле, которую положили в озеро вымачивать, что-бы освободить волокна для производства веревок и канатов. Хмель, который выращивается для производства пива, представлен только женскими растениями, не производящими пыльцу…»
Да, веревки и канаты были одним из важнейших предметов с древних времен как для крестьян, так и для моряков. А откуда же взялась конопля?
Хельге Иргенс Хэег сообщил мне: «Похоже, что конопля произрастала в диком виде в странах к югу от Каспийского моря и в окрестных степях. В Китае ее начали выращивать приблизительно в 500 г. до н. э. В странах, находящихся между Каспийским и Аральским морями, конопля все еще, должно быть, растет диким образом. Об этом растении не было письменных свидетельств до тех пор, пока его не упомянул Геродот в V в. до н. э. как растение, которое выращивают скифы. Фракийцы из этого растения шили себе одежду, и она выглядела совсем как льняная. Скифы ставили палатки, а внутри разжигали костры, куда бросали семена конопли. От дыма этого костра люди начинали безудержно хохотать. Коноплю использовали также для печенья, которое увеличивало удовольствие от выпивки, но вызывало головную боль и дурман… Ботаник Шюбелер приводит много примеров из древней литературы об использовании конопли и упоминает также о ее разведении в Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии со времен Средневековья».
Я спросил его, когда же она появилась в Скандинавии, на что Хельге Иргенс Хэег ответил: «Есть много находок, свидетельствующих о разведении конопли в Скандинавии с начала железного века до эпохи викингов. Семена конопли были найдены в корабле из Осеберга
[423]. Разведение конопли с 500 г. н. э. подтверждают анализы пыльцы в различных частях Норвегии. Я сам нашел коноплю в озерце у подножия Ракнехаугена — старинного кургана в окрестностях аэропорта Гардермуен. Там коноплю выращивали примерно с начала новой эры, но больше всего доказательств относится к периоду 300—1000 гг. н. э.».
Все это точно совпадает со временем исхода рода Одина с Кавказа, что подтверждают исторические и археологические источники. А как обстоят дела с коноплей на остальной территории Скандинавии и Европы?
«Что касается Швеции, то мы знаем, что конопля появилась в Восточной Готландии
[424] около 100 г. н. э., а в Ямталанде
[425] — приблизительно в 200 г. н. э. Вымачивание конопли засвидетельствовано и в других частях Швеции: в Седерманланде, на юго-западе Швеции, в окрестностях Стокгольма, на острове Хельгё в озере Меларен и в Даларна, а также на северо-западе Германии, на западе Франции и в Англии. В большинстве регионов выращивание конопли началось примерно в 400–500 гг. н. э. Кое-где в Великобритании это растение начали разводить до 100 г. н.э….», — сказал Хельге Иргенс Хэег.
Пер. Конопля ведь является галлюциногенным наркотиком и больше известна как каннабис, или гашиш. По Геродоту, скифы использовали ее во время похоронных церемоний. Во всем этом много совпадений с наиболее древними находками в Норвегии, особенно в погребальном кургане Ракнехауген, предметы которого очень напоминают погребальные обычаи скифов. Так, например, в обоих случаях наличествует внутренняя деревянная пирамида, покрытая землей.
Рожь из земли ванов
Пер. Писал ли Хельге Иргенс Хэег что-то о зерновых культурах?
Тур. Да, писал: «В предыдущих письмах я упоминал о том, что рожь впервые стали выращивать в Норвегии со времен Рождества Христова. Я просмотрел свои предыдущие публикации и проверил ряд датировок: те, которые относятся к периоду до новой эры, не совсем достоверны, и, возможно, они более позднего времени. Наиболее достоверно то, что рожь появилась и распространилась в Норвегии примерно в 100–200 г. н. э.».
Пер. Это вполне совпадает со временем Одина, так же, как и в случае с коноплей. Но откуда же появилась рожь?
Тур. Узнав, что рожь появилась в Норвегии в то же время, когда, по нашим расчетам, сюда пришел Один, я начал выяснять, где находится ее первоначальная родина. Этот вопрос подробно рассматривается в работе Х. А. Сенсера и Й. Г. Хоукеса «О происхождении культурной ржи» (1980 г.). Авторы указывают, что результаты анализов пыльцы дают основания полагать, что рожь начала распространяться на запад и на северо-запад из Черноморского региона и северо-восточной Турции еще в период VIII–V вв. до н. э. Районы возделывания ржи в этом регионе совпадают в пространстве и времени с кельтскими поселениями. Это подтверждается и возрастом археологических находок. По мнению авторов, лингвистические исследования указывают на то, что рожь сначала стала известна народам, живущим на Кавказе и на северо-востоке Черноморского региона. А это как раз и есть район вокруг дельты Дона у Азовского моря! Далее авторы сообщают, что само название этой зерновой культуры в Кавказском регионе греческие купцы сохранили, а кельты заимствовали его и распространили по путям своей миграции. Такое мнение авторов основывается на том, что названия ржи на греческом, кельтском и латыни представляют собой производные от названия этой культуры на Кавказе. Далее авторы показывают, что названия ржи на языках германцев, скандинавов, славян и татар родственны между собой, но происходят не от латинского или кельтского, а от какого-то другого корня. Таким образом, они считают, что слово «рожь» возникло среди народов в регионе, относящемся к Центральной или Юго-Западной Азии. Вот что по этому поводу говорят Сенсер и Хоукес: «На основе биогеографических, генетических, палеоботанических, лингвистических и других доказательств географическое происхождение ржи следует отнести к региону между склонами горы Арарат и озером Ван…»
Пер. Это совершенно четкая констатация того, что рожь пришла из того же региона, что асы и ваны.
Ну, а теперь о лошади.
Лошадь с пятым аллюром
Тур. Многие указывали на то, что предки исконно норвежских лошадей жили в степях Закавказья, а их потомки лучше всего представлены норвежскими фьордингами
[426] — северонорвежской лошадью и исландскими пони. Таким образом, можно предполагать, что лошадь пришла в Норвегию тем же путем, что конопля И рожь.
Я получил интересную информацию в письме от одного исландца, живущего теперь в Норвегии, Кристиана Гудлаугссона, который интересовался историей происхождения исландской лошади. По этому поводу он пишет: «Когда один мой друг в середине 90-х гг. поехал в Монголию, я попросил его узнать, как монголы называют пятый аллюр у своих лошадей. Я знал заранее, что монгольские лошади практически не отличаются от исландских и они, как и их сородичи из далекой Атлантики, имеют пятый аллюр, или „бегущий шаг“ (Разновидность иноходи. —
Прим. редакции) — нечто очень редкое. Он прислал мне из Улан-Батора открытку с единственным словом — „тюльт“.
По-исландски этот аллюр называется „тёльт“, и я почувствовал уверенность в том, что это не может быть случайностью: здесь должна быть связь, которую история практически стерла. То обстоятельство, что исландцы, как и степные кочевники, всегда почитали лошадей, придавало мне еще больше уверенности. Мы знаем, что лошадей находили в могилах исландских хёвдингов, а поедание конины было священным ритуалом в языческом исландском обществе. Таких могил в остальной Скандинавии довольно мало.
Культ лошади так закрепился в Исландии, что, когда на альтинге в 1000 г. приняли христианство, был заключен компромисс: хотя христианство и принималось официально, но народу разрешалось приносить лошадей в жертву и есть конину. Примерно такой же культ лошади имел место у монголов и многих тюркских народов…»
Практически сразу после письма от исландца пришло письмо от одной норвежской дамы Трине Бойсен, которая, по ее словам, была «без ума от лошадей» всю свою жизнь. Она писала: «Порода, которая больше всего меня интересует, — это исконно норвежская приземистая, маленькая северонорвежская лошадь, или „вересковая лошадь“. Эта порода, по моему мнению, первой появилась в Норвегии. Именно она была лошадью викингов: маленькая, яркая и выносливая, способная преодолеть буквально все, что касается суровой норвежской природы и тягот жизни викингов. Если сравнить исландскую лошадку с северонорвежской, различий почти не найти, хотя прошло уже больше тысячи лет с тех пор, как викинги привезли своих лошадей из Норвегии в Исландию. Эта порода лошадей появилась в Норвегии прямо с востока: либо они пришли сюда естественным образом, либо их привели сюда всадники. Это так называемая „таежная лошадь“, восточная степная лошадь. В могилах викингов, особенно там, где были найдены корабли из Гокстада и Осеберга, нашли и конские скелеты, но они принадлежали не обычным фьордингам, а были меньше и имели иное строение. Всем пришлось признать, что лошади оказались „иностранными“. Они больше походили на маленьких лошадок, все еще обитающих в Северной Норвегии, которые, несомненно, похожи на низеньких и ярких монгольских лошадей. Я посвятила большую часть своей жизни изучению взаимоотношений человека и лошади в Норвегии, особенно в эпоху Великого переселения народов, когда лошади были незаменимым транспортным средством. Можно сравнить походы на судах в море с путешествиями людей по суше на лошадях. Разница будет невелика, если сравнить морехода на тростниковом судне с монгольским всадником. Я считаю, что Один и его народ прибыли в Скандинавию верхом на лошадях, как и большинство восточных завоевателей в то время…»
Я думаю, что Трине Бойсен права. Более того, никакая другая лошадь не подходит лучше для путешествий по морю или реке. На Кавказе раньше было принято брать с собой ослов на борт кожаных лодок в далекие речные путешествия. Рагнар Торсет, который отправился по следам викингов в Винланд, доказал, что исландские лошадки безупречны в качестве пассажиров на кораблях викингов. Он сам совершал путешествия из Норвегии в Гренландию и в Америку на своей точной копии корабля викингов, и, когда в 2000 г. прибыл из Исландии в Норвегию с четырьмя исландскими лошадками на борту своего корабля викингов, он рассказал мне, что эта порода лошади идеально подходит для транспортировки на судах. Эти лошади со своими короткими и сильными ногами быстро приспосабливаются к качке, и в отличие от обычных длинноногих лошадей, которые спят стоя и лишь иногда ложатся на бок, исландские лошадки ложатся, сгибая колени и подгибая ноги под себя.
Пер. А может ли северонорвежская лошадка идти «бегущим шагом»?
Тур. Ответ на этот вопрос можно найти в маленькой брошюрке об этой старинной норвежской породе. Ее написала Трине Бойсен, которая приложила немало Усилий для сохранения этого вида. В этой брошюре написано: «В течение многих лет я задавалась вопросом, может ли северонорвежская лошадка идти пятым аллюром — „бегущим шагом“. Вопрос вполне естественный, поскольку все знают, что исландские лошади произошли из Норвегии.
Оказалось, что „бегущий шаг“ — не совсем естественный аллюр для норвежской лошадки, но ее можно этому научить… Фактически ее можно научить этому без особого труда. Мы только изменили стиль верховой езды с нормальной посадки на совершенно прямую и вдобавок подтянули поводьями голову, и лошадки изменили шаг. Это было здорово, и даже оказалось труднее заставить их снова идти нормальной хорошей рысью после того, как они попробовали „бегущий шаг“…»
Пер. В одном французском телерепортаже с Алтая я недавно видел сюжет о французских археологических исследованиях скифского могильника. Покойник был похоронен со своими лошадьми точно так же, как и в могильниках в долине Меларен в Швеции, недалеко от Сигтуны Одина.
Тур. Мы ведь читали у Снорри, какую важную роль играли лошади в жизни конунгов из рода Инглингов. Мы привыкли считать древних скандинавов лишь мореплавателями, однако лошадь также была частью их повседневной жизни, помогая преодолевать значительные расстояния между разбросанными норвежскими хуторами. Люди не ходили пешком через лес, они передвигались верхом на лошади. Что касается отношений человека и лошади, легко можно представить, что Инглинги были достойными наследниками алан (асов), пересекавших степи верхом, когда они шли в военный поход. Морские суда, появившиеся в Скандинавии, заменили лошадей в походах вдоль протяженных берегов.
Как Один добирался в своих дальних странствиях по суше и морю до Сигтуны? Настоящему божеству Тору достаточно было запрячь своих козлов в колесницу и быстро взвиться в небо. А ведь если Один был человеком и предводителем асов, как рассказывает Снорри, то ему, спасаясь от нашествия римлян в дельту Дона, пришлось бы сначала преодолеть путь по реке, а затем волоком добраться до открытого моря, чтобы попасть во владения короля Гюльви в Швеции.
Лошадь и лодка были равноценными транспортными средствами в дельте Дона, откуда, по утверждению Снорри, происходил Один. Настоящие кочевники, вроде сарматов и алан, всю жизнь, как воины, проводили в седле и постоянно находились в пути в открытой степи, а такое единение лошади и человека породило греческие мифы о кентаврах. У асов и ванов, у всех многочисленных оседлых потомков алан с морских и речных берегов, тоже давно уже имелись собственные типы судов, когда греки и римляне как завоеватели привели свои флотилии военных и торговых судов в Черное море и к берегам Азова. Однако на открытых степных пространствах между двумя внутренними морями, где асы соперничали с ванами и другими соседями, лошадь была таким же неоспоримо важным транспортным средством, как и у соседних кочевых племен.
Пер. Этим кавказским племенам всадников удалось приручить определенную породу лошади. Это была удивительно сильная и выносливая маленькая лошадка, способная «бегущим шагом» пересекать огромные расстояния. Она была достаточно мала, чтобы поместиться и в речной корабль: ее научили ложиться подобно козе, подгибая ноги под себя. Один прибыл в Швецию вместе со своей лошадью. Ее звали Слейпнер, и, согласно легенде, у нее было восемь ног.
Тур. Один был кавказским шаманом, и у него были волшебная лошадь и волшебный корабль. Лошадь имела вдвое больше ног, а корабль мог передвигаться как по воде, так и по суше. Восемь ног у лошади — явно символический образ. Известно, что в восточных странах конунг с таким высоким статусом, как Один, должен был быстрее всех скакать верхом или ехать. В восточных степях так же, как и в Древней Месопотамии и Египте, цари и высокие военачальники ездили на охоту или на войну в двойной упряжке. Найденные в королевских могильниках под Азовом богатые упряжи, украшенные золотом, денежными раковинами и драгоценными камнями, — несомненное свидетельство того, что и король асов мог позволить себе двойную упряжку.
Пер. Но только не в лесистой норвежской местности!
Тур. По крайней мере, не на далекие расстояния. Однако взгляни на рисунок боевой колесницы и корабля, который Сигмунд Алсакер и Гру Мандт скопировали с наскальных рисунков в Согн-ог-Фьюране. Такой рисунок встречается еще в статье Кристофера Прескотта и Евы Вальдерхауг в «Journal of Indo-European Studies». Они утверждают, что этот символ чуждой идеологии не имеет корней в местных обычаях. Для меня же это — изображение двух транспортных средств Одина: колесницы с двойной упряжкой и кожаного корабля.
Пер. Похожий наскальный рисунок боевой колесницы обнаружен и у нас в могильнике бронзового века Кивик в Сконе. Нет никаких сомнений, что двойная упряжка была известна в Норвегии еще в бронзовом веке. Я позже вернусь к тому факту, что конский скелет, больше всего напоминающий маленького норвежского фьординга, был обнаружен археологами и в Дании, и датируется он примерно 200 г. н. э. На о. Готланд были найдены конские скелеты, относящиеся к каменному веку. Там встречаются как дикие, так и домашние лошади, похожие на исландских, их называют «русскими». Я сам однажды ездил верхом на одной такой лошади, когда мне было восемь лет.
Скидбладнир
Пер. Ты думаешь, что легендарный Скидбладнир Одина был из кожи?
Тур. Снорри раскрыл некоторые загадки Одина, но, похоже, он, действительно, считал, что у Одина был волшебный корабль. О судне Одина он говорит так: «У него был корабль, он назывался Скидбладнир. На нем он переплывал через большие моря, и его можно было свернуть, как платок»
[427]. Снорри не знал, что как раз в том уголке мира, откуда, по его мнению, происходил Один, даже вполне обычные люди имели лодки, которые можно было свернуть, как платок. Как я уже упоминал, Геродот описал в V в. до н. э. особый тип судов, ходивших из Армении вниз по Тигру в Месопотамию. Истоки Тигра находятся у озера Ван, и от Геродота мы также знаем, на каких судах плавали ваны еще до нашей эры. Он писал, что купцы пользовались лодками, построенными из дерева или тростника и обтянутыми кожей. Эти лодки были настолько огромны, что могли вместить, кроме груза и команды, еще и одного-двух ослов. Купцы плавали по рекам Вавилона, где продавали свои товары и деревянные изделия, а на обратном пути сворачивали кожаные лодки и грузили на ослов, отправляясь уже по суше в верховья реки за новыми товарами.
Пер. Ньёрд пришел из земли ванов, когда Один усыновил его, чтобы достигнуть таким образом мира. Интересно, что волшебный корабль Скидбладнир построил вовсе не ас Один, а Фрей, сын вана Ньёрда.
Тур. В Скандинавии известны два вида наскальных рисунков с изображением судов, и оба вида имеются в Норвегии. Первый — это знаменитый корабль викингов, изображаемый в виде прямой линии с загнутыми концами с обеих сторон; вертикальными линиями там обозначается команда на палубе. Второй — короткий и глубокий, который обычно истолковывается археологами как кожаная лодка, поскольку её часто изображают с помощью пересекающихся линий, напоминающих каркас.
Пер. Мне помнится, много лет назад я видел передачу Би-би-си как раз на эту тему. Профессор Сверре Марстрандер из Отдела древностей Университета Осло предложил построить кожаный корабль, основываясь на хорошо известных ему наскальных рисунках. Марстрандер утверждал, что кожаные лодки бронзового века с крепким каркасом естественным образом трансформировались в тип дощатых судов, известных нам по Иортспрингскому кораблю
[428]. Этот корабль, найденный в торфяном болоте на острове Альс в Дании в 1921 г., был около 19 м в длину с удлинениями спереди и сзади. Его внутренняя часть составляла 13 м в длину и 2 м в ширину (в самой широкой части). Он имел округлую форму, был построен из четырех досок и скреплен веревками; управлялся не обычными веслами, а наподобие каяка и датировался 300 г. до н. э.
Тур. Я познакомился с Марстрандером после собственного эксперимента с южноамериканским бальсовым плотом и пришел к тому же выводу, как и он, изучив на Ближнем Востоке эволюцию от компактных тростниковых судов до открытых лодок с обводами и килем. Именно там, на Ближнем Востоке, наиболее интенсивно происходило развитие от плотов к килевым судам, сначала обшитым водонепроницаемыми тростниковыми циновками, а потом досками или непромокаемой кожей.
Кожаные суда возникли очень просто: тростниковые циновки для обшивки заменили кожей. Наши предки плавали по рекам с юга России на самый её север, а дальше добирались на лодках и лошадях в северную часть Скандинавского полуострова, в то время как на юге Старого Света уже давно использовались все типы судов.
Кожаная лодка может принять любую форму в зависимости от того, как расположить обводы. У меня самого не было в этом опыта, но Тим Северин доказал, что такой тип лодок, на которых пришли его предки в Ирландию, обладает достаточно хорошими мореходными качествами для того, чтобы перевезти его самого через Атлантику в Америку. Округлая форма, кажущаяся неудобной, на самом деле создает отличную грузоподъемность. Именно на таких судах плавали ваны вниз по реке Тигр из Армении в Багдад. Другой тип лодок похожей конструкции и формы, но сплетенных из тростника и просмоленных используется на реке Тигр вплоть до наших дней. Их называют «гуффа». Они имеют круглую форму, черные, как автомобильная покрышка, около 2 м в диаметре. Эти суда — самые удивительные из всех, на которых мне когда-либо доводилось плавать. Всем можно сесть на одну сторону, не опасаясь, что судно перевернется, а один человек легко может держать курс.
Пер. Да, если Исландию заселили мореходы, пришедшие через Атлантику на кожаных лодках задолго до викингов, то разве Один и его спутники не могли добраться из Дании в Швецию на таком же судне?
Тур. Если до сих пор никто не опротестовал теорию о том, что один из типов наскальных рисунков изображает узкие и длинные суда викингов, а другой — кожаные лодки с обводами, то почему бы не предположить, что спутники Одина пришли на кожаных лодках к народу, тесавшему доски в норвежских лесах?
Наскальные рисунки с Каспийского побережья тоже изображают два типа судов. На некоторых рисунках тростниковые лодки с символом солнца на носу очень похожи на старинные египетские лодки, которые относят к 4-му тыс. до н. э. Это самые древние из извест ных нам судов. Другие рисунки совершенно не отличаются от привычных для нас наскальных изображений судов: прямая линия с загнутыми с обеих сторон концами и рядами чёрточек, похожими на зубья гребешка, изображающими людей. Никто не знает возраста этих судов. В Норвегии их относят к бронзовому веку и раннему железному веку, приблизительно от 1800 г. до н. э. до 200 г. н. э.
Пер. Ты рассказывал, что был в Азербайджане, когда «Статойл» вел переговоры о правах на разведку нефти в Каспийском море?
Тур. Да, и как раз тогда я всерьез задумался о том, что в этой части света привыкли к дальним речным походам еще с древних времен. Во время переговоров возникла проблема, как перевезти оборудование для постройки буровых платформ из норвежских портов в Каспийское море — внутреннее море, не имеющее какой-либо связи с океаном. И вот асы (как я уже раньше говорил, именно так они себя называют в Азербайджане) тут же нашли решение! «Вы только привезите все на Балтику! — сказали они. — Не надо плыть вокруг всей Европы через Средиземное море или Персидский залив. Сделайте так, как делали древние норвежцы, когда они посещали нас в эпоху викингов…» «Статойл» последовал этому совету и перевез все тяжелое оборудование на судах по балтийским рекам в Россию, а затем вниз по Волге в столицу Азербайджана Баку. Сегодня ведь построены каналы там, где наши предки должны были тратить силы на волок судов по русской земле. Интересно, откуда воинственные северяне знали дорогу на юг по русским рекам? Может быть, их предки гораздо раньше пришли с юга на север этим же путем?
Музыка и девы-воительницы
Пер. У тебя ведь были особые контакты с асами в Азербайджане, когда ты прибыл туда во времена «холодной войны» в качестве гостя местной академии наук?
Тур. Как я уже говорил, я ездил по стране вместе с президентом местной академии наук Гасаном Алиевым и изучал наскальные рисунки. Этот выдающийся географ пытался убедить меня в том, что между Азербайджаном и Норвегией в доисторические времена существовали более тесные связи, чем те, о которых мы знаем сегодня. Уже находясь в Баку, незадолго до отъезда я узнал, что Гасан Алиев — старший брат главы союзной республики Гейдара Алиева. Возникшая между нами дружба возобновилась и после падения Советского Союза, когда Гейдара Алиева избрали Президентом Азербайджанской Республики. Мой интерес к этой стране подогревала особая увлеченность современных асов культурой и искусством.
Путь от науки к искусству не так далек. Стремление к поиску утерянных культурных связей между нашими давно разделенными народами вскоре проникло из академии наук и в культурные круги. Однажды летом 2000 г. меня пригласили на фестиваль викингов на остров Херёй, к югу от Олесунна, куда должны были приехать и современные асы из Азербайджана. Фестиваль был устроен в честь тысячелетнего юбилея высадки Лейфа Эйрикссона на побережье Северной Америки, и мне предстояло выступить вместе с Бьёрном Вегге с рассказом о наших встречах с народом удин в современном Азербайджане.
Кроме прибытия Рагнара Торсета на корабле «викингов» с исландскими лошадками — старейшим видом лошади на Севере, меня на фестивале ждал еще один сюрприз — музыкальная программа.
Пер. И что, местные музыканты играли на исконно норвежских хардангерских скрипках?
Тур. Я бы так и подумал, если бы услышал их по радио, но это были три самых настоящих музыканта из земли асов, которых Бьёрн Вегге нашел в Азербайджане. Они играли и пели. Они играли на своих собственных национальных инструментах на фоне типично норвежского ландшафта — на скале на берегу Северного моря. А рядом, где причалил корабль «викингов», паслись исландские лошадки Торсета.
Музыканты были на гастролях в Норвегии и посетили фестиваль викингов вместе с норвежской вокальной группой «Скрук». Среди них была сама Шафига — лучшая в мире исполнительница на кяманче
[429], получившая за свою игру приз от Ганди. Вторым был Ильгар Мурадов — известный исполнитель песен «мугам»
[430], а третьим — Сиявуш Карими — руководитель музыкальных программ азербайджанского телевидения.
Однако вернемся к нашей истории. Неожиданно музыканты заиграли мелодию, которая привела норвежцев в изумление. Им показалось, что они слышат собственную национальную музыку.
Пер. А как реагировала норвежская группа «Скрук»?
Тур. Они пришли в такой восторг, что после фестиваля записали диск с музыкой из Азербайджана и назвали его «Страна, откуда мы пришли».
Пер. Да ты шутишь!
Тур. У музыки — свой язык, как и у изобразительного искусства. Известный эксперт в области норвежской народной музыки и старинных скандинавских мелодий Халвард Т. Бьёргум прислал мне удивительное письмо с рукописью «Девы-воительницы — вымысел или правда?». Этот музыковед связывал воедино норвежскую скрипичную музыку и старинные норвежские сказания и мифы. А в старинных норвежских поверьях много говорится о воинственных женщинах из жилища богов: они скакали верхом на лошадях и сражались наравне с мужчинами. Что же общего между музыкой и легендами? Оказалось, что музыка всегда сопровождала легенды. Вот что пишет музыковед Бьёргум по этому поводу: «Я сам играю на хардангерской скрипке, и я в восторге от народной мелодии „Амазонки“. Она представляет собой нечто особенное в норвежской музыке для этого инструмента. Многие меня спрашивают, откуда идут глубинные корни этой прекрасной музыки, которая так не похожа на знакомую нам европейскую».
И далее он рассказывает, что в Сетесдале в 1800-е гг. были записаны легенды на основе старинных традиций и мифов. Вот его слова: «Одна из легенд, известная в Телемарке под названием „Свистуньи“, возникла в переходный период между христианством и язычеством. Однако в Сетесдале известны и более старые легенды. Одна из них сохранилась в Сетесдале в живой устной традиции практически до наших дней, хотя ее и записали в конце XIX в. В этой легенде предстают воинственные всадницы, их противники, описываются их одежда и оружие. Эта легенда в Норвегии известна только в Сетесдале. В ней говорится, что амазонки играли на люре — рожковом инструменте. Таким образом, в обеих легендах упоминается музыка.
В сетесдальской
легенде амазонки в отличие от „свистуний“ носили оружие. Похоже, что они использовали мечи. Рассказывается, что они расправились со своим противником Хард-Аслаком, разрубив его на куски…»
У Бьёргума легенды и музыка неотделимы, и вот что далее он говорит: «Исследования показывают, что скрипичная музыка в Сетесдале уходит своими корнями в Средневековье, в эпоху викингов и даже в более древние времена. Особенно это касается музыки, которая может привести к экстазу и трансу, — оккультной музыки. Удивительно, сколько общего у восточной музыки, в том числе и арабской, с некоторыми норвежскими музыкальными произведениями!»
Пер. Получается, что нечто похожее существовало и в шведской музыкальной традиции?
Тур. В письме Бьёргум упоминает некую «Сагу о Боси»
[431] из Восточной Готландии в связи с музыкой, вводящей в транс. По словам Халварда Бьёргума: «…об этом говорится в так называемой „Саге о Боси“ из Восточной Готландии. Эта сага дохристианских времен и записана в Исландии в первой половине XIV в. Один пришел в Юго-Восточную Швецию, т. е. в тот район, где появилась „Сага о Боси“. Интересны описания культуры в саге — культ воинственных женщин, культ музыки, а также культ разведения домашних животных, преимущественно лошадей. В „Саге о Боси“ рассказывается об обряде поднятия кубков в память о скандинавских богах, который сопровождался музыкой, под названием раммеслот или раммеслаг. Эта музыка и по сей день осталась частью народной культуры Сетесдаля. Это название происходит от старинного норвежского слова „рамр“, означающего „сильный“, „мощный“. Датский музыковед Мортен Леви связывает эту традицию с гимном в честь канонизации Магнуса Оркнейского. Гимн в честь св. Магнуса Оркнейского, записанный до 1300 г., — особенный в том смысле, что он совершенно не испытал влияния григорианской музыкальной церковной традиции, а построен на древней основе. Удивительно, что этот гимн очень близок к раммеслотам Сетесдаля. Тот факт, что норвежцы раньше жили на Оркнейских островах, а у св. Магнуса были родственники в Агдере, в той же провинции, где находится и Сетесдал, подтверждает теорию о наличии общей основы…»
Бьёргум утверждает, что тексты о воинственных девах-всадницах, которые играют на рожковом инструменте — люре и сражаются с сильным противником Хард-Аслаком, носят вовсе не мифологический характер, а, скорее, похожи на легенды, претендующие на отражение реальных событий.
Приведем далее мнение Халварда Бьёргума: «Похоже, что амазонки были реальными историческими персонажами, как о них говорится и в старинных источниках — „Эдде“ и др. В любом случае можно отметить множество переходных моментов или смешение мифа и действительности. Каким образом эти предания сохранились в Сетесдале? Я не буду здесь исследовать этот вопрос, но хочу лишь сказать, что все это — реальность, и все это было. Для меня более важно узнать, как эта сага появилась в Сетесдале. Что касается других районов страны, то там эта сага оказалась забытой прежде, чем ее успели записать. Есть только телемаркский вариант, но в нем об амазонках практически ничего не говорится, так как главная часть отсутствует и остался только музыкальный аспект.
Теперь вспомним дев-воительниц из других уголков мира. В трудах Геродота упоминаются амазонки, которые, потерпев поражение от греков к югу от Черного моря, захватили корабли и приплыли в Азовское море, к северу от Черного. Там они смешались со скифами, с которыми сначала воевали, а потом объединились. Конные воительницы упоминаются и здесь: скифское название амазонок означает „мужеубийцы“. Есть множество подтверждений сходства народов Черноморского и Каспийского регионов, не говоря уже об амазонках и скифах. И здесь имела место культура дев-воительниц, которая в главных чертах совпадает с культурой норвежских амазонок до или во время Великого переселения народов в Западной Европе. Во время раскопок на границе Южной России и Казахстана был найден скелет, все признаки которого указывали на то, что он принадлежал женщине-всаднице, убитой в сражении.
Снорри говорит, что именно из этих мест ведут свое происхождение асы, что именно отсюда Один отправился со своим народом и пришел в Сигтуну в Швеции. Нельзя исключить, что во время таких путешествий мог произойти перенос элементов культуры амазонок — или в виде реальных женских племен, или в виде устных преданий и сказаний.
В этой связи сразу же вспоминаются мифы об амазонках. Примечательно, что, согласно этим мифам, амазонки жили в районе к северу и востоку от Черного моря, и как раз в то время, когда Один, должно быть, покинул этот регион. Возможно, что Один и его спутники принесли с собой и те элементы культуры, которые были характерны для амазонок. Это очень интересная версия…»
Мы очень мало знаем о музыкальных инструментах эпохи викингов. Вот что об этом пишет Халвард Бьёргум: «Мы не знаем, на каких инструментах играли в то время. В „Саге о Боси“ упоминается арфа. На порталах деревянных церквей — ставкирок Агдера среди прочего в двух местах в Сетесдале — Эустаде и Хюлестаде — встречается мотив из „Песни о Сигурде“, где Гуннар играл на арфе пальцами ног
[432].
Совершенно очевидно, что музыкальные традиции Сетесдала гораздо старше современной хардангерской скрипки. Музыковед Турлейв Ханнос связывает развитие хардангерской скрипки с более древними инструментами, называвшимися во времена Снорри „гигья“ и „фиддла“. Эта историческая основа развития инструмента, известного нам сегодня как хардангерская скрипка с 8–9 струнами, должно быть, подверглась влиянию барокко в более позднее время.
Наиболее древними инструментами были щипковые, такие, как арфа: отсюда и название „слот“, или, по-сетесдальски, „слаг“ (удар). Это название происходит от древнескандинавского слова „слагр“, что означает „ударять по струнам“. В дальнейшем появился смычок, которым водили по струнам…»
Пер. Это очень интересно. Арфа — классический инструмент, общий для всех стран в той части мира, где жили асы и ваны и где формировалась древняя цивилизация.
Тур. После выступления трех современных асов на фестивале викингов на о. Херёй я получил из Азербайджана известие о том, что Халвард Бьёргум приехал туда, чтобы посетить народ удин в селении Нидж. После этого он дал интервью корреспонденту газеты «Афтенпостен» Халвору Тьённу. Вот часть его интервью: «Проведя в Азербайджане несколько недель, я могу твердо сказать следующее: я нашел материалы по народной музыке, которые соответствуют древнейшей фольклорно-музыкальной традиции из Сетесдаля, а именно — игре с глубокими интервалами на басах. Кроме того, у нас есть сетесдальская арфа, которая называется нордафьельс. Если умеешь играть на арфе и слушаешь здешнюю народную музыку, нельзя не заметить удивительного сходства…» Резюмируя слова Халварда Бьёргума, Халвор Тьённ пишет: «После многолетней охоты за музыкальным материалом, соответствующим норвежской народной музыке, Бьёргум был потрясен тем, что обнаружил в Азербайджане. Бьёргум считает, что нигде в мире больше не найти музыкальных форм, настолько сходных с норвежской музыкой для хардангерской скрипки, кроме как в Азербайджане…».
Изобразительное искусство говорит само за себя
Пер. До сего времени мы говорили о конопле, ржи, кораблях и музыке как основных нитях культурного влияния с востока. Мне хочется сказать и о том, насколько изобразительное искусство в Скандинавии было подвержено влиянию из тех же районов. Особенно это заметно в скульптуре, производстве тканей и ювелирном деле. Я говорил о том, что мне сказал недавно один норвежский специалист по коврам?
Тур. Нет.
Пер. Он сказал, что традиционные норвежские узоры с оленями на национальных свитерах и кофтах пришли к нам с Алтайских гор, с Монгольского Алтая. Он видел точно такой же узор в Эрмитаже в Санкт-Петербурге на скифском ковре, которому более двух тысяч лет. Там, как ты знаешь, хранится и замечательное собрание скифских ювелирных изделий.
Тур. Да, я как раз был недавно там, и русские сами отмечают параллели с древнескандинавским стилем.
Пер. Мы находим эти параллели и в скифском «зверином стиле», который, в свою очередь, уходит корнями в древние культуры Китая и Месопотамии. То же самое касается и традиционного стиля эпохи викингов, хотя многие считают, что он чисто северного происхождения. На самом деле и здесь наблюдается явное скифо-сарматское влияние. Конечно, в этом нет ничего предосудительного: художники всегда заимствовали идеи и черпали вдохновение в работах друг друга.
Тур. Я лично всегда затруднялся различать скифов и сарматов. Думаю, это испытывали все, кто не занимался углубленным изучением их искусства или культуры. Впервые я услышал, что русские используют слово «сарматы», когда приехал на Кавказ, чтобы начать раскопки. Русские называли сарматами почти все кочевые племена, перемещавшиеся верхом на лошадях в Кавказском регионе в те времена, когда эти народы еще не обосновались на определенном месте и не перешли к оседлости. Если отвлечься от разнообразных названий народов и племен, постоянно менявших место жительства и враждовавших друг с другом в древние времена и в эпоху раннего Средневековья, похоже, они все действительно были подвидами сарматов. У меня создалось впечатление, что когда греки и римляне вторглись сюда и нанесли Кавказский регион на карту, то названия местностей и племен свидетельствовали о том, что во всем регионе от Балтийского моря до Каспийского на протяжении нескольких столетий в конце прошлой и начале новой эры доминировали сарматы. Ты согласен со мной?
Пер. Да, вполне. На старинных картах это очень хорошо видно. Карта мира Птолемея, к которой мы постоянно обращаемся, называет Балтийское море Сарматским океаном. Вся территория на запад от Дона называется Европейская Сарматия, а на восток — Азиатская Сарматия.
Тур. В этих степях расстояния не имели значения для народа, постоянно кочевавшего верхом, так же, как и для викингов, путешествовавших позже по морям.
Пер. Сначала скифы тоже были номадами (кочевниками), но их роль в степях постепенно перешла к сарматам. В общем и целом считается, что скифы доминировали на протяжении столетий до начала нашей эры, а затем преобладать стали сарматы. Геродот в V в. до н. э. писал, что сарматы — это народ, который появился, когда скифы и амазонки объединились и поселились на расстоянии трех дней пути на северо-восток от Азовского моря.
Тур. Скифы и сарматы доминировали в районе Азовского моря как раз в те времена, когда его покинули асы. В таком случае художественное ремесло асов претерпело влияние со стороны искусства скифов и сарматов. Снорри говорит в «Эдде», что Один взял с собой множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей.
Пер. В Дании в Гуннеструпе на полуострове Ютландия была найдена большая серебряная чаша с узором, в котором прослеживаются и кельтские, и скифские мотивы. Чаша была изготовлена практически в то же время, когда асы отправились в Скандинавию и Дания была их первой «остановкой». Факт переселения народов во времена Одина подтверждает известный датский археолог Йоханнес Брёндстед, один из главных авторитетов в этой области. Вот что он пишет: «Короткое время спустя после Рождества Христова, т. е. в начале римской эпохи, в Данию, судя по всему, откуда-то издалека пришел народ скандинавского типа с удлиненной формой черепа…»
Эту точку зрения подтверждают и лингвисты, например, филолог Йорген Кр. Банг цитирует «Эдду» Снорри. Как известно, у Снорри есть собственные филологические изыскания по поводу языка, который, по его мнению, изменился в северных странах с приходом асов. Он неоднократно упоминает о том, что асы взяли себе в той земле жен и настолько умножилось их потомство, что их язык распространился в трех Скандинавских странах, в стране саксов и в Англии: «Язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран… А в Англии есть старые названия земель и местностей, которые, как видно, происходят не от этого языка, а от другого»
[433].
Тур. Лингвисты, наверное, никогда не придут к единому мнению по вопросу происхождения так называемых индоевропейских языков и их взаимосвязей и разветвлений. Мы же исследуем сходство не языка скифов, сарматов и асов, а их искусства.
Пер. Я только что получил богато иллюстрированную книгу о ювелирном искусстве скифов — каталог крупной русской передвижной выставки, на открытии которой ты только что был в Париже. Выставка называлась «Золото скифов». На ней были представлены экспонаты из региона вокруг Азова и Азовского моря. У кого не было возможности посетить эту выставку, достаточно полистать эту книгу, чтобы понять, откуда жители Севера черпали свои идеи.
«Кавказский» тип
Пер. Расскажи, пожалуйста, почему тот тип, к которому принадлежали викинги, да и все мы в Скандинавии, назвали «кавказским»? Неужели антропологи инстинктивно почувствовали, что мы, должно быть, пришли с Кавказа?
Тур. Это объясняется теорией немецкого антрополога Иоганна Фридриха Блуменбаха
[434], выдвинутой им в 1781 г. В то время начали говорить о различных человеческих расах, но с биологической точки зрения все человечество принадлежит к одной и той же расе, мы различаемся только по некоторым параметрам и цвету кожи. Блуменбах выделил пять категорий людей: кавказскую, монголоидную, малайскую, эфиопскую и американскую. В просторечии — это «белые», «желтые», «коричневые», «черные» и «красные» люди. Однако Блуменбах не ограничился только внешними признаками. Он выбрал череп женщины с территории Кавказа в качестве прототипа кавказской группы — настоящей представительницы с родины асов, к востоку от Черного моря у подножия Кавказских гор. Неужели Блуменбах читал саги Снорри об истинной родине скандинавов?
Пер. Или Библию? Во времена Блуменбаха Библия все еще имела довольно сильное влияние на науку. Согласно Книге бытия, Ноев ковчег пристал к земле на горе Арарат — самой высокой вершине региона, находящейся к северу от озера Ван. Оттуда после Всемирного потопа сыновья Ноя отправились дальше: Сим — в Азию, Хам — в Африку, Иафет — в Европу. Существует даже старинная карта, где Арарат представлен как центр мира.
Тур. Я сомневаюсь, что Блуменбах выбрал одного из сыновей Ноя в качестве прототипа кавказской группы, ведь тогда и два других сына Ноя должны были быть кавказцами. Однако, если говорить серьезно, мы поступим несправедливо по отношению к Блуменбаху, если будем считать, что он использовал либо Снорри, либо Библию в качестве основы для определения кавказской группы. Интересно, однако, что Арарат возвышается над армянским горным массивом как раз там, где жили ваны, т. е. в центре целого культурного ландшафта, где одна река впадает в Каспийское море, а другая течет в Месопотамию.
Кстати, ты знаешь, что на древнееврейском языке Арарат называется Урарту? Так же, как и ванская цивилизация?..
Пер. Нам никуда не деться от асов и ванов.
Тур. Разделять людей по цвету кожи — значит лить воду на мельницу расистов. Это было величайшей ошибкой всего человечества. Считать, что от цвета кожи зависят умственные способности, — глубокое заблуждение. Кроме того, белых людей вообще не бывает, они выглядели бы ужасно. А те из нас, кто имеет светлую кожу, изо всех сил стараются загореть.
Тем не менее многие антропологи, не будучи расистами, связывают белый цвет кожи с европейским происхождением. Они отказываются верить преданиям ацтеков и инков, гласящим, что мореплаватели со светлой кожей и светлыми волосами и бородой, похожие на европейцев, посещали Мексику и Перу еще до испанцев. Получается, что другие европейцы приходили в Америку до Колумба, а это совсем не совпадает с датой открытия Америки в 1492 г. А как объяснить тысячелетние мумии белых людей с бородой, которые находили на всей территории от бассейна реки Тарим в Китае до Канарских островов в Атлантике? Ведь у них не было никаких европейских предков! К этому мы еще вернемся…
Когда я был юным студентом и познакомился с полинезийцами на далеких островах Тихого океана, я поразился, насколько мы, европейцы, ограничены в своих представлениях о нашем месте в мировом сообществе. Я никогда не устану повторять, что мировая история началась не у нас. Сначала мореплаватели с Крита и других средиземноморских островов нашли нас в Европе, научили читать и писать, и только потом мы стали частью мировой культуры — в 1-м тыс. до Рождества Христова.
Дальние родственники в Китае
Тур. Последние научные исследования, связанные с происхождением и переселениями различных народностей, свидетельствуют, между прочим, о том, что до сих пор нет уверенности, что так называемая белая раса появилась в Европе.
Пер. Что ты имеешь в виду?
Тур. Совершенно случайно получилось так, что меня, как исследователя доисторического мореплавания, привлекли раскопки во внутренних районах Китая. Причиной этому был мой интерес к происхождению светловолосых и светлокожих гуанчей
[435], живших на Канарских островах до того, как там появились европейцы. Когда я обнаружил, что эти гуанчи оставили после себя ступенчатые пирамиды такого же типа, как и на Ближнем Востоке, я создал вместе со своим старым другом судовладельцем Фредом Ульсеном научное сообщество на Тенерифе. Он финансировал проект, целью которого было создать культурный парк для охраны пирамид и направлять доходы от туризма в научный фонд. Я же должен был организовать международный научный комитет по финансированию и исследованию происхождения и распространения культур. Наши младшие дочери принимали весьма активное участие в проекте, который мы назвали FERCO — Фонд исследований происхождения культур. Когда младшая дочь Фреда Кристине услышала о находках мумий в центральном районе Китая и об их сходстве с находками на Канарских островах, она немедленно отправилась на Дальний Восток.
Я получил отчет, к которому прилагалась целая страница на китайском языке, которую я должен был подписать, хоть и не понял ни слова. По приезде в Пекин Кристине узнала, что мумии были найдены в удаленных пустынных районах на северо-западе Китая. Она нашла переводчицу Мадлен Линн и вместе с ней отправилась на арендованной машине в полузакрытый район, однако их никто не остановил.
В Урумчи, столице провинции Синьцзян, они познакомились с археологом Ванг Бинг Хуа, руководителем археологического института провинции Синьцзян, и Лу Энгуа, которые проводили многочисленные раскопки в регионе. Они сначала посмотрели мумии, привезенные в Урумчи, а затем отправились вместе с Лу в оазис Турфан в пустыне Такла-Макан, чтобы посмотреть мумии там. Кристине была потрясена увиденным: эти мумии не только хорошо сохранились, потому что лежали в мерзлом грунте в почве с высоким содержанием соли, но и в отличие от китайцев сегодняшнего Синьцзяна были очень похожи на нее саму, будто родственники, так как имели вполне скандинавскую наружность.
Китайцев, обнаруживших эти мумии в Синьцзяне в конце 1970-х гг., так поразила эта находка, что они многие годы молчали о своем открытии, боясь, что европейцы начнут утверждать, будто скандинавские викинги принесли цивилизацию монголоидным племенам Китая.
Однако мумии европеоидов продолжали находить при раскопках больших территорий в степях и пустынях на северо-западе Китая, а радиоуглеродный анализ показал, что они на много тысяч лет старше европейских викингов. Если и были контакты между европейцами и китайцами, то они первоначально исходили из Китая, а не наоборот.
Пер. Ты узнал, что это был за текст на китайском, под которым ты подписался?
Тур. Это был контракт с археологами, которые раскопали эти мумии. Им не хватало средств на издание книги на английском языке об этих сенсационных находках, представлявших гораздо больший интерес для всего остального мира, чем для самих китайцев. Кристине тут же пришло в голову, что проект заслуживает поддержки из нашего только что созданного фонда FERCO. Быстро составили проект контракта на китайском языке, и Мадлен проверила его, прежде чем мне дали его на подпись.
Пер. Забавно, что молодая женщина из Скандинавии оказалась первой, кто стал изучать эти китайские мумии. Другой скандинав, известный шведский ученый Свен Хедин, был первым путешественником, который в 1899 г. прошел эту неизученную китайскую пустыню и нанес ее на карту. И вот теперь сами китайцы сделали новые и совершенно неожиданные открытия.
Тур. Да, как я уже говорил, именно Ванг Бинг Хуа заключил с нами соглашение. Он вместе со своими китайскими коллегами должен был написать отчет об археологических раскопках, а исследование одежды мумий решено было поручить иностранным экспертам. Эта работа досталась Элизабет Уайланд Баркер. На мумиях были надеты разноцветные шерстяные одежды. Американский коллега китайцев, профессор Виктор Мэйр из Пенсильванского университета, отвечал за перевод китайских отчетов о мумиях. Мы договорились провести нашу первую встречу в Йельском университете. Там он показал мне собственные съемки и ознакомил меня со своей точкой зрения, потом он прислал мне первый отчет, опубликованный в журнале «Indo-European Studies» (т. 23, 1995). Вот что он писал: «С конца 1970-х гг. китайские и уйгурские археологи, работавшие в центральноазиатском районе Синьцзян, нашли в бассейне реки Тарим большое количество мумифицированных останков. Многие из этих тел отлично сохранились и имели неповрежденные кожу, мышцы, волосы и внутренние органы. На них были надеты просторные цветные платья, штаны, сапоги, носки, жакеты и головные уборы, что позволяет нам получить полное представление о том, как они выглядели при жизни — примерно четыре или две тысячи лет тому назад. Время для них как будто остановилось, они достигли своего рода физического бессмертия. Пребывание рядом с ними внушает некоторый ужас, будто общаешься с людьми, вернувшимися к жизни после тысячелетнего сна. Но самое удивительное, что эти жуткие, будто живые тела принадлежат кавказоидам или европеоидам…»
Пер. И мир узнал об этом только сегодня?
Тур. Вот что пишет об этом Виктор Мэйр: «…Кое-какие заметки об этих фантастических археологических находках появлялись в кратких обзорах в прессе в 80-е гг., но все это осталось незамеченным. На самом деле несколько подобных мумий (правда, они были немного моложе) находили еще в начале XX в. такие археологи, как Аурель Стейн, Такибана Цуико, Свен Хедин, Фольке Бергман и Хуан Венби. На старых фотографиях одна из этих мумий — симпатичная женщина — мило и невинно улыбается; другая мумия — усатый мужчина с недовольным выражением на лице, будто ему тесновато в гробу. Дама очень похожа на валлийку или ирландку, а мужчина — на крепкого богемского бюргера. Все одеты в хорошие одежды и красивые шляпы с перьями, какие носят в Альпах и по сей день.
Этих замечательных представителей коренного населения бассейна реки Тарим описали, как положено, хотя и весьма поверхностно в экспедиционных отчетах, которые затем отложили в самый дальний угол в библиотеках и архивах.
Теперь же известие о находке европеоидных мумий в бассейне реки Тарим стало настоящей мировой сенсацией! Есть целый ряд причин, почему отношение к этим центрально-азиатским европеоидам так кардинально изменилось. Во-первых, их число возросло настолько, что их нельзя было так просто игнорировать. Радиоуглеродным методом определили, что последние находки принадлежат периоду 2000—400 гг. до н. э. Стало ясно, что европеоиды в большом количестве жили в бассейне реки Тарим до пришествия туда других народов. Нет никаких достоверных следов пребывания более ранних насельников в регионе, что само по себе требует дополнительных объяснений.
Другой причиной такого пристального внимания к европеоидным мумиям с реки Тарим стало их место в дискуссиях о языке и археологии, начавшихся в 1980-х гг. В весьма оживленных дебатах о происхождении индоевропейских народов участвуют многие выдающиеся лингвисты и археологи мира. Поскольку кавказоиды, похороненные у реки Тарим, являются, несомненно, самыми восточными представителями индоевропейской семьи и относятся к временному периоду, когда об экспансии индоевропейского народа со своих родных территорий говорить было рано, некоторые полагают, что они сыграют решающую роль в определении, где же эти самые родные территории находились…»
Пер. Вот увидишь, все мы были китайцами до тех пор, пока не пришли на Кавказ и не стали русскими и скандинавами!
Тур. Не смейся. Самое время привлечь к этой дискуссии не только специалистов, но и просто людей, мыслящих обычными категориями. Слишком многое исчезло в архивах и музейных подвалах только потому, что не укладывалось в господствовавшие догмы того времени. Обратимся опять к Виктору Мэйру, вот что он пишет: «…Тот факт, что мы вновь исследуем письменные источники в свете новых археологических находок, имеет двоякое значение и ведет к лучшему пониманию и того, и другого. Когда в старинных китайских легендах и описаниях исторических событий появляются высокие люди с глубоко посаженными голубыми или зелеными глазами, длинными носами, бородами, с рыжими или светлыми волосами, их, как правило, воспринимают как вымысел или миф. Теперь совершенно ясно, что эти рассказы имеют реальное основание». То же самое можно сказать и о легендах ацтеков или инков о белых людях с рыжими или белыми волосами, посещавших их задолго до прибытия испанцев. Многие археологи-европейцы отказываются верить собственным глазам, когда находят хорошо сохранившиеся мумии такого типа в песках Перу так же, как и в соленом песке реки Тарим. Еще раз процитируем записи Виктора Мэйра: «…Сочетание археологических находок и исторического анализа позволило приблизиться к этой достаточно щекотливой теме с большой долей вероятности и объективности. Из-за имперских амбиций XIX–XX вв. термин „распространение культур“ получил такой оттенок, что нельзя было привести даже очевидные факты, чтобы не быть осмеянным. Но теперь, имея на руках убедительные доказательства и менее амбициозные посылы, совершенно приемлемо отметить особые случаи контактов и заимствований. Поскольку они жили в местах пересечения европейского и азиатского миров именно в то время, когда везде возникали крупные цивилизации, нельзя не говорить о роли кавказоидных народов из бассейна реки Тарим в трансконтинентальном распространении элементов культуры».
Пер. Рассматривает ли Мэйр этот вопрос?
Тур. Не напрямую. Он больше пытается побудить специалистов разных профессий и разной географической принадлежности к размышлениям на эту тему. Пытается заставить других ученых шире взглянуть на вещи. Не переходя границ, он пытается разрушить созданные специалистами баррикады и искусственные разделения истории и всего человечества на отдельные части. Он старается увидеть общую связь, не осмеливаясь сам собрать эту грандиозную мозаику в одиночку.
Пер. Ты часто говорил о том, что мы никогда не узнаем правды о прошлом, если будем слушать только отдельных специалистов. Для этого нужно объединить специалистов в междисциплинарные сообщества.
Тур. Это вполне соответствует духу времени, и лучшим примером тому являются мумии, обнаруженные в районах пересечения западных и восточных культур. Чтобы разгадать загадку реки Тарим, китайские, американские и европейские специалисты совершенно разных профилей пытаются освободиться от политических и догматических пристрастий и найти взаимосвязи между людьми в пространстве и времени. Ведь долгое время господствовала тенденция обращать внимание прежде всего на то, что нас разделяет.
Мэйр отмечает, что жители северной Скандинавии больше всего похожи на эти мумии с реки Тарим, хотя причина этого неизвестна. И это несмотря на то, что мы живем дальше всех от Китая из ныне живущих европеоидных народов. На самом деле мы, скандинавы, живем гораздо ближе к Кавказу, чем наши древние родственники с реки Тарим. Однако то, что некоторые из этих нарядных мумий были похоронены в Китае почти за две тысячи лет до того, как Один сбежал на Север, спасаясь от римских войск, — факт, несомненно, дающий повод для размышлений. И Мэйр как раз стремится побудить ученых к этому, когда речь идет о больших расстояниях как в пространстве, так и во времени: «…Я думаю, что такие сравнения, если их проводить в неограниченном масштабе, действительно обнаружат наличие связей между всеми древними народами Евразии… Китайские археологи и антропологи так же, как и другие, стремятся докопаться до сути проблемы кавказоидов, похороненных в бассейне реки Тарим». Мэйр указывает: многие учебники по истории ошибочно утверждают, что Великий шелковый путь был открыт китайским путешественником Чжан Цянем около 130 г. до н. э. Мэйр считает, что не было такого времени, когда бы люди Евро-Азиатского региона не перемещались бы туда и сюда, пересекая все это пространство. Не делая особых выводов, он постоянно подчеркивает, что существовавшая погребальная традиция в бассейне реки Тарим обмазывать трупы охрой — это пример традиции, имевшей спорадическое распространение по всей Евразии. Свастика как символ солнца в Месопотамии — еще один такой же пример. Особенно интересно, что Мэйр упоминает денежные раковины с Мальдивских островов, найденные в пустынных могильниках Тарима — пустыни, которая, по его словам, находится от моря дальше любого другого места на Земле. «Люди, похороненные в бассейне реки Тарим и упокоившиеся вечным сном в центре мегаконтинента, являются для нас тем бесценным недостающим звеном, которое неразрывно связывает Запад и Восток. Я не утверждаю, что существовали именно прямые связи по всему пути от Северо-Западной Европы к Юго-Восточной Азии и от Северо-Западной Азии к Средиземному морю, но твердо верю в существование солидного количества фактов, свидетельствующих о том, что весь Евро-Азиатский регион в техническом и культурном отношении прошел через одно и то же сито…
…Особенно интересно наличие сходства между центральноазиатскими коническими шляпами и похожими головными уборами, часто встречающимися в хеттских рельефах…», — пишет Виктор Мэйр.
Пер. Это те самые остроконечные шляпы, которые носили раньше ведьмы? Но он ведь не делает никаких выводов?
Тур. Мэйр готовит книгу о контактах и обменах между кельтами и скифами в 1-м тыс. до н. э. Предварительные пробы митохондриальной ДНК показали, что таримские мумии принадлежат к европеоидному типу. У нас есть также важные предпосылки считать, что их предки могли принадлежать к индоевропейцам, распространившимся на Запад, вплоть до Ирландии. Мумии были одеты в шерстяные одежды, и некоторые ткани удивительно похожи на образцы из альпийских захоронений хальштаттской культуры в окрестностях Зальцбурга. Эти ткани изготовили предки кельтов — индоевропейские племена. Сходство в технике ткачества и рисунке не может быть случайным.
Пер. Ведя кочевой образ жизни, древние люди могли распространиться по всем районам мира, пригодным для проживания, и многочисленным поколениям приходилось отправляться друг за другом в постоянных поисках пропитания.
Тур. Так и есть, но в то же время все большее количество семей переходило к оседлому образу жизни, потому что люди начали возделывать землю или держались своих пастбищ. Однако пять тысяч лет назад перед человечеством открывались совершенно иные географические перспективы, и в то время на Ближнем Востоке и в приграничных районах между Азией, Африкой и Европой расцветали крупные цивилизации. Благодаря появлению судов получили развитие прибрежные государства, стали возможными контакты и торговля с дальними соседями. Судоходство связывало народы, разделенные дикими горными массивами или бездорожьем равнин… При этом не следует забывать и о роли лошади.
Пер. Но лошади могли пройти только по открытой местности или по проложенным в лесах дорогам.
Тур. Вот именно! И все же лошадь оказала решающее влияние на развитие человечества, на развитие культуры внутренних районов, такое же влияние, как корабли на реках и морском побережье.
Пер. Говорят, в районе Печоры на севере России были найдены скелеты лошадей, пролежавшие в земле 35 тыс. лет. А ведь считается, что лошадь приручили около шести тысяч лет назад.
Тур. Лошадь внесла кардинальные изменения в жизнь народов, численность и могущество которых возрастали на огромных пространствах центральноазиатских и евразийских равнин. Все это происходило одновременно или по мере возникновения и расцвета великих торговых и морских культур в устьях рек на Ближнем Востоке. Открытые во всех направлениях горизонты побуждали свободных кочевников отправляться верхом на лошади на охоту или совершать внезапные нападения на неподготовленные оседлые общины. Именно верхом аланы и их ближайшие родственники перешли Волгу и появились на Кавказе в качестве завоевателей и победителей из обширных восточных степей. Именно верхом скифы и аланы отправлялись в далекие походы и наводили страх на оседлых крестьян и торговые общины центральных районов Европы с их слабой пехотой. Вот почему кочевники всё больше внимания уделяли коневодству.
Народы — всадники из открытых степей были одновременно и воинами, и носителями определенной культуры. Подобно тому, как викинги в более позднее время пользовались кораблями для внезапных нападений с моря или реки, эти народы из евразийских степей использовали для этого лошадь. В эпоху, когда преобладали войны и грабежи, эти всадники с Востока играли важную и вполне определенную роль в развитии мировой культуры. Викинги северных стран продолжили эту традицию в свое историческое время.
Пер. По-моему, предками кельтов была, возможно, группа индоевропейских племен, распространившаяся на запад до Ирландии, а на восток — до реки Тарим. Согласно ирландским сагам, однажды на заре веков произошло переселение народов в Ирландию из Скифии под руководством вождя, по имени Неймхед, или Неве. Самые старые образцы тканых одеял, найденные как в Китае, так и в австрийских могильниках, датируются 1200 г. до н. э. Согласно Элизабет Уайланд Баркер, ютландская находка — девушка из Эгтведского кургана, датируемая 1370 г. до н. э., была одета в костюм такого же покроя, как и найденные археологом Фольке Бергманом мумии в районе Луланд в пустыне Такла-Макан. Если мы внимательно изучим ирландское искусство с его преобладанием животного орнамента, как у скифов, то поймем, что в старинных ирландских сагах есть доля истины, хотя в хронологии у них явная путаница. А ведь ирландские повествования рассказывают также и о поздней волне скифской миграции, имевшей место в бронзовом веке, которая проходила, как считается, через Милет, Египет, Крит и Испанию. Исходным пунктом, судя по всему, была кельтская Галатия
[436] на территории современной Турции.
Тур. Действительно, ведь в то время не было четко определенных границ между странами, и люди не боялись дальних расстояний, перемещаясь из приграничных районов Европы и Азии куда хотели: на Востоке — на лошадях или пешком через пустыню; на Севере — на веслах по рекам, а на Западе — под парусом через океан. Сегодня у нас укоренилось совершенно неправильное представление о том, будто наши предки не хотели или не могли менять место проживания до тех пор, пока в XIX в. не изобрели паровую машину и локомотив.
Пер. Не стоит забывать, что колонизация американского Запада немногим более 100 лет назад проходила также на лошадях и повозках, как у алан и скифов, двигавшихся по степям Старого Света во времена Одина.
Тур. Большая часть пригодных для жизни районов мира была заселена еще в раннем каменном веке, поэтому надо принимать во внимание, что большинство кочевников рано или поздно попадали в уже обжитые районы. Конечно, они приносили с собой свои знания и идеи. И в этом у кочевников было преимущество: они многое узнавали и учились от других культур — как там, где жили, так и в тех местах, что попадались на их пути. Должно быть, жители Кавказа — огнепоклонники — удивлялись тому, что в других частях мира люди верят в богов в человеческом облике.
Ву-ди — бог и император из Китая
Пер. После недавней поездки в Новгород ты рассказывал, что с тобой был русский специалист по Китаю. Он упомянул, что в Китае был божественный император У-ди, или Ву-ди, и интересовался, нет ли тут связи с народом удин на Кавказе.
Тур. Да, это был китаист Борис Новиков из Санкт-Петербурга. Я не думаю, чтобы кто-то из нас всерьез задумался над вопросом, не связано ли имя императора с кавказскими удинами. Правда, Новиков написал для меня имя императора по-китайски, а я кое-что записал из того, что он мне рассказал.
Пер. Ну и что?
Тур. Этот У-ди, или Ву-ди, был императором династии Хань во II–I вв. до н. э.
[437] Иными словами, незадолго до того времени, когда предводитель асов Воден, он же Один, покинул район на Кавказе, где жил народ с таким же названием. С географической точки зрения между Китайской империей и Кавказом имелось связующее звено. Китайский историк Сыма Цянь
[438], которого часто называют «китайским Геродотом», составил краткое жизнеописание императора. Вначале он описывает восточную часть Великого шелкового пути. У императора, совершенно очевидно, были налажены связи с Западом через степные районы, где доминировали кочевые народы — всадники сарматы и аланы. Во время правления У-ди религия китайцев представляла собой одну из разновидностей конфуцианства
[439]. Императора на самом деле звали не Ву-ди. Пока он был жив, произносить его настоящее имя — Лю Чэ — запрещалось. «Ву» или «У» — это почетный титул выдающегося воина, а «ди» означает «правитель». Таким образом, Ву-ди, или У-ди, — это не собственное имя, как поясняет китаист Новиков. Так императора назвали уже после его смерти. Он был шестым правителем династии Хань. Некоторые другие императоры династии также получили почетный титул «У», но никто из них не назывался одновременно «У» и «ди». Одного, например, звали Хуан-ди («Золотой ди»). Родоначальника династии звали Лю Бан: он был из Восточного Китая, из области устья реки Хуанхэ («Желтой реки»)…
А почему тебя интересуют китайцы?
Пер. Это все из-за того, что мы только что узнали о наших дальних родственниках из Китая. Как тебе известно, во время раскопок в Азове прошлым летом появились и археологические материалы из Китая. Разве можно забыть о китайцах, когда мы знаем, что именно они проложили Великий шелковый путь? Мне стало любопытно, когда ты рассказал об У-ди, о том, что это было не имя, а почетный титул в Китае, и я захотел узнать, не писала ли о нем Сесилия Линдквист в своих исследованиях древних китайских рукописей. Там я прочитал о другом китайском императоре, по имени У-дин
[440]. Он жил примерно на тысячу лет раньше, т. е. в то же время, что и люди, ставшие мумиями в долине реки Тарим.
Тур. И что же ты узнал о нем?
Пер. Этот император принадлежал к династии Шан-Инь
[441]. Сто лет назад западные историки считали и эту династию, и ее императоров вымыслом, мифом. Однако результаты исследований на протяжении столетия показали, что Шан-Инь вовсе не миф. В китайской историографии считается, что династия Шан-Инь началась в 1800 г. до н. э., а современные исследования показывают, что, скорее всего, ее начало следует отнести примерно к 1523 г. до н. э. В 1027 г. до н. э. власть перешла к династии Чжоу
[442]. А кстати, знаешь ли ты, что означает «Шан» по-китайски?
Тур. Нет.
Пер. Это определение торговли. Характерной чертой династии Шан-Инь была именно высокоразвитая торговля. Купцы из Шанси, важнейшего района империи Шан-Инь, контролировали в свое время большую часть Великого шелкового пути. Даже сегодня слово «шан» означает и «торговец», и «житель Шанской империи». Хочешь верь, хочешь нет, но валютой у них были денежные раковины, а поводья лошадей знати украшались двойным рядом таких ракушек каури.
Тур. Таким образом, все проясняется. Независимо от того, откуда купцы династии Шан-Инь получили свои раковинные деньги, эти ракушки каури с Мальдивских островов в Индийском океане проложили вполне солидный генетический мост прямо из империи У-ди на Дальнем Востоке через светловолосые мумии из бассейна реки Тарим и Азов в устье Дона к северному побережью Норвегии. Все это свидетельствует о том, что люди начали торговать и свободно перемещаться уже в те времена, когда первые крупнейшие цивилизации древности только начали обретать форму.
Пер. Согласно Линдквист, умершим правителям династии Шан-Инь клали в могилу огромное количество денежных раковин каури. Часто несколько ракушек вкладывали в руки или в рот.
Тур. Таким образом, у нас есть доказательства того, что Китай уже в 1800 г. до н. э. был активным участником мировой торговли с такими великими цивилизациями, как Индия, Ближний Восток и Африка.
Пер. Сесилия Линдквист рассказывает, что харизматический правитель-шаман У-дин жил в XIII в. до н. э., т. е. как раз в то время, когда жили люди, ставшие древними мумиями пустыни Такла-Макан, которая была в то время зеленой, плодородной речной долиной. Там останавливались для передышки караваны Великого шелкового пути, чтобы затем продолжить свой путь на Запад. Именно этот район Виктор Мэйр называет «бесценным недостающим звеном между Западом и Востоком». Сенсационные находки в западных приграничных районах Китая свидетельствуют о том, что именно там, по словам Мэйра, шло «формирование культур Древнего мира». Именно на этой основе интересно сравнить скандинавский культ Одина и китайский культ У-дина.
Тур. Похожие имена — это, возможно, случайное совпадение. Помнишь, маленькая азербайджанская девочка сказала мне, что Од-дин на ее языке означает или «священный огонь», или «поклонение огню»?.. Однако, если раковинные деньги были ходовой валютой и во время правления династии Шан-Инь в Китае, значит, люди в те времена могли свободно перемещаться по миру, особенно первопроходцы-всадники,
которые, подражая друг другу, украшали поводья своих лошадей одинаковыми видами ракушек.
Однако самое удивительное, что и Один, и его современник У-ди, и их предшественник У-дин всю свою жизнь прожили под псевдонимами, поскольку их настоящие имена считались священными и их нельзя было произносить. Это весьма примечательная культурная параллель!
Пер. А ведь есть еще несколько! Наш древнейший источник по культу Одина в Северной Европе — Тацит. Он написал свою книгу о германцах в 98 г., когда почитатели Одина и его потомки обосновались в Скандинавии и прожили там всего лишь около сотни лет. В то время Один имел достаточно прочные позиции в мире богов, так что Тацит сравнивает его с римским богом Меркурием — покровителем торговли. В честь Меркурия назван день недели — среда (по-французски — mercredi; по-испански — miercoles; в скандинавских языках он именовался «Днем Одина» — onsdag; у англосаксов этот день называется «Днем Водена» — Wednesday).
Известно, что культ Одина предполагал человеческие жертвоприношения. То же самое предусматривал и культ китайского У-дина. Есть письменные сведения о том, что сотни военнопленных приносились в жертву во время различных церемоний в Китае. В империи Шан-Инь император был представителем небесных сил на Земле и считался Сыном Неба. Он имел полную власть над всеми, в том числе над всем, что касалось торговли и налогообложения, и человеческие жертвы приносились в его честь.
Другая примечательная параллель — девы-воительницы, которые играли значительную роль в Китае времен У-дина. Это заставляет вспомнить амазонок из Азовского региона и валькирий из скандинавских легенд, например, из рассказа датского хрониста Саксона Грамматика о битве при Бровалле. В этой битве приняли участие две женщины — Хед и Висна — в качестве военачальниц на стороне Харальда Боезуба. Нам довелось узнать, что и жена У-дина, Фу-хао, была знаменитой военачальницей. Некоторые из других его жен были губернаторами разных провинций и следили за поступлениями налогов в казну. Фу-хао была похоронена 3200 лет назад во всем снаряжении, которое могло понадобиться ей в будущей жизни. В ее могиле обнаружены боевые топоры и другое оружие, а также ее слуги, жертвенные сосуды, жертвенные быки, украшения, изделия из слоновой кости и множество других вещей. Ее могилу нашли в 1976 г., всего в нескольких шагах от «храма предков» в Аньяне — древней столице империи Шан на реке Хуанхэ. Это самая богатая и лучше всего сохранившаяся могила из всех найденных доныне. И единственная, принадлежавшая определенному историческому лицу! В 1984 г. нашли еще одну могилу. Она была гораздо больше, чем могила Фу-хао, и находилась в 14 м вниз по холму. Археологи предполагают, что это могила самого У-дина, но из-за подземных ручьев и недостатка средств для дренажа раскопки отложили на неопределенное время.
В могиле Жены У-дина и воительницы Фу-хао среди военного снаряжения были также бронзовые жертвенные сосуды — нечто особенное для китайской культуры того времени. Я знаю, тебя в свое время интересовали так называемые церемониальные «бронзовые барабаны» той эпохи из-за особого их орнамента.
Тур. Да, потому что на некоторых из них были изображены невероятно огромные тростниковые суда. Они были так похожи на египетские реалистичные рисунки тростниковых судов, что не оставалось ни капли сомнений в существовании тесных контактов между этими регионами еще в те времена.
Пер. Жертвенные сосуды — хороший пример того, что Виктор Мэйр называет «переплетением культурных элементов» Древнего Китая и других регионов в то время. Такие сосуды характерны также для кельтов, тесно связанных в культурном отношении со скифами. Именно скифы из всех остальных представителей западного мира первыми наладили контакты с караванами из Шанской империи и видели, как тамошние купцы совершали жертвенные возлияния духам предков из бронзовых сосудов. Похожий жертвенный сосуд, только из серебра, нашли в 1891 г. в болоте недалеко от Гуннеструпа в Северной Ютландии. Считается, что это работа кельтов I в. до н. э., т. е. времен Одина. На дне этой чаши изображен бык со всеми атрибутами солнечного бога Митры. Культ Митры был широко распространен на Кавказе, и даже в Азовском регионе, где Митридат — союзник асов — выступал земным представителем этого божества.
Тур. Чтобы понять, насколько смешна мысль об отсутствии контактов между китайским императором У-ди и степными народами, обитавшими к западу от Китая, вплоть до Кавказа, достаточно взглянуть на Великую китайскую стену, построенную за сотни лет до его времени. Она простирается от побережья Тихого океана до пустыни Гоби, не прерываясь на протяжении 4 тыс. км, имеет от шести до восьми метров в высоту на всем своем протяжении, а во многих местах настолько широка, что по ней могли проехать в ряд четыре лошади. Эта стена, построенная до эпохи У-ди, была намного длиннее, чем все расстояние от Азова до Скандинавии!
Если только представить себе, какое это было колоссальное строительство и как должна была быть налажена связь вдоль всего сооружения, невольно начнешь еще больше уважать людей, живших за несколько тысячелетий до нас, и удивляться их способности к передвижению…
Появились ли руны в Скандинавии вместе с Одином?
Пер. Я думаю, что контакты между Европой и Востоком, а также вверх и вниз по русским рекам между юго-восточной и северо-западной частями Европы намного древнее и теснее, чем мы привыкли считать, пользуясь письменными источниками.
Согласно «Старшей Эдде», именно Один принес на Север письменность в форме рун с Кавказа. На кораблях из Черного моря мореплаватели попадали по Днепру и Дону в такие места в России, откуда уже можно было добраться до Балтийского моря и северных стран. Однако это был не единственный путь. Туда же можно было приплыть и по Волге, практически до окрестностей Новгорода — старинного русского торгового центра. Не следует отвергать вероятности того, что для асов Волга была таким же важным торговым путем на Север от Великого шелкового пути и портов Каспийского моря, как и Дон из Азова и Черного моря. Как уже говорилось, Птолемей поместил племя «асиев» в район, позже известный как Волжская Булгария — знаменитый центр торговли. Азербайджан находится на побережье Каспийского моря и имеет прямой торговый путь вверх по Волге, а из Булгарии было не так далеко и до Новгорода, или Хольмгарда, как его называли викинги, ставшего позднее столицей всей Гардарики. Вот отсюда Один и его спутники, должно быть, и попали в страну саксов, или Северную Германию, преодолев этот последний отрезок пути на русской территории. Об этом как раз и писал Снорри.
Тур. Альтернативный путь — на запад через Черное море и вверх по Днепру через будущую столицу Руси — Киев. Таким путем Один также мог попасть к тем местам, откуда можно было пересечь Балтийское море.
Пер. Ну, хватит об этом. Я, так же как и ты, считаю, что Один, придя на Север, встретил там не такой уж совсем не знакомый ему народ. Путь, которым он следовал, был известен уже давно, и Один знал, что держит путь в Скандинавию и как ему туда добраться из своего царства на Кавказе. Примечательно, что никому не приходило в голову, что люди, жившие в низовьях этих широких и спокойно текущих рек, могли использовать их в качестве универсальных транспортных путей еще за тысячу лет до эпохи викингов, а может, и раньше.
Тур. По-моему, мы опять сталкиваемся с известной в наше время проблемой узкой специализации. Я знаю, что норвежские историки предпочитают держаться в рамках своей страны. Один из них недавно заявил в прессе, что искать предков скандинавов — довольно наивная идея, так как все исследователи пришли к единому мнению по этому вопросу еще в 1880-е гг.
Пер. А по-моему, наивно полагать, будто искать что-то сегодня бесполезно, потому что сто лет назад люди решили, что это бесполезно.
Тур. Позволь добавить, что не все скандинавские историки спрятались за национальными барьерами. Среди них есть и те, кто более широко мыслит, хотя и ограничивает собственные исследования географическими рамками своей страны. Но, по-моему, ученые с Кавказа больше заинтересованы в изучении древних контактов со Скандинавией, чем их скандинавские коллеги.
Недавно я получил письмо от доктора Фарида Алакбарова, историка Института рукописей Азербайджанской академии наук. Он нашел основания для сравнения древних тюркских рун с древнескандинавскими. Он считает, что викинги пришли вниз по русским рекам на его родину в конце 1-го тыс. н. э. и что народности русь, росс и русские в то время были так перемешаны, в том числе и со скандинавами, что, скорее всего, изначально это был один и тот же народ. Так, по крайней мере, считает доктор Алакбаров. Вот что он пишет: «Восточные средневековые источники рассказывают, что в IX–XII вв. Каспийское море неоднократно посещал народ, который называли росами (или россами, руссами). Раньше считалось, что россы — это русские. Эта ошибка закралась даже в „Историю Азербайджана“ (1958 г.), однако я убежден, что это неверно. Росы были скандинавским племенем, родственным норманнам. Название этого племени отражено в географических названиях Северной Европы — Росток, Роскильде и т. д. В 862 г. н. э. викинги (норманны и росы) пришли под руководством Рюрика на территорию современной России и основали там скандинавскую династию Рюриковичей. Последним русским царем из рода Рюриковичей был сын Ивана IV — Федор Иванович (1557–1598). Согласно Мурату Ажи (1999 г.), название „Русь“ произошло от этих росов. Первые русские князья Игорь (Ингвар), Олег (Хельге) и т. д. были скандинавского происхождения. Затем росы стали проникать к Каспийскому морю и в Азербайджан, включая территорию современного Баку.
Арабский автор Абд аль-Касим (IX в.) рассказывает, что корабли (большие ладьи) с росами регулярно приплывали к берегам Каспийского моря по рекам Дон и Волга: викинги перетаскивали свои суда по суше из Дона в Волгу и оттуда плыли в Каспийское море. Затем они заходили в реку Куру и по ней попадали в самое сердце Азербайджана. Так они посетили, например, город Барда, бывший в то время крупным торговым центром. В 880 и 909–910 гг. н. э. скандинавы попытались завоевать некоторые районы в Азербайджане, в том числе остров Сара около Баку. Ибн Мискавайх
[443], историк тех времен, писал: „Русы — могучий народ, отличающийся своим крепким сложением и великим мужеством. Они не знают, что такое бегство, никто из них не бежит и не поворачивается к врагу спиной. Они привыкли сражаться до тех пор, пока не убьют врага или не будут убиты сами. Я слышал удивительные рассказы об их мужестве…“ Ибн Мискавайх пишет „русы“ вместо „росы“, потому что в арабском алфавите нет буквы „о“…»
Пер. Да, мы знаем, что они писали «Удин» вместо «Один». Фарид Алакбаров называет также Рюрика Рериком… Продолжай читать его письмо.
Тур. Читаю дальше: «В 913–914 гг. н. э. в Каспийское море с Волги пришли около 50 кораблей, каждый с командой по 100 человек. Несколько месяцев росы господствовали на Каспийском море. Арабский средневековый историк Масуди
[444] писал: „Кроме них, никто не плавает по Каспийскому морю“. Однако, когда росы вернулись со своей добычей обратно на Волгу, они подверглись нападению и были перебиты хазарами.
Во всех русских энциклопедиях написано, что „русь“ — это название русских и это название используют византийские и арабские авторы. Если это так, то получается, что корабли росов, наводившие страх на все прибрежные города Средиземного моря и Ближнего Востока (в том числе Багдад) в X в. н. э., были русскими! Это абсурдное утверждение, если принять во внимание, что у этих „русских“ были такие скандинавские имена, как Ингвар, Рерик, Хельге и т. д. Хотя русские и отличались храбростью, но у них не было такого количества кораблей, и они не были мореходами, тем более морскими воителями. В то время в Европе могли совершать такие далекие морские походы только викинги. Эти викинги, однако, пришли с территории нынешней России.
В 944 г. флот росов вновь вернулся в Каспийское море и захватил азербайджанский город Барда. В XII в. Хагани Ширвани
[445], прославленный азербайджанский поэт того времени, описал сражение росов с ширваншахом Ахситаном
[446] под Баку. Существует множество и других фактов пребывания скандинавов в Азербайджане, но я не могу перечислить их всех в одном письме…»
Пер. Летопись Нестора («Повесть временных лет» —
Прим. пер.) свидетельствует о том, что варяги и киевские славяне называли себя «русью». В 907 г. князь Олег послал свой флот из Киева в Черное море, где принудил византийского императора Льва VI подписать мирный договор. Под ним поставили свои подписи Олег, Игорь и Рюрик, а это были скандинавские имена.
Тур. Все это совпадает с теорией Прицака о том, что русы и скандинавы тесно переплетались еще до появления первых летописей. Владимир Тимофеев, директор Института истории культуры Российской академии наук в Санкт-Петербурге, считает весьма вероятным существование еще в эпоху неолита так называемого «околобалтийского» культурного пространства, включавшего и Норвегию.
Руны на Кавказе
Пер. Я думаю, этого достаточно, чтобы получить представление о контактах, происходивших между народами более тысячи лет назад вверх и вниз по течению Дона и Волги. А что писал Алакбаров о найденных им рунах? Я и понятия не имел о том, что и на Кавказе, оказывается, тоже были руны! Ведь в Скандинавии руны всегда считали исключительно скандинавским видом письма. Вот что писал Фарид Алакбаров: «Ни одно письмо так не похоже на скандинавские руны, как древнетюркское. Интересно, что и скандинавские, и древнетюркские руны получили распространение почти одновременно — в I в. н. э. Большинство тюркских рунических надписей датируются III–VIII вв. н. э.»
Значит, это руническое письмо использовалось на Кавказе еще до викингов. И, следовательно, вовсе не викинги принесли руны на Кавказ. Версия о том, что именно предводитель асов Один принес с собой с Кавказа в Скандинавию руническое письмо, становится вполне приемлемой. Из древнескандинавских мифов нам известно, что Один знал руны. Он решил принести себя в жертву, повесившись на дереве, а когда увидел на земле руны, то рухнул с дерева и так спас себя самого от самоубийства. Об этом мы знаем из одной из древних песен «Речи Высокого», сохранившейся в Codex Regius
[447], т. е. из «Старшей Эдды» («Эдда» Снорри считается «Младшей»).
Тур. Это, наверное, самая мистическая и наиболее обсуждаемая песнь в древнескандинавской мифологии — попытка самопожертвования Одина, когда он решил принести себя как человека в жертву себе самому как богу. Вот эта песня.
Знаю, висел я
В ветвях на ветру
Девять долгих ночей,
Пронзенный копьем,
Посвященный Одину,
В жертву себе же
На дереве том,
Чьи корни сокрыты
В недрах неведомых.
Руны найдешь
И постигнешь знаки,
Сильнейшие знаки,
Крепчайшие знаки.
А создали боги,
Тур. Мне кажется, в этих словах, которые автор «Речей Высокого» вложил в уста Одина, есть что-то захватывающее. Одину удалось убедить всех, кроме себя самого, что он пришел из мира богов и должен вернуться обратно, чтобы встретить всех погибших на поле боя, но если это — неправда, то ему волей-неволей пришлось задуматься о жизни и смерти. Каков будет его собственный конец и кто настоящий бог, что ждет его? В страхе думая о том, что существует некий невидимый бог, гораздо более могущественный, чем он сам, Один счел наилучшим смириться в этой жизни и принести себя в жертву этому всемогущему богу. Один пронзил себя копьем и попробовал повеситься на дереве, но руны навели его на другие мысли, и он рухнул с дерева. Тем не менее он всё же пронзил себя копьем, когда лежал на смертном одре в Сигтуне… Можно найти множество толкований этой удивительной песни.
Пер. А ты пробовал?
Тур. Пытался. В любом случае, одно очевидно: именно руны вернули его к жизни. Я думаю, раскачиваемое холодным ветром дерево — символ его собственного родового древа. Руны, как известно, наделялись определенной магической силой. Один сам был поэтом и заклинателем. Возможно, он вспомнил рунические письмена со сведениями о своем королевском происхождении, вплоть до божественных предков, как повествуют сохранившиеся до наших дней саги. Он получил свидетельство, что в его жилах течет божественная кровь и что он не вполне обычный человек. Оригинальный исландский текст трех последних строк, которые я передал в норвежском переводе, заставляет задуматься. Магические руны немы, но могут говорить; руны — дар людям; окрашенные кровью верховного божества, они используются могущественнейшими на Земле и вырезаны, как молчаливый призыв из мира богов.
Насколько я знаю, бога, по имени Хрофт, не было
[450]. Я подозреваю, что это форма совершенного вида от глагола «взывать». Но, как бы мы ни толковали этот древний текст, ясно, что Один мог читать руны.
Пер. По Снорри, первая резиденция Одина в Скандинавии находилась в Оденсе на острове Фюн. «Оденсе» означает «святилище Одина». Именно там были найдены древнейшие рунические письмена, датируемые серединой II в. н. э. Эти руны, вырезанные на роговом гребне, сохранились в торфяном болоте. Возможно, были и более древние письмена, но они не сохранились, так как были, вероятно, вырезаны на менее долговечном материале. Многие находки в болотах показывают, что рунические письмена были распространены в Скандинавии уже во II в. н. э. Среди сенсационных находок датчан в могильнике Иллеруп на полуострове Ютландия, где наиболее древние вещи датируются 200 г. н. э., есть и рунические клейма кузнецов-оружейников с норвежской территории.
Норвежско-шведское вторжение в Ютландию
Тур. Находки в результате раскопок в болоте Иллеруп в Одале — наверное, самые интересные из всех, когда-либо обнаруженных в Скандинавии.
Пер. Я только что получил книгу об этих находках «Иллеруп в Одале — волшебное зеркало археологии»
[451], она издана в 2000 г. Ее автор — Йорген Илькьэр, главный археолог этого датского проекта. В ней рассказывается о находке, сделанной еще в 1950 г., когда кто-то начал копать на своем поле дренажную канаву и наткнулся на клад старинного оружия. Археологи провели там ряд пробных раскопок до 1956 г., и район был объявлен заповедным. Однако лишь в 1975 г. начались раскопки более крупного масштаба, которые продолжались до 1985 г. Они завершились, хотя не было раскопано и половины. Огромное количество найденного оружия — не что иное, как жертвенный дар богам в честь победы над войском завоевателей, пришедших из Норвегии и Готландии около 200 г. Людей в жертву не приносили, только лошадей и оружие. Так, было найдено 150 римских мечей — самая большая коллекция когда-либо найденных длинных римских мечей. Примечательно, что клинки — римского производства, в то время как рукояти и их украшения сделаны в Скандинавии. Особую ценность представляет меч, эфес которого инкрустирован слоновой костью, привезенной, как полагают археологи, из Индии и обработанной римлянами. Рукоять же выполнена в северном стиле и украшена серебром и золотом. Илькьэр пишет о масштабе и значении этих находок. Вот что он пишет: «Мозаика из 15 тыс. частей, кажется, близка к тому, что ее наконец сложат, и мы обретем основательные знания не только о самих находках, но и об их месте в истории Дании и Европы. Недостаточно изучить только находки из Иллерупа, так как они, несомненно, являются частью более широкого контекста. Необходимо сравнить их с находками такого же возраста на территориях от Черного моря до Северной Норвегии и от Северной Африки до Шотландии. Изучается не один континент, и похоже, что события в Скандинавском регионе являются частью исторических процессов в Европе. Скандинавия в то время не была изолирована от остального мира. Находки подтверждают наличие частых и регулярных контактов как с Римской империей, так и между регионами и народами Северной Европы».
Тур. Это очень важные слова, которые каждому, кто хочет взглянуть правде в глаза, следует прочесть дважды.
Пер. В газете «Berlingske Tidende» от 18 января 2001 г. опубликовано интервью с Йоргеном Илькьэром. В частности, ему был задан вопрос, почему мы постоянно недооцениваем знания и возможности прошлых эпох. Вот что он ответил: «Скорее всего, это происходит потому, что мы, археологи, погружаемся в какой-то определенный период времени и поэтому готовы рассматривать этот период как начало всего. Однако, даже если мы не знаем, что именно происходило до этого периода, нам не следует забывать, что культура вообще имеет давние традиции, и культура этого периода тоже. Находки из Иллерупа показывают, что в Скандинавии было хорошо развито кузнечное ремесло, и это неудивительно, если принять во внимание то обстоятельство, что кузнецы совершенствовались в своем мастерстве на протяжении 500 лет.
Мы также склонны недооценивать тесные связи с внешним миром той эпохи. Скандинавия вовсе не была изолированным регионом, а имела регулярные контакты с Римской империей. Каждое лето торговые суда отправлялись по определенным маршрутам из южных портов в Норвегию и затем в Польшу, Восточную Швецию и Балтийские страны. Эти связи были гораздо более оживленными, чем можно себе представить. Некоторые скандинавы научились грамоте, а также технологиям, которыми пользовались римляне…
Можно проследить также, как быстро появлялись новые виды оружия. Армия, напавшая на Ютландию около 200 г., была вооружена самыми современными тогда видами оружия, лишь немногим из них было 20–30 лет. В то время мечи были гораздо длиннее: ими можно было и колоть, и рубить. Почти все мечи из нашего клада — именно такого современного типа.
По тому, как развивались формы наконечников пик и копий, также можно довольно точно определить возраст находок. В начале III в. они плоские и широкие, в IV в. они становятся уже, а еще через 50 лет они почти квадратные в сечении.
Таким же образом менялись и щиты. До III в. они были длинными и узкими, потому что не удавалось надежно скрепить несколько досок. Однако затем появилась технология, позволившая изготовлять круглые щиты, которые защищали гораздо лучше.
Оказывается, оружие не передавали из поколения в поколение. Оно совершенствовалось так быстро, что каждое поколение имело свой тип оружия. Это было совершенно необходимо, так как не было смысла использовать устаревшие виды. Тот факт, что каждый тип оружия существовал довольно непродолжительное время, доказывает, насколько тесными были контакты между Римской империей и Северной Европой, а также связи между разными регионами Скандинавии. Почти все мечи армии завоевателей 200 г. были римского производства и на тот момент самыми современными.
Обычно археологию считают чем-то безликим, но в находках из Иллерупа мы обнаружили выгравированные имена. У многих находок разных периодов — своя история. Так, в первые века нашей эры известна волна набегов с юга. Очевидно, это были отголоски войн между римлянами и германцами. Битвы на юге дошли и до Севера».
Имена, которые были выгравированы на найденных Илькьэром предметах, написаны рунами. Самое интересное, что эти руны на большинстве находок из Иллерупа писались справа налево, точно так же, как и на Кавказе.
Тур. Кроме того, любопытно, что тюркское руническое письмо по времени совпадает со скандинавским, как писал Фарид Алакбаров. Однако, несмотря на определенное сходство, есть значительная разница между скандинавскими рунами и рунами, присланными Алакбаровым.
Пер. Совершенно верно, но существует также и значительная разница между древнескандинавскими рунами III и IX вв. Специалист по этому виду письменности Ларс Магнар Эноксен в своей книге «Руны»
[452] рассматривает различные типы скандинавских рун и их изменение на протяжении 500 лет: «Слишком многие, кто писал о рунах, в том числе и об их магии, не имели элементарных знаний об их применении, истории и развитии. До сих пор мы не знаем, где и когда появились руны. Они стали известны в археологических находках II–III вв. н. э. Более поздние руны относятся к III–IX вв. и были распространены довольно широко среди германоязычных народов. Однако до V в. н. э. руны встречаются практически исключительно в Скандинавии, что, возможно, свидетельствует о том, что именно здесь они и появились. Таким образом, „древнескандинавские руны“ — подходящее название для этого алфавита из 24 знаков, хотя в рунологии также используются термины „древнегерманские руны“, или „общегерманские руны“. В промежуточный период VII–VIII вв. скандинавские руны претерпевают значительные изменения: появляется форма рун, характерная для эпохи викингов, когда алфавит сокращается с 24 до 16 знаков. Это сокращение происходило исключительно на скандинавской языковой территории. В Англии и Фрисландии (Нидерланды) количество знаков рунического алфавита в VII–VIII вв. возросло с 24 до 28 знаков, а в IX в. — до 31 знака».
Известно, что в руническом письме появились различные географические ответвления. Например, турецкий рунолог Тургай Кюрюн обращает внимание на древнетюркские надписи в горах Алтая в Северной Монголии — на так называемые Орхонские памятники
[453], надписи которых сделаны, по его мнению, рунами того же происхождения, что и скандинавские. В этой связи вновь возникает актуальность нашей темы о «северонорвежской» лошади, поскольку, как известно, эта порода происходит с Алтая и из Монголии. У Иоргена Илькьэра тоже есть кое-что интересное о находках костей животных из захоронения в Иллерупе. Вот его информация: «Во время раскопок в темной болотной почве нередко находили кости, которые принадлежали не людям, а лошадям — большие берцовые кости и особенно черепа. Лошади, судя по всему, походили на норвежских фьордингов. Самые крупные имели высоту в холке до 140 см. Их закололи и зарубили мечами и топорами на мелководье. Фрагменты костей свидетельствуют о ритуальном жертвоприношении. По форме обрубков и другим следам видно, что лошадей приносили в жертву вместе с оружием и другим снаряжением. Не случайно, что лошадей приносили в жертву вместе с оружием, поскольку кавалерия играла важную роль еще в римскую эпоху. Лошади были у высших военных предводителей, и, возможно, всё это говорит о возникновении рыцарства уже в III в. н. э.».
Тур. Все это случилось уже после того, как Один прибыл в Скандинавию и принес руническое письмо, и именно в том регионе, где его впоследствии почитали как бога. По мнению Илькьэра, многие находки разного времени в болотах Дании свидетельствуют о том, что в Скандинавии в начале нашей эры было очень неспокойно и шли войны. Не тогда ли поднялись и готы
[454] и взяли курс на Азовское море, откуда впоследствии и пришел Один? Не имеют ли миграции готов какое-то к этому отношение? В Норвегии в школе нам, к сожалению, слишком мало рассказывали о том, кто такие готы и откуда они появились…
Азовский поход готов
Пер. Мы проходили в школе в Швеции, что вестготы пришли из Западной Готландии, а остготы — из Восточной. Позже я узнал, что на самом деле все гораздо сложнее. Остготы назывались «остроготами» в честь их первого правителя, по имени Острогот, что, очевидно, означало «восход солнца». А вестготы назывались «веси» или «визиготами», что означало «благородные».
Тур. Имели ли готы отношение к битве под Иллерупом?
Пер. Может быть. Самое удивительное, что об этой битве нет никаких сведений в литературе, только археологические данные. По времени эта битва совпадает с так называемым исходом герулов
[455] из Скандинавии. Герулы были одним из племен готов. Они взяли курс из Скандинавии прямо в Приазовье и обосновались по обе стороны этой мелководной бухты, а также в устье Дона и на Крымском полуострове у южной оконечности Азовского моря. Там находился город Пантикапей
[456] — главная резиденция царя Митридата. Оттуда они могли, как это раньше делал Митридат, контролировать транспортные потоки между Азовским и Черным морями в обоих направлениях. Сегодня в этом месте находится Керчь. А пролив, который раньше назывался Боспором, теперь называется Керченским
[457].
Тур. Почему говорят именно о герулах, если они были одним из племен готов?
Пер. Считается, что это слово означает «отважные», или «герои». Есть все основания полагать, что оно происходит от греческого слова «герой», поскольку этот район в устье Дона, где они обосновались, подчинялся грекам из Танаиса.
Тур. Если они были готским племенем, то это означает, что готы уже были в Скандинавии, когда туда пришел Один, или название этой огромной народности появилось именно тогда. Но почему их назвали готами или, по-древненорвежски, гаутами?
Пер. Осмелюсь утверждать, что гауты были просто-напросто последователями культа Одина, или Гаута. Общая вера связала различные племена в своего рода этническую общность. В качестве исторической параллели можно привести быстрое распространение учения Мухаммеда 600 лет спустя.
Тур. На чем основывается твое утверждение?
Пер. Давай начнем с того момента, когда Один покинул родной дом. Когда римляне в 65 г. до н. э. победили царя Митридата и его союзников в земле ванов и продвинулись дальше в землю асов, они оказались в той части Древнего мира, в которой уже на протяжении трех тысяч лет существовали великие культуры Ближнего Востока. Так, например, хетты
[458] оставили свои надписи в районе озера Ван. Мы все согласны с тем, что культурный уровень пришельцев с Азовского моря, должно быть, произвел сильное впечатление на людей, с которыми они встретились тогда в Скандинавии. Какова же была ситуация в этой самой северной части мира в начале нашей эры? И кем был конунг Гюльви и все остальные, встретившие Одина и его свиту? Были ли они изначально готами или стали ими?
Самый древний источник, упоминающий готов по имени, — это «География» Страбона
[459], жившего примерно в то же время, когда родился Христос. Тацит
[460], написавший свою книгу «Германия» в 97–98 гг. н. э., утверждает, что готы отличались от других германских племен тем, что имели королей. Когда русские исследователи обнаружили, что на арабских монетах написано рунами «Гаут», или «Гут», я вдруг понял, что «Один, древний Гаут» основал новую религию. И я думаю, что поэтому его последователи и стали именовать себя готами, так же, как последователи Христа именовались христианами, а последователи Мухаммеда — магометанами или мусульманами.
На самом деле мы очень мало знаем о древней истории готов, за исключением того, что, по преданию, они переселились с острова Скандза, который историки отождествляют со Скандинавией. Как я уже говорил, первым упоминает готов греко-римский географ Страбон, живший во времена внука Одина — Фроди. Через 100 лет Тацит поместил их на побережье Балтийского моря. Это полностью совпадает с теми пятью поколениями, которые понадобились для того, чтобы обосноваться им там, как об этом написал Кассиодор в своей книге «История готов»
[461]. Он указывает также на то, что Гаут был родоначальником племени готов.
Тур. А кто такой Кассиодор?
Пер. Кассиодор был римским сенатором, был связан с королевским двором в Равенне в Италии. В начале VI в. он написал по заказу могущественного короля остготов (или остроготов) Теодориха Великого
[462] 12-томный труд по истории готов. Работа Кассиодора основывалась, судя по всему, на еще более древнем труде вестгота Аблабиуса, но ни тот, ни другой источники не сохранились до наших дней. Благодаря Иордану
[463], составившему в 551 г. в Константинополе его сокращенную версию, основные положения труда Кассиодора все же дошли до потомков. Иордан закончил свою книгу маленьким эпилогом, где среди прочего написал следующее: «Тот, кто читает сейчас эти строки, знает, что я следовал писаниям моих предшественников и лишь выбрал несколько цветов с их бескрайних лугов, чтобы сплести из них венок для тех, кому эти вещи интересны. Пусть никто не думает, что я — в угоду той расе, о которой веду речь и к которой относится и мой род, — добавил что-то, выходящее за рамки прочитанного или узнанного посредством собственных изысканий. Я ведь включил сюда далеко не все из того, что уже написано или известно из устных преданий о них…»
Иордан начинает свою книгу описанием того, как король Бериг покинул на своих кораблях остров Скандза. Согласно Иордану, когда они затем сошли на берег, то дали новой местности название Готискандза, и эта местность и по сей день так называется. Затем он описывает, как они постепенно завоевывали прилежащие территории.
Тур. Об этом Иордан писал еще в 551 г., рассказывая о своих собственных предках — готах, т. е. он был гораздо ближе к временам Одина, чем Снорри в своих королевских сагах в XIII в.
Пер. Вот-вот! Теперь я не сомневаюсь в подлинности сведений Иордана. Он продолжает свой рассказ о том, как король готов Филимер в 150-е гг. вел свой народ через русские земли, пока не пришел в страну Оиум — «плодородные луга» на Днепре, туда, где Птолемей поместил Азагариум
[464], а Геродот — народ будинов. В Азагариуме готы, по Кассиодору, столкнулись с народом спалов. Предоставим объяснить, кто это такие, известному историку Хервигу Вольфраму. Вот цитата из его книги «История готов»
[465]: «В царстве скифов готы встретились с ирано-сарматскими народами. В качестве примера военного столкновения в „Происхождении готов“ упоминается битва с народом спалов. По-славянски их название обозначает нечто вроде „сильные люди“, „гиганты“. Такие чужеродные названия обычно давали „чужим“, поэтому вряд ли народ спалов относился к славянам…»
Тур. Должно быть, это тот самый «богатырский народ», упомянутый ранее профессором Рыбаковым, когда мы говорили о норманистах и антинорманистах. По его мнению, именно они основали Древнерусское государство. Ирано — сарматские народы, о которых говорит Вольфрам, — очевидно, аланы (асы), и тогда становится вполне понятным название Азагариум на карте Птолемея.
Пер. Вот именно, с той лишь разницей, что Рыбаков говорил о том, где это место находилось в VI в. н. э. Я попробую проследить ход развития готского королевства за период с 200 по 500 гг. н. э. В середине III в. герулы сыграли выдающуюся роль в борьбе с римлянами и господствовали в районе Черного моря, как викинги на Севере. Согласно родословной, составленной Кассиодором по заданию Теодориха, король принадлежал к седьмому колену потомков короля Острогота, основавшего и закрепившего остготское королевство на северном побережье Черного моря, вплоть до Дона и Азовского моря. А король Острогот — прародитель остготов принадлежал к пятому колену потомка Гаута — Хумбле, который в свою очередь был отцом прародителя данов — Дана Великого. Его сестра была отдана замуж за представителя рода Инглингов.
Тур. Таким образом, королевский род остроготов уже с 300 г. находился в родстве со всеми северными королевскими родами.
Пер. Вот именно, и это многое объясняет.
Тур. А что же случилось с герулами?
Пер. В IV в. н. э. они вновь появляются как наемные воины разваливающейся Римской империи. Позднее, в V в. их королевство стало одной из великих держав в Центральной Европе. Около 510 г. они потерпели поражение от лангобардов, которые, впрочем, также считали Одина своим прародителем.
Тур. Да, Одина нам не обойти.
Пер. Сочинения византийского историка Прокопия
[466], жившего в первой половине VI в. н. э., — важнейший источник по истории более поздних событий. Он рассказывает, что после поражения от лангобардов многие из выживших герулов отправились «на край обитаемого света», где они поселились в стране, именовавшейся в то время Туле
[467] и которую мы можем идентифицировать как Скандинавию. Таким образом, они отправились домой, т. е. туда, откуда они изначально пришли 300 лет назад.
Однако не все герулы отправились на Север. Одна группа, наверное, самая крупная, осталась в Иллирии
[468], в районе современного Белграда, где герулы основали своего рода королевство в союзе с Восточной Римской империей. Около 545 г., спустя одно поколение после того, как их соплеменники возвратились на Север, оставшимся в Иллирии герулам не повезло, так как они во время одного из застолий случайно убили собственного короля. Можно говорить об этих темпераментных людях все, что угодно, но они тщательно следили за порядком наследования трона. Кто попало, королем стать не мог. Когда они поняли, что достойных кандидатов среди их племени нет, они не придумали ничего лучшего, как отправить посольство в Туле, где обосновались многие представители королевского рода.
Об этой экспедиции, имевшей целью привезти короля, чтобы он правил герулами на Балканах, Прокопий рассказывает очень подробно. Когда посланники прибыли в Туле, они нашли множество кандидатов королевской крови. Они выбрали подходящего претендента и отправились домой с чувством исполненного долга. Однако не успели они добраться до Дании, как предполагаемый правитель заболел и умер. Пришлось им возвратиться, чтобы выбрать нового. В этот раз они выбрали некоего Датия, с ним дело обстояло лучше Послы смогли доставить на Балканы в целости и сохранности его самого, его брата Аорда в качестве запасного варианта, а также ни много ни мало 200 молодых герулов в придачу.
Конечно, на проведение этой экспедиции понадобилось время. Пока посланцы отсутствовали, император Восточной Римской империи Юстиниан решил поддержать часть герулов, добровольно принявших христианство, и сам назначил им короля, по имени Сваруаз, одного из герулов-христиан, служившего в византийской армии. Новый король уже вступил в должность, когда в один прекрасный день вернулась домой скандинавская экспедиция.
После консультаций и долгих оживленных споров оказалось, что герулам больше нравится Датий из Туле, и поэтому королю, назначенному римлянами, пришлось бежать в Константинополь. Беспорядки привели к разрыву между герулами и римлянами, после чего герулы объединились с визиготами
[469] и, в конце концов, подверглись ассимиляции.
Тур. Из истории о выборе короля герулами становится ясно, как трепетно скандинавские народы относились к родословной королевского рода. Они предпочли отправиться за наследником престола за границу, нежели принять человека некоролевского происхождения, назначенного самим римским императором. Те претенденты на трон, за которыми герулы отправились в Скандинавию с Балкан, вне всякого сомнения, соблюдали чистоту своего рода, происходящего от Одина, как и все королевские роды в Скандинавии и Англии. Балканские герулы в VI в. отправились через всю Европу мимо Дании, чтобы найти готского правителя благородных кровей, так как хорошо знали, что происхождение от Одина и Ньёрда — самое ценное наследство во всей Северной Европе, гораздо ценнее золота и серебра. История повторяется. Эпоха викингов началась по-настоящему лишь тогда, когда древнерусские купцы отправили посольство к варягам, потому что знали, что в их жилах течет кровь Одина. В то время в Скандинавии еще помнили, что истинные корни Одина и Ньёрда — на Кавказе, а в Скандинавию они попали через Гардарику.
Исторические факты никто отрицать не будет. Не нужно даже опираться на Снорри, чтобы подтвердить тот факт, что через несколько поколений после начала нашей эры из Скандинавии и Балтийских стран на юг, к Азовскому и Черному морям, отправились многие искатели приключений и завоеватели. К этому времени потомки Одина — асы уже прочно обосновались в Скандинавии в качестве элиты, собирающей дань. Снорри называет лиц королевского рода, которые некоторое время спустя отправились на юг в земли асов и ванов. В их числе были король свеев Гюльви и внук Фрейи — Свейгдир. Всемирная история описывает целые племена, в первую очередь готов, остроготов, визиготов и герулов. Герулов впоследствии поглотили визиготы А что же произошло с другими готами?
Пер. Все готские племена пошли на юго-восток, туда, откуда, как считается, пришел Один. Они направились сначала в тот район, который Снорри называет Великая Свитьод. Снорри проводит четкую границу между Великой Свитьод и той страной, что называлась «страной асов или Асахеймом», которая находилась в азиатской части прилегающих к Азовскому морю территорий, откуда и пришел Один. Там обосновались и герулы. Снорри писал: «Великую Свитьод они называли „домом Богов“, о ней им было что рассказать… А к северу от Черного моря простирается Свитьод Великая… Северная часть Свитьод не заселена из-за мороза и холода… В Свитьод много больших поселений, там много народов и много языков, там живут великаны…»
[470] Тот же самый район в других источниках, по Вольфраму, называли Гутьод — «земля готов».
Что касается великанов, то это — те же самые «богатыри», которых Рыбаков поместил на берега Днепра к северу от Черного моря и которых Вольфрам называл народом спадов. На всей этой территории обосновались готы и образовали союз племен под руководством короля Острогота. Этот союз племен охватывал все земли от Белого моря до Азовского и реки Дон. Согласно авторитетному мнению Вольфрама, в этом союзе объединились такие различные народы, как финны, славяне, анты
[471], герулы, розомоны
[472], аланы, скифы, гунны, сарматы и эсты. А кроме того, грейтунги
[473], одно из остготских племен, и гепиды
[474].
В III в. гепиды были частью племени готов, которая отделилась от основного племени и
направилась на запад. Они вошли в историю как визиготы, или вестготы. В IV в. во время правления короля Германариха
[475] остроготы достигли апогея своего могущества, а Германариха как полководца сравнивали с Александром Македонским. Однако, когда в 375 г. с востока верхом на конях прискакали гунны, Германариха предали его же подданные — герулы и перешли на сторону врага. Потерпев поражение от гуннов, Германарих попытался отомстить одному из предавших его хёвдингов, но ему не удалось поймать этого хёвдинга. Тогда он решил отомстить ему, приказав привязать его жену Сунильду к двум коням и пустить их вскачь. Некоторые историки считают, что Германарих совершил ритуальное самоубийство, другие же пишут, что великий полководец остроготов погиб в кровопролитной битве с королевским кланом герулов — росомонами, к которому принадлежала Сунильда, или Сванхильд. Ее трагическая судьба стала популярным мотивом древнескандинавской литературы, где этот сюжет встречается в двух песнях Эдды
[476] и в саге о Ёрмунрекке
[477].
Тур. А что же произошло с могущественным государством остроготов, которое с помощью доступных во времена Одина средств коммуникации смогло объединить народы побережья Белого моря с жителями Причерноморья?
Пер. Остроготское королевство со временем распалось. Многие племена примкнули к гуннам, другие отправились на запад, в Европу. Часть из них присоединилась к визиготам, часть — к римлянам. Совершенно новое остроготское королевство возникло в Италии. Некоторые остались на берегах Днепра. Среди них, очевидно, были и росомоны. После смерти Германариха они примкнули к гуннам и стали ведущим кланом в прилегающих к Днепру землях. Я думаю, что именно росомоны стали родоначальниками народа, получившего позднее название «рос», или «рус», который затем пригласил на царствование трех братьев-варягов, чтобы установить мир и покой среди торговых людей, уставших от внутренних распрей и кровной мести. Так объединились норманны и росомоны.
Тур. Да, в этом есть смысл.
Пер. Вольфрам считает, что «рос» в слове «росомоны» указывает на цвет их волос, которые были от природы рыжими или рыжеватыми. Границы между государствами постоянно менялись в то время, когда этот народ отправлялся вверх или вниз по судоходным русским рекам или верхом на лошадях по бескрайним степям. Я думаю, русские исследователи правы, считая, что название «рос», или «рус», встречается к югу от Киева уже в VI в. и что именно оттуда этот народ продвинулся по рекам в район Ладоги. Эта теория более вероятна, нежели гипотеза о том, что народ «русь» пришел из района Рослаген в Швеции, потому что «руотси» по-фински означает «Швеция». Кроме того, имя «Рюрик» не встречалось ни в одном шведском королевском роду на протяжении многих сотен лет, а район Варангер, откуда, как говорят, пришел Рюрик, находится не в Швеции.
Росомоны, как считал Вольфрам, были королевской ветвью герулов, которые, как писал Прокопий, привезли себе короля из заграницы. Существуют письменные отчеты о том, как их предки отправили посольство в Скандинавию, чтобы пригласить потомка королевского рода стать их правителем. Почему же купцы из Ладоги не могли сделать то же самое 300 лет спустя, чтобы прекратить беспорядки и восстановить мир?..
Тур. Если они сделали это, логично предположить, что они искали представителей королевского рода — потомков Одина. Как мы уже убедились, почитатели Одина в Северной Европе тщательно выбирали тех, кто мог считать свой род идущим от этого обожествленного короля-пришельца. Его род стал божественным и поднялся над национальными границами. Благодаря Одину породнились все королевские семьи Северной Европы. Корни королевского рода Одина протянулись и в ту часть Восточной Европы, где сердечно приветствовали братьев-варягов как правителей могущественной впоследствии Руси.
Пер. А что говорят об этом русские? Что думают русские археологи, с которыми ты работал в Азове, по поводу того, что же привлекало выходцев с Севера в их регион в начале нашей эры?
О чем рассказывают находки оружия
Тур. Внезапный интерес, возникший в Скандинавии к древнерусской территории в те неспокойные времена, о которых мы сейчас ведем речь, в общем-то, понятен. Это напрямую связано с нашествием римлян и войнами царя Митридата. Российские ученые подсказали мне, что сарматовед Марк Щукин посвятил этому вопросу специальную работу. В 1994 г. он издал аналитический труд «Щит, меч и копье как доказательства германо-сарматских контактов и связей между варварами и римлянами», в котором на основе изучения находок оружия делает убедительный вывод о наличии контактов между северянами и местным населением на русских территориях, а также между оседлыми варварами и римлянами в том же регионе.
Эту публикацию я получил в библиотеке Азова, в том числе на английском, немецком и французском языках. Однако труд Щукина неизвестен в Скандинавии, хотя важнейшие находки, на которых строится его исследование, обнаружены в Валле в Сетесдале в Норвегии.
Пер. Так ведь именно там девы-воительницы были так популярны в народной музыке!
Тур. Именно поэтому я считаю, что работа Щукина заслуживает внимания и у нас, причем не только у специалистов по сарматам. Особенно интересным мне кажется то, что Щукин сразу же выводит на первый план загадочных «роксоланов», а также рыжеволосых сарматов, которые, как ты указал, были предками народа «рос», или «рус». Щукин считает, что еще с древнейших времен в сарматских землях обитали племена, позднее ставшие историческими германцами и кельтами, однако одна группа сарматов, со временем получившая доминирующую роль, постоянно кочевала на запад вместе с родственным племенем роксоланов. Сарматы сначала переправились через Волгу и пошли на Кавказ, затем они перебрались через Дон и отправились на запад к Днепру. Вот что пишет Марк Щукин: «Во II в. до н. э. сарматы обитали в степях к востоку от Днепра и время от времени совершали походы на запад. …Среди сарматских племен в конце II в. до н. э. появилось одно новое, а именно роксоланы, или ревксиланы. Возможно, это был новый народ, пришедший с востока…»
Пер. Значит, это древнерусское племя уже в конце II в. до н. э. отправилось с Дона и из Азовского региона на запад к Днепру, т. е. за сто лет до войн Митридата и бегства Одина на Север.
Тур. Щукин установил, что в 107–105 гг. до н. э. эти племена заключили политический союз с Митридатом Евпатором, царем Понтийского царства на берегу Азовского моря, так что Митридат был союзником Одина и асов. Однако, когда римляне добились превосходства и Одину пришлось бежать на Север со своими жрецами, Митридат в 63 г. до н. э. покончил жизнь самоубийством. Возможно, асы были родственниками роксоланов, а может быть, это был один и тот же народ, поскольку и те, и другие были сарматами и принадлежали к кочевому сарматскому племени аланов.
Но довольно об этом. Превращение
рокс-аланов в
ас-аланов, вероятно, не было долгим процессом ни в хронологическом, ни в географическом отношении. Вернёмся в район устья Дона и в Приазовье в I в. до н. э.
Щукин усматривает уже в этом альянсе между Митридатом и различными ветвями сарматского племени первые контакты сарматов со скандинавами. Он указывает, что в археологических находках прослеживается стиль, который в то время распространялся с Кавказа в западном и северном направлениях: «…Это особый, так называемый греко-бактрийский стиль, встречающийся на территории от Индии до Западной Европы. Этот стиль мы видим на серебряном блюде, использовавшемся в качестве основы для знаменитой чаши из Гуннеструпа
[478], и мы знаем, что Митридат Евпатор старался установить дипломатические связи с тевтонами».
Пер. Серебряная чаша из Гуннеструпа была найдена как раз там, где жили тевтоны, на полуострове Ютландия в Дании. Во времена Митридата Евпатора они, независимо от него, постоянно воевали с римлянами в северных районах, а также и на юге по берегам рек в центральной части Европы. В моем историческом атласе значится, что тевтоны изначально жили в северной части Ютландии, к югу от Лимфьорда. В результате природной катастрофы, случившейся около 115 г. до н. э., часть Ютландии смыло волной, подобной цунами. Тогда тевтонам пришлось переселиться на континент.
Тур. Какие племена считались тевтонами во времена Митридата в I в. до н. э.?
Пер. Те, кто поклонялся богу Тевтату, что по-кельтски означает «народный бог». В жертву Тевтату приносили и людей: голову жертвы окунали в сосуд, наполненный, как предполагается, медовухой, и не отпускали до тех пор, пока человек не захлебывался
[479].
Известно, что тевтоны спустились по реке Одер на юг через теперешнюю Германию, пока не дошли до римской провинции Норик
[480] на Дунае. В 113 г. до н. э. тевтоны и их союзники даны нанесли римской армии сокрушительное поражение, а затем направились в римскую провинцию Галлию Нарбонскую, где вновь одержали победу над римлянами в нескольких битвах. Не удивительно, что Митридат старался установить с ними дипломатические отношения, так как в течение десяти лет они постоянно побеждали римлян. Однако в 102 г. до н. э. римский полководец Марий разбил их в битве при Аквах Секстиевых
[481].
Приведем тексты Марка Щукина: «Следующей вехой германо-сарматских контактов является середина или вторая половина I в. н. э. Об этих контактах свидетельствуют наконечники копий из Валле в Норвегии и Бодзаново в Польше. Оба комплекса датируются… и оба воителя были похоронены в период между 70—170 гг. н. э. Точная дата не известна. Копье из Валле имеет форму, типичную для пшеворской культуры
[482]…Но самая интересная особенность этих копий в том, что на их наконечниках имеется гравировка, покрытая серебром. Изображен знак, состоящий из двух полукружий, связанных линией. Это магический знак „тамга“
[483] — символ, хорошо известный всем сарматоведам. Этот знак принадлежал сарматскому или скифскому царю Фарзою, чеканившему свои золотые монеты в греческом городе Ольвия в 54–80 гг. н. э.
[484]…На первый взгляд, кажется, что наличие знаков Фарзоя на копьях из Норвегии и Польши — случайное совпадение и, возможно, ошибка, но если связать это в историческом контексте с событиями в Восточной и Центральной Европе, то можно найти и объяснение.
Давайте попробуем воссоздать события. Во-первых, сравним распространение различных сарматских племен в Причерноморье по описаниям античных классиков — Страбона и Плиния Старшего. Мы без труда сможем увидеть некоторую разницу в расселении на карте, используя их описания. Так, Страбон поместил племя роксоланов между Днепром и Доном…»
Видишь, тогда география совпадает абсолютно! Эта пшеворская культура была распространена в районе, где встречаются истоки Днестра и Вислы. Тогда путь в Норвегию шел прямо вверх по Днестру из Черного моря и вниз по Висле в Балтийское море и в Скандинавию.
Но ведь Ольвия находилась в низовьях Днепра, у его устья. Ведь там жил Геродот и писал о скифах.
Тур. Это как раз в степях вдоль северного побережья Азовского моря, где и поныне живет западная ветвь народа Одина. В том же районе Геродот поместил светловолосый народ будинов в IV в. до н. э., о которых он узнал от обитателей Причерноморья…
Давай не будем путаться во всех названиях племен и географических мест, о которых пишет Щукин, цитируя древние источники. Нам важно отметить, что могущественное кочевое племя алан, которых все считают ближайшими родственниками асов, впервые упоминается в литературе Страбоном и к тому же вместе с роксоланами и аорсами, которые были разновидностями обширного в то время сарматского кочевого племени, населявшего все степи между Дальним Востоком и Европой. Щукин сравнивает географическую локализацию этих племен у Страбона и Плиния, чтобы доказать, что в конце древней и начале нашей эры в регионе было неспокойно и народы постоянно перемещались. Он пишет: «Страбон закончил свой труд „География“ примерно в 18–24 гг. н. э. Плиний умер во время извержения Везувия в 79 г. н. э., т. е. где-то между 18–79 гг. н. э. ситуация в Причерноморье, очевидно, изменилась, и различные сарматские племена переселились на запад. Это предположение подтверждается археологическими находками…»
Щукин пишет также, что во второй половине I в. н. э. сарматские захоронения появились намного западнее Днепра. До середины 1 в. никаких сарматских могильников там не было, а потому там и археологических находок не имеется. Затем Щукин анализирует события, которые, возможно, послужили причиной неспокойствия на Кавказе в начале нашей эры. Именно тогда, по утверждению Снорри, военное давление римлян заставило Одина бежать с восточного берега дельты Дона и Приазовья. Именно там, по Снорри, находился Танаис.
Пер. Да, Снорри не мог точнее указать место и время, когда Один отправился из земли асов. Интересно, а не послал ли Митридат Одина в Скандинавию в качестве посла?
Тур. Не думаю. Один отправился вместе с родственниками и жрецами, чтобы обосноваться в Скандинавии, где сказал, что пришел из земли богов. И конунг свеев Гюльви, как известно, отправился на юг, чтобы проверить, правда ли это, а не для того, чтобы оказать ему военную помощь в борьбе против превосходящего врага. Это версия Снорри, но давайте посмотрим, как Щукин объясняет причины беспокойства в Приазовье во времена правления Митридата VIII В то время сподвижники Одина уже давно обосновались в Скандинавии. Поскольку внук Одина стал конунгом в земле данов примерно в год Рождества Христова, то Один, должно быть, отправился из дельты Дона в то время, когда Митридат Евпатор — прадед Митридата VIII — покончил жизнь самоубийством в 63 г. до н. э., потерпев поражение от римлян, вторгшихся в Приазовье. Согласно Марку Щукину: «Три исторических события дают нам возможность проследить процесс развития в более конкретном контексте. Первое описано Тацитом в „Анналах“
[485] и произошло на Северном Кавказе. Царь Боспорского царства, Митридат VIII, правнук Митридата Евпатора, собрался в поход на римлян. Его младший брат Котис раскрыл эти планы императору Клавдию
[486], который принял решительные меры. В 45 г. н. э. римские войска высадились у Пантикапея, столицы Боспорского царства. Котис стал царем, а Митридат бежал к своим родственникам, населявшим Кубанский полуостров. Большая часть римских войск вернулась к Меотийскому болоту…»
Пер. То есть к Азовскому морю.
Тур. Далее Щукин пишет: «Между тем Митридат собрал силы своих сторонников и заключил союз с сарматским племенем сираков
[487]. Некоторые из приверженцев римлян не смогли противостоять этому альянсу и попробовали объединиться с племенем аорсов, которые были врагами сарматов. Аорсы добровольно согласились. Опытные римские легионеры без труда разрушили укрепления сираков, и в 49 г. н. э. сираки были полностью разбиты аорсами и римлянами. Митридата взяли в плен и отправили в Рим. Конфликт между аорсами и сираками, поддерживаемый римлянами, стал, по-видимому, одной из причин изменения баланса сил в степном регионе, что привело к переселению сарматов на запад. Тогда после спровоцированного римлянами в 49 г. конфликта между сираками и аорсами, населявшими регион от бассейна Кубани до устья Дона и Волги, некоторые сарматские племена переместились на запад и дошли практически до Венгерской равнины в центральной части Дунайского региона… Факт перемещения различных сарматских племен на запад примерно в середине I в. н. э. подтверждается, если сравнить этнографические карты Причерноморья, составленные Страбоном и Плинием Старшим. Подтверждает это и существующий археологический материал…»
Далее Щукин цитирует одну из собственных публикаций 1993 г.: «Таким образом, в свете изложенных выше событий находки копий в Валле, на которых изображена тамга Фарзоя, не вызывают особого удивления…» Это отличный пример междисциплинарного подхода. Щукин помещает известные события всемирной истории в контекст пока не расшифрованных находок из норвежского могильника I в. н. э. Перед нами — наконечник копья, совершенно очевидно побывавший в битве в Причерноморье, по крайней мере, за 600 лет до начала эпохи викингов. Без привлечения исторических фактов находка в Валле осталась бы неразрешимой загадкой или была бы просто напросто забыта.
Пер. По-моему, все это служит прелюдией к приходу готов в этот район. Откуда Щукин так хорошо знает Приазовье и митридатовы войны двухтысячелетней давности?
Тур. Из трудов античных классиков, на которые он ссылается. Страбон родился в Понте в 64 или 63 г. до н. э. в конце правления Митридата Евпатора и вырос в регионе между Азовским и Черным морями. Оттуда он отправился в Средиземноморье и прибыл в Рим в 44 г. до н. э., т. е. в том же году, когда погиб Цезарь. Родственники Страбона принимали непосредственное участие в митридатовых войнах. Его прадед предал Митридата Евпатора и перешел на сторону римского полководца Лукулла.
Более подробных сведений мы получить не можем. Когда я сам изучал Страбона, то нашел очень интересные для нас, скандинавов, сведения. Первые победы Митридат Евпатор одержал над местными племенами Приазовья. Это потом он потерпел поражение от римлян. Вот что пишет Страбон: «Зимой мороз был так крепок в устье Меотийского болота, что Митридат победил варваров в конном сражении на льду. Позднее, когда пришло лето и лед растаял, он одержал победу над теми же варварами в морской битве…»
Здесь речь идет о битве между всадниками на льду Азовского моря. Тогда проигравшие вполне могли отступать по широкой реке Дон в том направлении, куда, согласно Снорри, отправился и Один. И опять мы идем за ним по пятам! Но, возможно, мы ошибаемся, когда ищем его как Одина. Под этим именем он стал известен в Северной Европе. Снорри настойчиво обращает наше внимание на то, что у Одина было много имен, да и мы сами выяснили, что удины — это название племени в Приазовье в ту эпоху. Возможно, нам следует поискать название народа, которым Один, по Снорри, правил.
Пер. Да, и это были асы, которых скандинавские историки считают придуманным, мифическим народом, просто плодом фантазии Снорри.
Асы сбрасывают маску
Тур. Пер, ты знаешь, я сам ученый и всю свою жизнь работал среди ученых, но я никогда не боялся бросить вызов тем ученым, которые сами, по сути, ничего не делают, а, прикрываясь профессорским званием или требуя экспертизы, преспокойно живут, защищая догмы, и прибегают к помощи прессы, как только им предоставляется шанс на кого-либо наброситься.
В качестве примера рассмотрим поведение экспертов такого рода, их отношение к Снорри и к тому, что он написал об Одине и асах. В XIX в. подобные ученые обвинили Снорри в искажении истории, а ведь он, несомненно, был выдающимся скандинавским поэтом и историком XIII в. Его обвинили в том, что он изобразил Одина и асов как реальных людей, пришедших из Азии, в то время как подобные ученые считали их вымыслом, плодом религиозных фантазий викингов.
Пер. Историки религии настолько уверены в том, что асы — лишь выдумка, что заставили всех остальных поверить в то, будто у них есть веские доказательства того, что асы никогда не существовали.
Тур. Все это лишний раз свидетельствует о пагубности узкой специализации наших ученых. Совсем по-иному работают русские исследователи. Уже в первый мой приезд в Азов местный историк Николай Фомичев предостерег меня, чтобы я не запутался в хаосе названий, нередко представляющих собой различные наименования одного и того же племени, изменявшиеся в течение столетий. Когда я вновь приехал и захотел подробнее узнать о том, кем были осетины — потомки асов, мне выдали в научной библиотеке в Азове массу литературы именно по этому вопросу. Тогда я впервые всерьез осознал, насколько мы в Скандинавии мало знаем об этом народе.
Первое, что нашли в музейной библиотеке и перевели для меня наши помощники Николай Фомичев и Александр Давыдов, была книга на русском языке «Очерки истории алан» В. А. Кузнецова. Из отдельной главы, посвященной аланам и асам, мы узнаем, что устные предания об асах жили на Кавказе вплоть до XV в. н. э., т. е. достаточно долго после эпохи Снорри.
Вот что пишет по этому поводу известный скифолог В. Кузнецов: «Венецианец Иосафат Барбаро
[488] посетил Дон и Северный Кавказ и нашел свежие следы алан. Согласно Барбаро, название „Алания“ появилось от племен, именуемых аланами, но называвших себя на своем языке асами. Таким образом, асы — самоназвание алан».
Кузнецов пишет, что первым автором, упомянувшим асов, был Страбон, сам выросший в греческой колонии в Крыму в Приазовье, и было это в 64 или 63 г. до н. э., т. е. тогда, когда Один, по Снорри, покинул родные края и отправился в путь на Север. Приведём другое высказывание В. Кузнецова: «Этническое название „асы“ было широко известно в Центральной Азии в древние времена. Страбон относит их к скифским племенам Центральной Азии, каждое из которых, как он отмечает, имело собственное наименование». Страбон называет множество различных племен, которые, по его мнению, были асами.
А вот ещё мнение В. Кузнецова: «…A кто же такие асы? Древнеиранское племя асов входит в состав союза племен массагетов
[489]. Многие ученые также считают, что асии — асы идентичны народу усуней
[490] в китайских источниках, а по мнению А. Н. Бернштама
[491], которое разделяют не все, асии — это античные исседоны
[492], восточная ветвь массагетов. История асиев нам практически неизвестна, античные авторы упоминают их лишь изредка. После Страбона только Птолемей, Стефан Византийский
[493], Помпоний Мела
[494] и Гай Юлий Солин
[495] сообщают нам о том, что асии появляются под различными этническими названиями. Тем не менее все эти варианты названий имеют один и тот же элемент „ас“…»
Пер. Это убедительно.
Тур. Необходимо только добавить, что в этом множестве названий асов и алан некоторые переводятся как «светлые асы», а другие — как «светлые аланы». Их смешивают друг с другом как родственников или соседей. По В. Кузнецову: «С IX–X вв. название „асы“ все чаще встречается в письменных источниках. То, что асы и аланы постоянно были соседями, следует из исторических летописей, причем некоторые из средневековых авторов дают нам понять, что они находились в этническом родстве, а другие, наоборот, считают, что между ними были определенные различия. Об этом как раз пишет неизвестный хазарский еврей, живший в Хв. В его письме говорится, что хазарский хан заключил союз с правителем алан, поскольку их государство было самым сильным. Хазарам
[496] нередко приходилось воевать с асами и тюрками. Аланы приходили хазарам на помощь и разбивали их врагов. Как мы видим, здесь асы и аланы не только противопоставляются друг другу, но и говорится, что они воевали друг с другом. В то же время в других источниках ставится знак равенства между асами и аланами, и названия „асы“ и „аланы“ считаются равнозначными».
Пер. Так кем же изначально были асы?
Тур. В. Кузнецов пишет: «И аланы, и асы произошли от сарматов, а те — от древнеиранских племен Центральной Азии, с которыми они связаны генетически».
Пер. Среда обитания асов к востоку от дельты Дона и к югу до страны турок, без сомнения, и есть тот неспокойный район, который описал Снорри. Здесь побеждали то одни, то другие. Вражда сменялась братством с помощью таких простых средств, как обмен заложниками, пока не пришли римляне со своей профессиональной армией и не заставили Одина взять с собой голову Мимира и своих жрецов и проститься с землей асов.
Тур. Европейские историки пытаются убедить нас в том, что асы никогда не существовали, что это вымысел Снорри Стурлусона. А следовало бы изучить литературу о битвах между различными народами Кавказа, которая изобилует сообщениями об асах. Об этом писали путешественники, которые никак не могли узнать об асах от Снорри, жившего в Исландии. Так, английский ученый и монах-францисканец Роджер Бэкон
[497], живший в 1214–1292 гг., т. е. во времена Снорри, писал, между прочим, в своей знаменитой работе «Opus Majus»
[498] о битвах народов на Кавказе. Скорее всего, он получил информацию от экспедиции Карпини
[499], которая побывала в Азове в 1247 г. и также состояла из францисканцев. Вот что он писал: «В восточном направлении находятся горы, где живут народы аланы и асы. Они христиане и принимают всех христиан как римского, так и греческого исповедания. Они не схизматики
[500] и воюют против татар. А дальше, на восток находится Каспийское море…»
Таким образом Бэкон помещает эти народы в определенное географическое место. Далее Бэкон пишет об асах-христианах. Доктор исторических наук Вера Матузова поясняет, кем были эти асы: «Аланы и асы — племена сарматского происхождения, предки современных осетин…»
В Азове я получил приглашение принять участие в научном конгрессе в Республике Осетия. Приглашение было подписано В. М. Гусаловым, главой республиканского «Центра скифско-аланских исследований». Я узнал, что современные осетины проявляют большой интерес к возможности сотрудничества со скандинавскими учеными, причем интерес этот возник тогда, когда Фритьоф Нансен и профессор Георг Моргенстьерне затронули вопрос о возможном родстве асов и скандинавов.
Я также узнал, что в 1966 г. состоялся конгресс, посвященный проблеме происхождения осетин. Конгресс был организован Академией наук Республики Осетия на Северном Кавказе. В дискуссии по проблеме происхождения осетинского народа приняли участие ученые из пятнадцати российских городов. На следующий год по материалам конгресса вышла книга «Происхождение осетинского народа» под редакцией Х. С. Черджиева. В этой книге в одной из статей «Этногенез осетин по письменным источникам» автор Ю. С. Гаглойти приходит к интересному выводу.
Приведу выдержки из нее: «Анализ письменных источников не подтверждает мнения о существовании якобы двух племенных союзов в земле алан с названиями „ас“ и „алан“ как отдельных этнических групп. Сравнительный анализ армянских, грузинских, византийских, арабских и древнерусских летописей не оставляет никаких сомнений в том, что этнические названия „алан“ и „аорс“ („ас“ — „яз“) — названия одного и того же народа…»
Пер. Тогда все становится намного проще. Если асы и аланы — один и тот же народ, то у нас больше не уходит почва из-под ног. Таким образом замыкается круг вокруг Одина Снорри и его страны — страны асов. К какому выводу пришли на конгрессе 1966 г. и что еще написал Гаглойти?
Тур. Ещё он написал, что было совершенно четко установлено, что с этнической точки зрения предками осетин были асы — воинственный кочевой народ азиатского происхождения, пришедший с востока и обосновавшийся на Кавказе. Анализируя происхождение названий «осетины», «оссы» и «асы», которые были названиями подгрупп воинственных кочевников алан, Гаглойти исследовал даже языковые варианты и грамматические формы этих слов во II в. н. э. Когда я прочитал его доклад в библиотеке в Азове, у меня возникло ощущение, будто передо мной предстала целая вереница переодетых актеров, которые вдруг сбросили маски и оказались все на одно лицо.
Пер. Что ты хочешь этим сказать?
Тур. Гаглойти обнаружил, что в древних рукописях вовсе не упоминается народ под названием «аланы». Изначально слово «алан», как указывал и Николай Фомичёв, означало на местном языке «воин». Позднее это слово появилось в связи с названием племени «алани-ас», или «асы-воины», в котором очень важный фрагмент «ас» получил широкое распространение среди названий сарматских воинов. Постепенно в литературе появился ряд новых названий, таких, как «алан-ауруса», «аланрос», «аланорс», которые означают «белые аланы», и «роксолан» — «светлые аланы». Все эти названия — различные варианты названий потомков воинственного племени асов. То же самое касается и племени аорсов из земли асов у Азовского моря, название которого произошло от осетинского слова «орс», что означает «белый». «Ас дигор» — это диалектная подгруппа современных осетин.
Пер. У меня от этого голова идет кругом.
Тур. И у меня было то же самое ощущение. Гаглойти путём более сложного анализа высказал ту же самую мысль, что и наш друг Николай из Азовского музея, а именно, что в литературе встречается множество названий одного и того же племени.
Пер. И что же еще пишет Гаглойти?
Тур. Пишет он следующее: «Необходимо подчеркнуть, что задолго до упоминания в письменных источниках названия „алани“ название „алани-ас“ („яз“) было широко распространено в качестве названия сарматских племен. Так, название „алани“ встречается как составная часть названия племени „роксолан“, или „светлый алан“. Это слово мы найдем также и в названии племени „аланрос“, или „белый (рыжий) алан“. Связующее звено между названиями „роксолан“ и „аланрос“ имеется в этническом названии „аорс“, так как в корне этого слова есть иранское слово „ауруса“ (по-осетински — „орс“ означает „белый“). Если сравнить названия племен „аорсы“, „роксоланы“ и „аланорсы“, то нельзя не заметить, что все они терминологически связаны друг с другом через имя „алан-аорс“, а слова „роксоланы“ и „аланорсы“ — лишь различные эпитеты. В этой связи мы приходим к выводу, что названия племен аорсов, роксоланов и аланорсов — вариации названия одного и того же племени…»
Пер. Любопытное заключение!
Тур. Гаглойти подтверждает этот вывод лингво-историческими исследованиями: «Название „язиги“ играет очень важную роль в раскрытии этнического родства сарматских племен. Известный грамматик II в. н. э. Элий Геродиан
[501] указывает греческие варианты упоминаемых им названий племен, что дает нам возможность предположить, что в корне всех этих названий племен есть название асов (язов). Название „асы“ есть также в корне названий „асиаки“ и „азиаты“, используемых для обозначения одного и того же племени. Все это является следствием перекрестного сравнительного анализа сведений Помпония Мелы и Гая Юлия Солина. Название „асиаки“ („азиаты“) и фонетически очень близко названию „язиги“, и является, очевидно, трансформацией названия „асы“ („ясы“) в „язиги“. Дион Кассий
[502] прямо называл алан язигами в своем описании вторжения алан в Мидию
[503] и Армению в 135 г. н. э. Традиция связывать название „язиги“ с аланами-асами довольно сильна. Так, например, Г. Вернер в XVI в. называл алан, переселившихся в Венгрию в XIII в., язигами и утверждал, что они сами называли себя ясами…»
Тур. И тут следует очень важный вывод для нас, участвовавших в раскопках в Азове и слышавших, как местные археологи поочередно упоминали названия «аорс» и «ас», говоря о сарматском коренном населении, что вызывало недоумение у нас, скандинавов, изначально считавших аорсов и асов совершенно различными племенами. По Гаглойти: «Название племени „язиг“ — это всего лишь латинский вариант этнического названия „ас“ („яс“). Появление названия аланасов в названиях сарматских племен доказывает, что этнический элемент „алан-ас“ существовал в степях Северного Причерноморья и прилегающего Кавказа задолго до того, как появился термин „алан“. Ни один из античных летописцев не связывает название алан с каким-то миграционным процессом. Мы видим, что они только подчеркивают генетическое родство алан с массагетами, скифами и сарматами, т. е. с родственным кругом североиранских племен. Это заслуживает особого внимания при сопоставлении с миграционными процессами сираков и аорсов на Северный Кавказ, упоминаемыми Страбоном, а также с более поздними сведениями о подобных миграциях гуннов и других кочевых племен из центральноазиатских степей в Восточную Европу».
Пер. Да, теперь система племен Приазовья приобретает более четкую и ясную форму.
Тур. Иными словами, асы были народом, известным под разными именами. Гаглойти считает, что «яз», «язус» и «язон» — примеры названий, которые Элий Геродиан дал одному и тому же племени асов. Геродиан был известным лингвистом, современником Птолемея Александрийского и жил во II в. н. э. Он также показывает, что название народа асов присутствует в таких названиях, как «асиак» и «азиат», согласно Меле и Солину: «асиак» — это форма множественного числа от «ас» на иранском языке, а «азиат» — форма множественного числа от «ас» на языке осетин.
Пер. Это очень напоминает Снорри, хотя Мела жил в I в., а Солин — в III в. н. э.
Тур. Согласно Ю. С. Гаглойти: «Соотношение между Аланией и Азией в таком случае — это соотношение части и целого…»
Пер. Это новый триумф Снорри Стурлусона, который жил 800 лет назад в Исландии и пытался рассказать нам о связи между названием народа асов и Азией. А нам последние двести лет в Скандинавии внушали, что Снорри сидел в Исландии и сочинял сказки…
Тур. Прежде чем мы с тобой или кто-нибудь в Скандинавии поняли, что Снорри знал, о чем писал, осетинские ученые это доказали. Все дело лишь в том, что осетинские специалисты не были знакомы с подробностями исландских саг Снорри.
Пер. Таким образом, потомкам асов из Танаиса, живущим на их собственной родине, удалось наконец снять маску со своих далеких предков, о которых писал Снорри. Асы, которыми правил Один, были обычными людьми, как и все остальные, которых завоевали или вытеснили римляне, когда пришли на Кавказ. И именно это пишет о них Снорри в своих королевских сагах.
Кто такой Тор — бог-громовержец или правитель тюрков?
Тур. Мало кто обратил внимание на то, что хотя Тор и Один были главными божествами викингов, но только Один жил среди асов и ванов как обычный человек в районе Танаиса, когда пришли римляне. Только Один заключил мир с ванами путем обмена заложниками и взял с собой хёвдинга ванов Ньёрда и его семью, отправившись через страну саксов и страну данов на Север. А где же был Тор, когда пришли римляне?
Пер. Он, наверное, сидел со своими козлами среди туч и метал гром и молнии, а до римлян ему не было дела.
Тур. А ведь никто из историков религии не заинтересовался, почему всемогущий бог викингов Тор, который побеждал драконов и мог выпить до дна море, оставил в беде своего собрата Одина, когда тот решил бежать из своего земного царства от превосходящих сил врагов?
Пер. Наверное, именно этому небесному богу Тору поклонялись предводитель асов Один и его жрецы как в Асгарде, так и в Швеции до конца своих дней?..
Тур. Если только это не был тот самый мистический Хрофт, на которого Один ссылается в «Речах Высокого».
Пер. Единственный Тор, кого упоминает в королевских сагах Снорри, — это один из жрецов, и его наверняка назвали в честь этого бога, который появляется в «Эдде» в фантазиях конунга Гюльви.
Тур. Да кому они еще могли приносить жертвы, если Один все еще был жив? Здесь нам трудно ответить… Пришел ли культ Тора в Скандинавию вместе с Одином, который пытался пометить себя копьем, чтобы возвыситься до ранга богов после своей смерти? Может быть, культ Тора — бога грома и войны принесли в Северную Европу более ранние переселенцы, которые следовали тем же путем — по рекам зимой и летом и ставшие частью коренного населения Скандинавии? Трудно сказать. А ты как думаешь?
Пер. Понятия не имею.
Тур. И я не знаю, но мне хотелось бы найти хоть малейшую зацепку, чтобы дать историкам религии пищу для размышлений. Я уверен, что Снорри в своем повествовании о хёвдинге асов, который пришел на Север незадолго до Рождества Христова и стал вместе со своими жрецами предметом божественного почитания, пользовался источниками с Кавказа. А может быть, и Тор когда-то тоже жил как человек, а затем благодаря легендам и мифам, благодаря жрецам и, возможно, благодаря смене имени занял небесный престол какого-нибудь божества — бога солнца, луны или грома?..
Пер. Похоже, что христианин Снорри был недалек от этой мысли в своей «Эдде».
Тур. Вот именно! В королевских сагах он строго придерживается генеалогии, не имеющей ничего общего с богами. Он даже не упоминает имени отца Одина, но это делают англичане в «Англосаксонских хрониках», откуда мы узнаём о четырех поколениях предков Одина, и в различных вариациях они оказываются идентичными с именами, которые называет Снорри в своей «Эдде». В Прологе «Эдды» Снорри говорит то же самое, что и англичане, а именно, что Один был королевского рода. А для каждого королевского рода или правящего рода хёвдингов считалось очень важным связать возникновение своего рода с наиболее известными бессмертными правителями в мировой истории. То же самое делает и Снорри с родом Одина в «Эдде», причем неважно, откуда он берет свой список имен. Мы уже об этом говорили раньше, поэтому краткого обзора будет достаточно.
Снорри (из «Эдды»): «Вблизи середины Земли был построен град, снискавший величавую славу. Он назывался тогда Троя, а теперь страна турков… Одного конунга в Трое звали Мунон или Меннон. Он был женат на дочери верховного конунга Приама, ее звали Троан. У них был сын, по имени Трор, мы зовем его Тором. Он воспитывался во Фракии у герцога, по имени Лорикус. Когда ему минуло десять зим, он стал носить оружие своего отца… Двенадцати зим от роду он был уже в полной силе. В то время он поднимал с земли разом десять медвежьих шкур, и он убил Лорикуса герцога, своего воспитателя, и жену его Лору, или Глору, и завладел их государством Фракией. Мы зовем его государство Трудхейм. Потом он много странствовал, объездил полсвета… В северной части света он повстречал прорицательницу, по имени Сибилла (а мы зовем ее Сив), и женился на ней. Никто не ведает, откуда Сив родом… Сына их звали Лориди, он походил на своего отца. У него был сын Эйнриди…»
[504]
Тур. И тут Снорри перечисляет 18 имен от Тора до Фриалава, которого в Скандинавии называли Фридлейвом.
Снорри: «А у того был сын Воден, а мы зовем его Один…»
[505]
Пер. Фракия, где, по Снорри, вырос Тор, в то время находилась на западной стороне Дарданелл, примерно там, где сейчас находится Болгария. Таким образом, по Снорри, получается, что Тор фактически вырос в Европе, в то время как Один почти 18 поколений спустя родился на азиатской стороне реки Дон.
Тур. Однажды русский антрополог Александр Давыдов положил передо мной в библиотеке Азова книгу под редакцией A. B. Виноградовой «Этнография и археология Средней Азии», изданную в Москве в 1979 г. Он раскрыл ее на главе A. C. Толстовой «Предания подгруппы массагетов-алани в традициях тюркоязычных народов Хорезма»
[506]. Прежде чем взяться за эту книгу, я подумал, не теряет ли всякий смысл погоня за Одином: слишком далеко и слишком много новых имен. Однако Александр Давыдов сказал: «Ты знаешь, что массагеты и аланы — или близкие родственники, или просто различные названия племени асов, а Хорезм — известный археологический район к востоку от Каспийского моря, где живут народы, пришедшие из Турана. В книге ты найдешь предания о Торе. По-русски мы его пишем через „у“, точно так же, как и твое имя, но произносим его точно так же, как и вы в Скандинавии». И я стал читать эту книгу. Вот что пишет Толстова: «Среди каракалпакских и узбекских племен в Хорезме широко распространены генеалогические легенды о разделении Земли между тремя сыновьями Перидона (или Феридона). К тому сыну Перидона, которого звали Тур, относится народ, живущий в районе к северу от реки Амударьи. Эту территорию в древние времена населяли кочевники, говорящие на восточноиранских языках, — саки и массагеты, с которыми было связано имя Туран, или Тур, в древние времена». А в одной из сносок она ссылается на В. И. Абаева, который писал: «Сегодня мы не сомневаемся, к какой этнической семье и к какому географическому региону принадлежал народ Тура. Это были иранские племена, мигрировавшие на север из района Хорезма — Согдианы
[507], Маргианы
[508] и Бактрии
[509]. Короче говоря, это были скифские племена (саки и массагеты)…»
Толстова продолжает: «Современное население Хорезмского оазиса считает, что название „Туран“ связано с именами „Тюрк“ и „Туркестан“. Интересно, что мысль о возможной связи слов „Тюрк“ и „Тур“ уже встречается в научной литературе. Казахи и узбеки, живущие в Туркестане, по сведениям местных информантов, — потомки Тура…»
Александр Давыдов напомнил, что Кузнецов, писавший об асах и аланах, также приводит легенду о Туре, чье имя произносится как Тор. Кузнецов утверждает, что эта легенда — древнее предание всех ираноязычных племен, и называет их общего предка — Траэтаона, «разделившего мир между своими сыновьями: Туром — прародителем туранцев; Сайримой — прародителем сарматов и Арьей — прародителем ариев». Это значит, что народ тур принадлежит к иранской языковой семье и поэтому находится в родстве с асами.
Пер. Вот это мысль!
Тур. Да, но пусть теперь над этим задумаются наши историки религии.
Борьба с тенями в эфире
Тур. Пер, ты в курсе, что мы прославились на весь мир?
Пер. Каким образом?
Тур. Пока мы тут с тобой сидим на Канарах и записываем наш диалог о том, что мы нашли, копаясь в огородах и на книжных полках в Азове, пять норвежских профессоров получили целую полосу в «Newsweek International», чтобы заранее заклеймить наш проект. Сегодня Анне, просматривая почту, нашла статью, где они высказывают свое мнение о раскопках в Азове.
Пер. Уж не те ли это профессора, которые раньше писали в норвежских газетах и пытались помешать нам получить разрешение на раскопки в России, потому что мы проигнорировали их предубеждение против Снорри?
Тур. Они самые. И заявления у них прежние. Только сейчас каждый выступил со своим кратким комментарием, так что можно ответить всем сразу.
«Это мифология, не подтвержденная археологией», — пишет Эвен Ховдхауген, профессор Университета Осло
[510].
Интересно, а больше он ничего не придумал? Ну так ведь он вовсе не археолог, а лингвист.
«Это все равно, что копать в поисках Эдема», — соглашается с ним его коллега, профессор Гру Стейнсланд, эксперт по древнескандинавским верованиям.
Да, больше ей и сказать нечего.
Пер. Хотя она и специалист по истории религии, но вряд ли у нее будет опыт раскопок Эдема. Читаю дальше:
«Он (Хейердал) видит только то, что хочет видеть, и игнорирует все, что противоречит его теориям, — пишет Кристиан Келлер, профессор археологии из Центра по изучению эпохи викингов и Средневековья в Осло. — Возьмем, к примеру, лингвистические данные. Так, скандинавское слово „ас“ происходит от германского корня и обозначает, очевидно, „ветер“ или „дыхание“, но оно не имеет никакой связи с Азовом».
Тур. От потомков асов, живущих ныне в Осетии, и от специалистов из Азова мы узнали, кем были асы и где находилась их родина в Приазовье. Мы также узнали из «Англосаксонских хроник», что Один, действительно, был королем того же ряда, что Кердик и Кинрик. Тот, кто пытается отмахнуться от асов Снорри, называя их «ветром» или «дыханием» германского происхождения, рискует проиграть тем, кто серьезно относится к норвежской истории. Так же бессмысленно пытаться игнорировать значение названия города «Азов». Но почитаем дальше:
«Согласно Анне Сталсберг, доценту археологии Норвежского технического университета в Тронхейме, название города „Азов“ возникло в XVII в. и означает „место, лежащее в низине“. Эксперты считают, что имя „Один“ произошло от германского „Вотан“ и не связывают его с Причерноморьем».
Пер. И что она пытается внушить читателям «Ньюсвик»? Что «Азов» означает «место, лежащее в низине»? Да каждый может туда съездить и убедиться в том, что Азов — самая высокая точка на десятки километров вокруг. Именно поэтому туда на протяжении всей древней истории устремлялись кочевые племена и следовавшие издалека купцы с Востока и Запада, как и показали наши раскопки. И именно поэтому Петр Великий в 1696 г. отвоевал у турок эту средневековую крепость (в то время она называлась «Асак») и выбрал Азов для строительства порта для всего российского Черноморского флота. Русские рассказали нам, что турки называли Азов «Асаком», потому что там жили «белые асы». И что же? Норвежский археолог пытается рассказать миру, что это название на самом деле означает «место, лежащее в низине»? Желание некоторых историков отстаивать германское происхождение имени Одина и асов возникло, должно быть, в те времена, когда модно было смотреть на нас, скандинавов, как на светловолосых арийцев — некое «свежее дыхание с холодного Севера».
Тур. Знаешь, это еще не всё, читаем дальше:
«Существуют неоспоримые доказательства. Скандинавские археологи не нашли никаких следов исторического Одина, но они раскопали довольно большую брешь в рассказах Снорри. В „Круге земном“ он говорит, что одной из традиций, привезенных Одином из Асгарда, была кремация мертвых. Это можно проверить археологическим путем. Кремация была распространенной формой захоронения еще до этого, — утверждает Сталсберг. — Но две тысячи лет тому назад, когда предположительно пришел Один, произошли изменения: люди перестали сжигать трупы перед захоронением…»
Пер. Совершенно не нужно начинать новую дискуссию по поводу кремации. Здесь Сталсберг явно противоречит своим коллегам, которые утверждают прямо противоположное, например, шведские профессора Йеркер Розен и Биргер Нерман, на которых мы уже ссылались, когда говорили об этой теме у Снорри.
Тур. Сталсберг заходит еще дальше, буквально в дебри, со своим следующим и последним утверждением: «Хуже всего то, что Стурлусон сам не является сторонником теории о том, что „Азов был Асгардом“. Так, в своей книге „Эдда“ он называет родным городом Одина Трою. „Это довольно далеко от Азова“, — замечает Эльсе Мундал, профессор скандинавской филологии Бергенского университета…»
Пер. Невероятно! Снорри никогда не считал Трою родным городом Одина! Университетскому профессору скандинавской филологии следовало бы остановить своего коллегу-археолога, чтобы та не несла такую откровенную чушь в прессе! Любой любитель может открыть классический труд Снорри «Эдда» и найти, что это не так. Здесь профессора смешали в одну кучу Тора и Одина, в то время как Снорри делает все, что в его силах, чтобы четко отделить их друг от друга как по месту, так и во времени. Ни Троя, ни бог Тор вообще не упоминаются в королевских сагах Снорри, а они охватывают время за два поколения до Рождества Христова — с нашествия римлян на город асов, который Снорри поместил именно там, где сегодня находится Азов. Примечательно, что в королевских сагах, повествующих об истории Скандинавии после бегства Одина от римлян, бог викингов Тор не упомянут ни как бог, ни как король.
Тур. Совершенно верно. Снорри упоминает о Трое только в Прологе «Эдды», где речь идет вовсе не о скандинавской истории, а об искусстве поэзии и мифологии. Откуда Снорри мог знать о местоположении Трои, которая существовала только в древних мифах, пока Шлиман не нашел ее остатки в 1870-х гг.?.. Если Снорри отнес Одина к дохристианской эпохе — за два поколения до Рождества Христова, то Тора, которого мы уже неоднократно упоминали, он помещает в мир мифов. Мы уже цитировали миф о Трое из «Эдды». И не предводитель асов Один, а легендарная мать короля-бога Тора Троан была дочерью короля Трои. Сам Тор, по легенде, вырос во Фракии, на европейской стороне пролива Дарданеллы. «Он много странствовал, объездил полсвета» — вот что мы узнаем о нем.
Пер. Кто знает, может быть, именно он обосновался в Центральной Азии и стал тем самым Туром, прародителем тюркских народов?
Тур. В мифе ничего не говорится о том, в какой части света обосновался Тор, но в «Эдде» Снорри приводит родословную, где упоминаются имена 18 королей, отделявших по времени короля-бога Тора от предводителя асов Одина из королевских саг.
Пер. Итак, если он отделил Тора от Одина, написав о них в совершенно разных книгах, противникам Снорри не следует вводить в заблуждение современных читателей.
Приводились ли еще какие-либо аргументы в «Newsweek International» против твоего решения о проведении раскопок в Азове?
Тур. Только один. Келлер добавляет: «Я не верю, что он найдет то, что ищет».
«Круглый стол» в Азове
Пер. Они, должно быть, подумали, что ты собираешься искать Одина, но ведь было бы бесполезно искать его там, откуда он уехал. Ведь, согласно Снорри, прах Одина был захоронен в кургане в Швеции.
Тур. Каждый имеет право думать, что хочет. Я полагаю, что и в России мало кто разделял наши надежды, когда мы приехали в Азов с дюжиной археологов и двадцатью студентами и начали вести раскопки в центре города. Помнишь, как все удивлялись, когда мы с Сергеем и переводчиком ходили и изучали результаты первого дня раскопок?
Пер. Да и мы с тобой, пожалуй, не ожидали найти что-то уже в первый день. Однако археологические находки оказались в Азове повсюду, куда ни ткни лопатой.
Тур. Помнишь, мы сами испытывали смешанные чувства больших надежд и сомнений. Уже в самый первый день археологи обнаружили осколок горшка двухтысячелетней давности, т. е. сарматского периода, и в том же слое нашли средневековые монеты и русские пуговицы от военных мундиров времен Петра I. Слои земли оказались перемешанными теми, кто копался здесь до нас.
Пер. Однако вы сразу нашли решение загадки.
Тур. Да. Все стало ясно, когда мы обнаружили старые крепостные стены и ров вокруг города. Этот город имеет давнюю историю. В данном случае Снорри указал нам путь в настоящий рай для археологов. Однако копать пришлось очень глубоко, чтобы добраться до нетронутых слоев. Во времена Снорри турки построили на этой горке форт. В 1696 г. царь Петр I отвоевал у турок дельту Дона. И те, и другие выбирали Приазовскую возвышенность благодаря ее благоприятному географическому положению, позволявшему контролировать все передвижения по Великому шелковому пути, по Азовскому морю и вверх по реке Дон вглубь России.
Пер. История повторяется. Петр I выбрал для строительства российского флота два города: Азов — в качестве порта для Черноморского флота и Архангельск на берегу Белого моря — в качестве базы для Северного флота. Он также приказал расширить древний канал, соединявший Волгу с Доном, и таким образом возобновил передвижение по старинным водным путям. Этот канал был построен мореходами Древнерусского государства и внуком Рюрика Святославом еще в 965 г., когда он захватил хазарскую крепость Саркел
[511]. В те времена между Доном и Волгой передвигались волоком. Таким образом, Азов мог контролировать речные водные пути, связывавшие Каспийское море с Азовским и Черным морями… А знаешь, кто помогал Петру строить новые крепостные сооружения и вал в Азове?
Тур. Нет.
Пер. Шведские военнопленные. Об этом нет ни слова в наших учебниках истории. Мне это рассказал в музее Анатолий, когда ты вскользь заметил, что я из Швеции. И надо сказать, он меня удивил. Он еще добавил шутки ради, что я, возможно, сам того не ведая, могу встретить в Азове своих дальних родственников. Ведь многие шведы женились на русских женщинах и остались здесь.
Тур. Пожалуйста, поподробнее. Когда это было?
Пер. После того как Карл XII в 1709 г. потерпел поражение под Полтавой, а Полтава находится всего лишь в двух днях пути верхом к северо-западу от Азова.
Тур. И ты всерьез считаешь, что шведские солдаты прибыли в Азов, чтобы усовершенствовать крепостные сооружения? Солдаты из армии шведского короля Карла XII, погибшего в Норвегии в 1718 г. во время осады крепости Фредрикстен?..
Пер. Знаешь, наш мир тогда был не больше, чем сейчас. Во время сражения с русскими в 1709 г. Карл XII был тяжело ранен и не мог сам руководить битвой. И поэтому все так и случилось. Когда он увидел, что надежды на победу рухнули, он приказал отступать. Вместе с ранеными король и его сопровождение были переправлены через турецкую границу. Офицеры и солдаты сильно поредевшей шведской армии капитулировали перед превосходящими силами русских. Согласно последним исследованиям, почти 23 тыс. солдат попали в плен, и только около 4 тыс. из них вернулись в Швецию после заключения мира в 1721 г. Среди военнопленных был также мой прапрапрадедушка, поэтому я особенно интересовался этим вопросом.
Тур. Ну и что же случилось с твоим прапрапрадедушкой?
Пер. Старший брат моего отца рассказал, что он слышал от своего отца: его прадед влюбился в красивую казачку, что совсем не странно. Но его сын вернулся в Швецию и поселился в Вэрмланде, где наша семья владела угодьями…
Однако давай вернемся к Карлу XII. Ведь он имел прямое отношение к Азову. Это совершенно фантастическая история, и о ней можно было бы написать целую книгу. В одной брошюре, которую нам дали в Азове, я прочитал, что русские в 1711 г. вернули Азов туркам «в обмен на шведского короля Карла XII». Я изумился столь странному утверждению. Наверное, у русских было документальное подтверждение этому? А в Швеции этот факт совершенно неизвестен. Я решил серьезно изучить этот вопрос, чтобы проверить, нет ли в нем крупиц истины.
Тур. И что же ты выяснил?
Пер. Когда Карл XII оправился в Турции от ран, он начал дипломатическим путем уговаривать султана, используя в качестве посредников жён из султанского гарема, — объявить войну России. Интрига удалась, и тут-то речь и зашла о турецкой крепости в Азове. В июне 1711 г. превосходящее турецкое войско окружило армию Петра у реки Прут. Петр попросил перемирия, и турки согласились. Во время начавшихся мирных переговоров было достигнуто соглашение: русские войска получат свободу передвижения, а крепость Азов вновь отойдет к туркам. Однако русские не отдали Азов, и поэтому турки в последующие годы не меньше трех раз объявляли войну русским. В связи с этим положение Карла XII неожиданно изменилось. Это произошло в феврале 1713 г. Карл больше уже не был султану «дорогим гостем и другом», а оказался на положении пленника, став жертвой политических интриг турок.
Вполне возможно, что именно тогда речь и зашла об обмене Карла XII на Азов. Очевидно, в России имеются письменные тому свидетельства. Однако короля так и не выдали русским. Он отправился домой и за четырнадцать дней проскакал через всю Европу, как мы уже об этом рассказывали раньше. Благополучно вернувшись домой из Турции, он собрал войско в 60 тыс. человек и пошел отвоевывать Норвегию у Дании. В Халдене он погиб, проведя в военных походах в общей сложности 18 лет.
Тур. Значит, русским его так и не выдали в обмен на Азов. Возможно, такое нарушение договора и стало причиной того, что турки три раза объявляли войну России и даже силой отвоевали Азов, правда, ненадолго, пока русские не укрепились там в 1739 г.
Пер. Все это говорит о том, насколько важную роль играл этот город в политической жизни. Было, впрочем, довольно интересно наблюдать за реакцией местных археологов из Ростовского университета по мере того, как они постепенно убеждались в том, что можно многому поучиться, копая там, где, по мнению Снорри, находился город асов незадолго до Рождества Христова. Они ведь не ожидали, что в клубничных огородах Азова найдут больше свидетельств о древних поселениях и контактах с дальними странами, нежели в руинах Танаиса.
Как-то раз я поехал с археологами на один день в Танаис посмотреть раскопки по другую сторону дельты Дона. Там доминировал европейский период: большое число целых и разбитых греческих амфор, в основном одного типа. Ведь Танаис — один из известнейших древних городов. Однако никто раньше не задумывался, что земля по другую сторону дельты Дона также таит в себе нечто интересное.
Тур. Кроме Снорри! Ведь при приближении римлян Один бежал не из Танаиса. Снорри совершенно чётко пишет, что город и капище Одина находились на восточном берегу устья пограничной реки. Иными словами, в Азии. Асы были азиатами, а греки нет.
Пер. Мне кажется, что королевские саги Снорри — единственный письменный источник об асах, но их нет среди почти 40 тыс. книг музейной библиотеки в Азове. Как тебе удалось убедить русских поверить Снорри?
Тур. А я и не пытался. Я рассказал о том, что пишет Снорри об Одине и асах. Русские имели об этом весьма смутное представление. Затем я рассказал, что большинство скандинавских историков полагают, будто исторические сведения Снорри — выдумка. Проект археологических раскопок в Азове представлял собой отличную возможность проверить теорию Снорри, который, несомненно, обладал хорошими географическими познаниями. Русские с этим согласились, и тогда я предложил работать вместе.
Пер. И как это русские сами не заинтересовались Снорри?
Тур. Все дело в недостатке связей между Северными странами и Кавказом. В те времена, когда Снорри Стурлусон и Роджер Бэкон писали об асах, два епископа из Армении могли свободно приехать с Кавказа в Исландию, чтобы проповедовать там свою веру, не встречая никаких преград, кроме критики со стороны Римско-католической церкви.
Вопрос был не в том, чтобы убедить российских археологов вести раскопки в Азове. Проблема состояла в том, чтобы избежать критики со стороны норвежских историков. Русские сегодня имеют все основания радоваться свободе слова и сотрудничеству через границы. Я всегда верил в успех, если ученые работают одной командой независимо от места и времени. Я думаю, что Снорри неплохо бы себя чувствовал, если бы оказался в сегодняшней университетской среде и воспользовался современными вспомогательными средствами.
Пер. Я должен сказать, что он был для нас все это время интересным проводником. Ты привык носиться по всему свету в поисках приключений, а Жаклин привыкла ездить вместе с тобой, и для вас это, возможно, не было так важно. А для нас с Элизабет стало большим событием сесть в самолет, чтобы лететь в маленький неизвестный город на юге России. В советские времена Ростовская область была закрытым регионом, даже для российских туристов. А ближайший сосед там — Чечня. Мы так волновались, что, когда сели на наши места в самолет, Элизабет решила выпить для успокоения таблетку и попросила стюардессу на всех известных ей языках принести «agua», «wasser», «water». Стюардесса понимающе улыбнулась и принесла наполненный до краев стакан. Элизабет проглотила таблетку, отхлебнула и тут же поперхнулась — жидкость в стакане оказалась чистой водкой!
А когда мы вышли из самолета в аэропорту города Ростова с миллионным населением, была уже ночь. В аэропорту мы услышали объявление на испанском языке, что здесь недавно побывали бандиты из Чечни — похитители людей. Мы продолжили свой путь в Азов по пустынной дороге среди ночи, но с полицейским эскортом. Мы все не поместились в одну машину, и нам пришлось ехать в другой машине позади вас. Порой и вы, и мерцающие огни полицейской машины исчезали в темноте, а в какой-то момент дорогу преградили вооруженные люди; они обыскали машину, а мы не поняли ни слова.
Тур. Да, признаться, и мы за вас испугались, потому что вы исчезли в темноте. Потом мы узнали, что это был всего лишь обычный патруль: так принимались меры против контрабанды оружия в Чечню.
Пер. А потом мы пережили настоящий шок. Прямо перед въездом в Азов нам пришлось резко затормозить. Вы уже видели подобное годом раньше. На дороге стоял сам мэр Азова, за ним — пятеро конных казаков и целый хор красивых девушек в национальных костюмах. Нам преподнесли свежеиспеченный каравай хлеба. Сам мэр разливал шампанское и приветствовал нас в Азове. Все это было в четыре часа утра.
Эта встреча задала тон всему нашему пребыванию в Азове. Кроме того, ты собрал в Азове удивительную команду очень толковых специалистов. За два месяца, отведенных для проекта, было сделано чрезвычайно много. Нас было всего 20 человек, когда мы собирались за столом в маленькой гостинице города, и 40 человек, когда мы обедали в столовой вместе со студентами.
Как тебе удалось организовать такой сложный проект в России, причем в городе, в котором ты до этого пробыл всего лишь два дня по дороге из горного селения удин?
Тур. Все дело в том, что в эти два дня я познакомился с Сергеем и Анатолием. Они все и сделали. Сергей Лукьяшко, как ты знаешь, — главный археолог Азовского региона, а его старший коллега, Анатолий Горбенко, — директор городского музея. Сергея я встретил у подножия кургана сразу за городской чертой. Он стоял около небольшого костра и жарил рыбу на обед для себя и своих студентов, которые занимались раскопками разграбленного до них кургана. Они пригласили нас с Жаклин отведать свежей рыбы из Дона. Когда мы встретились на следующий день, мне пришла в голову мысль, что этот человек вполне может руководить раскопками, проект которых начал вырисовываться в моей голове, а приветливый и добродушный Анатолий, основатель и директор Азовского музея, может добыть нам все необходимые разрешения.
Через несколько месяцев я встретил Сергея в Париже. Здесь наша дружба еще более окрепла. Сергей пригласил меня на открытие уже упоминавшейся выставки «Золото скифов» в Музее Сернуши
[512] в марте 2001 г. Сергей представлял на этой выставке Азовский музей, поскольку именно этот музей привёз наибольшую часть экспонатов для этой изумительной выставки сокровищ Азовского края. А когда я узнал, что Сергей — главный составитель огромного научного каталога выставки, мне стало ясно, что именно этот российский археолог должен руководить проектом в Азове.
Я открыл каталог и обнаружил, что Сергей был также автором главы «Сарматы и аланы». А может быть, он знал, кто такие асы, которых норвежские ученые поместили в мир сказок? Я нашел ответ на этот вопрос в каталоге еще до того, как сам Сергей узнал о моих интересах. Вот несколько цитат из текста каталога:
«Имеющиеся у нас источники позволяют предположить, что предки алан — асов пришли с востока через Среднюю Азию… Название „аланы“ сохранилось как собирательное наименование сарматских племен, хотя встречаются и другие названия. Этноним „ас“, упоминаемый Птолемеем, встречается в ономастике Танаиса в именах вроде „железный ас“ или „первый среди асов“. Катакомбы конца сарматского периода очень похожи на катакомбы на Северном Кавказе и подтверждают таким образом генетические связи с осетинами (асами или ясами), упоминаемыми русскими летописцами в Средние века».
Пер. Таким образом, он подтвердил тезис Снорри о том, что в районе Азова жили люди, которые называли себя асами. При этом Сергей сделал это задолго до того, как ты рассказал ему про Снорри… А кто еще входил в группу российских археологов?
Тур. Сергей сам пригласил двух коллег из Ростовского государственного университета — профессоров археологии Владимира Яковича и Владимира Максименко, которого мы звали просто Макс. Кроме того, в группу входили два полевых археолога Андрей Масловский и Игорь Белинский. А ректор Ростовского университета приказал перенести экзамены для всех студентов-археологов, чтобы они смогли участвовать в раскопках в Азове вместе со своими профессорами.
Пер. Были еще два российских ученых, с которыми я близко познакомился, но они не входили в группу Сергея.
Тур. Да, это были Николай Фомичев, который помогал нам исследовать источники, и Александр Давыдов из Архангельского университета, специалист по району Белого моря и связям с норвежцами на Дальнем Севере. Мы попросили этих ученых исследовать письменные источники на предмет того, чтобы получить наибольшее представление о навигационном поле, которое получил Петр I в наследство от Рюрика и первых кочевников и купцов на Руси.
Пер. С этими учеными я немного общался по-английски. Тем не менее наш блестящий переводчик Евгений оставался ключевой персоной во время экспедиции, потому что из нас, девяти скандинавов, никто не говорил по-русски, а Сергей был единственным археологом, знавшим английский язык.
Тур. Языковые проблемы становятся, как правило, менее обременительны при общении специалистов одной отрасли, использующих одинаковый подход и одинаковые средства. Однако, когда наша международная команда начала раскопки в Азове, случилось непредвиденное. К счастью, я попросил пятерых скандинавских археологов взять с собой свои совки и другие личные приспособления для раскопок, ибо у русских таких предметов не оказалось. Они пользовались лопатами с длинными ручками и даже не применяли сито для просеивания земли, так что нам, приехавшим с Запада, казалось, что мы были лучше оснащены, что русские, очевидно, были долго отрезаны от прогресса, произошедшего в технике археологических раскопок, и не представляют себе, что такое стратиграфический метод раскопок с измерением в сантиметрах
[513]. Русские же с улыбкой смотрели на иностранцев, копавшихся в земле совочками.
Пер. Мне казалось, что назревают серьезные проблемы, которые грозят испортить сотрудничество.
Тур. И вот тут-то мы осознали, как нам повезло с переводчиком. Ведь это было норвежско-российское сотрудничество, но на российской земле и в соответствии с российскими законами! Разрешение на раскопки было выдано Российской академией наук в Москве, а Сергей был назначен научным руководителем проекта.
Пер. И вы с Сергеем сразу поняли, как выйти из положения при таких противоположных точках зрения.
Тур. Да, было очевидно, что наши орудия и незнание условий местной археологии вызывали у него такой же скептицизм, с каким мы взирали на лопаты наших хозяев. Начать международный проект в таком случае можно было только одним способом, и Сергей сразу же согласился с нашим предложением. Мы решили одновременно начать раскопки в пяти местах. Четверо российских коллег Сергея будут отвечать каждый за свой участок, а трое норвежских и двое шведских археологов объединятся в одну команду под руководством опытного норвежского полевого археолога Бьёрнара Стурфьелля. И каждый будет использовать привычные ему орудия раскопок.
Пер. И результат превзошел все ожидания! Бьёрнара ты уже знал, ведь ты познакомился с ним за год до этого в поселке удин. Именно он раскопал скелеты и козлиные рога под руинами древней удинской церкви в Азербайджане.
Тур. Просто поразительно, как за несколько дней раздражение и скепсис сменились взаимным уважением и восхищением. Команда с Севера привыкла копать в земле, полной камней и гравия, но когда скандинавские археологи с трудом соорудили себе сито для просеивания, то оказалось, что оно совершенно не нужно. Земля в дельте Дона была мелкозернистой, как мука, и если рассыпать ее на утрамбованный участок, то видна каждая жемчужина и каждый кусочек кости. Вскоре оказалось, что обе стороны могут многому научиться друг у друга. Мы ужаснулись, когда увидели, что русские просто вонзают лопату в землю как можно глубже. И если мы привыкли измерять глубину раскопок в сантиметрах, они мерили ее в лопатных «штыках». И вот оказалось, что они удивительно ловко пользуются своими лопатами с длинными черенками. Они всегда вовремя замечали, что в мелкозернистой почве что-то скрывается, и тогда переворачивали лопату и работали очень точно и элегантно, что свидетельствовало о многолетнем опыте. А затем в ход пускались кисточки, кончики ножей и кузнечные меха, и вот уже скелет и прочая утварь расчищены, будто с помощью археологического совка.
Пер. Да, я видел, как они радовались, когда продвинулись на несколько метров, не потеряв ни одного черепка. А в это время команда Бьёрнара все еще лежа скребла и мерила что-то почти на поверхности.
Тур. Совершенно верно, но в один прекрасный день и русские разинули рот от удивления: Бьёрнар и его команда обнаружили глубоко в земле дыры от несохранившихся свай, вбитых туда для постройки жилого дома. Такого русским не приходилось видеть. Если такие отверстия и имелись в их шахтах, то они вряд ли бы их заметили, так как копали лопатами вертикально вниз. Таким образом, мы многому научились друг у друга в ходе этого международного сотрудничества. Норвежцы в основном учились идентифицировать археологический материал, выкапываемый из земли. В этом деле явно лидировали Сергей и его коллеги, имевшие многолетний опыт.
Пер. А как ты отбирал четырех археологов, которые копали вместе с Бьёрнаром в клубничном огороде?
Тур. Я начал вывозить норвежских археологов в свет уже в 1952 г. и сейчас искал свежее пополнение. Так, я пригласил Катарину Лорвик, которая в течение двух последних сезонов принимала участие в наших раскопках на Тенерифе. Затем археологический факультет Университета Осло получил заявление от Ингара Гундерсена, многообещающего студента, который решил отложить свой экзамен, чтобы поработать один сезон на археологических раскопках за границей.
Археологи музея Кон-Тики были заняты подготовкой проекта, связанного с изучением пирамиды на острове Самоа. У них имелись контакты на острове Готланд, и они порекомендовали шведскую супружескую чету — археологов Нильса-Густава и Гуниллу Нюдольф, поскольку я хотел иметь специалистов именно с этого острова для ведения раскопок в Асаланде Снорри.
Пер. Остров Готланд — несомненно, богатейший район в Европе в смысле находок древних времен. Там имеются чёткие археологические доказательства (в том числе ракушечные деньги) торговых связей с дальними странами уже в каменном и бронзовом веках. Я, без преувеличений, могу сказать, что этот остров имел такое же значение для стран Балтийского региона, как Крит, Родос и Кипр — для стран Средиземноморья. В последующие столетия торговля расширялась и достигла наивысшей точки в период Высокого Средневековья.
И не случайно Снорри, посетив своего коллегу — судью-старейшину в Западной Готландии (Вестерготланде), о чем мы упоминали в начале нашего диалога, отправился на остров Готланд. Ведь у судьи-старейшины Готланда хранилась важная рукопись «Гуталаг»
[514], написанная на древнегутском языке, который, по мнению лингвистов, очень близок готскому. В «Саге о гутах»
[515] рассказывается среди прочего о масштабном переселении на восток в страну «греческого императора» на берегу Черного моря.
Тур. Я всегда верил в простейшие решения и подозревал, что готы пришли с Готланда. Разве это невозможно?
Пер. Это не исключено, ибо, когда готы пришли с севера, они сначала обосновались в Польше, вокруг устья Вислы. А сюда идет прямой путь на юг с острова Готланд. В связи с этим я вспомнил один эпизод из нашей поездки в Россию. Мы с Элизабет и двумя археологами с Готланда поехали в Танаис с переводчиком Александром. И представляешь, первое, что я там увидел в одной из музейных витрин, была деревянная фигурка вороны! Я позвал Нильса-Густава, и тот широко раскрыл глаза от удивления: «Да это же вендильская ворона! Я откопал нескольких таких на Готланде»
[516].
«Вендильская ворона», как она называется на языке шведских археологов, это фигурка птицы особого вида, которая впервые была найдена в XIX в. недалеко от могильного холма «Оттар — вендильская ворона» в Венделе близ Упсалы. Такие птицы, которые, как многие полагают, изображают воронов Одина, обычно датируются приблизительно 600 г. Однако датировка этой находки была сделана в XIX в., когда еще не был известен метод радиоуглеродного датирования. Что касается птицы из Танаиса, то примечательным было то, что ее нашли в слое раскопок греко-римского периода, т. е. до того, как Танаис сровняли с землей в IV в. Неужели эта птица «прилетела» из Танаиса в Готланд? Или наоборот? Интересно отметить, что самая старая руническая надпись с именем Одина была найдена на Готланде, на так называемом Кильверстейне, обнаруженном в могиле IV в.
Тур. Однако, что бы ни узнал Снорри от судьи-старейшины и из письменных источников на Готланде, я рад тому, что он побудил меня вести раскопки не на греческой стороне пограничной реки, где на пустынной равнине виднеются руины Танаиса. Название «Танаис» ему было известно из греческих источников, поскольку город был разрушен за тысячу лет до Снорри. Как же нам повезло, нам всем, что благодаря Снорри вся наша команда оказалась в идиллическом и по-прежнему процветающем маленьком городке Азове!
Пер. Верно. Я уже говорил, что встреча, организованная мэром и его окружением, задала тон всему нашему пребыванию в Азове. Этот городок со своими цветущими вишневыми садами будто сошел со страниц чеховской пьесы. А вокруг — низенькие окрашенные в синий цвет домики с зелеными оконными ставнями и красивыми резными наличниками. На некоторых домах были даже крыши из камышового тростника, как в старину. А недалеко от порта реставрировали старую церковь с золотыми луковичными куполами. Я никогда не забуду, как Сергей устроил как-то раз в воскресенье пикник в лесу… Мы чувствовали себя как в раю, когда на берегу реки под плакучими ивами красивые молодые казачки подавали нам огромные блюда, полные только что сваренных раков в укропном соусе. Когда мы планировали наше пребывание в Азове, мы и представить себе не могли, что оно будет столь прекрасным. После пикника мы отправились в бесконечную степь, которая на протяжении столетий привлекала множество кочевников и целые армии вооруженных всадников. Мы смотрели на огромные курганы, или могильные холмы, вырисовывавшиеся на горизонте между небом и землей, и чувствовали, как будто заглянули в мир сарматов и скифов.
Тур. Жаль только, что к твоему приезду можно было увидеть лишь наши раскопки отходов и мусора за две тысячи лет, найденных под улицами города, а все ценные произведения искусства, извлеченные российскими археологами из этих могильных холмов, находились в это время на выставке в Париже.
Пер. Глядя на огромное количество разнообразных черепков различного цвета и формы, которые ежедневно тщательно промывали для вас сотрудники музея, я понял, что Азов имеет гораздо более пеструю и экзотическую историю, чем старые греческие колонии по другую сторону речной дельты и берегам Азовского моря. А если учитывать мой интерес к искусству и истории, то для меня особую ценность представляла литература, найденная Николаем и Александром в библиотеке. А если говорить о Готланде и параллелях, которые мы обнаружили между находками в тамошних захоронениях и в районе Азова, то мне лично было очень интересно более подробно побеседовать с Николаем о том, что он тебе рассказал. Николай был уверен в том, что древнескандинавские названия «Асгард» или «Осгород», употребленные Снорри в отношении крепости и капища Одина, по-русски звучали бы как «Асгород» — город асов. Азов находится там, куда Снорри поместил капище асов. Я рассказал Николаю, что один норвежский лингвист утверждает, будто Азов — это современное название, которое не может иметь ничего общего ни с асами, ни со святилищем. И тогда он покачал головой и с вежливой улыбкой сказал, что корень «ас» вошел и в турецкое название города Асак и что Азов находился в самом сердце царства алан, т. е. в старом царстве асов. А знаешь, что мне самому удалось разузнать?
Тур. Ты говорил о том, что обнаружил «Готенхоф» — старинное название другого торгового поселения, которое северяне основали на Руси.
Пер. Когда Снорри в XIII в. приехал на остров Готланд, готландские купцы уже в течение ста лет обосновались в Новгороде, Новом городе. Там у них было торговое подворье «Готенхоф» — «капище гутов». В тот же период новгородские купцы, среди которых были также гуты, продвинулись на восток к Волге и основали Нижний Новгород у впадения Оки в Волгу. Я знаю, что сегодня это город с миллионным населением и что ты недавно посетил тамошний университет. Купцы из Готенхофа установили торговые контакты на всем пути от Волги до Дона, вплоть до поселения Асак (Азов), которое в 1116 г. было завоевано потомком Рюрика Ярополком и присоединено к Древней Руси.
Таким образом, жители Севера получили связь с Великим шелковым путем. И когда готландские купцы показали исландцу Снорри свои дорогие товары из шелка, они, возможно, рассказали ему, что эти товары пришли из старинного города асов — Асгарда, или Асгорода.
Однако вернемся к археологам, которые вели раскопки в Азове, чтобы подвергнуть испытанию достоверность Снорри. Если судить по нашим беседам с ними, то создавалось впечатление, что они все серьезнее относились к сведениям из королевских саг. Наши разговоры не сводились к одной только археологии. Все чаще затрагивались исторические события, известные из других источников. Так от разговоров о форме старинных ручек и изгибах обломков глиняных горшков мы перешли к обсуждению исторических событий и перечислению знаменитых людей в этих краях.
Тур. Русские специалисты, отобранные для Азовского проекта, все были археологами и отличными экспертами по определению происхождения и возраста вещей, которые мы находили в земле под улицами города. Как ты видел, все сотрудники музея отмывали, нумеровали и заносили в каталоги весь тот материал, который студенты ежедневно приносили с полевых раскопок. В этом и состоял их огромный вклад: они сообщали нам новую информацию. Однако должен отметить, что они вовсе не были узколобыми специалистами, которые не интересуются ничем иным, кроме своей профессии. И они не дискредитировали Снорри только на том основании, что он жил и писал в Исландии, а не в Афинах или Риме.
Пер. Или потому, что он считал асов обычными людьми! Я понял многое из того, о чем велись наши беседы, но не был на «круглом столе», поскольку мне надо было попасть на рейс из Москвы в Тенерифе, который бывал раз в неделю.
Тур. Ты видел, как музейные работники из горшечных осколков восстанавливали вазы и кувшины, которые затем относили на склад. Вскоре Анатолий Горбенко приготовил для нас в музее сюрприз. В музее был отведен отдельный зал для материалов нашей экспедиции. Открытие этого зала было приурочено к «круглому столу», который состоялся через два месяца после начала работ. Академия наук в Москве, которая дала разрешение на раскопки, направила по этому случаю в Азов специалиста по скифам и сарматам Марину Мошкову. Мне кажется, что я удивился не меньше нее, когда очутился в совершенно новом помещении музея, где все стены были заставлены вертикальными и горизонтальными витринами с нашими находками. Все это было найдено в течение двух месяцев всего лишь в нескольких сотнях метров от музея, под улицами города.
Сергей и Владимир организовали выставку и написали текст, а Андрей вел экскурсию. Здесь были налицо доказательства тесных контактов с большей частью народов Древнего мира ещё до того, как ведущая роль перешла от восточных стран к Западной Европе. Если бы не Снорри, получивший каким-то образом сведения из Кавказского региона (то ли от готландских купцов, то ли от армянских епископов), никто никогда бы не поверил в Азове, что можно заполнить целый зал музея находками из центра города. Мы копали даже перед гостиницей, расположенной на главной площади города, где, несмотря на падение коммунизма, по-прежнему стоял бюст Ленина, обращенный к устью Дона.
Андрей, который вел экскурсию по залу, был и сам явно потрясен разнообразием материала, найденного во время раскопок. А представленный материал, действительно, был многообразен. Здесь были предметы обихода, украшения и оружие — вещи из керамики, железа, меди, бронзы, серебра, стекла и кости. Археологи идентифицировали материалы из Китая, Средней Азии, Монголии, Северного Кавказа, Древней Руси, Малой Азии, Ирана, Сирии, Азербайджана, Грузии, Армении, Турции, Древней Греции, Италии и Испании. Андрей подчеркнул, что среди руин одного дома XIV в. он нашел кусочки мраморных плит, привезенных из двух совершенно различных карьеров: одну — с турецкого острова в Мраморном море, а другую — с низовьев Волги, недалеко от ее впадения в Каспийское море.
Пер. Ты, должно быть, с усмешкой вспоминал те вспышки негодования в прессе в кампании, развернутой против Снорри, когда ты объявил о своих планах вести раскопки в Азове?
Тур. Да, я порадовался от имени Снорри. Было забавно вспоминать тех трех профессоров, которые пытались прикрыть свою злость академическими издевками. Я хорошо помню их совместную статью в «Aftenposten» от 16.12 2000 г. с великолепным штриховым портретом Снорри кисти Кристиана Крога и следующим текстом: «Карта пиратов. Снорри, наверняка, от души бы посмеялся, если бы узнал, что его географические описания через 800 лет послужат пиратской картой с указанием мест раскопок. Перед вами портрет Снорри кисти Кристиана Крога».
Пер. И эти слова сбылись! Ты взял эту 800-летнюю карту, над которой смеялись современные эксперты, и оказалось, что места раскопок были указаны верно.
Тур. Сергей открыл «круглый стол», сделав общий обзор результатов раскопок. Всего было зарегистрировано 35 800 археологических находок, в том числе двенадцать захороненных скелетов. Подавляющее большинство находок почти равномерно распределялось между средневековым городом и двумя клубничными огородами недалеко от крепости. Мы назвали их Восточный сад и Западный сад. Расстояние между этими огородами составляло всего 50 м. Археологи отметили, что хотя поверхность земли была одинаковой и соответствовала уровню улицы за забором, однако под землей все оказалось очень по-разному. Земля под клубничными огородами шла под уклон с запада на восток. В Восточном саду, где копала российская команда Владимира, первоначальный уровень земли был гораздо глубже, чем в Западном, где копали скандинавы под руководством Бьёрнара, и обе команды столкнулись с совершенно различной засыпкой и стратиграфией, хотя копали очень близко друг от друга.
Владимир изложил археологические факты, а Бьёрнар подтвердил свои наблюдения. Сергей нашел решение этой археологической загадки. В музейной библиотеке имелось несколько старых карт и рисунков тех времен, когда крепость находилась в руках турок и подвергалась нападению русских войск в 1696 г. На одном из рисунков было чётко видно, что турецкая крепость находится на восточном берегу реки, на склоне холма вниз к берегу, а с другой стороны защищена крепостной стеной и рвом. Ров заканчивался впадиной, отделявшей территорию крепости от остальной возвышенности, на которой русские, осаждавшие крепость, укрепили свои батареи и открывали огонь прямо по крепости. Солдаты, находившиеся в низине, применяли мортиры. Траектории пушечных ядер были помечены тонкими линиями, а мортир — пунктирными.
Карта представляла интерес для Сергея не с точки зрения военной операции, а, скорее, потому, что по ней можно было определить рельеф местности вокруг крепости 300 лет назад. Сегодня ни рва, ни впадины не существовало. Победители засыпали их землей, чтобы местность стала более ровной для расширения жилой застройки. В заключение Сергей сказал: «Если мы сравним эту ситуацию с сегодняшним днем, то наши „сады“ можно поместить в то место, где раньше была впадина между двумя высотами».
Таким образом, мы получили объяснение факту, который раньше не могли понять. Дело в том, что там, где копала команда Владимира, первоначальный уровень земли был гораздо глубже, а, кроме того, в «садах» оказалась совершенно разная засыпка. В шахте Владимира, в Восточном саду, находок обнаружено гораздо больше — 12 500 предметов, в то время как в Западном саду их было 3621. А в засыпке XVIII в. оказалось, на удивление, много обломков глиняных сосудов раннего сарматского периода, т. е. времени Рождества Христова. Это объяснялось, разумеется, тем, что победители, взявшие крепость, засыпали овраг землей, взяв ее с возвышенностей по обеим сторонам, а земля эта лежала там нетронутой с древнейших времен. Именно поэтому команда Владимира нашла горшечные обломки I–II вв. в самых верхних слоях, в то время как на глубине 3 м под уровнем улиц находился материал, перемешанный в хронологическом отношении. Например, маленький христианский бронзовый крестик и два пушечных ядра лежали в том же слое, что и горшечные обломки конца 1 в. до н. э.
Пер. Да, когда археологи начали показывать нам ручки и обломки
конца I в. до н. э., я подумал, что это находки того времени, когда Один, согласно Снорри, отправился на Север.
Тур. Вот именно. А степные народы, которым греки дали общее наименование «сарматы», в этом районе получили от турок название «аланы», что означало «воители». Сейчас мы знаем, что сами аланы называли себя асами, и именно это название использовал Снорри для народа, который жил здесь во времена Рождества Христова.
Пер. Таким образом, мы должны поблагодарить русских составителей старых карт за то, что нашли благодаря им объяснение загадки, доставившей археологам поначалу сильную головную боль.
Тур. Находки множества предметов античного периода с самого начала вселили в нас надежду и способствовали хорошему рабочему настрою. Постепенно археологи добрались до нетронутых слоев. Они дошли до так называемого чисто сарматского периода. И тут началось самое интересное. В Восточном саду Владимир указал на чёткое разделение слоев, которое начиналось на глубине 5,40 м в вертикальных стенах шахты. Здесь находился тонкий слой, в котором вообще не было никаких остатков культурного материала. Под этим стерильным слоем начинался материал чисто сарматского периода, который прослеживался и дальше, вплоть до глубины 8 м, а мы дошли как раз до этой глубины за один сезон раскопок.
Материал, обнаруженный в нетронутом нижнем слое, археологи датировали периодом примерно с 100 г. до н. э. до 300 г. н. э. Анализ смешанного материала, находившегося над стерильным слоем, говорил о том, что в течение почти тысячи лет на этой возвышенности не было никакой деятельности, вплоть до так называемого периода Азака-Таны в XIII–XIV вв. н. э., когда здесь появились мирные торговцы, наладившие контакты с дальними странами.
Пер. А кто жил здесь в первоначальный период, в столетия до и после Рождества Христова?
Тур. Российские археологи идентифицировали их как меотосарматов. Специалисты дали это общее название всем племенам, пришедшим в качестве воинственных кочевников из Азии и обосновавшимся в дельте Дона и вокруг Азовского моря.
Пер. Иными словами, речь идет о тех, кого греки назвали сарматами, а турки — аланами, т. е. воителями, а сами они называли себя асами, что и отразил Снорри.
Тур. Верно, но археологи сделали еще одно важное наблюдение, изучая краски в очищенной вертикальной стене, где были видны слои отложений. В нижнем слое времен асов археологи увидели тонкую серую линию, шедшую поперек черной стены периода асов. Все уставились на нее, а Владимир тут же прокомментировал увиденное: «Это очень важно. Эта линия разделяет сарматский период на две части. Видимо, в жизни людей здесь что-то изменилось, поскольку изменились и отложения. Может быть, жители покинули эти места, а затем вернулись? Что-то, во всяком случае, с ними произошло…»
Владимир вернулся к этому вопросу и на «круглом столе», а во время раскопок постоянно повторял: «Здесь что-то случилось до нашей эры» или «Кто-то побывал здесь до…» Сергей соглашался с ним и говорил о том, что, согласно старинным летописям, Азов был основан племенами сарматов, которых греки называли меотами или болотными людьми, так как они жили вокруг моря-болота. Известно, по меньшей мере, семь племен меотов. Одно из них обитало на Кубанском полуострове, к югу от Азовского моря, но пришло на север в Азов во второй половине 1 в. до н. э.
Пер. Как-то к нам приехал Валерий Евтеев, министр по внешним связям Ростовской области, и Владимир показал ему несколько серых и красных черепков, которые, как они считали с Сергеем, были завезены сюда на рубеже нашей эры. Один обломок красного кувшина был малоазийского происхождения, поскольку в нем содержались пирит и мика.
Тур. Верно. В этот день я также записал, что археологи связывают некоторые обломки из Восточного сада с царством знаменитого Митридата. Осколки были из города с азиатской стороны Боспорского царства и датировались концом эллинистического периода, незадолго до Рождества Христова. На «круглом столе» Владимир вернулся к своим находкам I в. до н. э. Он докопал до глубины 7,7 м, не дойдя до материкового грунта, но был уверен в том, что если продолжить раскопки, то обнаружатся еще находки I в. до н. э., поэтому рекомендовал продолжить Азовский проект в будущем году.
Пер. Скандинавские археологи в Западном саду тоже ушли в глубину на несколько тысячелетий, хотя они действовали очень тщательно, используя совки вместо лопаты с длинным черенком.
Тур. У скандинавов расстояние до первоначального уровня было меньше, так как они копали в том месте, где земля когда-то поднималась к крепости. Во время «круглого стола» Бьёрнар попросил Владимира сказать от его имени несколько слов по-русски. В настоящее время он, как и другие руководители команд, сидит и пишет научный отчет о раскопках. Это предусмотрено договором с Российской академией наук. Однако научный отчет — это научный отчет, предназначенный для профессиональных археологов, а вот что пишет в личном письме норвежский археолог о своих впечатлениях от пребывания в России: «Нас было пятеро скандинавских археологов — трое норвежцев и двое шведов. Нам выделили место для раскопок в клубничном огороде. Поскольку наш участок был только частью большого сада, в котором вели раскопки и российские археологи, он был назван „Западный сад“. Как только мы начали копать, сразу же нашли большое количество хозяйственных отходов или домашнего мусора. Наверное, только археологам нравится копаться в мусоре минувших времен. Многие предметы вновь были извлечены на свет Божий и могли теперь рассказать нам о тех людях, которые „соорудили“ эту кучу мусора где-то в начале прошлого века.
По мере того как мы углублялись в слои земли, можно было наблюдать характерные изменения от современности к XIX в. Мы установили, что люди, которые использовали это место в качестве мусорной ямы, были совершенно обычными людьми, о чем свидетельствовала их утварь — обычные разбитые тарелки, ножи без ручек, ржавые дверные петли и пр. Мы также отметили, что здесь, возможно, жили несколько поколений сапожников, поскольку среди находок преобладали подошвы, кусочки кожи, остатки вырезанных моделей обуви и прочие предметы, связанные с сапожным делом. Все эти находки принадлежали XVIII–XIX вв.
Глубже мы обнаружили предметы, связанные с военными походами. Этот земельный слой был свидетелем того, как армия Петра I завоевала крепость Азов, бывшую ранее турецким форпостом. Пред нами предстала трагическая картина войны — куски разорвавшихся пушечных ядер и изуродованные скелеты погибших. Так, у одного из них левая нога была оторвана от бедра, а правая сломана выше колена. Этот храбрый солдат наверняка погиб во имя того, чтобы Петр I выиграл сражение и взял Азов. Погибших хоронили на возвышенности, откуда открывался вид на реку Дон (Танаис), находившуюся, по Геродоту, всего в 100 м от крепостной стены.
Однако мы копали дальше и с каждым сантиметром углублялись в историю. Мы старательно проскребли слои Средневековья и античного периода, делая перерывы лишь на зарисовки и фотографирование. В конце сезона обнаружили еще один загадочный объект. Он показался из земли сначала в виде полукруга, потому что вторая его половина скрывалась в том участке земли, где еще не копали. Этот объект радиусом около 1 м был покрыт более темной землей. За ним последовал целый ряд других маленьких полукружий диаметром около 10 см, находившихся на расстоянии полуметра друг от друга и также покрытых более темной землей. Как оказалось, это были остатки вертикальных опор, образовывавших стену и крышу дома во времена Рождества Христова. Более темный цвет земли объяснялся большой концентрацией органических веществ в результате гниения деревянных опор. В проёмах можно было увидеть землю другого цвета. Жилище представляло собой круглую полуземлянку, и только одна низкая стена и крыша виднелись на поверхности. От дома открывался великолепный вид на реку Дон. Этот дом принадлежал не королю и не хёвдингу, а, должно быть, обычному сармату, который первым поселился в том месте, которое мы в течение целого сезона называли „Западным садом“. Он жил там со своей семьей в те времена, когда римляне начали свои набеги на степные районы к северу от Азовского моря…»
Тур. Это краткий и довольно чёткий рассказ о том, что скрывалось в земле под клубничным огородом. Место раскопок находилось ближе всего к крепости. Было очевидно, что люди в течение веков жили на возвышенности и ближайших склонах к реке. Немного дальше, на территории теперешнего города археологи наткнулись на керамические черепки более ранних периодов. Это были засыпки над большим местом погребения. Археологи даже начали говорить о некрополе.
Пер. Да, Макс копал в нескольких сотнях метров от клубничного огорода, на открытом месте, которое было видно из окон гостиницы. Там он наткнулся на старинное погребение, которое, по мнению археологов, датировалось не позднее чем II в. н. э. Скелеты воинов лежали головами на север, с кувшином у плеча и связкой стрел у бедра. Я помню, что Ингар был первым, кто заметил, что у них были бронзовые пряжки на поясах, как у викингов.
Тур. Это было большое кладбище. Видимо, здесь до прихода римлян находилось большое поселение. Анатолий говорил об этом еще до того, как мы начали раскопки, так как он знал, что жители обнаруживали захоронения во многих местах, где строили погреба, и даже под нашей гостиницей.
Совсем по-другому обстояло дело на расстоянии еще нескольких метров, там, где располагался средневековый город Асак/Азак. Возможно, что генуэзские и венецианские купцы, основавшие город Асак-Тана, поселились поодаль от старого города, подальше от некрополя. Молчаливый и трудолюбивый Андрей со своей командой раскопал центральную часть Асака. Его находки не были такими древними, но весьма разнообразными. Между стенами и мостовыми они нашли около 1700 бронзовых монет, большая часть которых была отчеканена в Асаке, некоторые в Поволжье и в Крыму. Андрей установил, что в 1346 г. здесь свирепствовала чума и город пережил упадок. Об этом Андрей узнал из статьи, посвященной распространению чумы в Причерноморье.
Пер. Это что-то новое. Значит, чума пришла на год раньше, чем считалось раньше. Из Асак-Таны болезнь распространилась, должно быть, на портовые города в Европе. В Париже чума разразилась летом 1348 г., а в ноябре она пришла в Лондон. В начале лета 1349 г. из английского порта в Берген пришел корабль, груженный шерстяными изделиями. Корабль пытались изолировать, так как на борту среди матросов началась чума, однако болезнь принесли в город крысы. Считается, что от чумы умерло две трети населения. Болезнь свирепствовала во всей Европе, в Северной Африке и на Канарских островах. Чума унесла жизни примерно 25 млн. человек.
Тур. А жизнь на Азовской возвышенности шла своим чередом, ибо одна из найденных монет была отчеканена в Асаке в 1381 г., и это свидетельствует о том, насколько важен был этот город. Однако самая интересная находка была сделана Андреем при раскопках мостовой у городской хлебопекарни: на расстоянии нескольких метров друг от друга лежали бронзовый медальон и великолепное кольцо с чеканкой. Медальон состоял из бронзовой монеты Боспорского царства, которое находилось по другую сторону Азовского моря во II в. н. э. Монета была вставлена в широкую бронзовую оправу, которая датирована XIV в. н. э. Таким образом, эта монета из царства царя Митридата пролежала спрятанной где-то в течение 1200 лет, а затем была вставлена в оправу, и ее носили в качестве медальона, поскольку она, очевидно, представляла какую-то неведомую нам ценность.
Пер. Согласно данным об истории города Азова, город Асак был основан куманским ханом Асупом в 1067 г. Однако никто не верит в то, что Азов получил свое название от Асупа.
Тур. Скорее, наоборот, это Асуп взял себе имя по городу асов, или же он сам был из асов.
Пер. Куманы — это тюркский народ, который русские называли половцами
[517]. Их история напоминает историю асов. Примерно в X в. они начали господствовать в степях. Они жили по берегам Волги и на Урале, откуда первоначально пришли асы.
Тур. Асуп опоздал на тысячу лет, основав город на таком прекрасном месте, где укрепления сменяли друг друга еще до наших времен. Ему пришлось довольствоваться территорией за старым некрополем асов. Николай сказал о том, что Асак, названный так в честь светлокожих асов, упоминается также в старых летописях как Ас-келе. Это слово означает «дом асов», или «город асов», а по-русски звучит как Асгород.
Пер. Да, этот город обладает совершенно невероятной историей, стоит только покопаться в земле или в исторических документах.
Тур. Если бы у нас было больше времени, было бы интересно покопать у стен церкви св. Николая, которая при советской власти была разрушена, а сейчас восстанавливается. В земле, которую рабочие куда-то отвозят, наверняка можно найти удивительные вещи. Церковь стояла внутри старой части города за крепостной стеной, недалеко от наших раскопов. Черная земля была полна разноцветных осколков средневековой керамики, в которых угадывалось их венецианское происхождение. Сергей нашел один красивый черепок с коричневым орнаментом иранского типа, а другой — с чудесной синей глазурью из Сирии. Он сообщил нам, что в XIII–XIV вв. здесь находилось венецианское подворье. По легенде, на этом месте была построена римская католическая церковь, потому что, как гласит другая старинная легенда тысячелетней давности, здесь побывал св. Николай, когда проповедовал христианство варварам
[518]. Представление о том, что эти места посетил св. Николай, настолько укоренилось в сознании местных жителей, что мусульмане, завоевавшие Азов, не тронули церковь св. Николая. Однако ее разрушили коммунисты. Легенда, однако, не была забыта, и вот сейчас храм собираются восстанавливать.
Когда мы увидели, какой ценный средневековый материал выкапывают из земли у церковных стен строительные рабочие, мы подумали, что там надо было бы сделать археологическую шахту, но было уже поздно. Это было бы особенно интересно для Бьёрнара, руководителя скандинавской команды археологов. Год назад, когда я впервые встретил его, он по поручению норвежской протестантской миссии занимался раскопками старейшей христианской церкви в Азербайджане, находившейся в бывшем городе удин в горах. Удины сами считали себя асами так же, как и остальные азербайджанцы, перешедшие в отличие от удин в мусульманство, и точно так же, как древние сарматы в Азове, которые тоже называли себя асами. Создается впечатление, что в начале распространения христианства, два-три столетия спустя после Рождества Христова, народ удин сплотил асов в христианское единство на всем протяжении от Азовского моря до Каспийского.
Пер. История про св. Николая чрезвычайно интересна. Святой Николай, должно быть, проповедовал христианское учение готам, которые в то время пришли с Севера и жили среди коренного населения Азова. Известно, что св. Николай принимал участие в чрезвычайно важном церковном соборе в г. Никея в Малой Азии в 325 г.
[519], на котором присутствовал также и готский епископ, вполне возможно, прибывший из Азова. Считается, что св. Николай умер около 350 г. А всего 20 лет спустя сюда пришли гунны и все опустошили и разграбили. Должно быть, у этой небольшой христианской общины было достаточно времени для того, чтобы обосноваться в этих местах, поэтому церковь св. Николая представляет такой же интерес для археологов, как и старинная церковь удин в Азербайджане или остатки языческого храма в Упсале, обнаруженные под церковью XIII в. Жаль, что мы узнали про церковь св. Николая, когда наш полевой сезон подходил к концу.
Тур. Ты, несомненно, прав. И независимо от того, имел ли св. Николай какое-то отношение к выбору места для этой церкви или нет, налицо исторический факт: церковь, носящая его имя, была первой церковью, построенной для асов и готов на Азовской возвышенности. Вероятность того, что она была построена на месте бывшего капища асов, тоже чрезвычайно велика. Мы не упоминали легенду о св. Николае во время «круглого стола» в музее Азова, а говорили лишь о богатых находках керамики около церковной стены и о том, что желательно продолжить археологические раскопки в этом чрезвычайно интересном районе, где заканчивался Великий шелковый путь… Однако мы уклонились от нашей темы. Во время «круглого стола» мы договорились о следующем: из всех южнороссийских городов наибольший интерес для дальнейших археологических раскопок представляет, без сомнения, именно Азов — место, где, очевидно, жили асы во время нашествия римлян.
Пер. А как можно обобщить результаты археологических раскопок?
Тур. Здесь я хотел бы процитировать Сергея Лукьяшко, который был профессиональным руководителем проекта: «Результаты археологических раскопок подтвердили исторические данные, известные из средневековых источников…»
Пер. А Снорри Стурлусона он имеет в виду?
Тур. Нет никаких оснований исключать его, однако Сергей ссылается на известные ему греческие и римские источники. Вот фрагмент из его доклада: «Наши раскопки показали, что в I в. до н. э., до прихода римлян, Азовская возвышенность была заселена народом, который греки называли общим именем „сарматы“, однако, согласно старым хроникам, сами они называли себя асами.
В те времена застройка на возвышенности разделялась на две части оврагом, который впоследствии был засыпан. Такие поселения на вершине двух горок, находящихся рядом, имели преимущества с точки зрения обороны. Они были по берегам Дона обычным явлением. Однако поселение в Азове, очевидно, гораздо старше, чем поселение на западном берегу реки.
Материальная культура коренного населения города оригинальна и определенно связана с соседями в районе Кубани, где жили меоты и сарматы. Это подтверждают многочисленные находки серых полированных мисок и кувшинов из глины, керамических гирь и воронкообразных кадильниц. Большое количество амфор и краснофигурной керамики свидетельствует о тесных контактах с греками. А связи с миром сарматов, обитавших в донских степях, явно прослеживаются в погребальных обрядах и оружии…»
Пер. А Сергей не пояснил более подробно, что значит «результаты археологических раскопок подтвердили исторические данные, известные из средневековых источников»?
Тур. А как же! Он так же, как и ты, указал на то, что если Снорри предполагал уход Одина из земли асов примерно за два поколения до императора Августа, который правил во времена Рождества Христова, то это совпадает с периодом Митридатовых войн. А тогда на Азовской возвышенности жили асы. Остальные возвышенности по берегам дельты Дона еще не были заселены кочевниками, а греческие колонисты жили с греческой стороны этой пограничной реки.
Так получилось, что маленький город-крепость асов на двойной горке к востоку от впадения Дона в Азовское море оказался, на удивление, не затронутым всемирными историческими событиями, разыгрывавшимися в этом регионе, хотя в силу своего удачного расположения он привлекал чужеземных воителей, которые боролись за овладение крепостью начиная со Средневековья и вплоть до нового времени, что, впрочем, способствовало лишь ее усовершенствованию. Сергея, так же как и других местных археологов, очень интересовало, как Митридатовы войны повлияли на переселение народов в районе Азова на протяжении всего периода с Рождества Христова. Я попросил его вкратце изложить свои соображения по этому поводу. Вот что он сказал: «Письменная история Азовского региона начинается примерно за пять столетий до Рождества Христова, т. е. с появления здесь греческих колонистов, которые переправились через Черное море, спасаясь от персидского царя Дария I. В связи с тем что греческие города на черноморском побережье Малой Азии постоянно разрушались персами, греческие колонисты все чаще отправлялись на север и селились на плодородных землях Крымского полуострова и в теперешней Южной России. Через узкий пролив, который они называли Боспором и который сегодня называется Керченским проливом, они проникали в Азовское море. Оно было мелким и с болотистыми берегами, заросшими камышом, и потому его назвали Меотийским болотом. Поскольку воды из реки Дон, которую греки называли Танаис, текли через Меотийское болото, а затем через пролив в Черное море, греки назвали Азовское море „матерью Черного моря“. Население, обитавшее по берегам Меотийского болота, стали называть меотами, чтобы отличать их от кочевников и остальных сарматов, среди которых греки выделили огромное число племен, дав каждому свое название. Для нас самое большое значение для понимания Митридатовых войн имели аорсы и сираки, обитавшие на азиатском берегу Азовского моря. Аорсы, по описаниям греков, жили по берегам дельты Дона, т. е. на Северном Кавказе, а сираки представляли собой объединение племен, живших южнее в направлении к реке Кубань и Южному Кавказу. Аорсы и сираки были заклятыми врагами и постоянно воевали друг с другом, чем и не преминули воспользоваться римляне…»
Пер. Согласно древним источникам, «аорс», «орс», «ос» и «ас» — это различные варианты названий одного и того же народа. Если это так, тогда ясно, что именно аорсы жили в районе Азова. Но кто такие сираки?
Тур. По-моему, сираки — это тот народ, который Снорри называл ванами. Асы и ваны постоянно воевали друг с другом, пока не заключили мир и не обменялись заложниками. Произошло это незадолго до прихода римлян. Сираки, возможно, были предшественниками армянского народа, ведущего своё начало от ванов. Мы ведь знаем, что у асов на Северном Кавказе на протяжении веков складывались довольно непростые отношения со своими южными соседями — армянами.
Теперь мы имеем представление о племенах, обитавших по берегам Азовского моря в период нашествия римской армии: греки — на Крымском полуострове и западном берегу Азовского моря; племена аорсов и сираков — на азиатском берегу и аорсы, или асы, — на Азовской возвышенности. Дон и Азовское море служили естественным барьером на пути кочевых воинственных племен из Азии, которых греки считали варварами.
В подтверждение этому обратимся к тексту Сергея: «На Крымском полуострове три греческие городские общины объединились в царство, которое назвали Боспорским. Это царство в Крыму, имевшее своими соседями асов по другую сторону Азовского моря, вскоре оказалось вовлеченным в большую политику, проводимую римлянами. И именно в этом решающую роль сыграл властолюбивый Митридат VI, больше известный под именем Митридат Евпа́тор. Он был наследником греко-персидского Понтийского царства со столицей в порте Синоп
[520] на берегу Черного моря в Малой Азии. Этот царь считал себя правомочным наследником Персидского царства, и в I в. до н. э. он чуть было не лишил римлян их господствующего положения в Древнем мире.
Митридат начал военные походы, послав своего талантливого полководца Диафанта с флотом через Черное море к Крымскому полуострову на помощь сарматским племенам, подвергшимся нападению скифов. Разгромив скифов, победоносное войско Митридата поднялось в горы и начало борьбу против воинственных сарматских племен. В результате царь Пересад, правивший тогда Боспорским царством, решил подчинить свое царство на Крымском полуострове Понтийскому царству в Малой Азии. С тех пор Боспорское царство находилось под властью Понтийского, хотя случались отдельные периоды, когда оно было независимым.
Сам Митридат и большая часть его армии сражались с римлянами на Балканском полуострове. Римское государство было ослаблено внутренними противоречиями, и Митридату почти удалось подчинить себе Грецию. Тогда римский сенат решил направить против армии Митридата Гнея Помпея
[521]. Эта война стала последней из трех войн, которые Митридат вел против римлян в период 74–63 гг. до н. э. Помпей разбил Митридата и обратил его в бегство. Митридат укрылся в Синопе. Помпей напал на Синоп, и тогда Митридат бежал по морю и суше в Армению. Однако армянский царь Тигран предал Митридата, и тот решил вернуться на Крымский полуостров, где вассальным государством правил его сын Махар. Митридат бежал из Армении на север и обосновался сначала в городе Диоскурии на азиатской стороне Босфорского пролива…
Важно отметить, что в войнах с римлянами Митридат вступал в союз с предводителями сарматов, обитавших на азиатской стороне Азовского моря, т. е. с коренным населением, которое греки называли варварами. Это были меоты („болотные люди“) или дандарии („прибрежные люди“). Важнейшими из этих могущественных и воинственных племен к югу от восточного берега дельты Дона были асы в районе Азова и их соседи на юге — сираки, которые попеременно становились то заклятыми врагами, то союзниками асов. Среди этих азиатских варваров выделялся один могущественный и удивительный предводитель, которого высоко ценил Митридат и которым восхищались даже его враги. Вот что пишет о нем Плутарх в своих „Сравнительных жизнеописаниях“: „Был в войске Митридата некто Олтак из дандарийских правителей; дандарии — это одно из варварских племен, что живут по берегам Меотиды. Человек этот в бою выказывал незаурядную силу и отвагу, мог подать совет в самых важных делах и к тому же отличался приятным обхождением и услужливостью. И вот этот Олтак постоянно вел ревнивый спор о первенстве с одним из единоплеменных правителей, что и побудило его обещать Митридату совершить великое деяние — убить Лукулла. Царь одобрил этот замысел и для вида несколько раз оскорбил Олтака, чтобы тому легче было разыграть ярость, после чего Олтак на коне перебежал к Лукуллу. Тот принял его с радостью и вскоре, испытав на деле его сметливость и готовность услужить, настолько привязался к нему, что иногда допускал его к своей трапезе и на совещания с военачальниками. Наконец дандарий решил, что благоприятный миг настал. Он велел слугам вывести своего коня за пределы лагеря, а сам в полдень, когда солдаты отдыхали, пошел к палатке полководца, рассчитывая, что никто не помешает ему войти: ведь он уже стал своим человеком, и к тому же он может сказать, что у него важные вести. Он бы и вошел беспрепятственно, если бы Лукулла не спасло то, что стольких полководцев сгубило, — сон“
[522].
„…Лукулл только что уснул после нескольких тяжелых суток с бессонными ночами, и стражи получили приказ никого не пускать. И хотя Олтак сказал, что привез очень важное известие, его не пустили. „Ничто не может быть важнее, чем охранять покой Лукулла“, — ответил страж и вытолкал дандария прочь. Чтобы не попасть в ловушку, Олтак спокойно вышел из лагеря, сел на коня и поскакал к Митридату, не выполнив поручения…“»
Этот мужественный человек, принимавший участие в войне против римлян на стороне Митридата, мог бы изменить ход всемирной истории, если бы только его план удался.
Далее по тексту Сергея: «Похожая история имеется в книге Аппиана
[523], посвященной Митридатовым войнам. Только там имя героя — Олкаба. В остальном описание попытки Олкабы убить Лукулла сходится с версией Плутарха. По словам выдающегося русского исследователя античной литературы В. В. Латышева, имя Олкаба идентично имени Олтак. Олкаба также упоминается среди побежденных военачальников во время триумфального шествия Гнея Помпея. В этом тексте он назван правителем колхов
[524], однако Плутарх приводит более подробные и точные сведения и подчеркивает, что Олтак правил прибрежным населением в районе Азова — дандариями. А дандарии известны своим активным участием в борьбе против Понта и римлян.
Олтак, или Олкаба, является, таким образом, исторической личностью. Он жил в районе Азова и участвовал в сражениях против римлян на стороне Митридата, пока тот в 63 г. до н. э. не покончил собой. Судьба Олтака нам неизвестна. Однако меня озадачивает то, что он исчез в то же самое время, когда, согласно Снорри, эти места покинул и Один, понимая всю тщетность сопротивления наступающей римской армии.
Возможно, Олтак, или Олкаба, — это еще одно имя нашего хитроумного хёвдинга асов, которого Снорри назвал Одином. В те времена важные персоны имели множестов имен. Олтаком этого хёвдинга асов прозвали армяне. По их описаниям совпадают и место, и время, и личные качества героя, а утверждение Снорри Стурлусона о том, что Один бежал от римлян, в этом историческом и археологическом контексте звучит вполне убедительно…»
У Снорри в его поэтическом сочинении «Эдда», где излагаются воображаемые приключения шведского конунга Гюльви, отправившегося на поиски страны асов, знатный муж, по имени Высокий, приводит более 50 различных имен Одина. Гюльви поражается такому количеству имен. И тогда Высокий отвечает: «Много нужно иметь знаний, чтобы об этом поведать. Но если сказать тебе покороче, большинство имен произошло оттого, что, сколько ни есть языков на свете, всякому народу приходится переиначивать его имя на свой лад, чтобы по-своему молиться ему и призывать его. А некоторые из имен происходят от его деяний, и об этом говорится в древних сказаниях, и тебя не назовут ученым мужем, если ты не сможешь поведать о тех великих событиях»
[525].
Когда мы обсуждали множество имен Одина, секретарь экспедиции Анне Нистрём, сидевшая за компьютером, протоколируя заседание, спокойно заметила: «А вы знаете, как по-русски произносится число „один“? Пишется „один“, а произносится как нечто среднее между „адин“ и „один“…»
Пер. Надо же! И как это никому раньше не пришло в голову! Ведь Один был номером один! Ведь только на Севере его имя произносится как «Удин».
Тур. Однако вернемся к Олтаку. Разве Митридатовы войны не закончились в 63 г. до н. э. после самоубийства Митридата VI Евпатора и исчезновения Олтака?.. У меня возникает подозрение, что рассказанные Одином истории «о стране Богов» соблазнили не одного искателя приключений отправиться из северных земель обратно, в район Азова.
Посмотрим, что говорит далее Сергей: «Главное действующее лицо Митридатовых войн — царь Понта и Боспора. Пока еще он был жив, то сумел ускользнуть от Помпея, сбежав из Понта в Армению. Помпей преследовал его, и Митридат вместе со своей армией нашел убежище у сираков в Диоскурии, к югу от земли асов. Затем он оставил свое войско дандариев на азиатском берегу, а сам переправился на корабле через Босфор к своему сыну, находившемуся на Крымском полуострове.
Таким образом сам Митридат ускользнул от сухопутной армии Помпея, однако Помпей решил пройти со своей армией через Кавказ, обогнуть Азовское море и попасть в Крым. Албанцы, жившие у подножия гор, пообещали ему помощь, однако, когда Помпей подошел к рекам Кура и Риони, они напали на римлян из засады и побили их. Это известно от Теофрата.
Тем временем Митридат благополучно добрался к сыну Махару, правда, без своей армии. Он планировал новую кампанию против римлян и вновь заключил союз с варварами, обитавшими в районе Азова. План его состоял в том, чтобы напасть на Рим со стороны Европы, перебравшись через Дунай и оттуда подойдя к Италии.
Чтобы упрочить этот союз, Митридат выдал своих дочерей замуж за самых могущественных предводителей варваров, обитавших на восточном берегу Азовского моря. Однако, пока он собирал войска среди варваров, римлянам удалось блокировать Боспорское царство с моря. Вся торговля с Боспором прекратилась, и, чтобы добыть денег, Митридат повысил налоги с местных племен. Это привело к восстанию, охватившему и другие города в Крыму. Тогда Митридат вновь пересек Босфорский пролив, вернулся на азиатскую сторону и окружил со своими наемниками город Фанагорию. Однако несколько его сыновей и дочерей были взяты варварами в плен, войско Митридата было разбито, а один из его сыновей перешел на сторону римлян. Сам Митридат укрылся в собственном дворце. Все это описано у Плутарха. Митридат пытался покончить собой, выпив яд, но попытка не удалась. Тогда он приказал одному из своих сыновей заколоть его мечом…»
Самоубийство Митридата стало сильным потрясением для всего тогдашнего мира в этих краях. Самый могущественный противник римлян выбыл из игры, и римское войско надвигалось на Крымский полуостров и район Азова. Без поддержки царя Боспорского царства ни один из его союзников на восточном берегу Азовского моря не мог противостоять римлянам и их наемникам. Вот как раз тогда верховный хёвдинг асов понял, что настало время покинуть крепость и святилище на Азовской возвышенности и направиться по старым торговым путям на Север, в земли, недосягаемые для римлян. Все это произошло примерно в 63 г. до н. э. или немного раньше, когда победоносные римляне высадились в пограничном районе между асами и ванами к югу от Босфорского пролива.
Пер. Возмутитель спокойствия Митридат привел в движение волны переселения народов. Сначала это были беженцы, устремившиеся на север, а несколько столетий спустя новые завоеватели и возмутители спокойствия ринулись обратно, на юг.
Тур. Об этом мы с тобой уже говорили, но этот вопрос не был затронут на «круглом столе» в Азове. Археологи лишь подтвердили тот факт, что во второй половине последнего столетия до Рождества Христова в землях асов в районе Азова и к югу по направлению к стране турок было очень неспокойно. Как раз тот период и описывает Снорри. Победоносное наступление римлян привело к тому, что могущественные цари и правители в стране асов бежали или погибали от рук римлян. Тех, кто бежал, следует искать в других местах, например, в могильниках Скандинавии.
Пер. А что еще могут найти археологи в Азове?
Тур. Здесь, сколько ни копай, находок будет еще много. Однако мы уже получили ответ на интересовавший нас вопрос: на Снорри можно положиться! А тем, кто утверждает, что Снорри — ненадежный источник и что королевские саги — просто чепуха и выдумка, придется теперь доказывать обоснованность своих обвинений… А мы привлекли внимание российских археологов к Азову. Эта мысль прозвучала в приветствии ректора Ростовского государственного университета, которое зачитал Сергей. Нас пригласили продолжить раскопки в следующем сезоне. И не только это. Я планирую учредить норвежско-российский исследовательский институт в Азове для сотрудничества с городским музеем и археологическим факультетом университета, причем университет окажет проекту большую поддержку.
Пер. А сами археологи заинтересованы в продолжении раскопок?
Тур. Все как один! Так что проект будет продолжен независимо от того, примем ли мы в нем участие. А мы должны поблагодарить Снорри за то, что начали раскопки в центре города Азова, и за все то, что мы там нашли. Снорри указал ученым будущего прямой путь к самым ценным археологическим находкам… Кстати, хочу заметить, что Митридатовы войны положили начало событиям на побережье Азовского моря, в которые в дальнейшем оказались вовлечены не только Петр I и Карл XII, но и прародитель Христофора Колумба!
Пер. Ну это уж слишком!
Тур. Во всяком случае, так утверждал его сын со ссылкой на своего отца. Как известно, «Колумб» по-испански звучит как «Колон». Его сын, Эрнандо Колон, написал об отце книгу «История адмирала обеих Индий Кристобаля Колона». В этой книге есть глава «О родине, происхождении и имени адмирала Кристобаля Колона», в которой Эрнандо рассказывает о попытке отца скрыть свое истинное происхождение. Он признается, что отец был родом из дворянской семьи, которая потеряла свои владения и обеднела, поэтому он никому не рассказывал про своих ближайших родственников. Вот что пишет Эрнандо Колон: «Кто-то очень хочет, чтобы я установил и рассказал о том, что в жилах адмирала текла дворянская кровь, хотя его предки в результате неудачных обстоятельств дошли до крайней нужды и бедности. Они хотят, чтобы я доказал, будто мой отец происходит от того самого Колона, о котором пишет Корнелий Тацит в начале 12-го тома своего произведения и который привел в Рим в качестве пленника царя Митридата, получив за это звание консула и Орден орла от народа…»
Пер. А как ты это объяснишь? Ведь это исторический факт, что Митридат VIII, который был правнуком Митридата Евпатора, попал в качестве пленника в Рим. Как объяснить связь между предками Колумба и царем Митридатом?
Тур. А я и не буду пытаться это объяснить. Мы предоставим выяснять это профессиональным историкам… Напоследок я хочу сказать, что только что получил факс от Сергея. Он сообщает, что уже подыскивает участок для нового института…
Литература
Alsaker, Sigmund og Mandt, Gro: «Helleristning fra Askvoll i Sogn og Fjordane». I: Prescott C. og Walderhaug E.,
The Journal of Indo-European Studies, Vol. 23, Numbers 3 & 4, The Journal of Indo-European Studies, Washington DC 1995
Andersson, Ingvar:
Skdnes Historia. Till Saxo og Skdnelagen, Norstedts, Stockholm 1947
Andersson, Ingvar:
Sveriges Historia, Natur ock Kultur, Stockholm 1960
Ascherson, Neal:
Svarta Havet, Ordfront, Stockholm 1999
Barber, Elizabeth Wayland:
The Mummies of Urumchi, W. W. Norton & Company, New York 1999
Bartlett, Robert:
The Making of Europe, Allen Lane, The Penguin Press, London 1993
Beazley, R., Forbes, N. og Birhett, G.A.:
From the Varangians to the Bolsheviks, Oxford 1918
Brown, David:
Det angelsaksiske England, Det Schonbergske Forlag, Kobenhavn 1979
Edberg, Rune (red.):
En vikingfard genom Ryssland og Ukraina, Sigtuna museers skriftserie, Sigtuna 1998
Edda-dikt: Oversatt av Ludvig Holm-Olsen, J. W. Cappelens Forlag AS, Oslo 1985
Encyclopedia Britannica, 30 bind, University of Chicago, Chicago and London 1979
Englund, Peter:
Poltava, berattelsen от en armies undergdng, Atlantis, Stockholm 1989
Enoksen, Lars Magnar:
Runor, Historiska Media, Lund 1998
Fell, Christine E.: «Gotter und Heroen der Nordischen Welt», I: Wilson, David M.:
Kulturen im Nor den. Die Welt der Germanen, Kelten und Slawen 400-1100 n. CHR.. Verlag C. H. Beck, Munchen 1980
Fitzhugh Willian W. og Ward, Elisabeth I.:
Vikings. The North Atlantic Saga, Smithsonian Institution Press, Washington/London, 2000
Gagloiti, Y.S.: «The Ethnogenesis of the Ossetians according to written sources.» I: Cherdjiev, H.S.:
The origin of Ossetian people, Ordzhonikidze 1967
Geijer, Erik Gustaf:
Samlade Skrifter, 4. bind, P. A. Norstedt & Soner, Stockholm 1874
Gimbutas, Marija:
Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe, Mouton & Co., Paris, Haag, London 1965
Gimbutas, Marija:
The Godessess and Gods of Old Europe, University of California Press, Los Angeles 1996
Gray, Albert:
Early Notices of the Maldives. The Voyage of Francois Pyrard de Laval to the East Indies, the Maldives, the Moluccas and Brazil. Oversatt av Albert Gray / H.C..P. Bell, Hakluyt Society, Ser. I, No.22, Vol.2, 423-92, London 1888
Harrison, Dick:
Krigarnas og helgonens tid, Prisma, Stockholm 1999
Haskins, Charles H.:
The Renaissance of the 12th Century, Harvard University Press, Meridian Books, The World Publishing company, Cleveland and New York 1968
Hedeager, Lotte:
Skygger av en annen virkelighet. Oldnordiske myter, Pax Forlag A/S, Oslo 1999
Hooke, S.H.:
Middle Eastern Mythology, Penguin Books, Harmondsworm, Middlesex 1963 Ilkjaer, Jorgen:
Illerup Adal — et arkaologisk tryllespejl, Moesgard Museum, Hojbjerg 2000
Ingstad, Helge: Oppdagelsen av det nye land (med bidrag av Anne Stine Ingstad), J. M. Stenersens Forlag, Oslo 1996
Larsson, Mats:
Ett odesdigert vikingatag, Invar den vittfarnes resa 1036–1041, Atlantis, Stockholm 1990
Lindqvist, Cecilia: Tecknens Rike. En berattelse om kineserna och deras skrivtecken. Bonnier, Stockholm 1989
Lund, Niels, redaktor:
Norden og Europa i vikingetid og tidlig middelalder, Kobenhavns Universitet, Museum Tusculanums Forlag 1993
Lynn, Madeleine:
Personlig korrespondanse, 1999
Loftingsmo, Arnt:
Edda iAust. Gudediktinga ilys av kvitsje-handelen og det eurasiske verdsbildet, Solum Forlag, Oslo 1990
Macqueen, J.G.:
The Hittites, and their Contemporaries in Asia Minor, Thames and Hudson, London 1986
Magnusson, Magnus:
Vikingarna i Ost og Vast, Raben & Sjogren, Stockholm 1980
Mair, Victor H.: «Prehistoric Caucasoid Corpses of the Tarim Basin.»
The Journal of Indo-European Studies, Vol. 23, Numbers 3 & 4, The Journal of Indo-European Studies, Washington DC 1995
Markarjan, S.: «Die Yngvar’s Saga vom Serkland und der Kaukasus.» I: Georgia.
Zeitschrift fur Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens, 21 Jahrgang, Universitatsverlag Konstanz GmbH, Konstanz 1998
Melvinger, Arne: al-Gazal; sitert i
Les premieres incursions des Vikings en Occident d’apres les sources arabes, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1955
Mikkelsen, Egil:
Handel — misjon — religionsmoter, Impulser fra buddhisme, islam og kristendom iNorden 500-1000 e.Kr., Oslo 1999
Nansen, Fridtjof.-
Gjennom Kaukasus til Volga. Friluftsliv, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo 1962
Nansen, Fridtjof:
Nord i tdkeheimen. Jacob Dybwads Forlag, Kristiania 1911
Nilsen, Sverre G.:
Hvem befolket Skandinavia, Privat publikasjon 2001
Nordenfalk, Carl:
Manuscrits irlandais et anglo-saxons. L’enluminure dans les Iles, Chene, Paris 1977
Nordenskiold, A.E.:
Vegas fard kring Asien och Europa. F. & G. Beijers Forlag, Stockholm 1880
Nordisk Familiebok, Konversationslexikon och Realencyclopedi 1-38, Nordisk Familjboks Forlag, Stockholm 1903-1926
Odener, Knut:
Tradition and Transmission, Norse Publications, Bergen 2000
Omeljan Pritsak:
The Origin of Rus’. Vol. I. Old Scandinavian Sources other than the Sagas, Harvard University Press, Harvard Ukranian Research Institute, 1981
Orkneyingenes Saga, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) & Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Oslo 1970, oversatt av Anne Holtsmark
Petersen, N.M.:
Danmarks Historie, Schubote, Kjobenhavn 1854
Powell, T.O.E.:
Kelterna, Natur och Kultur, Stockholm 1959
Prescott, Christopher og Walderhaug, Eva: «The Last Frontier? Processes of Indo-Europeanization in Northern Europe: The Norwegian Case.» I:
The Journal of Indo-European Studies, Vol. 23, Numbers 3 & 4, the Journal of Indo-European Studies, Washington DC 1995
Prytz, Kare:
Vestoverfor Columbus. Aschehoug & Co., Oslo. 1990 Saxo Grammaticus:
Danmarkskroniken 1 og 2, Genfortalt af Helle Stangerup. Aschehoug Dansk Forlag A/S, 3.oplag, 1999
Shchukin, Mark: Shields, swords and spears as evidence of Germanic-Sarmatian contacts and Barbarian-Roman relations, in Beitrage zu romischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Claus von Carnap-Bornheim, Lublin/Marburg 1994
Skre, Dagfinn: Herredommet — Bosetting og besittelse pa Romerike 200-1350 e.Kr., Doktoravhandling 1996
Steinsland, Gro og Sorensen, Preben Meulengracht:
Vikingamas Varld, Ordfront, Stockholm 1998
Strabo:
Geography, Harvard University Press/St. Edmundsbury Press Ltd., Bury St. Edmunds 1997
Sturlason, Snorre:
Edda, Cammeyers Boghandel, Oslo 1950, oversatt av Anne Holtsmark.
Sturlason, Snorre:
Snorre Sturlasons kongesagaer, J. M. Stenersens Forlag AS, Oslo 1989, oversatt av Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip
Svendsen, John I.:
Pechora, A research project supported by The Research Council of Norway 1995-1997
Swanton, Michael:
The Anglo-Saxon Chronicles, Phoenix Press, London 2000
Tacitus, Cornelius:
The Histories, Penguin Books Ltd./Cox & Wyman Ltd., London 1978
Talbot Rice, Tamara:
Skyterna, Natur och Kultur, Stockholm 1958 Thunmark-Nylen, Lena:
Die Wikingerzeit Gotlands, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvarisk Akademi, Stockholm, Motala Grafiska 2000
Tjonn, Halvor:
«Kanskje har ogsd musikken vandret?», Aftenposten 14.12.2000
Trotzig, Gustaf:
Trade and Exchange in Prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia, series in 80. no. 16, Lund Universitet, Lund 1988
Wannerth, Claes & Stalhane, Henning, (red.):
Den svenska historien I–X, Albert Bonniers Forlag, Stockholm 1966
Wegge, Bjorn A.:
Aserbajdsjan. Der est meter vest, Santalmisjonens Forlag, Oslo 1995
Wenkan, Xu: «The discovery of the Xinjang Mummies and Studies of the Origin of the Tocharians»,
The Journal of the Indo-European Studies, Vol. 23, Number 3 & 4, The Journal of the Indo-European Studies, Washington DC 1995
Wolfram, Herwig:
History of the Goths, University of California Press, Berkeley 1990

Тур Хейердал
В поисках рая
О ТУРЕ ХЕЙЕРДАЛЕ И ЕГО ПЕРВОЙ КНИГЕ
Почему мы до сих пор не знали о ней? О чем рассказывается в этой книге? Почему мы ее предлагаем советскому читателю?
До того как Хейердал разрешил перевести „В поисках рая“ на русский язык, он писал 22 марта 1961 года автору этого предисловия: „Я не разрешал перевод этой книги ни на английский, ни на немецкий, ни на какой-либо другой язык ввиду того, что при ее издании в настоящее время возникнет хронологическая путаница относительно моих книг о Тихом океане, поскольку читатели будут считать, что я написал ее теперь, в то время как в действительности она была написана двадцатичетырехлетним студентом. Если же когда-нибудь под старость я издам собрание сочинений, то она выйдет в качестве 1-го тома, то есть займет принадлежащее ей место“.
Чтобы не
возникла та „хронологическая путаница“, о которой говорит Хейердал, чтобы читатель яснее представил себе роль событий, описанных в книге, в жизни ее автора и чтобы полнее ответить на поставленные выше вопросы, нам представляется удобным кратко рассказать о жизни и деятельности норвежского исследователя, тем более что биография Хейердала, несмотря на его большую популярность, известна недостаточно.
* * *
Сумерки 6 октября 1914 года начались раньше обычного. Небо заволокло низкими темными облаками, и моросил мелкий холодный дождь. Ветер остервенело трепал деревья и кусты, срывая пожелтевшую листву. Неуютная сырая осень пришла в приморский городок в южной Норвегии. Улицы Ларвика опустели.
А в доме владельца местного пивоваренного завода Тура Хейердала царило веселье — родился наследник. Отец новорожденного и его супруга фру Алисон Хейердал решили дать мальчику имя отца. „Что же, маленький Тур пойдет по стопам отца — будет владеть пивоваренным заводом“, — считал отец. „Это будет не скоро, — думала мать новорожденного, — и не нужно загадывать“.
Фру Алисон, бывшая до замужества служанкой в Тронхейме, теперь заведовала местным городским музеем. Всю жизнь ее привлекала специальность натуралиста. Ее интересовали проблемы эволюции животного и растительного мира, эволюция первобытного человека… Весь дом она наполнила книгами по естествознанию, географии, народоведению. В воспитании маленького Тура немалую роль сыграли картинки из этих книг, которые ему показывала мать.
„Я могу уверенно сказать, что едва ли не с молоком матери впитал интерес к изучению чужих народов и желание изучать животных“, — говорил Тур Хейердал сорок лет спустя.
Еще до поступления в школу, пяти — шестилетним мальчиком Тур постоянно собирал птиц, морских звезд, ежей, ящериц, змей. Мать поощряла его к этому коллекционированию. Если бы она не возбудила у ребенка любви к естествознанию, Тур, может быть, так и остался бы до наших дней безвестным владельцем пивоваренного завода в маленьком городке в южном Вестфоле, на западном побережье залива Бохус.
Когда любознательному мальчику исполнилось семь лет. родители отдали ему в полную собственность сарай, который он переоборудовал в однокомнатный зоологический музей. Товарищи Тура и знакомые его родителей иногда приходили в музей и восхищались его экспонатами.
Ларвик — морской город, и у многих друзей Тура отцы были моряки или рыбаки. Они привозили в подарок сыновьям диковинных животных, Однако такие „сувениры“ не очень интересовали мальчиков, и они отдавали животных Туру в обмен на книги о Тарзане и пивные дрожжи с завода его отца.
Когда Хейердал учился в семилетней школе, у него в музее, который получил название „Дом животных“, часто собирались юные натуралисты. Маленький Тур был постоянным инициатором поисков животных по всем окрестностям Ларвика — в буковом лесу за городом и вдоль берега Ларвик-фьорда.
Но по мере того как Тур становился старше, у него псе больше возрастал интерес к изучению чужих стран. Часто ночами, когда все в доме спали, Тур вставал и садился на подоконник. Дом стоял в середине города, на холме, откуда открывался прекрасный вид на горы и фьорд. Тур искал глазами корабли и мысленно отправлялся с ними далеко по свету, „Все мои необузданные детские фантазии развивались именно в эти одинокие ночные часы в доме, где я провел детство“, — говорил Хейердал в интервью с одним норвежским журналистом в 1959 году.
В 1930 году Тур окончил семилетнюю школу, а в 1933 году — гимназию. За все двенадцать лет учебы в школе он был, по его словам, весьма посредственным учеником. Тур плохо слушал объяснения учителей. На уроках он уносился в мечтах в далекие южные страны или рисовал на тетрадях такое множество фигурок жителей далеких земель, что еженедельно должен был менять обложки. Но некоторые школьные предметы увлекали его, и по ним он преуспевал. Это относилось прежде всего к естествознанию и географии.
В течение всех школьных лет Хейердал так увлекался коллекционированием животных и чтением книг, что никогда не имел времени поиграть со своими сверстниками. Но он был физически развитым, здоровым и крепким подростком, чему способствовали многочисленные прогулки в лес и в горы.
Туру нравились туристские походы в лес пешком или на лыжах с ночевками под открытым небом и восхождения на невысокие вершины вестфоллских холмов. Из этих походов он всегда возвращался с пополнением для своей коллекции.
Девятнадцати лет Тур поступил в университет в Осло на естественный факультет, чтобы получить специальность зоолога и географа.
С каждым годом его все больше привлекают далекие прогулки. Во время отдыха любимыми занятиями Хейердала становятся туризм и альпинизм. Юноша часто выезжает за триста километров на северо-запад от столицы, в верховья долины Гудбраннсдалена, и оттуда совершает восхождения на некоторые крупнейшие вершины Норвегии: Роннеслоттет (2183 м), Снёхетта (2286 м) и Глиттертин (2452 м).
Горы Норвегии невысоки, и, хотя имеют пики с отвесными стенами, для восхождения на большинство вершин не требуется специальной технической подготовки. Обычно для этого достаточно хорошего здоровья и выносливости. Поэтому слово „альпинизм“ для Норвегии следует понимать с определенной поправкой на природные условия.
„Я очень интересовался спортом, если под спортом понимать физическую тренировку, которая закаляет здоровье“, — вспоминает Хейердал в одном из своих писем. „Мне нравились длительные походы в лес и по диким горам, а во время моих студенческих лет я любил лыжные поездки с ночевками в палатке или в снежном доме (иглу). Пешие походы также были одним из моих больших увлечений; короче говоря, мне нравилась жизнь под открытым небом во всех видах“.
В этот же период Хейердал начинает свою литературную деятельность. Некоторое время он даже живет на гонорары за очерки, к которым сам рисует карикатуры или иллюстрирует их собственными фотоснимками. В очерках он пишет о приключениях в горах.
Обучение в университете постепенно становилось Туру не по душе. После семи семестров Хейердал ясно понял, что должность лабораторного исследователя или преподавателя университета ему не подходит. Ему хотелось изучать животных в их естественных условиях. Три с половиной года учебы, конечно, не пропали даром — они дали необходимые знания.
Хейердал берет тему „Действия географической изоляции на жизнь животных“ и при денежной помощи отца выезжает на удаленный от всех материков остров Фату — Хива в системе Маркизского архипелага в центре Тихого океана.
Непосредственно перед отъездом, в 1937 году, Хейердал женился, и его поездка на остров была своеобразным свадебным путешествием.
Надо сказать, что практика по зоологии не была единственной целью этой поездки. Молодой Тур много читал о модном на западе стремлении „вернуться в дебри“, к примитивной жизни, и решил проверить, что же получится на деле, если осуществить такой эксперимент.
Много позже участник плавания на плоту „Кон-Тики“ шведский этнограф Бенгт Даниельссон в своей книге „Позабытые острова“ так писал об этом: „И он [Хейердал] решил вернуться в каменный век, чтобы проверить, так ли уж хороша эта хваленая первобытная жизнь. Его рай должен был обладать приятным климатом и находиться возможно дальше от цивилизованных краев. Тщательное исследование вопроса привело его к заключению, что лучше всего этим требованиям отвечают Маркизские острова“.
И молодожены устремляются на острова Южных морей.
Об этой поездке и рассказывается в первой книге Хейердала „В поисках рая“. В ней повествуется о том, как молодые европейцы попадают на один из малонаселенных островов Маркизского архипелага — Фату-Хиву и проводят там целый год. Супруги поселяются в уединенной долине Омоа. Строят бамбуковую хижину. Ведут жизнь первобытных людей. Пользуются тарелками, сделанными из раковин, и мисками из скорлупы кокосовых орехов.
Кругом — спелые бананы и апельсины, лимоны и кокосовые орехи. Протяни руку, очисти и ешь!
Они принимают освежающие ванны в принадлежавшем когда-то фату-хивской королеве каменном бассейне, в который вода поступает из кристально чистого ручья. Мир представляется им сплошным экзотическим садом. Им кажется, что они наконец обрели рай.
Но… „райская“ пища оказывается непривычной, подкрадывается ощущение голода. Положение молодоженов ухудшается также из-за религиозной вражды между католиками и протестантами, которую здесь разжигает католический священник патер Викторин. Тур и его жена— протестанты, и у патера рождается ревнивое чувство: „А не отобьют ли его паству эти двое европейцев?“
По наущению патера островитяне-католики всячески стараются омрачить существование молодых людей. В довершение всего супруги заболевают от укусов насекомых, и им приходится ехать лечиться на центральный остров Маркизского архипелага — Хива-Оа.
Выздоровев, они возвращаются, но решают поселиться в самой уединенной части острова, у потомка одного из древнейших родов Фату-Хивы — Теи Тетуа. Но вскоре к Теи Тетуа приходят жители долины Омоа и подбивают его потребовать с европейцев денег за продовольствие и за аренду земли. Омоанцы варят самогон из апельсинов и пьянствуют. В конце концов они обворовывают норвежцев.
Туру и его жене становится невтерпеж жить в этом мире, отравленном растленным влиянием колонизаторов. И супруги бегут. „Пустое это дело искать рая“, — решают они, возвращаясь в свой привычный мир, в Европу.
Описание мытарств молодой четы занимает в книге весьма большое место.
Но автор не ограничивается описанием злоключений молодых европейцев. „Нет жизни полинезийцам в краю изобилия“ — так называется одна из глав книги. Этот заголовок выражает основную мысль произведения. У полинезийцев нет никаких оснований любить белых. „Белые сбывают островитянам самые скверные товары, прививают им свои худшие пороки, а хорошие стороны европейской культуры сюда не доходят. Полинезийцы обречены на гибель. У них не было иммунитета против болезней, которые сюда завезли белые. В этом белых трудно винить. Теперь иммунитет выработался, зато нет знаний, которые помогали бы бороться с болезнями. В этом виноваты белые“.
Островитяне совершенно лишены медицинской помощи. „Тераи один олицетворял здравоохранение на пяти островах южной части архипелага“. Некогда на Маркизских островах было 100 тысяч жителей, теперь осталось 2 тысячи.
Постепенно разрушалась и уничтожалась исконная культура островитян. Особенно большую роль в истреблении „языческой“ культуры сыграли христианские миссионеры, насаждавшие здесь веру Христову.
Быт полинезийцев изображается автором совершенно объективно, без свойственной буржуазным описаниям Южных морей „лакировки действительности“.
Хейердал прямо и открыто показывает, как и кем разрушается привычный уклад жителей полинезийских островов. Этот правдивый, без идеализации, показ быта полинезийцев знакомит нашего читателя с экзотическим миром в „свободном“ обществе предпринимательства и наживы, с миром, оскверненным колонизаторами.
Но, может быть, факты, изложенные в книге, устарели и на Маркизских островах многое изменилось? Ведь с тех пор прошло четверть столетия! Нет, оказывается, книга не устарела. Почти двадцать лет спустя после путешествия Тура Хейердала на островах побывал Бенгт Даниельссон. После этой поездки он написал книгу „Позабытые острова“. Позабытые! Власти до сих пор ничего не сделали для улучшения жизни островитян. Там все так же, как было во времена, которые описывает Тур Хейердал в своей книге „В поисках рая“. Таким образом, книга Хейердала остается актуальной и в наши дни.
Нам ценна эта книга и тем, что здесь Хейердал дает описания природы островов. Правда, они имеют очень общий, популярный характер, но у нас еще так мало книг о природе Полинезии, что даже эти общие зарисовки представляют для наших читателей немалый интерес.
И наконец мы подошли к событиям, описания которых занимают очень небольшое место в первой книге Хейердала, но которые оказали огромное влияние на последующую жизнь норвежского исследователя. Из его книги мы узнаем, что Хейердал нашел на Маркизских островах редкие, неизвестные дотоле ученым свидетельства высокой в древности культуры аборигенов — плиты с загадочными рисунками, каменные изваяния.
Видя, что вымирают последние свидетели этой древней культуры, Хейердал приходит к заключению о важности и неотложности изучения проблемы происхождения древнейшего населения островов, пока еще есть кому рассказать легенды об этом.
Именно эта поездка на Маркизские острова была причиной того, что, вернувшись в Европу в 1938 году, он передал всю свою зоологическую коллекцию в музей университета в Осло, навсегда оставил зоологию и с тех пор целиком посвятил себя изучению проблемы заселения Полинезии. Интересно заметить, что путь Хейердала в этнографию очень напоминает путь в эту науку знаменитого русского ученого Н. Н. Миклухо-Маклая. Тот тоже был зоологом, но, столкнувшись с неотложными проблемами в изучении культуры и быта народов, еще находившихся на первичных этапах развития человеческого общества, он целиком отдался этнографии и антропологии.
Хейердал уже тогда высказывает предположение, что теперешнее полинезийское население пришло в центр Тихого океана из Юго-Восточной Азии с течением Куро-Сио через северо-западную Америку и Гаваи. В 1939 и 1940 годах Хейердал продолжает работать над этой проблемой в музеях и библиотеках Европы, США и Канады.
В 1940 году Норвегия была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Хейердал в это время собирал этнографические и антропологические материалы среди индейцев Британской Колумбии (Западная Канада). Перед тем как вступить в 1941 году добровольцем в расположенные в Канаде норвежские военно-воздушные силы сопротивления, Хейердал публикует первую научную статью „Произошла ли полинезийская культура из Америки?“ В ней он изложил свою гипотезу о том, что Полинезия была достигнута двумя последовательными волнами иммигрантов, причем первая волна прибыла около 500 года н. э. на бальсовых плотах из Южной Америки, а вторая более чем 500 лет спустя через Британскую Колумбию из Азии.
После окончания войны Хейердал возобновил свои исследования. Сначала он работал в Норвегии, затем в США. Его новую рукопись „Америка и Полинезия“, где он защищал свою теорию первичного заселения Полинезии из Южной Америки, специалисты даже не желали читать. В то время существовала лишь одна теория заселения Полинезии, утверждающая, что первые пришельцы прибыли на острова с запада, из Азии, непосредственно через Меланезию и Микронезию.
Одним из важных доводов против взглядов Хейердала был тот факт, что в распоряжении южноамериканских мореходов до заселения материка европейцами были лишь бальсовые плоты, на которых, по мнению экспертов, было немыслимо пересечь громадные просторы Тихого океана.
Чтобы опровергнуть это мнение и доказать возможность заселения Полинезии из Южной Америки, Хейердал в 1947 году организовал и возглавил экспедицию, которая должна была пересечь Тихий океан на бальсовом плоту „Кон-Тики“. Проплыв с пятью товарищами за 101 день из Лимы (Перу) до острова Рароия в архипелаге Туамоту почти 8000 км, он доказал, что плоты южноамериканцев вполне могли доставить человека в Полинезию.
С 1947 по 1952 год Хейердал продолжает изучать происхождение полинезийцев. Он выступает с лекциями на эту тему в научных учреждениях Норвегии, Швеции, Финляндии, Англии, США, Канады, Голландии, Швейцарии, Австралии, Бразилии и Перу.
В этот же период он опубликовал в Швеции, Англии и США пять научных статей, посвященных проблеме переселения южноамериканцев в Тихий океан, и монографию „Американские индейцы в Тихом океане“.
Одновременно он вместе со своим спутником по плоту „Кон-Тики“ Кнутом Хаугландом организовал на острове Бюгдё возле Осло музей Кон-Тики. Доходы от музея поступают в фонд студентов-антропологов.
После плавания на плоту „Кон-Тики“ Хейердал настойчиво пытается подтвердить свою теорию и археологическими исследованиями.
В 1952 году он руководит первой смешанной американо-норвежской экспедицией археологов на Галапагосских островах, причем норвежскому исследователю удается доказать, что в древности эти острова посещались индейцами.
Через два года Хейердал изучает каменные статуи Перу, Боливии и Эквадора.
В 1955 и 1956 годах он руководит экспедицией американских и норвежских археологов, впервые проведших систематические раскопки на островах Восточной Полинезии: Пасхи, Рапа-Ити и нескольких островах Маркизского архипелага.
Хейердал приходит к выводу, что существующей полинезийской культуре на острове Пасхи предшествовали две отчетливо выраженные культурные эпохи и что первые поселенцы прибыли сюда к 380 году н. э., или более чем на тысячу лет ранее той даты, которая до этого была принята учеными. Работы на острове Пасхи дали, в частности, возможность опровергнуть распространенное мнение о том, что остров всегда был безлесным и что аборигены, не имея в связи с этим возможности продолжать традицию вырезывания идолов из дерева, стали камнетесами. Результаты анализов проб грунта на озере в кратере потухшего вулкана показали, что ко времени заселения острова человеком там было до сорока видов растений, в большинстве древесных. Остров был покрыт густыми лесами. Его современная безлесность — итог человеческой деятельности.
На несколько дней экспедиция заезжает на Маркизские острова и знакомится здесь с местными археологическими памятниками. Хейердал не забыл своих первых находок! Под некоторыми истуканами был найден пепел костров — ценнейший материал для радиокарбон-ной датировки сооружения статуй.
На основе предварительных исследований Хейердал сделал заключение, что наиболее древние из взятых им проб пепла под изваяниями относятся примерно к 1300 году.
Самое большое сооружение во всей Полинезии, построенное рукой человека, было раскопано экспедицией на острове Рапа-Ити. Впрочем, читателям всего мира отчасти известны результаты всех этих работ по популярной книге Хейердала, которую он издал на следующий год после экспедиции. Эта книга под названием „Аку-Аку“ в 1959 году вышла в Советском Союзе.
После этих экспедиций и выхода в свет увлекательных книг имя Хейердала становится всемирно-известным. Выдержки из его книг вставлены в тексты школьных учебников в разных странах.
Хейердала избирают почетным членом Географического общества Норвегии, награждают медалями Географического и Антропологического обществ Швеции, Великобритании, Франции и США. За свой фильм „Кон-Тики“, как за лучший документальный фильм 1951 года, он получает приз Голливудской академии „Оскар“. Король Норвегии награждает Хейердала орденом Святого Улава, а правительство Перу — орденом Офицера особых заслуг. В 1958 году Норвежская королевская академия наук, а в 1960 году Нью-Йоркская академия наук избирают его своим членом. В сентябре 1961 года норвежский университет в Осло присваивает Хейердалу, первому из соотечественников, титул почетного доктора. Во время пребывания Хейердала в Советском Союзе в 1962 году он был награжден в Московском университете медалью М. В. Ломоносова.
Но слава иногда очень мешает работать. Журналисты, туристы, просто соотечественники хотят увидеть выдающегося путешественника. Все это отнимает много времени. И Хейердал решает покинуть на время Норвегию, чтобы завершить свои двенадцатилетние исследования. С осени 1958 года он поселяется в Италии. И хотя его официальным адресом долгое время остается норвежский, вездесущие журналисты находят ученого. У него просят интервью, встречая на туристских тропах прибрежных гор, приходят к нему на дачу.
Несмотря на все это, Хейердал успешно работает над новой монографией. Это будет трехтомный отчет о результатах долгих исследований, прежде всего об изучении древней культуры на островах Пасхи, Рапа-Ити и Маркизском архипелаге. В декабре 1961 года вышел из печати первый том — „Археология острова Пасхи“. Эта обширная работа интересна не только тем, что она содержит уникальные материалы, но и как своеобразный образец совершенного полиграфического искусства. Впервые в Западной Европе в книге используются исследования на острове Пасхи русских путешественников XIX века — Ю. Лисянского, О. Коцебу и Н. Миклухо-Маклая. Теперь на очереди стоит завершение второго и третьего томов. Большое место в этих томах будет отведено проблемам расшифровки древних письмен острова Пасхи и археологии остальных исследованных островов.
* * *
В своей знаменитой книге „Путешествие на „Кон-Тики“, Хейердал пишет, что как-то, сидя на плоту с вахтенным журналом, он вдруг подумал: „А с чего, собст-венно, все это началось?“ Как он пришел к мысли, что первые люди прибыли в Восточную Океанию из Южной Америки, и что побудило его отравиться в рискованное плавание на плоту из бальсового дерева? И, вспоминая, приходит к выводу, что „может быть, начало было положено уже десять лет назад на одном из маленьких островов Маркизского архипелага в центре Тихого океана“. Да, тогда в один из вечеров четверо людей — два европейца и два полинезийца— сидели у костра, и цивилизованный мир казался им непостижимо далеким и нереальным Двое белых и полинезийская девочка прислушивались к словам старейшего островитянина Теи Тетуа, который рассказывал им о происхождении своего народа, пришедшего с востока, из-за океана.
Итак, все началось с первой поездки Хейердала на Маркизские острова, о которой рассказывается в лежащей перед нами книге „В поисках рая“. Здесь мы видим молодого Хейердала. Он еще не этнограф и не археолог, а всего-навсего начинающий зоолог. Он еще не знает, к чему приведут его мысли у костра и обращает внимание на самые разные события и факты, но нам-то уже известно, что беседы с Теи Тетуа сыграли огромную роль в том, что Хейердал стал видным полинезиастом, развившим теорию заселения островов Восточной Океании.
Г. Анохин
Глава первая
В СОЛНЕЧНУЮ СТРАНУ
Бегство от цивилизации. Таити. Первое знакомство с заветным краем. Папеэте — полинезийский Марсель. У вождя Терииероо. Мы становимся полинезийцами

В тысячный раз склонились мы над пятнистой картой Южных морей. В тысячный раз пристально вглядывались в океанские просторы, надеясь высмотреть точку, которая бы нас устроила. Одну нетронутую точку среди тысячи рифов и островков! Точку, которую мир еще не заметил, крохотное пристанище, где можно было бы укрыться от железной хватки цивилизации.
Но… заманчивые точки одну за другой, одну за другой перечеркивали маленькие крестики. Долой, не годится! Об этом говорили и объемистые труды, и краткие описания…
Раротонга — крестик: вдоль всего побережья проходит шоссе.
Моореа — крестик: отели, туристы…
Мотане — крестик: нет питьевой воды.
Хитуту — крестик: нет плодовых деревьев.
Крестик тут (военно-морская база), крестик там (остров мал и густо населен). И вот уже весь лист испещрен крестиками — словно карта звездного неба. И такая же бесполезная для нас…
Чтобы прокормиться, добывая себе пищу голыми руками, подобно нашим древнейшим предкам, требовались совершенно особые природные условия: цветущий край, не занятый людьми. Но все плодородные земли густо заселены. А там, где нет населения, без помощи цивилизации не обойдешься. Вот почему материки — страна за страной, область за областью — сплошь покрылись крестиками. И теперь настала очередь островного мира Южных морей. Со всех сторон на него наступали крестики, и что ни крестик — кольцо смыкалось все уже и уже…
Около самого экватора, где красными стрелками мчится по карте пассат, раскинулись тринадцать островов Маркизского архипелага. Тринадцать крестиков… И когда на карте не осталось ни одной не зачеркнутой точки, сюда, к этим удивительным островам, потянулся ластик.
Нуку-Хива, Хива-Оа, Фату — Хива. Это главные, самые большие. Фату—Хива — живописнейший, благодатнейший остров Южных морей! Мы готовы были без конца читать о нем, разглядывать заманчивые картинки.
Некогда на Маркизских островах было сто тысяч жителей. Теперь осталось две тысячи, да и то часть из них — белые пришельцы. Полинезийцы вымирают с ужасающей быстротой…
А Фату—Хива — благодатнейший остров Южных морей!
Девяносто восемь тысяч исчезло — значит, место есть… Неужели среди древних развалин не найдется для нас уединенного уголка, неужели не найдется клочка земли, куда не проникли болезни, где цивилизация не привилась и где в заброшенных, одичавших садах зреет множество плодов?
Хорошо бы найти необитаемую долину, или маленькое горное плато, или живописный уголок на берегу. Соорудить себе жилье из ветвей и листьев. Добывать пропитание в лесу. Питаться плодами, яйцами, рыбой. Вокруг— природа. Пальмы и кустарники. Птицы и звери. Солнце и дождь.
Там мы могли бы осуществить эксперимент: вернуться в дебри. Проститься с современностью, с цивилизацией, с культурой. Сделать прыжок на тысячи лет назад. Познать образ жизни первобытного человека. Познать жизнь в ее простейшем и наиболее естественном проявлении.
Возможно ли это? Теоретически — да. Но что нам теория, мы хотим проверить это на деле! Попробовать, сможем ли мы двое, мужчина и женщина, жить так, как жили наши далекие предки. Сможем ли совершенно отречься от своей нынешней «искусственной» жизни и во всем — да, во всем — обходиться собственными силами, совершенно не пользуясь достижениями цивилизации, всецело уповая лишь на природу.
Заманчивый Фату — Хива… Уединенный скалистый островок. Залитый солнцем, богатый фруктами, пресной водой. Малонаселенный. А белых и вовсе нет. Мы обвели Фату-Хиву жирным кружком.
С моря на город полз зимний туман…
Вот как получилось, что мы в морозное рождественское утро, провожаемые леденящим ветром, отбыли в свадебное путешествие на остров Фату — Хива.
И вот почему мы месяц спустя оказались среди путешественников, толпившихся у поручней "Комиссара Рамеля". Сто загорелых пассажиров из девятнадцати стран — и у всех одна мечта, одна заветная цель: найти солнечный рай среди пальм. Писатели и правительственные чиновники, художники и искатели приключений, коммерсанты и обыкновенные туристы — все смотрели в одном направлении, охваченные радостным ожиданием. Там, впереди, за голубой океанской равниной, за вечно недосягаемым горизонтом — там, впереди, был Таити, жемчужина Южных морей!
Уже над водой, словно ажурная тень на тропическом небе, легкими призрачными контурами взметнулись зазубренные вершины. Нельзя сказать, чтобы эту картину мы видели впервые. Мы знали ее во всех подробностях по фотографиям, кинофильмам, книгам, журналам. Но теперь мы сами участвовали в путешествии! Теперь все было настоящее! В лицо нам веял ласковый океанский бриз — соленый, согретый солнцем. Впервые за несколько недель в воздухе появились парящие птицы. От носа корабля серебристыми струйками разлетались крылатые рыбки.
Всеми чувствами, всем своим существом мы впитывали впечатления…
Корабль подходил к Таити.
После долгого плавания впервые повеяло дыханием земли. Прежде пахло только морской солью и распаренной палубой — теперь пассат принес еле ощутимый живой, теплый запах почвы и редкостных растений.
Казалось, остров постепенно всплывает над водой. Величественный, устремленный ввысь, вонзающий в небо острые пики… Голубые пропасти, тонкие шпили, а внизу — весенняя зелень холмов и пригорков. Еще ниже сползал к берегу темно-зеленый лес, разбегаясь пальмовыми рощицами, которые придавали острову его неповторимый облик. А в море, поодаль от берега, протянулся живой коралловый барьер. Здесь блестящие голубые валы разбивались вдребезги, рассыпаясь на солнце белоснежной пеной, и, уже обессиленные, скользили к берегу, под пальмы.
Чарующее, неизъяснимо прекрасное зрелище, превосходящее все, что может себе представить человеческий разум…
Так вот они какие, острова Южных морей. Рай, прославленный и воспетый несчетное множество раз. Но никто не сумел передать все его очарование, потому что его нужно видеть, слышать, осязать самому… Мы стояли у поручней как завороженные. Стар и млад. Только команда сохраняла полное спокойствие. Нам здесь все казалось удивительным, необыкновенным. А морякам было не впервой, и они не спеша принаряжались к встрече со старыми знакомыми — вахинами.
[526]
За время плавания мы разучили таитянскую песню и теперь приготовились дружно спеть ее, как только покажутся встречающие нас каноэ. Нам хотелось сразу показать, что мы не какие-нибудь цивилизованные сверхчеловеки, а простые, свободные, счастливые люди — такие же, как местные жители, что мы способны понять островитян, восхищаться ими и их привольной жизнью в солнечном крае.
Ревели буруны. Корабль вошел в проход в коралловом рифе. Вот они, совсем близко — невиданные травы, поразительные деревья с исполинскими листьями… Сказка… Кроны шелестят, каждый лист трепещет, запах — словно в оранжерее. Просто не верится, что скоро мы будем бродить по этому лесу!
Медленно огибаем мыс, на котором раскинулся порт Папеэте — столица и узел коммуникаций французских владений в Тихом океане. Корабль остановился. Сейчас, сейчас к нам со всех сторон ринется рой лодок, а в них — украшенные цветами смуглые люди… Мы не могли больше сдерживаться, и грянула, понеслась под пальмы песня, старинный гимн Таити: "Э мауруру а вау!" — "Я счастлив!"
Путь Хейердала на Маркизские острова

Если бы вдруг к нам на палубу попал простой конторский служащий из Европы, он принял бы нас за сумасшедших. Пожилой тучный композитор-американец с деревянной ногой запевал, грациозно танцуя вдоль борта. Цивилизованные люди? Только не мы! Мы — дети дикой природы, как те, которые вот-вот поднимутся с лодок к нам на корабль!
И вот появилась лодка. Одна-единственная. Моторная.
В ней, стоя навытяжку, руки по швам, — белые мундиры. Мы слегка пали духом, но продолжали кричать, махать руками и петь. Никакого впечатления. Лишь один из мундиров поднес руку к фуражке, приветствуя. Лодка пристала к борту, встречающие поднялись на палубу. Два пальца у козырька, непроницаемое лицо… Паспорта, документы… Бумаги, печати, снова бумаги. Таможенный досмотр. И вот корабль степенно подходит к причалу. Толпы людей, пестрые зонтики, парижские моды, белые брюки с безупречной складкой, соломенные шляпки, яркие галстуки…
Мы было совсем приуныли, но тут деревянная нога опять стукнула о палубу, и мы, улыбаясь и размахивая руками, снова грянули дорогой нашему сердцу гимн. Встречающие вежливо похлопали и один за другим стали подниматься по сходням. Смуглые щеки женщин покрывали румяна, полные накрашенные губы сжимали сигарету. И однако это они, знаменитые таитянские вахины; у каждой за ухом цветок…
Опытным взглядом красавицы оценивали приезжих мужчин. Последнее, что я видел, сбегая вместе с Лив на берег, — это как из камбуза они выводили нашего улыбающегося кока, обвешанного цветами и фруктами.
Что ж, Таити по-прежнему край женщин.
А на корабле весело гремел джаз. Чуть не плачущая англичанка и два улыбающихся таможенника сидели около патефона, прокручивая одну за другой пятьдесят пластинок. Местные правила предписывали проверять все пластинки — как бы кто не ввез враждебную политическую пропаганду…
"Татт-таттаратт-угу" — рвалось из недр патефона.
На пристани кипела жизнь. Носильщики и шоферы осаждали пестро одетых туристов, привезших горы багажа. Смуглые красавицы льнули к морякам. Раскосые торговцы расхваливали свой товар. Правительственные чиновники радостно обнимали друг друга. И всюду толкались островитяне, рассчитывая на сделку.
Плакали дети, гудели автомобили, а из нагретого солнцем железного сарая плыл сладкий, жирный запах. Там в тяжелых мешках лежала копра. Главный источник доходов Южных морей.
Путь к торговле и богатству!
Путь, уводящий прочь от дружбы и счастья…
На следующий день утром мы стояли на набережной под сенью манговых деревьев. Огромный черный корабль с живой белой бахромой пассажиров и матросов вдоль всех палуб покидал порт. Вот он медленно скользит мимо крохотного зеленого островка в лагуне. Потом выходит за риф и исчезает в голубом просторе.
У самого горизонта мы приметили зубчатые горы острова Моореа; их силуэт на фоне неба напоминает разрушенную крепость. Остров Моореа наш ближайший сосед. Это маленький мирок, исторгнутый из пучины за тысячи миль от всех материков.
Растаял дымок «Комиссара». Все, назад пути нет. Сидим на клочке земли в океане. Ни кают, ни официантов. Теперь надо как-то самим добираться до далекого Маркизского архипелага.
В лагуне плавали удивительные яркие рыбки. Вот — красная, как кровь. А вот — желтая, в черную полоску. Им посчастливилось: далеко не все виды смогли выжить здесь, в сточных водах Папеэте.
В лагуне мягко покачивались на волнах белые шхуны. Они так и притягивали наш взгляд. Пустые палубы… На корме одной шхуны надпись: «Тереора». Это она доставит нас на Маркизские острова, дикий архипелаг далеко на севере, не тронутый цивилизацией. Когда она выйдет в море? Может быть, завтра. Может быть, через неделю. Или через месяц. Один лишь капитан, старик Брандер, знает точно. А он превосходно чувствует себя в Папеэте…
Вместе с потоком людей мы свернули на главную улицу. Женщины звонко смеялись, слезы расставания давно высохли; Папеэте — город радости. Звонкие велосипеды и набитые туристами автомашины сновали по асфальту среди низеньких дощатых лавчонок, заваленных товаром. Хрип граммофонов, скрип тележек с мороженым… Крикливые плакаты на китайском, французском, полинезийском языках; куда ни глянь — у всех только самое лучшее! И смуглые островитяне не пропускали ни одной двери, отдавая всю свою копру до последнего кусочка.
В этом-то хаосе мы и встретили Ларсена. Соотечественник, норвежец, Ларсен из Мосса в соломенной шляпе и полосатых шортах! Ушедший на пенсию учитель.
Мы подружились и в тот же вечер были в гостях у его приятелей в долине Фаутау, в нескольких километрах от города. Спустилась тропическая ночь, по-зимнему черная и по-летнему теплая. Мы сидели за столиком на обращенной к лесу террасе; вокруг коптящей керосиновой лампы на столе плясали тени от пяти огромных пивных кружек. Полоска света дотянулась до стены. К осве щенному пятну крадучись подбирались ящерки. чтобы мгновенно схватить какое-нибудь крылатое существо и тотчас укрыться с добычей в темный уголок.
Вот показался косматый паук, здоровенный и отвратительный, как кошмар. Вот что-то, шурша, вырвалось из мрака, метнулось к лампе, к стене, к нам, опять к лампе. Тощий кот вскочил на стол и схватил трепещущий комочек. Ночная бабочка исчезла в утробе кота. Тараканы и ящерки испуганно бросились наутек.
Где-то в безмолвной ночи родился шелест листьев: с гор подул прохладный ночной ветерок. Нам с Лив все казалось сказочным. Густой черный лес с огромными поблескивающими листьями стоял перед нами, будто глухая стена, над которой на фоне звездного неба, венчая стройные высокие стволы, качались взъерошенные кроны кокосовых пальм. Южный Крест. Незнакомые звезды. Лежащий на боку лунный серп.
На лужайке перед домом росли какие-то тропические растения. Я различил большие гроздья бананов А вот черные силуэты плодов хлебного дерева. Многие плоды были мне вообще незнакомы. Удивительный край! Вот эти длинные ветки, совсем рядом, протянулись от кофейного дерева! В саду тут и там посажены цветы. Поразительные цветы! А какой воздух! Теплый, дышащий плодородием.
Кто-то закудахтал на дереве. Куры — дикие куры, объяснил Ларсен. И рассказал, что они нередко несутся прямо на террасе. Но вообще-то яйца диких кур найти трудно: их уничтожают крысы.
Наши новые друзья — Ларсен, швед Калле Свенсон и англичанин Чарли Хеллиген — были старожилами на острове. Калле Свенсон заведовал складом фирмы «Дональд» — самой крупной торговой компании в колониях. Чудесный парень. Женился на островитянке с Туамоту, умной, приветливой женщине, замечательной красавице. Трое детей появились на свет в маленьком домике в долине Фаутау.
— Ну как, нравится вам Таити? — полюбопытствовал Свенсон, вылавливая из пива кузнечика.
— Природа… — мечтательно произнес я. — В жизни не представлял себе, что на свете есть такое чудесное место.
Свенсон угрюмо поглядел на пальмы, кланяющиеся ночному ветру.
— Одной красотой не проживешь, — сказал он. — И будто в Швеции не красиво!
— Не так, как здесь, — возразил я. — Конечно, после стольких лет вдали от родины она вам кажется прекраснее. Вы уже привыкли к чудесам здешнего края. А мы только что вырвались из объятий зимы, нам легче сравнивать.
Я перечислил все недостатки своей родины, расписал удивительные красоты Таити. Хотелось, чтобы он понял, как ему хорошо, чтобы осознал, что он живет в краю, о котором все мечтают: Южные моря, земной рай.
Но Свенсон твердо стоял на своем. Его тянуло домой. Да-да, он хотел бы уехать с женой и детьми в родную Швецию. Здешние нравы погубят детей. Мне не удалось его переубедить.
— Вы только что приехали, — говорил он. — Подождите — через месяц вы меня поймете. Сейчас вы ослеплены, как все новички. Не обольщайтесь: вы не найдете на Таити желанный рай.
Остальные засмеялись. Меня озадачило их единодушие.
Хеллиген оторвался от кружки. Маленький скромный англичанин, предпочитающий помалкивать, решился что-то сказать.
— Рай обретает тот, — спокойно произнес он, — кто возвращается на родину.
Он прожил на Таити двадцать лет.
— А вы где родились? — удивленно спросил я.
Он родился в Лондоне. В Лондоне!
— Эх, как вспомнишь Норвегию! — вырвалось у Ларсена. — Один крыжовник чего стоит.
Я оторопел. Крыжовник. Кругом такое обилие тропических плодов, а он — крыжовник! Я показал на деревья и кустарники, усыпанные фруктами, цветами. Но Ларсен фыркнул с таким презрением, что чуть не потушил лампу, Хеллиген вовремя прикрыл ее рукой.
— Разве можно это сравнить с крыжовником! Только представить себе: стоишь в саду и, не сходя с места, ешь крыжовник, сколько влезет!..
Лицо учителя Ларсена сияло. Не успел я его перебить, как он уже принялся расписывать прелести серого хлеба с козьим сыром, парного молока и киселя из морошки. Со сливками.
— Но ведь вы не первый раз на Таити, — вставил я наконец. — Зачем вы сюда вернулись, если вам тут не нравится?
— Молодой человек, — ответил Ларсен. — Тогда Таити был совсем другим. Еще всего четыре года назад на белых смотрели снизу вверх. А сейчас островитяне только смеются над нами и прохаживаются на наш счет. Я понимаю их язык и слышу, какими замечаниями нас провожают. До чего же нынешние избалованы, как нос дерут, — а все эти восторженные туристы и хвалебная реклама. Рай!.. Этот рай у меня уже вот где сидит. Кто ни приедет сюда, непременно должен потом написать книгу. А чтобы ее покупали, непременно надо про рай ввернуть. Кто же станет читать, если напишешь как есть на самом деле? Да никто. Людям подавай романтику и красоты. Кому нужны железные сараи и битые бутылки?.. О таком не пишут. Вот и стараются, изображают Таити таким, каким он был в каменном веке, когда островитяне бегали по лесу, прикрытые лишь фиговыми листочками, пели и плясали вокруг костра. Ввозят из Франции укулеле, а из Америки — лубяные юбки, которых здесь раньше никогда не было. Сочиняют полинезийские мелодии, учат островитян играть на укулеле и плясать в юбочках перед кинокамерой — лишь бы было что на экране показать. И люди смотрят, хлопают в ладоши и восхищаются: ах, до чего же там все примитивно! Вот именно: Таити должен прикидываться примитивным. Чтобы не иссяк поток туристов. Чтобы книги нравились читателям. Чтобы все билеты на сеанс были проданы. И чтобы белый человек не чувствовал вины за все то. что он здесь натворил. Я вот когда-нибудь выпущу книгу тут, на острове. На полинезийском языке. Книгу о рае Северного моря, такую же «правдивую», как все ее сестры, болтающие о Южных морях. Опишу Норвегию: не страна — мечта, там викинги сидят на льдинах и высекают огонь из кремня, а женщины в медвежьих шкурах отплясывают халлинг
[527] и рожают детенышей с лыжами на ногах.
Ларсен остановился, чтобы перевести дух, и налил всем еще домашнего пива. Я взглянул на Лив, которая не могла оторвать глаз от леса, от этой колышущейся стены волшебных растений. Неужели правы наши друзья?! Неужели здесь, где такая чудная природа, все тлен и гниль?! Нет. Уж во всяком случае не на Маркизских островах!
Мы поделились с друзьями нашими планами. Свенсон рассмеялся.
— С первой же шхуной вернетесь, — предсказал он. — Мрачные острова эти Маркизы. Дикие горы, узкие долины, населения почти не осталось. Конечно, зрелище внушительное, и растительность богаче, чем тут, но все равно мало кто выдерживает гам уединение. Народ на Маркизах куда угрюмее здешнего. Ведь они еще не так давно были людоедами.
Никто из наших друзей сам не бывал на Маркизских островах. Но все они слышали об их пышной растительности и уединенности. Видно, там и в самом деле дикий край. Что-то особенное…
— А есть у вас нужное снаряжение? — спросил Свенсон.
— Снаряжения никакого нет, — ответил я, — И не надо. Будем карабкаться на деревья за плодами, будем ловить рыбу в море — как островитяне. Правда, я везу банки и препараты для зоологических коллекций.
Все бурно оживились.
Учитель Ларсен похлопал меня по плечу.
— Молодой человек, — сказал он. — У вас не совсем верное представление о Южных морях. Ступайте-ка к лавочнику да купите себе примус. А заодно — кастрюлю, сковородку и ящик консервов. Кроме того, запаситесь мешком муки, рисом и сахаром. Не забудьте хороший фонарь, не говоря уже об одежде и противомоскитной сетке.
— А плед для защиты от ночного холода? — вмешался Свенсон. — И топор, пилу, гвозди. Если только вы не думаете снимать квартиру у островитян.
— Помните, вы не в обетованной земле, — объяснил Ларсен.
— Жареные поросята в рот сами не прилетят, тут нужна сковорода, нож, спички и, наконец, бидон керосина. В лесу сырой валежник.
— Лекарства! — подхватил Свенсон. — Бинты, йод, салол.
У меня есть отличное
средство от нарывов, — заверил нас Ларсен.
— Нарывов? — переспросил я.
— Ну да, нарывов, — продолжал Ларсен. — У меня был друг, и однажды у него вскочил нарыв…
— Ипохондрик ты, — ответил я. — Это что же, возвращаться к природе, волоча за собой целый воз?
И все-таки, идя вечером к себе в отель, мы с Лив заколебались.
— Ладно, возьмем топор, — сказал я.
— И кастрюлю, — добавила Лив. — Что ни говори, они бывалые люди, знают больше, чем мы.
— Как только научимся обходиться без всего этого— отдадим кому-нибудь, — продолжал я.
— Правильно! — подхватила Лив. — Назад ни шагу!
— И вообще, прежде чем уединяться, не худо было бы хоть немного познакомиться с образом жизни островитян. А что — не поехать ли нам пока в глубь острова и не снять ли там домик?
— Шхуна уйдет, — возразила Лив.
— Это еще не скоро будет, к тому же можно попросить капитана, чтобы он нас вовремя известил. Здесь же всюду ходит автобус.
Вернувшись в отель, мы никак не могли уснуть. Тысячи мыслей и впечатлений роились в голове, тысячи комаров пищали над защитной сеткой.
Что-то готовит нам будущее?
Я критически взглянул на объявление на стене: "Запрещается входить в отель в набедренной повязке. Не разрешается приводить в номер уличных женщин".
Из окна на стену падал луч света. Я проследил за ним глазами — в небе над лагуной плыл месяц. В теплом ночном воздухе благоухали цветы. Маленькие искрящиеся волны тихо плескались у берега. Издали, оттуда, где протянулись рифы, сливаясь с шорохом лесов, доносилась песня Южных морей — неумолчный гул бурунов. Пустынные улицы притихли.
Пальмы, луна — идиллия!..
За обеденным столом вождь Терииероо а Терииерооитераи, повелитель семнадцати вождей Таити, занимал вдвоем со своей супругой целую скамейку. С достоинством, не торопясь, он уписывал многочисленные блюда, великолепно обходясь без ложки и вилки. Жареная свинина и ананасы, сырая рыба и раки, бананы и цыплята, устрицы и плоды хлебного дерева, крабы и дыня, манго и папайя — нет, не счесть всего того, что исчезало в широкой пасти вождя. И мы как могли старались не отставать.
Супруги были лучшей рекламой местной кухне. Улыбающийся, плечистый, могучий Терииероо весил добрых сто двадцать пять килограммов, и его добродушная жена нисколько ему не уступала. Скамейку напротив занимали миловидные дети вождя; они робко поглядывали на нас из-за горы снеди. Их меню состояло из кофе, плодов хлебного дерева и таитянского кокосового соуса. Ели они бесподобно, явно мечтая достичь комплекции отца. Общественный вес знатного таитянина прямо пропорционален его телесному весу. Наши хозяева были на высоте — достойные потомки исконных полинезийцев: с неизменно отличным настроением, всегда веселые и склонные к шутке, не заботящиеся о завтрашнем дне.
Вождь Терииероо откровенно гордился своей комплекцией.
— Вот смотрите, как надо есть суп, — сказал он, погружая в тарелку пятерню.
Его широкая ладонь и впрямь была отличным черпаком…
Притихшие ребятишки восхищенно глядели на отца. Широко улыбаясь, вождь объяснил нам, что у ложки и вилки противный вкус. К тому же с ложки суп попадает на язык, а это неправильно. Вот когда пьешь из горсти, суп ласкает нёбо и отдает весь свой аромат.
Я последовал примеру гурмана Терииероо и одобрительно кивнул. Лив новый способ дался труднее, но и она постепенно освоилась.
Услышав, что мы собираемся на Маркизские острова, Терииероо загорелся.
— Эх, будь я помоложе, отправился бы с вами! — воскликнул он.
И мы не сомневались, что он сделал бы это. Маркизский архипелаг — сказочный край, говорил вождь. Сам он никогда там не бывал, но многие его знакомые, живущие здесь же, в долине Папену, плавали на Маркизы и рассказывают чудеса про эти острова. С каждой кокосовой пальмы там за один урожай собирают по сто орехов, а фруктов в маркизских долинах — тьма-тьмущая. Особенно на Фату-Хиве, самом южном острове архипелага.
Там не надо, как на Таити, лазить в горы за апельсинами — они растут внизу. Даже красный горный банан феи (любимое блюдо вождя) растет в долинах. На Таити же только самые искусные скалолазы могут добыть феи. Соберут, а потом продают на рынке в Папеэте…
А еще на Фату-Хиве нет бурых крыс, поэтому там не надо для спасения орехов обивать жестью стволы кокосовых пальм. А как там все дешево! Нас, конечно, встретят подарками, среди которых, наверное, будут и верховая лошадь, и целые связки кур.
Там нет автомашин, от которых только пыль и вонь. Нет москитов, нет лавочников…
— Да, там куда лучше, чем на Таити… — вздохнул вождь. — А ведь прежде и здесь было так. Прямо в долине росли феи и много других редкостных бананов. А теперь если и посадишь, все равно не растут. Едва поднимутся над землей, как их губит болезнь. Болезни, автомашины, лавочников — вот что принесли нам на Таити новые времена. Просто спасения нет.
Терииероо гордится своим островом и своим народом. Он может часами рассказывать про старину. Но он знает, что старому Таити пришел конец, и не любит новую культуру. Старается, насколько это в его силах, противодействовать ее вторжению. Да только цивилизация сильнее. Цивилизация гофрированного железа…
Вождь не мог нам сказать, сдает ли кто-нибудь домик. Но он пригласил нас пожить у него, пока мы ждем шхуну. Его дом — наш дом. Нет-нет, никаких возражений!
Что ж, стол великолепный! Вот только эта сырая рыба, так обильно политая кокосовым маслом…
— Ешь побольше плодов хлебного дерева, — посоветовал вождь Лив, — будешь здоровая и толстая.
— У тебя много детей? — спросила мадам Терииероо.
— Нет, — ответила Лив, — мы только что поженились.
Мадам запричитала: замужем — и ни одного ребенка, вот беда-то!
— Ну да и у меня их не так уж много, — утешила она Лив. — Поэтому мы усыновили еще двадцать восемь человек.
— Двадцать девять, — поправил ее вождь.
Супруга вождя сердито шлепнула черного поросенка, который истово чесал спину о мои изъеденные комарами ноги — к нашему обоюдному удовольствию. Поросенок взвизгнул и метнулся к двери, изогнув хвостик задорным крючком. У вождя Терииероо достаточно домашних животных, и они повадками ничуть не отличаются от своих сородичей в других концах света.
Если курица, вскочив на стол, примется клевать дорогое сердцу вождя феи, он взревет так, что кажется — сейчас усы отлетят, и грохнет кулаком по столу. Куры, кошки, собаки, поросята в панике удирают за дверь. А через несколько минут они уже опять тут, у стола, и все тихо-мирно.
Бедняжка Лив никак не могла осилить какой-то фрукт, вкусом напоминающий жареные калоши,
— А вот это что? — спросил я, показывая на бугристый плод в дальнем конце стола.
— Тапо-тапо, — ответил вождь; пока он смотрел в ту сторону, «калоша» исчезла в пасти свиньи, которая просительно глядела на Лив, положив па стол свое рыло-штепсель.
Мы не ленились расспрашивать. Что, да как, да почему… И супруги терпеливо все разъясняли, твердо убежденные, что в Норвегии растет только картофель и лед.
— Вуаля, — сказала мадам Терииероо, подавая нам потрескавшуюся чашку. — Это называется кофе, вкусно, пейте на здоровье.
Набив желудки до отказа, супруги плюхнулись на пол, на циновку из листьев пандануса, и тотчас уснули.
А мы побрели в сад и устроились отдыхать в тени мангового дерева. Умаялись…
Так один за другим проходили наши дни в долине Папену. Счастливые дни.
Вождь заключил, что наше неведение слишком велико — необходимо нас просветить. Он стал моим учителем, а его жена — наставницей Лив. Я должен был научиться добывать пишу, Лив — готовить ее. Добывание пищи сводилось в основном к лазанью по деревьям.
Вождь выбрал для урока невысокую кокосовую пальму возле дома. Вся семья вместе с домашними животными собралась вокруг нас, снедаемая любопытством.
Я обнял ствол и, вспомнив детство, вскарабкался на метр-другой. Но когда я попытался спуститься, то почувствовал, что ствол, состоящий из колец с острыми краями, меня не пускает. Что делать? Висеть на пальме или, нежно обняв ее, ехать вниз?
Зрители покатывались со смеху. Я беспомощно болтался над их головами. А — была не была! Куры бросились врассыпную — ба-бах! — и я сижу на земле, весь в кровоточащих ссадинах.
Бурное ликование. Мадам Терииероо, трясясь от хохота, обняла ближайшее дерево, чтобы показать, как лазают европейцы. К несчастью для нее, это был банан, и тучная женщина в обнимку с хрупким стволом
[528] шлепнулась наземь. Вождь едва не задохнулся от смеха.
Много дней спустя, когда ссадины зажили, я решил сделать новую попытку взобраться на пальму. Вождь велел одному из своих отпрысков лезть первому, чтобы я посмотрел, как это делается. Сам Терииероо — некогда первый богатырь на острове — был теперь слишком стар и толст.
Мальчуган обхватил ствол руками, уперся в него пятками, выгнул спину дугой и полез — нет, взбежал, как обезьяна, до самой макушки!
Я попытался сорвать один орех, но он был словно привязан стальной проволокой. Вдруг в кроне что-то запищало, и на меня бросилась тысяча бесов. Миг — и я опять сижу на земле. Правда, на этот раз без единой ссадины: научился лазить на полинезийский лад!
— Ты почему так быстро спустился? — спросила Лив.
— Манупатиа, — объяснил вождь, — жалящая птица.
Увы, корабли доставили сюда также и осу…
— Будь всегда осторожен наверху, — поучал меня Терииероо. — В кронах часто прячутся ядовитые тысяченожки — огромные, длиной с твою ладонь. Они жалят куда злее, чем осы. Но уж лучше пусть ужалит, чем от страха выпускать из рук ствол! Укус можно вылечить луком или лимонным соком.
После скоростного спуска я обнаружил, что ноготь на большом пальце ноги посинел и отстал. Вождь вызвался врачевать меня. Ноготь нужно совсем оторвать, чтобы новый рос правильно, заключил он. Я сел на пол террасы и задрал ногу кверху. Вождь Терииероо уцепился за ноготь и дернул его, вложив в этот рывок все свои сто двадцать пять килограммов. Сияя, он показал мне оторванный ноготь. Кровь капала на пол; вождь стер ее ваткой, потом той же ваткой прочистил ранку. Затем обдал мой палец кипятком. Операция окончена…
На кухне под навесом супруга вождя и Лив что-то размешивали в огромном котле: шел урок домоводства, только плиту заменял каменный очаг посреди земляного пола. Разводили костер, камни накаливались, и на них, погасив огонь, жарили и пекли пищу.
Вот и сейчас между камнями торчали свертки из листьев, в которых лежало какое-то совершенно необычайное тесто, а Лив и мадам, размахивая прутиками, пальмовыми листьями и огромными секачами, сновали вокруг очага, среди кошек и кур.
Предоставив женщинам заниматься своим делом, мы с вождем пошли потолковать о переменах, которые несут с собою новые времена. В углу террасы стоял рабочий стол вождя; когда местные жители приходили со своими ходатайствами, он принимал их, сидя среди груды старых бумаг, писем, календарей и соломенных шляп, рядом с которыми можно было найти пузырьки с лекарствами, вату, жестяные коробки, треснувшую чашку, зонт, крахмальный воротничок…
Дом Терииероо, наполовину закрытый цветущим и благоухающим кустарником, стоял близко от дороги. Не отрываясь от работы, вождь мог видеть проходящих. Он приветственно махал прохожим, обменивался с ними шутками. "Заходите, пообедаем!" — кричал он. "Спасибо, уже", — отвечали они, шагая дальше. Прежний гостеприимный обычай теперь стал просто вежливой фразой. Это уже не приглашение, а приветствие, вроде нашего "здравствуйте".
То и дело мимо проносились автомобили, битком набитые горластыми туристами, которые наслаждались природой, так сказать, на ходу. Мы успевали заметить только тропический шлем, блеск очков и фотоаппаратов, нередко — украшенную цветами вахину с сигаретой в зубах и мандолиной. Миг — и нету, скрылись в вихре пыли и выхлопных газов. Счастливые обладатели путевок в рай спешили до ночи вернуться в Папеэте,
Дни складывались в недели, а мы все жили в долине Папену. Никаких вестей с маленькой шхуны, которая должна была доставить нас на уединенные острова под экватором… Мы лазили по горам среди зарослей папоротника, купались в бурных речках под сенью пальм Вместе с вождем ходили в лес за плодами, гуляли на солнечном морском берегу.
Как раз напротив устья долины Папену в барьерном рифе есть проход, и волны здесь с рокотом обрушивают ся на берег. Словно грохочет обвал — это галька перекатывается по гальке в такт набегающим волнам. А поверху галечного вала, накаленного лучами солнца, разбросаны великолепные изделия самой природы. Вперемежку с плавником, прелыми водорослями, камушками лежит множество раковин: одни — переливающиеся всеми цветами радуги, другие — выбеленные солнцем и морем. Лежат кораллы, пестрые губки, высохшие морские животные, скорлупа кокосовых орехов.
Когда нам становилось невмочь на жарком берегу, мы забирались под дерево, пробивали дырку в зеленом кокосовом орехе и пили кокосовое молоко — самый чудесный в мире освежающий напиток. Ну чем не рай?
Вот вверху на шоссе, окаймляющем весь остров, загремела телега. Возница дудит в огромную раковину — подходите за хлебом! Чудный хлеб — кислый, с печеными мухами…
Очень нужно! Над нами тянулись к небу пальмы, а на них — огромные орехи. Сытная и здоровая пища, вкусная и дешевая.
Но на Таити теперь не едят кокосовых орехов. Их вывозят тысячами тонн в виде сушеной копры.
Издали доносился голос раковины.
Теперь едят хлеб…
Вождь Терииероо а Терииерооитераи ревностно соблюдал старинные обычаи.
Однажды он созвал гостей на большой пир. Резали свиней, собирали плоды хлебного дерева. Таитянский пир. По какому поводу? Вождь решил нас усыновить! Нам предстояло стать детьми Таити, получить полинезийские имена. Плели гирлянды из цветов; кур и поросят выставили за дверь. Какие имена для нас придумали? Во всяком случае, «попроще» наших норвежских имен. Ведь это же невозможно произнести — «Лив» и «Тур». Язык сломаешь.
И вот мы, одетые в наши лучшие наряды, увешанные цветами, восседаем за столом. Начинаются крестины.
Я взглянул на супругу вождя, которая сидела в углу, воздавая должное соусу. Ее благозвучное имя Фауфау Таахитуэ означало: "Некрасивая. Ноги большие, как океан".
Сам вождь сидел рядом с ней, улыбаясь во весь рот. Крестники, то есть я вместе со своей супругой, занимали почетное место во главе стола. Широченная соломенная шляпа все время съезжала Лив на лоб, и она, ничего не видя, без конца совала себе в рот "жареные калоши". Тропический шлем сочли не подходящим для столь торжественного случая. Но и совсем без головного убора тоже нельзя. Вот почему па Лив нахлобучили огромную шляпу жены вождя, украшенную пустыми раковинами. Стоило Лив сдвинуть головной убор набекрень, как "Ноги большие, как океан" тотчас подбегала к ней и поправляла шляпу. И бедняжка опять тянула с блюда "калошу".
Рядом со мной, облаченный в белый пиджак и шорты, почесывая икры пальцами босой ноги, сидел священник. Дальше — нарядные вахины и смуглые богатыри. Украшенный цветами и зеленью стол ломился под тяжестью огромных блюд.
Мы ели и пили. Здесь царила полная свобода. Разрешалось есть суп пригоршнями и класть ноги на стол, посыпать свинину сахарным песком и вылавливать цыплят из чая. За еду благодарили тоже по-своему. Сразу было видно, что все наелись до отвала!
Все чокнулись с нами свежими кокосовыми орехами. Так произошло крещение.
Под яркозвездным небом Таити плавно качались пальмы. Луна испестрила серебристыми бликами огромные блестящие листья. При се свете можно было даже различить гроздья бананов. Небо было совершенно чистое. И мы получили имя: господин и госпожа Чистое Небо.
Сытые и веселые гости расходились по своим домикам в красивой долине. Отныне мы были для них «свои». И у нас наконец-то появилось приличное имя: Тераиматеата Тане
[529] и Вахине.
Глава вторая
НА КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ ТУАМОТУ
Шхуна — переносчик культуры. На Такапоту. Главная достопримечательность кораллового островка. Лов рыбы в "аквариуме"

Парусная шхуна «Тереора», приписанная к Таити, выходила из лагуны порта Папеэте. Серые стены лавчонок и красные черепитчатые крыши так называемых отелей постепенно скрылись за пальмами. Могучий голос великого океана, неустанно штурмующего риф, наконец-то заглушил хриплые автомобильные сирены и пронзительные велосипедные звонки.
Мы снова качаемся в открытом море. Идем вдоль заветного острова Таити, края мечты, жемчужины Южных морей. Вдоль маленького южноморского рая, который привлекает взор пышным зеленым убором и кажущейся дикостью, а на деле весь источен извращенной культурой.
Прощай, Таити. Теперь наш путь лежит на Фату-Хиву, цель наших стремлений. Папеэте, последний форпост цивилизации, позади, утонул в темно-зеленой чаще тропического леса. А вот и весь Таити отодвинулся к горизонту, погрузился в океан, исчез.
Волны игриво швыряли маленькую шхуну. Мы отыскали себе местечко на палубе среди полинезийцев. Компания была веселая. Тучные мамаши и голосистая ребятня, седые деды и пылкие вахины; звуки укулеле, горнов и труб, корзины с курами, рыбой, бананами, запах копры, брильянтина и океана, мешки, ящики, телята, поросята… И горы фруктов. А в центре всего этого — мы.
Нашими спутниками были уроженцы коралловых островов архипелага Туамоту. Они ездили на Таити "в город" и теперь возвращались домой. А двое из них направлялись на Маркизский архипелаг.
Единственным кроме нас европейцем был старый капитан Брандер, некогда закончивший колледж в Англии — добродушный седой морской волк. Он получил превосходное образование и знал Европу не хуже, чем Таити. Уже много лет он курсировал между живописными островами Южных морей, попивал виски, водил свою шхуну и нигде не сходил на берег, за исключением Папеэте, где был его дом. Капитан Брандер презирал цивилизацию, и, однако, он невольно способствовал распространению ее на островах. Он был в плену очарования этого края, но никогда не сходил на берег, чтобы насладиться его природой. Удивительный человек, великолепно знающий Южные моря и то, какая судьба ожидает этот край. Он понимал, что полинезийцы уже вкусили "блага культуры" и теперь уже никто не сможет остановить цепной реакции, даже старый капитан Брандер. Он сразу пришелся нам по душе.
"Тереора" была торговым судном. Брандер занимал должность капитана-судоводителя; деловой стороной заведовал таитянский коммерсант Теодор — человек могучего телосложения, сообразительный и приветливый. Он исполнял обязанности суперкарго,
[530] обожал деньги и обладал незаурядными коммерческими способностями. Шхуна скупала на островах копру, причем островитяне, получив деньги за свой товар, тотчас шли на судно, чтобы истратить их на покупки. Таким образом, шхуна выручала двойную прибыль.
— Нелепо, но они сами так хотят! — говорил капитан Брандер. — На что им, этим чудакам, трехколесный велосипед, швейная машина, белье, лосось в масле? Ни к чему, совершенно ни к чему. Но каждому хочется возбудить зависть у соседа — дескать, у меня есть стул, а ты сидишь на полу. И сосед тоже спешит купить стул, а в придачу еще что-нибудь, чего нет у его приятеля… Растут запросы, а с ними и расходы. Чтобы добыть денег, без которых они вполне могли бы обойтись, островитяне занимаются неприятной работой — добычей копры. На каждом острове — множество пальм, с которых круглый год сыплются спелые орехи. Пальмы, так сказать, "несут золотые яйца" для владельца участка. Одни обогащаются, другие остаются бедняками; правда, голодать и нищенствовать никому не приходится. Есть среди островитян миллионеры, если их доходы перевести на французские франки. И все состояние тратится на гофрированное железо и оконное стекло. Везти их приходится издалека, и доставка обходится очень дорого. Вот у нас в Европе говорят: "купаться в шампанском". Здесь роскошь — умываться с мылом. Да они в нем и не нуждаются. У них есть кокосовое масло и морская вода в лагуне. Сотни лет островитяне обходились без мыла, и кожа у них — лучшая в мире. Так нет, подавай им мыло! И это еще самая разумная из их покупок. Зайдешь в дом — стоит кафельная печь. Без дымохода, без трубы, хозяин даже не знает назначения печки. Зачем она ему? Здесь тепло круглый год. И стоит эта печь — из самой Европы! — на радость хозяину. Покосилась, заржавела, зато соседи завидуют. Зачем мы торгуем такими вещами?.. А не мы, так другие привезут, лишь бы брали…
День за днем плыла наша скорлупка по вечно беспокойному океану. Совсем недавно мы лихо пересекали его из края в край указательным пальцем. А теперь безбрежные просторы измеряем днями.
Спали мы на крыше маленькой каюты, под звездным небом, на свежем воздухе. На ночь привязывались веревками, потому что, когда шхуна врезалась в волну, вода могла нас смыть. Внизу, под палубой, для воздуха места не было — все заняли товары и кашляющие пассажиры.
…Плывем, качаясь, сквозь густую тьму. Рядом, играя на укулеле и напевая, лежат молодые вахины. Им по душе нехитрые мелодии Южных морей, джаз их не привлекает. Как чудесно звучат их маленькие укулеле, перенося нас в полинезийскую старину, придавая особое очарование ласковым, теплым ночам.
Лежа на спине, мы слушаем, слушаем… Верхушка мачты, словно маятник, качается на фоне тропических созвездий. Небольшой фонарь бросает красноватый свет на закутанные фигуры вокруг нас. Кто спит, кто поет. Хорошо видно энергичное лицо рулевого. Брандер отдал необходимые распоряжения и ушел спать. Руль в надежных руках таитянского парня. Удары волн о борта… Плеск воды… Треньканье укулеле… В каюте — кашель и стоны страдающих морской болезнью…
Вперед, только вперед, курсом на Такапоту!
И вот однажды утром…
Солнце, вынырнув из Тихого океана, озарило белые паруса шхуны. Блестящими стайками порхали в воздухе летучие рыбки. Погруженный в приятную полудремоту, я наслаждался удивительными красками неба на востоке. Вдруг кто-то толкнул меня в бок, еще кто-то наступил на ногу. Земля!
Да, вот он, во всем великолепии утренних красок, первый коралловый островок! Не высокий и скалистый, как Таити, а схожий со стаей чаек, качающихся на воде. Собственно, самый остров еще и не видно, появилась лишь цепочка пальмовых крон. Ближе, ближе — и вот уже перед нами засверкал в солнечных лучах белоснежный пляж.
Едва «Тереора» бросила якорь, как на берегу собрался народ. Мы пробились на шлюпке через кипящие буруны, а дальше пошли к суше вброд. До чего же теплая вода!
— Иа ора на! Иа ора на! — неслось со всех сторон.
Мы отвечали тем же: "Иа ора на!" Словом «здравствуйте» исчерпывалось все наше знание местного языка. А здесь, в отличие от Таити, никто не говорил по-французски.
Толпа смуглых островитян увлекла нас к хижинам, приютившимся под деревьями. И вот мы сидим на лавке, окруженные восторженными зрителями. Не каждый день остров Такапоту в архипелаге Туамоту посещали европейцы.
Было очевидно, что им не терпится побеседовать с нами.
— Иа ора на! — робко произнес я еще раз.
— Иа ора на! — радостно ответили островитяне.
Мой словарный запас иссяк. Но что-то надо говорить!
— Таити.
— Ай-ай! Оиа хамаи Тахиди, — весело подхватили они.
Снова заминка. Я поглядел на небо, поглядел на
островитян, которые ждали следующей реплики. Потом бессильно усмехнулся, В ответ грянул такой дружный хохот, что мы чуть не свалились с лавки. Смех затих, опять выжидательная тишина.
— Маркизы, — заговорил я, — Маркизы, Таити, Европа, Гавайи…
В следующий миг завязалась такая оживленная беседа, что в общем гаме мы преспокойно перешли на родной норвежский язык.
А затем мы окончательно опростоволосились. Из толпы островитян выскользнула вахина и предложила нам вскрытый кокосовый орех. Изнывая от тропической жары, мы жадно прильнули к нему и с наслаждением проглотили содержимое. Ух ты, как здорово!
О ужас! Площадка вокруг нас вдруг опустела, а в следующее мгновение на землю посыпались с пальм орехи. Каждый — каждый! — нес нам орехи: пейте! На Такапоту не принято отвергать дары. И мы пили, пили, пили…
Часом позже, окруженные полинезийцами, мы брели в глубь чащи. Они поторапливали нас нетерпеливыми жестами, явно желая показать что-то из ряда вон выходящее. Шагаем по совершенно плоской поверхности. Остров сухой, раскаленный солнцем, но красивый! То и дело с пальм скатывались огромные крабы и сейчас же исчезали в норах. Крабы — "пальмовые воры", они карабкаются на деревья и крадут кокосовые орехи!
Под ногами хрустели раковины и кораллы. Мы не могли наглядеться на местные чудеса. Но вот мы у цели, и островитяне, сияя, указывают нам на свой главный «аттракцион». Мы взглянули и… нас охватило беспокойство, успело ли кокосовое молоко перевариться в наших желудках. Перед нами между пальмами стоял потрепанный автомобиль. Впереди торчала заводная ручка.
Нас вежливо усадили в автомашину, и она запрыгала по орехам и раковинам. Прыг-трах, трах-прыг, прыг-трах… Следом мчались ребятишки. Мы миновали две пальмы, свернули за угол бамбукового сарая, проехали вдоль курятника, обогнули хлебное дерево и вернулись к старту. Экскурсия окончена, шофер востребовал мзду — можно пешком возвращаться на «Тереору». Таитянин, владелец машины, которая ходила вокруг хлебного дерева, жил на Такапоту, как король.
На «Тереоре» плата взималась не за километры, а за дни. К тому же Теодор был страстный рыболов. Стоило ему увидеть на горизонте остров, как он тотчас правил туда, чтобы порыбачить у берега. Вот почему однажды ночь застала нас в лагуне острова Такароа. Луна еще не вышла из-за пальм, но мы уже спустили на воду шлюпку и сели в нее, захватив керосиновый фонарь. Предстояла охота на акул.
Отойдя от шхуны, бросили якорь. По поверхности моря разбежались искры. Мы стояли возле самого рифа, в том месте, где море соединялось с лагуной. Вверху — Южный Крест, внизу — черный как смоль силуэт острова с яркими пятнами костров: местные жители рыбачили с острогой. Издали глухо доносился рокот бурунов.
Глаза, привыкнув, различали на берегу очертания разбитого корабля. Среди гибких пальм удивительно прямо торчали четыре мачты. Неподдельная романтика Южных морей!
Когда я закинул удочку, на дне лодки уже бились две огромные рыбины — ярко-красная и светло-голубая. Наши смуглые товарищи знали свое дело. А сам начальник экспедиции замер, держа леску из стальной проволоки. Он подстерегал акулу. Лив сидела как на иголках.
Клюет, Да еще как! Что-то я вытяну из этого черного аквариума? Мелькнуло зеленое, голубое… Рыба с клювом! Рыба-попугай! И дальше — что ни рыба, то новость. Одна была сплошь покрыта длинными шипами, у другой голова как бы сливалась с хвостовым плавником.
Ого! Мы даже подскочили — старик тянул леску, напрягая все свои силы. Акула! Мы бросили удочки и вооружились топорами. Вот что-то забилось у самой поверхности. Фонарь сюда!.. Показалась маленькая уродливая голова. Ну и чучело! Полинезийцы вскрикнули и поспешно потравили леску. Потом, взяв в руки копья, снова стали ее выбирать Опять эта странная голова! И при свете вышедшей из-за пальм луны разыгралось удивительное представление: рыбаки кричали, кололи копьями…
Наконец мертвое чудовище, исколотое копьями, изрубленное топорами, скользит через борт в лодку. Голова… голова… А где же тело? Мы узнали, что это не акула, а огромная мурена. Самый опасный обитатель Южных морей лежал комом бурого студия у наших ног.
В разинутой пасти торчали острые, как бритва, зубы, способные одним махом перекусить руку человека. Мурена попадается редко, и это единственная морская тварь, которую островитяне по-настоящему боятся. Акулы? Мы видели, как полинезийцы купаются по соседству с ними.
Лов продолжался. Улов все прибывал, попалась даже маленькая акула. Вдруг мы снова подскочили от воинственного крика. Вот теперь дело серьезное! Лодка, скрипя, накренилась; под смуглой кожей старика играли тугие мышцы… А в черной воде мелькало что-то белое — брюхо огромной рыбины. Вода бурлила под страшными ударами — вон она, вон она, зверюга! А вот уже с другой стороны! Смотри, Лив, с другой стороны! Будто грохнул выстрел — это на борт обрушился удар акульего хвоста. Да, вот это рыбалка!.. Лодка качалась среди фонтана брызг. В голову акулы вонзился топор Рраз!.. два!., три… Удары о борт прекратились.
Простись, акула, с Тихим океаном.
Глава третья
УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВОК
Древнее царство людоедов. Где высаживаться! Одни на незнакомом берегу. Сын швейцарца и полинезийки. Омоа — райская долина. Мы расчищаем участок в лесу. Бамбуковая хижина готова!

Экватор рядом, и «Тереора» спешит, спешит к цели, подгоняемая свежим пассатом. Уже целую неделю мы видим только пустынный океан, только волны и небо…
Но вот наконец рано утром из-за горизонта вместе с солнцем вынырнули долгожданные острова. Над океаном торчали крутые неприступные скалы. Могучие валы, исступленно рокоча, обрушивались на неожиданное препятствие.
Не очень-то гостеприимно выглядят острова издали… Точно развалины гигантских замков, а облака, цепляющиеся за вершины, — словно дым. Внушительное зрелище… И красивое.
Появился остров — и ушел за горизонт, но на смену ему показался следующий — Фату-Хива. Немалый путь по голубой океанской глади отделяет их друг от друга. У берега Фату-Хивы вода зеленая, как трава: ее окрашивает планктон, который питается тем, что смывают с берета волны. Зеленое пастбище притягивает косяки рыбы, преследуемые неугомонными дельфинами.
Птицы стаями сопровождали шхуну, пикируя на рыбу, соблазненную приманками на наших удочках.
Мы подошли вплотную к берегу и тотчас убедились, что действительно попали в благодатнейший уголок Южных морей. По склонам долин, глубоко врезанных в горный массив, росли пышные леса, изобилующие разнообразными видами деревьев и кустарников. Лучшая оранжерея мира показалась бы жалкой по сравнению сними.
Заросли, словно лепешки исполинского мха, облепили вершины. Оттуда они по уступам и расщелинам скатывались вниз, расстилаясь по долине густым ковром зеленых крон, вееров. Казалось, будто именно эта зелень окрасила воду. Зелень на суше, зелень в море… Но горы были красные, а небо голубое, как океан.
Не одна лишь тропическая жара создала эту плавучую оранжерею. В глубине острова к самому небу вздымались пики, которые перехватывали тучи и выжимали из них дождь. Быстрыми ручьями и речушками дождевая вода, сбегала сквозь заросли по долинам в зеленый океан. Время сильно источило рыхлые горные породы. Глубокие пещеры, подземные реки, причудливые скалы, острые шпили превращали остров в сказочное царство. И в этом царстве нам жить! Сейчас мы сойдем на берег и углубимся в таинственный лес, а «Тереора» устремится дальше…
Лежа на животе, вооруженные биноклем, мы пытались проникнуть взглядом в чащу, которая будет нашим домом. Красиво, угрюмо, пустынно… Безлюдье, тайны на каждом шагу…
Брандер глядел на нас, завороженных невиданным зрелищем. Перед лицом могучей безмолвной природы мы чувствовали себя очень маленькими. И не могли глаз оторвать.
— До чего же мрачно, — произнес капитан Брандер. — Эти дебри, эти горы — они так давят на человека. Возвращайтесь-ка вы с нами.
Но теперь, когда мы достигли цели, разве можно было нас отговорить!
Брандер клялся, что мы еще пожалеем, когда останемся одни. Местные жители — немногие, которые еще уцелели, — такие же угрюмые, как эти долины. Европейцев на Фату-Хиве нет. И нет никаких надежд покинуть остров, пока через месяц или два не вернется шхуна. Горы и море надежно заточат нас.
Но Брандеру пришлось уступить. Мы твердо стояли на своем. Поворачивать — поздно. Сдаваться — рано.
Мы потратили целую неделю на то, чтобы обойти весь архипелаг. Осмотрели все острова и удостоверились, что дома, рассматривая карту, листая справочники и пыльные тома, сделали удачный выбор.
Перед нами Фату-Хива, самый красивый и живописный из островов Маркизского архипелага.
— Где вас высадить? — спросил Брандер, показывая на дикий берег.
— У вас есть карта? — вопросом ответил я.
Карта нашлась, но на ней были показаны только контуры Фату-Хивы.
— Что ж, давайте осмотримся, — предложил Брандер и велел править вдоль берега.
Отвесные скалы, окаймленные внизу кипящим прибоем, обрывались в пучину. Но кое-где стена расступалась, и мы видели райские долины, уходящие в глубь острова. Плывя вдоль темно-зеленой оборки острова, мы ощущали на себе дыхание дебрей.
Брандер и Теодор стояли у поручней, выспрашивая подробности у полинезийца, местного жителя. Сами они, хотя и много лет плавали в этих водах, видели остров лишь с моря… Нужно было подыскать долину, где мы могли бы поселиться. Первое требование — питьевая вода.
Вот среди гор раскинулась красивая широкая долина, У входа в нее над лесом высятся причудливые скалы. Вдоль галечного берега выстроились хижины, крытые пальмовыми листьями. Стоят сарайчики для лодок местных жителей.
— Ханававе, — объяснил Брандер. — Вдоволь питьевой воды, изобилие фруктов. В деревне — полсотни жителей.
Лив загорелась. Она хотела тотчас же сойти на берег. Но Брандер покачал головой.
— Нездоровый климат, — сказал он. — Страшная сырость, влажный воздух, в деревне всякие болезни. Еще заразитесь. Слоновая болезнь здесь — истинное бедствие.
Ханававе замкнула свои исполинские каменные ворота, а мы продолжали путь вдоль обрывистого берега. Одно за другим сменялись тесные ущелья и расщелины, до краев наполненные зеленью. Но ни воды, ни места для жилья… Ага, вот чудесный бережок, окаймленный густым лесом!
— Аоэ теваи, — объявил островитянин.
Нет питьевой воды.
И опять долины между высоких круч. В одной нет воды, в другой так темно и тесно, что невозможно жить.
Маркизский архипелаг

А вот тут и красиво, и питьевая вода есть! Исполнение нашей мечты? Увы, и в эту долину — она называлась Ханауи — проникла слоновая болезнь. Два искалеченных ею старика — вот и все население Ханауи.
Последняя долина, Омоа. Широкая, просторная, тянется до самого сердца острова. Красота — не налюбуешься! Вдоволь плодов, достаточно питьевой воды. Наряду с Ханававе это единственная на Фату-Хиве действительно большая долина. Но в деревушке у самого моря — люди, около сотни островитян… Правда, выше по долине никто не живет.
"Тереора" бросила якорь в заливе, окаймленном скалами и зелеными холмами. Врезаясь в горный массив, извиваясь среди острых шпилей и утесов, Омоа упиралась своим верховьем в высоченную скалу, на которую лес уже не мог взобраться. Дно долины покрывали густые, пышные заросли.
— Здесь либо нигде, — сказал Брандер, указывая на долину Омоа. Вы все посмотрели — выбирайте. Может, вернетесь?
Брандер начертил на бумаге план острова. По очертанию Фату-Хива напоминает бобовое зерно. Капитан провел черту с севера на юг и объяснил, что по этой линии остров пересекает крутой хребет, который отделяет восточную часть Фату-Хивы от западной. Западное побережье мы видели — это подветренная сторона, здесь пышная растительность. Восточное побережье не стоит и осматривать. Оно засушливое, почти безводное, почва неплодородная. Там все долины безлюдные, и корабли уже давно туда не заходят. На шлюпке и не высадишься— сильный ветер, сумасшедший прибой. Будете словно в могиле: неоткуда ждать помощи, некому подать сигнал.
— Охотно заберу вас на обратном пути! — крикнул нам вслед Брандер, когда мы спускались в пляшущую на волнах шлюпку.
Никогда не забуду то особое чувство, которое я испытывал, ступив на берег… Вот уже шлюпка прорвалась обратно через бушующий прибой и вернулась к «Тереоре». Мы видели, как нам машут, прощаясь, капитан Брандер и другие. Якорь поднят, белые паруса шхуны летят к горизонту. Крохотная точка скрылась вдали а мы все глядим, глядим… Наконец обернулись к долине, к пальмам. Здесь будет наш новый дом.
Одни на неведомом берегу. Назад пути нет. Не знаем края, не знаем народа, не знаем языка… Стоим каждый со своим чемоданчиком и думаем: что дальше?
И мы пошли к лесу. Настроение было отличное, мы всем своим существом предвкушали жизнь, полную приключений. Жаркое солнце, щебет птиц, благоухание цветов. Мы взглянули на кроны пальм. Голод нам не грозит — вон сколько кокосовых орехов!
Под пальмами, не сводя с нас глаз, стояли смуглые островитяне. Стояли молча. И смотрели. Несколько человек в набедренных повязках, на остальных — рваная одежда.
Сморщенная старуха заговорила первой. Какая певучая речь, сплошные гласные! Совсем не похоже на таитянский язык. Мы пожали плечами и засмеялись. Старуха покатилась со смеху. Кто умеет смеяться — сумеет и объясниться!
Набравшись храбрости, женщина подошла к Лив, облизнула свой длинный, тощий указательный палец и провела им по ее лицу. Лив от страха онемела, а старуха покрутила палец перед глазами и широко улыбнулась: белый цвет оказался естественным!
Позднее мы узнали, что я не вызвал у них никаких сомнений, а вот Лив они приняли за переодетую таитянку в белом гриме. На Фату-Хиве считали, что в Европе вовсе нет женщин. Ведь сколько ни приходило шхун, на них было полно белых мужчин — и ни одной женщины. Всегда белые мужчины шли к смуглым вахинам, и никогда к смуглым островитянам не приходили белые женщины!
Ночь выдалась кошмарная: нам пришлось спать в лачуге из листового железа, было жарко и душно, как в печи. Лачуга принадлежала метису — сыну швейцарца и полинезийки. Его звали Вилли Греле, он был местным аристократом и отлично зарабатывал на копре. Покойный отец Вилли дружил с Полем Гогеном,
[531] который жил на соседнем островке Хива-Оа и там же похоронен. Вилли безупречно владел французским языком; впрочем, говорил он очень мало, будь то по-французски или по-полинезийски. Жил он замкнуто, на коренных островитян смотрел свысока и редко покидал остров.
Как ни любил Вилли Греле деньги, он старался быть честным. Островитяне с почтением относились к его богатству. В подвале у Вилли был своего рода «магазин», где он выдавал товары в обмен на копру. Какие товары? Спички, рубахи, муку, рис, сахар. Выбор небогатый, да и этих запасов хватало ненадолго. Магазин открывался только на закате, когда хозяин приходил домой с работы. Он трудился не покладая рук, заготавливая копру, и был к тому же рьяным охотником; остров знал как свои пять пальцев.
В первый же день мы долго при свете керосиновой лампы обсуждали свои планы. Вилли смотрел на нас, как на диковинных зверей, но совет все же дал. В верхней части долины Омоа, говорил он, в сердце острова, куда редко заходят местные жители и где леса изобилуют плодами, находится именно то, что нам нужно.
Под железной крышей, наглухо отгороженные от всякой романтики, мы всю ночь промечтали о вольной природе, которая нас окружала. Эх, заживем на свободе! Сколько увлекательного нас ждет, сколько неведомого!
Вообще доступ белым на остров был закрыт. Судам разрешалось стоять на якоре в заливе не дольше двадцати четырех часов. Не знаю уж, как это получилось, но нам французское правительство выдало разрешение на въезд и известило об этом местного вождя.
Глухой рокот прибоя поминутно напоминал нам, что мы находимся на уединенном островке. В Тихом океане…
Терииероо а Терииерооитераи, великий вождь Таити и его достойная супруга
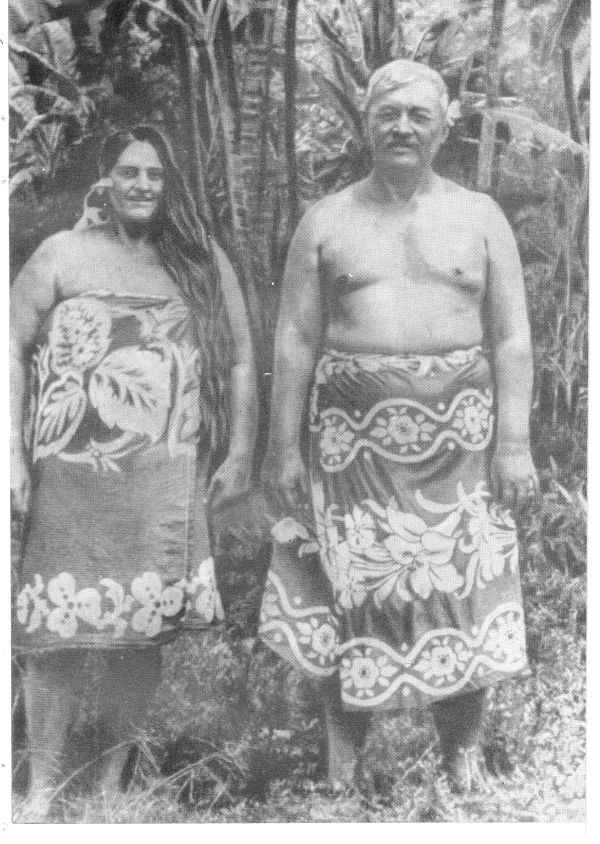
Наконец-то у цели. Судно возвращалось к цивилизации, а нам предстояло построить себе дом в лесу

На руинах старого дворца короля людоедов мы соорудили наш первый дом из бамбука и пальмовых листьев

Звонарь Тимоти, весельчак и наш верный друг; его жена Техина — чудесная женщина

Одни плоды я складывал в плетеную корзину, другие вешал на палку, которую перекидывал через плечо

Пестрые пичуги уже пели ликующий гимн солнцу, когда мы утром следующего дня зашагали вверх по долине. Мы шли по старой заросшей тропе, уводящей прочь от деревни. Нам хотелось найти пристанище в глуши, подальше от поселения, от заразных болезней. На ходу мы помахали островитянам, которые купались в мутной речке. Из этого же потока они брали воду для питья. Никто не говорил им, что такое инфекция.
Выше деревни речка была чистой и прозрачной. Протоптанная в рыхлой красной почве тропа вилась вдоль нее. Если рай существует, то здесь для него самое подходящее место… Пальмы, журчащий ручей. Сюда бы еще густую траву и цветочный ковер, к которым я привык в Норвегии! Но под густой сенью пальм и других невиданных растений не может расти травяной покров. Лес, цветущая долина, горы — чудо как хороши. А под пологом леса ничто не радует глаза. Папоротник, сгнившие стволы и лишь местами длинные космы жидкой травы, бессильной прикрыть землю.
Зато как поднимешь голову — не наглядишься! Деревья вечно зелены. Одни цветут, на других появляется завязь, а на третьих уже созрели плоды. Склоны долины заняты дикими зарослями, а на дне ее — сплошной сад. Вот огромный сочно зеленый стебель банана с растопыренными кверху толстыми листьями. Одиноко свисает банановая гроздь; недозрелая, она выглядит худосочной, зеленой, но зато как поспеет, становится желтой, пышной, с причудливым цветком внизу.
У бананов различный вкус: некоторые напоминают землянику. Мы насчитали семь видов этого растения. Плоды одних видов длинные, с руку — их варят или жарят, плоды других — совсем маленькие, почти круглые. Скажу особо о феи — редком горном банане; в этой долине он рос в изобилии. Его красивые грозди не свисают вниз, а торчат вверх над верхушкой стебля. Феи варят, он очень питательный и вкусный.
Выше всех поднялся твердый, прочный ствол кокосовой пальмы; к самому небу он вознес свою косматую крону с множеством крупных, тяжелых орехов.
Более скромно и привычно выглядит апельсиновое дерево. Его ветви покрыты небольшими листьями, среди которых гроздьями и поодиночке пристроились плоды: мелкая зеленая кислятина и огромные желтые шары, превосходящие сочностью и ароматом все, что мы когда-либо ели дома.
Вот еще деревца, поменьше, — на них лимоны…
Попадалось нам и хлебное дерево, напоминающее дуб с исполинскими листьями. На его ветвях висели тяжелые зеленые плоды величиной с голову ребенка. Плоды хлебного дерева пекут; вкусом они напоминают одновременно картошку и свежий хлеб.
А вот манговое дерево. С его огромных густых ветвей свисают красные, желтые и зеленые плоды разной величины — есть с яйцо, есть с кулак. Если с них снять кожуру, видна сочная оранжевая волокнистая мякоть, которая облекает большую косточку. Сок приятный, освежающий, с привкусом хвои.
С тонким прямым стволом, с огромными листьями вверху, росла папайя. Ее плоды, напоминающие видом дыню, свисали вниз между ветвями. Нагни гибкий ствол — и собирай их.
Между пальмами и плодовыми деревьями — заросли кофейного кустарника с красивыми красными ягодами, внутри ягод — кофейное зерно. Ваниль причудливо обвивала пальмовые стволы, соперничая с растением, которое мы назвали "воздушным картофелем", потому что его плоды, висящие на длинных «нитях», действительно напоминали плоды картофеля! Много было незнакомых нам сказочных растений, но кое-что мы узнавали. Уроки вождя Терииероо на Таити не прошли даром.
Некогда долина была возделанным садом, теперь она заброшена, и плодовые деревья растут неухоженные, вперемежку с дикорастущими. Всюду попадаются старые развалины, покрытые мохом и папоротником. Когда-то здесь жили тысячи людей. Полвека тому назад оставалось всего семьсот. А ныне последние фатухивцы — ровным счетом сто человек, — покинув долину, сгрудились в деревушке на берегу. И там, где, бывало, людям не хватало пищи, теперь гниет множество плодов.
Пройдя далеко вверх по долине, мы расстались с речушкой и поднялись по склону к опушке леса. Здесь из земли, прикрытой огромными листьями, бил единственный родник. И здесь же кончалась тропа; дальше она совершенно заросла.
С нами шел Иоане, родственник Вилли; он рассказал, что когда-то в этом месте был дворец короля.
Прабабушка Иоане была последней местной королевой перед тем, как остров аннексировала Франция. От нее ему досталась в наследство эта часть долины. Хотя людей осталось мало, на острове нет такого клочка земли, который не принадлежал бы кому-нибудь. Вся территория разделена и передастся по наследству, и горе тому, кто стащит банан на чужом участке. Если поймают на месте преступления, то доложат вождю…
Дебри совершенно поглотили площадку, на которой в прошлом стоял дворец. Пришлось прорубать себе путь в зарослях. На каждом шагу мы проваливались в выложенные камнем ямы, закрытые сверху сплетением ветвей и плотных корней. Ни один луч солнца не проникал сквозь густые кроны в это царство комаров и мокриц. Зато здесь были превосходная родниковая вода, изобилие плодов и полное уединение; до ближайшего дома — четыре километра. Да и стал бы разве король выбирать себе плохой участок?!
Иоане назначил очень умеренную арендную плату. Мы получали право расчищать участок, строить па нем и собирать плоды сколько влезет. Налог, который надлежало уплачивать вождю, был символическим.
…Солнце зашло, мы одни в лесу. Лив впервые в жизни сама испекла на углях плоды хлебного дерева. Поужинав, мы забрались в свою маленькую палатку, которую поставили под сенью исполинских листьев. И только комары портили всю идиллию.
В эту первую ночь нам многое казалось загадочным. Кто это кричит таким противным голосом, прыгая по палатке? То заквакает лягушкой, то кричит рябчиком. Кто-то затеял возню в лесу поодаль. Дикие свиньи? Выше по склону как будто кричит сова, а вот совсем рядом кот замяукал…
Вдруг мы услышали чьи-то шаги: зашуршали листья, хрустнула веточка. Остановился. Опять идет! Возле самой палатки замер. Мы слушали с колотящимся сердцем.
Кто бы это мог красться в лесу среди ночи, кто сейчас подстерегает нас возле палатки? Воображение рисовало нам мрачного островитянина, стоящего у палатки с копьем в руке. Или с большим камнем. У полинезийцев нет никаких оснований любить белых, к тому же обитатели Фату-Хивы еще недавно были людоедами…
Никакого оружия у нас не было. Я с диким ревом выскочил из палатки наружу. Не знаю, кто сильнее перетрусил— я сам или одурело глядевший на меня бродячий пес. Во всяком случае, песик молнией метнулся в кусты и бросился наутек вниз — по склону; мы его больше ни разу не видели.
Но и после этого не затихло. Вдруг отчетливо послышались ружейные выстрелы. Мы вышли из палатки, прислушались. Странно… Людей-то нет, стрелять некому! Загадка решилась быстро: ночной ветерок ворошил кроны пальм, и время от времени с огромной высоты срывались вниз бомбы дебрей — кокосовые орехи. Пришлось отодвинуть палатку подальше от опасных соседей.
Незнакомые звуки, неведомые запахи… А взглянешь вверх — в небе чужие звезды и лежащий на боку лунный серп. Новая жизнь началась!..
Над горами Тауауохо поднялось солнце, а у нас царил сумрак. Леской полог был настолько густым, что не пропускал ни света, ни ветра, который разогнал бы комаров. Надо немедленно расчищать участок и строить такой дом, чтобы туда не могли проникнуть летающие и ползающие твари!
На завтрак я принес бананы, а Лив испекла на углях какие-то орехи. Запили все водой из выложенного камнями бассейна самой королевы. Здорово! Даже полчища комаров не могли испортить наше великолепное настроение.
И вот мы приступили к расчистке. Длинный нож подсекал сочные банановые стебли, словно зеленый лук. Одно плодовое дерево за другим валилось наземь. Как-то даже не по себе — словно мы уничтожаем чей-то сад, Лив выдергивала ваниль, папоротник, воздушный картофель, кофейные кусты. Мало-помалу в древние королевские владения проникали и солнце и воздух.
На крутом склоне нашему взгляду предстали пять плоских площадок, вымощенных камнем. В стенку возле родника мы воткнули бамбуковый ствол, и вода побежала из него, совсем как в старину, когда повелительница людоедов после завтрака освежала в бассейне свои могучие телеса.
Но мере того как редели деревья, нам открывался чудесный вид. Пальмовая долина, речушка, колышущиеся листья-великаны, могучий папоротник — все оттенки зелени! По ту сторону долины — каменная стена, кручи, остроконечные пики… Вдоль края пропасти то и дело мелькали белые точки — дикие козы, пасущиеся на горных лугах. Подножие обрыва окаймляли заросли бамбука. Мы видели всю долину, до самого устья, но море листвы закрывало от нас и деревню и океан.
Расчищая участок, мы нашли среди каменной кладки древние орудия из камня и раковин и треснувшую деревянную миску. Обнаружили и большое каменное кресло, с которого удобно было обозревать окрестности, и гладкое каменное ложе, из щелей которого росли пальмочки.
Мы не стали их трогать, не потревожили и наиболее редкостные плодовые деревья, и великолепный куст, усыпанный алыми цветами.
Через три дня мы расчистили место для жилья. Настала пора на развалинах древнего дворца строить свою лачугу. Сперва мы хотели ограничиться шалашом из ветвей и листьев, но из этого ничего не получилось. Пришел Иоане, принес наши чемоданы, которые мы оставили на хранение у Вилли Греле. В них была одежда и различные предметы, припасенные нами для долгого плавания. Теперь нужда в них миновала, но Вилли не решался держать наше имущество у себя. Мы объяснили Иоане, что шалаш из листьев — тоже не лучшая камера хранения. Он отчаянно затряс головой и, прибегая к маркизским, таитянским и французским словам, помогая себе жестами, категорически заявил, что не разрешит нам строить такое жилище. Листья завянут, и сквозь крышу будет хлестать дождь, дикие лошади проломят стены, а комары, муравьи и огромные тысяченожки окончательно нас доканают.
Что мы знали о местных условиях? А Иоане родился здесь. Иоане сказал, что надо строить дом из бамбука. Старый плут полюбился нам с первого взгляда. Он так убедительно говорил, этот чудак, который гордился своим родством с королевой и бродил по лесу босиком, в соломенной шляпе и белых шортах. И всегда-то он улыбался, отчего все лицо его бороздили мелкие морщинки.
Мы от души поблагодарили Иоане за совет, тем более что он вызвался для помощи нам привести жену и четверых товарищей.
И закипела работа, развернулось строительство на полинезийский лад. Двое мужчин, словно обезьяны, карабкались на пальмы и срубали листья трехметровой длины. Две женщины, сидя на корточках, плели из листьев "черепицу".
Остов дома собрали из круглых стволов, затем настелили крышу. Все части скрепили между собой прочным лубом дерева борао.
Дом подведен под крышу — это уже событие! И мы устроили пир, угощаясь ананасами. Следующий этап — пол, его мы сделали тоже из круглых жердей. Для постройки стен принесли с гор огромные связки молодого темно-зеленого бамбука. Тонкие стволы расплющивали камнем и сплетали вместе. Одна стена готова! С веселым криком и гамом установили ее на место и прочно закрепили. Затем поставили вторую стену, получился зеленый туннель.
Теперь Иоане сколотил нары, на которые тоже пошли круглые жерди. Лежа на них, думаешь, что под тобой биллиардные шары…
В стене, обращенной к долине, вырезали два отверстия, а вырезанные куски прикрепили на место петлями из бычьей кожи. Пожалуйста — дверь и окно! Потом появились торцовые стены, в каждой — по окну. Осталось застелить пол бамбуковыми ветвями, и вот готов наш дом — сплошная зелень, чудо ботаники!
Одно плохо: на Фату-Хиве явно не знали, что такое симметрия. Перекос на полметра нисколько не смущал строителей. У нас-то был задуман дом размером два на четыре метра… Впрочем, стоит ли придираться!
Но высоту нар я все-таки проверил рулеткой. И поспешил опустить один конец на двадцать один сантиметр. Да не тут-то было: Иоане покачал головой и сделал по-старому. Свой глаз верней!
На строительство ушло немало времени: бригада не спешила. С утра они отправлялись в лес за бамбуком и пропадали. Когда же я шел за ними, то обнаруживал, что строители спят крепким сном, окруженные валом из апельсиновой кожуры.
— Не кончим сегодня — завтра снова придем, — утешал нас Иоане.
Он был человек слова. Сказал, что придет, и приходил— три недели подряд! Мы решили, что не стоит их подгонять. Лучше не портить отношения. Попробуй топни ногой, изобрази "белого господина" — на всю жизнь врагом станешь. Полинезиец считает себя ничуть не хуже белого, и если берется выполнить работу, то исключительно ради дружбы.
И когда строительство наконец завершилось, мы от души поблагодарили наших друзей и постарались щедро вознаградить их. Кухню сделали сами, тут же возле дома. Под навесом из пальмовых листьев, положенных на высокие столбы, соорудили очаг из двух больших камней.
Глава четвертая
В БАМБУКОВОЙ ХИЖИНЕ
Знахарь поневоле. Обмен подарками. Первобытная жизнь в дебрях. Не голоден и не сыт. Мы обретаем друзей. Берег с белыми камнями

В первый же день, сидя в гостях у Вилли Греле, мы составили список самых нужных слов. Узнав у нас, как это все будет по-французски, Вилли перевел каждое слово на маркизский язык. И, оставшись одни в лесу, мы вечерами зубрили наш словарик. Странный язык — совсем не похожий на таитянский… На Таити, здороваясь, говорят "иа ора на". Здесь — «каоха». Даже в пределах Маркизского архипелага на каждом острове свои языковые особенности. На Фату-Хиве, например, любят глотать согласные.
Аоэ — нет.
Эуа — два.
Оао — я.
Оаи — кто.
Оиа — он.
Эуа — дождь.
Ауа — они.
Оэ — ты.
Оау и
Оуиа — имена
"Некрасивый" по-маркизски «аоэхаканахау». "Семнадцать с половиной франков" — дневное жалованье, которое мы платили строителям, — "этоутемониэуатевасодисо". И если из человека, точно бусины, сыплются такие слова, понять его не так-то просто…
Надо было видеть восторг островитян, когда мы пытались говорить на их языке. Они хохотали до икоты. Мы путали гласные, и слова получали совершенно иной смысл.
В эти первые дни я, сам того не ведая, дебютировал в роли волшебника. Помимо досок и рифленого железа, консервированной лососины и спичек, эмалированных тазов, тушеной говядины и нижнего белья, доставляемых на остров «Тереорой», островитяне мало что знали из благ цивилизации. Вот почему зрители с восхищением смотрели, как я превратил маленький сверток в непромокаемый дом (палатку), где вполне можно было спать. А когда я открыл чемодан, со всех сторон потянулись любопытные носы. В бинокль фатухивцы совсем близко увидели пики по ту сторону долины; им пришлись очень по душе "очки, которые приносят горы". Микроскоп превратил насосавшегося кровью комара в такое чудовище, что мадам Иоане визжала от ужаса. Вогнутое зеркало для бритья заменило целый комедийный фильм: они подносили его вплотную к своим плоским носам и смеялись как безумные. Компас и мерная лента, которая сама выскакивала из коробки, тоже пользовались большим успехом. А застежка «молния» могла соперничать с эстрадным обозрением.
Привлеченный моими фокусами, из деревни пришел длинный верзила с опухшей щекой. Зуб… Бедняга скривился, согнулся от боли, на него нельзя было глядеть без улыбки. И его товарищи покатывались со смеху. Когда он стал умолять меня вылечить его, я понял, что все ждут чуда.
Как раз в этот момент я топил в эфире какого-то редкостного кузнечика. "Эфир…" — подумал я. Честное слово, я где-то слышал, что эфир помогает от зубной боли… Верзила раскрыл огромную пасть с редкими зубами, публика затаила дыхание, и я сунул пациенту в рот ватку, смоченную эфиром. Минута напряженного ожидания…
Пациент, изобразив на лице нечто невообразимое, жевал ватку…
— Дыши носом, — приказал я.
Если это сойдет хорошо, то мне сам черт нестрашен!
Моя рука невольно поднялась поправить несуществующий воротник.
Бедняга скривился еще больше — не понятно, от боли или от блаженства.
— Выплюнь! — завопил я, увидев, что у него как-то странно дрожат колени.
Несуществующий воротник еще сильнее сдавил мне горло.
Он вытащил ватку и смиренно ждал следующего распоряжения.
— Дыши глубже, — велел я.
Верзила задышал так, что запах эфира распространился по всей поляне; зрители восхищенно ахнули.
— Ватку на зуб! — распорядился я.
Кажется, он и не такое способен выдержать…
Пациент послушался. Что вы думаете — лечение помогло! И с этого дня долговязый Тиоти был нашим искренним, вернейшим другом.
Островитяне не скупились на дары. Куры, петухи рыба, свинина сыпались на нас как из рога изобилия Каждый день кто-нибудь поднимался вверх по долине, чтобы осчастливить нас. Мы были в отчаянии от этих подношений. Бамбуковая хижина заполнилась съестным от пола до потолка, и ведь отказаться нельзя… Зато, когда наступала ночь, мы незаметно уносили лакомства в лес и зарывали в землю под большим камнем. Пусть лучше там гниют. Кормить было некого, паршивый дикий пес боялся к нам близко подойти…
Однажды щедрость островитян объяснилась. Мы услышали, что здесь положено благодарить подарком за подарок. Пришел наш черед… Правда, у нас не было ни кур, ни рыбы, зато пригодилось содержимое чемоданов. И когда все, от бритвенного прибора до юбок и мерной ленты, переменило владельцев, хождение по долине Омоа прекратилось. Нас наконец-то оставили одних.
Счастливые дни! Нам было очень хорошо в нашем бамбуковом жилище. Никакие обои не могут соперничать с бамбуком! Зеленые клеточки плетеных стен сменялись золотисто-желтыми, да и на потолке зеленые и коричневые клетки образовали самые затейливые узоры. Комнату украшали чудесные черепаховые панцири и цветочные вазы из бамбука, окна смотрели на долину, которая казалась нам сплошным экзотическим садом…
Из мебели у нас кроме нар были две табуретки, связанные из жердей, и такой же столик. Тарелками нам служили огромные перламутровые раковины, переливающиеся всеми цветами радуги, чашки мы сделали из скорлупы кокосового ореха. Лив никак не хотела есть тем способом, которому нас учил Терииероо, и мы обзавелись ложками из бамбука. Пальмовые листья были нашим матрасом — вот только тепла от них мало. Да-да, едва наступала ночь, как температура резко менялась. С гор дул холодный ветер, и мы тщательно кутались в пледы, которыми пользовались в плавании.
А поверх пледов на нас густо сидели комары Те самые, которые распространяют слоновую болезнь. Не дневные комарики, а другие, которые прилетают и жалят ночью. И пришлось нам купить у Вилли противомоскитную сетку. Мы затянули ею окна, а тем, что осталось, укрывались сами. Теперь нам самая ядовитая сколопендра была не страшна! И как мы сладко спали!..
Нашим будильником была маркизская кукушка; на Фату-Хиве ее называют ку-ку. Других часов у нас не было — и не надо! Солнце круглый год восходит здесь почти точно в шесть утра и заходит в шесть вечера, и кукушка ни разу нас не подвела. Мы просыпались от ее хриплого монотонного крика и, выглянув в окно над нарами, видели, как она, пестрая и яркая, словно попугай, порхает по хлебному дереву.
По сигналу кукушки начинался ежедневный утренний концерт. На пальмах восхитительными трелями заливались желтые певчие птицы. Их привлекла наша расчищенная площадка — здесь они отлично видели насекомых, копошащихся на земле.
Лучшее время суток эти утренние часы, когда воздух освежает последнее дыхание ночного ветерка и птицы поют-заливаются, а первые лучи солнца уже ласкают пальмовые кроны, расцвечивают золотыми бликами бамбуковый пол… Во всей природе — бодрость и ясность, и мы тоже ощущали прилив свежих сил.
Позже, по мере того как солнце все выше поднимается над горизонтом, отдавая свои лучи тропическому лесу, человеком овладевает какая-то истома. Палящего зноя нет — восточный пассат прилежно проветривал нашу обитель. Не в жаре дело, самый воздух давит на вас, выжимая всю энергию.
Дослушав утренний концерт, мы соскакивали с нар и подставляли тело струям из родника королевы. Там мы часто заставали врасплох красивую дикую кошку, которая лакала чистую воду. Из-под самых ног с тропы во все стороны улепетывали разноцветные ящерки. Завтрак висел на ветвях хлебного дерева, заменявшего нам кладовку. Это были бананы и другие собранные нами плоды. Поев, я отправлялся в лес за хлебом насущным.
Наш домик находился в самой плодородной части долины. Лес здесь состоял из бананов с примесью других растений. Всюду — созревающие плоды; спелые тотчас падали на землю, становясь добычей жучков, муравьев и червяков. Следовательно, нужно было найти и собрать не совсем зрелые фрукты. В нашей солнечной кладовке они быстро дозревали.
Редко на пальме висели целые бананы. Увидишь желтый плод, сорвешь его — оказывается, одна лишь кожура осталась. Ловкие крысы опережали нас, им помогали ящерицы и банановая мушка. Но мы не расстраивались— плодов в лесу было вдоволь.
Лив оставалась дома стряпать под кухонным навесом, а я шел на добычу, облаченный в пеструю набедренную повязку и вооруженный огромным ножом в ножнах из бычьей кожи. Идешь под солнцем и загораешь… Привыкнув ходить босиком, я наслаждался прикосновением мягкой земли, теплых камней, прохладного ила в ручье. Ветки и листья гладят нагое тело, даря тебе ощущение особого приволья, тесного общения с природой. А как обостряется восприятие, когда не подошва ботинка, а босая нога ступает то на камень, то на палки. Двигаешься гибче, вольнее и чувствуешь себя бодрее, когда тело не облачено в одежду, а обвевается свежим ветром.
Я рыскал взглядом по кронам и собирал нужные нам фрукты. Одни складывал в плетеную корзину, другие вешал на палку, которую нес на плече. Кокосовых орехов всегда валялось сколько угодно на земле вокруг дома, но за апельсинами и другими фруктами приходилось отправляться в лес. У нас очень скоро пропала охота лазить по апельсиновым деревьям — слишком уж много на них шипов. Удобнее было, стоя внизу, сбивать плоды длинной жердью с крючком на конце.
Своеобразно происходил сбор бананов. Мы не карабкались за гроздьями на банан, а просто срубали его. Удар секачом — и растение валится наземь. Пусть даже оно в разрезе диаметром с тарелку — все равно стебель очень мягкий и сочный. Рубанешь стебель и хватай гроздь, прежде чем ее раздавит при падении.
Поначалу этот способ казался нам варварским, но мы скоро поняли, что это уж не так страшно. Все равно банан за всю свою жизнь плодоносит один раз. А оставшийся кусок стебля, который напоминает луковицу в разрезе, тотчас начинает расти, внутренние кольца вытягиваются вверх в виде воронки, и что ни день, то выше. Через две недели высота стебля достигает роста человека, и из его верхушки во все стороны протягиваются широкие листья. В итоге опять вырастает новый банан, который меньше чем через год снова плодоносит!
Кое-где от речушки тянулись маленькие каналы, они вели к обложенным камнями болотцам — древним плантациям таро. Большие лисья этого растения образовали сплошной ковер. Мы варили клубни таро и ели их вместо картофеля. Кругом росли ананасы и сахарный тростник, стебли которого вкусом напоминали леденцы, но нисколько не портили зубов.
Нагрузившись всевозможной зеленью, я спускался к речушке, потом шел вдоль нее по тропке, ведущей к нашему дому. В здешних дебрях не было змей — они не смогли перебраться на эти острова. Не было у нас и скорпионов. Вообще-то скорпионы ухитрились проникнуть с судами на архипелаг, но дальше галечного берега они не пошли. Единственной ядовитой тварью, которой нам приходилось остерегаться, была огромная, с ладонь, желтая тысяченожка. Укус тысяченожки не смертелен, но мы все-таки старались не наступать на нее.
А дома Лив, окутанная клубами дыма, стряпала обед. Таро и феи очищены, на углях лежат испеченные плоды хлебного дерева. На третье задуман сюрприз: Лив вся в копоти и слезах, искусно орудуя двумя мокрыми палочками, пекла прямо на огне чудесное печенье.
— Попробуй! — она подала мне ореховую скорлупу, в которой лежали какие-то угольки. — Жаль только, пригорело сверху.
— Ничего, — ответил я, — зато внутри сырое…
Нет, что ни говори, Лив великолепный повар, она к любой трапезе умела приготовить лакомые блюда по рецептам каменного века…
Так прошла неделя, другая, третья. Однажды, встав из-за обеденного стола, мы ощутили голод. Живот был набит, как барабан. На столе остались лежать плоды хлебного дерева, таро и бананы, с которыми мы не справились. Не потому, что невкусно, просто больше не могли их есть. И все-таки мы ощущали голод!
Вечером мы долго не могли уснуть.
— Послушай, Лив, — сказал я, — копченая лососина.
— Жаркое, — отозвалась Лив. — Свиная отбивная с кислой капустой.
— Нда, — сказал я. — А как насчет рябчика с подливкой? Что?!
— Бифштекс, — спокойно ответила она.
Победа осталась за ней…
Ночыо мне приснился обед из трех блюд. Я еще не успел облизать последнюю тарелку, когда подала голос кукушка.
Надо было что-то предпринимать. Не дожидаясь завтрака, я сунул за пояс секач и зашагал вниз по склону. Щебетали птички, куковала кукушка… В долине речка мурлыкала свою вечно новую песенку. Приметив заводь, я вошел в воду и нагнулся, всматриваясь в дно. Внимание! Из-под камней рывками выползали какие-то неуклюжие черные твари! Они медленно приближались, выпучив глаза, точно загипнотизированные видом моего носа. Один царапнул мне колено своей длинной жесткой клешней. Но я стерпел, потому что одновременно второй подкрался к моей руке. Ущипнул ладонь… Рванувшись вперед так, что брызги полетели, я сжал пальцы в кулак. Куда там! Не так-то просто, оказывается, поймать рака!
Когда рябь улеглась, на пестром дне не было видно ни одного рака. Впрочем, они скоро появились опять — и снова я опростоволосился. Так повторилось несколько раз, пока большим ракам игра не надоела, и только мелюзга продолжала меня дразнить. Я пошел вверх по речушке, по дороге спугнул нескольких здоровенных раков, которые окружили разбитый кокосовый орех. Вдруг меня осенило: надо сделать ловушку, положить для приманки орех… Несколько попыток, и я наконец-то восторжествовал!
Держа в руке первого добытого мною рака, я чуть не плясал от радости. И когда солнце возвестило полдень, я пришел домой с целой охапкой чудесных раков, завернутых в большие листья. То-то было ликование! Никогда не забуду наше пиршество — вареные раки и жареные плоды хлебного дерева. Сперва мы насладились нежным мясом. Потом сгрызли все клешни и панцирь, запив их лимонным соком, и наконец-то ощутили блаженную сытость… Существенное пополнение нашего меню!
Мы устраивали все более хитроумные ловушки и стали ловить на кокосовый орех не только раков, но даже каких-то рыбешек.
И жизнь в бамбуковой хижине снова казалась нам прекрасной.
Как-то раз, когда я плескался в речушке, добывая раков, из-за высоких стеблей папоротника вдруг появился островитянин. Он был настолько поглощен своим делом, что даже не заметил меня. В одной руке у него была миска из высушенной тыквы, в другой — тонкое двухметровое копье с металлическим наконечником.
Он разжевал кусочек кокосового ореха и выплюнул кашицу в речушку. Течение понесло ореховые крошки под камни… Вдруг копье молниеносно нырнуло — и тотчас вынырнуло, извлекая из воды трепещущего рака.
"Вот оно что…" — подумал я, вставая. Миска была полна раков, пронзенных острым копьем.
— Каоха! — крикнул я островитянину.
— Бонжур, мсье, — учтиво ответил он по-французски и протянул руку для приветствия, поклонившись до самой земли.
Это был местный священник. Я спросил — не его ли звать Пакеекее, и, услышав утвердительный ответ, увлек священника к своей хижине, где вручил ему письмо на полинезийском языке. Оно было написано Терииероо, таитянским вождем, который велел мне передать письмо Пакеекее. если доведется его встретить. Дело в том, что Пакеекее учился на Таити читать и писать, чтобы стать священником; там он и познакомился с вождем Таити.
Терииероо очень вежливо просил его потеплее принять меня и Лив. Мол, мы приемные дети таитянского вождя, да к тому же еще и настоящие протестанты. И Пакеекее постарался добросовестно выполнить просьбу своего друга.
Трое суток, с утра до вечера, длилось пиршество у священника. Хозяева резали скот, ловили рыбу, собирали плоды; на кухне беспрерывно суетились женщины и дети, и сквозь ее бамбуковые стены непрестанно струился дым. Стол был накрыт для священника, нас и звонаря — вахины и дети ели, сидя на полу. Представляете себе, сколько было радости, когда оказалось, что звонарь— не кто иной, как Тиоти, тот самый, у которого болел зуб!
Но праздник был только для протестантов, и все местные католики торчали за изгородью, глядя, как мы уписываем свинину и курятину. В жизни не видал более унылых физиономий.
— А что — много протестантов на Фату-Хиве? — вежливо начал я застольную беседу.
Священник утерся простыней, которая заменяла скатерть, подумал и начал считать по пальцам.
— Нет, — заговорил он наконец, — к сожалению, католиков больше. Все отец Викторин виноват: когда объезжал острова, щедро платил рисом и сахаром тем, кто переходил в его веру.
— А все-таки сколько же протестантов? — домогался я.
Священник опять посчитал.
— Один умер, — сказал он. — Выходит, остается двое — я и звонарь.
Он смущенно улыбнулся и добавил:
— Был еще один, но он переселился на Таити.
На третий день пиршества мы просто не могли больше есть. После обеда звонарь Тиоти откуда-то достал огромную, больше локтя длиной, раковину, вышел на дорогу и трижды громко протрубил в нее. Потом вернулся к столу. Долгий антракт — затем он повторил свой номер. Еще антракт, и еще один концерт на раковине. После третьего выступления Тиоти священник торжественно объявил, что они со звонарем идут в церковь, ведь сегодня воскресенье.
По каким-то неведомым соображениям нас в церковь не пригласили, зато нагрузили остатками угощения, чтобы мы их унесли домой.
Рядом с дощатым домом священника стояла бамбуковая лачуга без окон, крытая пальмовыми листьями. Это и была церковь протестантов. А поодаль мы увидели католический собор — дощатые стены выкрашены белой краской, крышу из рифленого железа венчает шпиль… Да, пожалуй, на Фату-Хиве и впрямь почетнее быть католиком.
Мы зашагали вверх по долине, а священник и звонарь отправились в свой бамбуковый сарай.
Кроме еды священник одарил нас всевозможными редкостями. Меня больше всего поразил коралл причудливой формы. Когда мы плыли вдоль побережья Фату-Хивы, я не видел ни одного рифа — следовательно, если верить науке, кораллов здесь быть не должно. Но белый как снег коралл был найден на Фату-Хиве!
И однажды рано утром мы вместе со звонарем и его женой, очень приветливой, добродушной женщиной, отправились в дальний поход. Нас обещали повести туда, где есть кораллы, на пустынный берег с красивой белой галькой, который островитяне называли Тахаоа.
Нелегкий это был путь! По узкому бережку, по обвалившимся сверху каменным глыбам. Справа бесновался океан, слева к небу поднимались грозные красноватые скалы. Здесь каждый день бывали камнепады, особенно после дождя.
Невелик простор для прохода… Могучие океанские валы обрушивались на остров, кипя и пенясь среди глыб, по которым мы шагали. Потом глыбы сменились узким карнизом из застывшей лавы. Стали попадаться всевозможные гроты и пещеры. Мы шли по изваянным природой мостикам, заглядывая в шахты и провалы, на дне которых плескалась вода. В одном месте что-то гудело и рокотало прямо в толще скалы у нас под ногами, а из расщелины через равные промежутки времени вырывался фонтан.
Не слишком приятный маршрут, но Тиоти чувствовал себя уверенно. Он смело прыгал босыми ногами с одного острого камня на другой. Этот человек мог бы, наверно, плясать на битом стекле…
Путь занял не один час; наконец мы, обогнув выступ в скале, спустились с глыбы на красивый пляж. Тахаоа…
На километр с лишним протянулась полоса ослепительно белого песка и белоснежных камней. Ее окаймляли отвесные скалы, вдоль подножия которых росли пальмы и зеленела трава.
Удивительное чувство овладело мной, когда я очутился на этом загадочном берегу, где все переливалось и блестело на солнце. Редкие на Маркизских островах участки плоского берега в устьях долин обычно сложены мелким-мелким угольно-черным лавовым песком. Здесь я увидел нагромождение коралловых глыб, и песок был тоже смесью кораллов с миллионами перемолотых в порошок ракушек.
От берега далеко в океан протянулись отмели — точно пруды, окаймленные пестрыми, красными, желтыми и зелеными рифами. Могучие волны, спотыкаясь о рифы, разбивались вдребезги о баррикаду, которая пропускала только слабые, постоянно освежающие воду струи.
Какой замечательный аквариум! По краю природной чаши было множество раковин и моллюсков, в толще воды буквально кишела жизнь. Дно выстилал ковер всех цветов радуги — водоросли и непрестанно колеблющиеся морские анемоны. Полчища плавающих и ползающих тварей… Стайками сновали пятнистые рыбки от круглых до тонких, как нитка. Удивительное разнообразие видов и щедрое изобилие красок. Красные рыбки старались держаться над красными пятнами дна: там их было труднее обнаружить. Ведь из океана нередко приплывают рыбы покрупнее, и тогда малышам приходилось несладко. Большие преследовали маленьких, а самым крохотным — с монетку — вообще лучше было не высовываться. Увидят злую морду морского угря или клешню грозного краба — и юркнут в чащу игл черного морского ежа. Малютки великолепно знали, что здесь они защищены острыми подвижными штыками. Даже самый опасный враг избегал приближаться к морскому ежу. Наткнешься — игла обломится, и ядовитое острие с закорючками прочно застрянет в ранке.
Своеобразное общество… Ползают, бегают, снуют, кишат, переливаются разными цветами. Лежа на рифе, мы готовы были без конца наблюдать эту картину.
Вдруг нас окликнул Тиоти: пора обедать. Стоя на внешнем рифе, он занес над головой длинное копье. Вот уверенной рукой молниеносно метнул его в воду, и на острие забилась рыба.
Мадам Тиоти уже облюбовала «стол», и мы уселись вокруг одной из белых глыб на берегу. Тиоти достал из кармана два лимона и выдавил их сок в ямку на камне. Затем он длинным ножом изрубил на мелкие кусочки отчаянно бьющуюся рыбу, разукрашенную красными и зелеными пятнами. Эти куски его жена размяла в лимонном соке. Блюдо готово! Сам звонарь уже уписывал за обе щеки. Я выловил пальцем скользкий кусочек и стал прилежно жевать. Как-никак мы не первый раз ели сырую рыбу на Фату-Хиве… Бедняжка Лив бросила свою порцию в воду: может, еще оживет?
Следующее блюдо. Мадам Тиоти еще раньше собрала на берегу несколько больших улиток. Теперь она расколола раковины камнем, точно орехи, потерла улитки о коралл и сполоснула в море. Прошу! Я стал есть, стараясь думать об устрицах. Но третье блюдо оказалось еще более неожиданным — каждый получил по морскому ежу! "Ешьте, ешьте, — приговаривал Тиоти. — Эти не ядовитые". Словно подушки для иголок — и до него же колючие… Чтобы такое переварить, нужен желудок из чертовой кожи. Я осторожно тронул чудовище, поглядывая на звонаря. Тогда он спокойно взял ежа за самые длинные иглы и сильно стукнул его о камень. Шлеп! Внутри оказалось нечто весенне-зеленое с красными комочками. Звонарь извлек пальцем содержимое и вкусно причмокнул.
Лив положила свою порцию на песок и сказала: "Кш, пошел прочь!" Но животное оказалось слишком неповоротливым, оно не тронулось с места. Я, зажмурившись, разбил ежа о камень и сделал глоток, твердя себе, что ем суп из саго и смородинное желе…
А нас ждало еще и четвертое блюдо! Оно отчаянно извивалось между камнями, не теряя надежды на спасение. Мне всегда становилось тошно при одном виде скользких "морских сосисок". Без особого энтузиазма я попытался представить себе норвежские копченые колбаски, но этот номер не прошел!..
Глава пятая
НЕТ ЖИЗНИ ПОЛИНЕЗИЙЦАМ В КРАЮ ИЗОБИЛИЯ…
Наскальные рисунки в дебрях Фату-Хивы. Эпидемия на острове. Сокровища и привидения. Неведомый враг. Мы бежим в горную глушь. Опасная встреча. Возвращение в долину. Отец Викторин

Чокк! Чокк! Чокк! Секач врубался в стволы и сучья, расчищая нам путь в зарослях. Впереди шли трое смуглых островитян, за ними — Лив и я.
Мы поднимаемся все выше и выше — и чем выше, тем тяжелее идти. Душно, мы обливаемся потом. Над крутыми склонами горы Тауауохо повисли грозные тучи. Там, наверху, почти непрестанно лил дождь. Каким бы синим и чистым ни было небо над океаном, вершина постоянно куталась в косматое облако.
Ну и склоны… То головокружительные обрывы, то такие густые заросли, что никаким топором невозможно прорубить себе дорогу к вершине. Некуда поставить ногу: на земле бурелом — сплошное переплетение ветвей и гниющих стволов.
Но мы не собирались покорять вершину Тауауохо. Мы отправились в лес посмотреть удивительную рыбу, обнаруженную там островитянами. Совершенно необычайную рыбу — каменную!
В чаще леса была прогалина, где среди древних развалин издавна росли кокосовые пальмы. Здесь мы устроили привал. Наши друзья легко вскарабкались вверх по пятидесятиметровым стволам и сбросили оттуда зеленые орехи. Взяв себе по ореху, мы срубили секачом верхушку и жадно выпили содержимое.
Вдруг по лесу прошел ветерок — такой, который всегда предшествует тропическому ливню. Точно низвергающиеся с неба лавины воды теснят воздух… Птицы заметались в поисках укрытия, и в следующий миг хлынул дождь. Мы вооружились вместо зонтов огромными листьями. То количество воды, которое у нас в Норвегии льется с неба несколько дней, здесь обрушивается за несколько минут. Вот уже солнце вынырнуло из-за туч, через долину перекинулась радуга.
Идем дальше через мокрые заросли. Вскоре мы очутились на склоне, который спускался к ручью. Здесь лес был реже. Исполинское дерево, упав, смело все на своем пути. Наши друзья объяснили, что это — священное дерево, одно из тех, которые здесь посадили очень-очень давно. Возле самого ствола, почти совершенно скрытые кофейными кустами, лежали две мощные каменные плиты. Полинезийцы взволнованно указали на боковую грань самой крупной плиты.
На мшистой поверхности камня было видно высеченное изображение удивительной рыбы. Рыбу окружали таинственные рисунки

— Оэ ита иа те коа? — Видишь каменную рыбу?
Действительно, на мшистой поверхности камня было видно высеченное изображение удивительной рыбы, от головы до мощного хвостового плавника — два метра. Рыбу окружали таинственные рисунки. Несомненно, в древности все это носило некий магический смысл. Верхняя грань плиты была совершенно плоской, потом я заметил в ней несколько желобков. В чем же все-таки дело?..
Я попросил островитян расчистить заросли, срыть дерн. Показалась еще одна огромная плита, испещренная странными знаками. Полинезийцы всполошились и стали испуганно шептаться. Мы очистили камень от мусора, и нашему взору предстали новые рисунки.
Примитивные изображения мужчин и женщин, непонятные линии… Островитяне смотрели на них с благоговением.
— Тики, — забормотали они, — менуи тики.
Из тьмы веков предстали дневному свету древние боги.
Лес притих после дождя, над сводом дебрей прямо в небо, точно нож, вонзался красноватый лавовый шпиль. Казалось, он охраняет древние тайны каменных плит, чутко следя за тем, что мы делаем. У наших ног, словно заколдованные солнечным светом, окаменели в пляске гротескные фигуры. Много столетий пляшут они, с той самой поры, когда на Маркизских островах господствовала таинственная культура, созданная загадочным народом, о котором наука ничего не знает… Откуда пришли эти люди, кто они?.. Толстые стены и террасы из огромных камней — вот все, что осталось от тех времен. Народ, живший здесь, был родствен тем людям, которые некогда воздвигли удивительные статуи на острове Пасхи. Этот загадочный народ давным-давно истреблен. Его оттеснили в горы и уничтожили воинственные полинезийцы, когда приплыли на Маркизские острова лет этак семьсот тому назад. Но и происхождение полинезийцев, немногочисленные потомки которых дожили до наших дней, тоже нерешенная загадка. Мы не знаем, откуда они явились, из каких мест начали покорение необозримого океана на утлых челнах.
У этих полинезийцев — лучших в мире мореходов — есть что-то общее с древними викингами. Но пока что их исконная родина неизвестна. Их собственные легенды о происхождении народа неясны. Они совершенно необычным образом увековечивали свои родословные: плели веревочки из кокосовой пеньки, обозначая каждое поколение узелком. Европейцы еще застали этот обычай — у каждого рода была своя родословная — и, считая узелки, пришли к выводу, что предки островитян освоили эти земли около семисот лет назад.
Мы смотрели на каменные плиты, словно исписанные неведомым шифром. Впервые в этих местах были открыты наскальные изображения. Тщательно приглядевшись, мы увидели среди них не только человеческие фигуры, но и рыб, черепах, магические маски, большие, широко раскрытые глаза.
Некоторые рисунки мы не смогли разобрать. Что это: тысяченожки, раки или длинные ладьи с веслами? Кое-что было стерто временем. И какое же тут множество изображений!
Рядом в зарослях мы нашли каменную площадку, окаймленную стеной, на которой были высечены огромные глаза. Может быть, это развалины древнего храма?
…Вечерело. Островитяне торопились домой, мы отпустили их, вознаградив за помощь. Косые лучи солнца еще освещали грани каменных плит, придавая гротескным фигурам особую рельефность.
Когда над лесом взошла луна, мы уже лежали па своих бамбуковых нарах. Спать не хотелось. Мы думали о безжизненных изображениях, которые исполняют свой танец при свете луны… Думали о вымершем народе, который некогда владел островами — от Маркизского архипелага до Пасхи. И что-то подсказывало нам, что можно найти еще немало скрытых следов древней культуры в глухих дебрях Фату-Хивы — острова, забытого наукой.
Остров Фату-Хива:
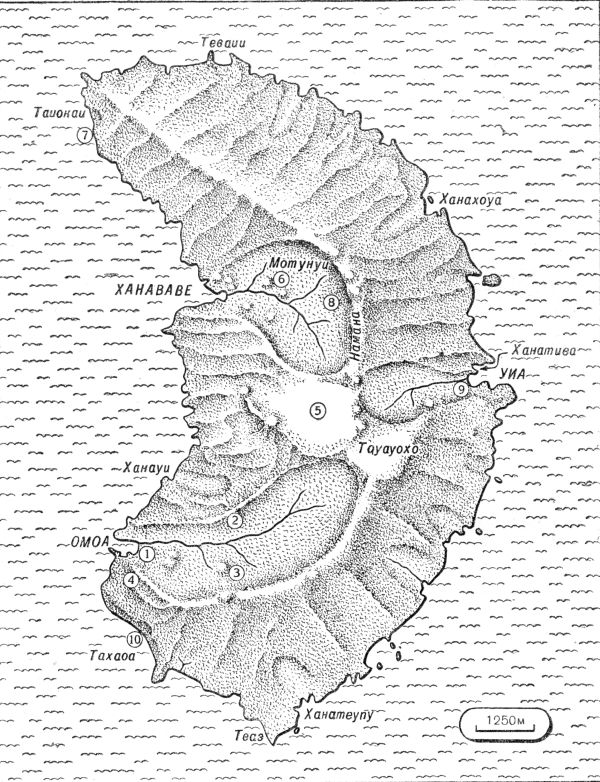
1 — берег, на котором мы высадились; 2 — наша бамбуковая хижина; 3- наскальные изображения; 4—древние развалины и черепа; 5 — неизведанные горные плато; 6 — лес, охраняемый табу; 7- "ночная вода"; 8 —развалины, истуканы и рисунки на камне; 9 —наша "свайная хижина" в долине Уиа; 10—пещера — наше последнее убежище
Лежа на спине каждый в своей заводи, мы уписывали апельсины. Огромные листья, свисающие над рекой, защищали нас от обжигающих лучей полуденного солнца. Нас окружал пышный тропический зеленый мир. Высоко-высоко в небе косматые кроны венчали замшелые стволы кокосовых пальм. Солнечные лучи переливались на белом оперении двух диких голубей, которым ветер никак не давал сесть на ветви.
Мы наслаждались прохладой в журчащем горном потоке. Приметив на воде плывущие из чащи борао желтые цветки, спорили, какой из них быстрее доплывет. И собирали пищу к обеду — крадущихся раков, которых привлекали в заводь наши белые ноги.
Бодрость после купания и упоение жизнью в пышном пальмовом лесу переполняли душу, когда мы, выйдя на берег, пошли домой, в нашу бамбуковую лачугу. По дороге мы выдернули из земли несколько клубней таро — вот и гарнир к ракам.
Неожиданно на тропе показался всадник. Он ехал в лес за плодами хлебного дерева, а заодно прихватил для нас из деревни кусок свинины, который был завернут в большие листья. Почти две недели мы не видели людей. Всадник выглядел очень скверно, и нас пронизал холодок, когда он спросил — не дошла ли сюда чума? Оказалось, что шхуна «Моана», зайдя за копрой в соседнюю долину Ханававе, принесла на остров болезнь. Теперь там все хворают и в долине Омоа тоже. Многие умерли, сам он только что выздоровел…
— Сюда болезнь позднее придет, вы на отшибе живете. — Болезненно бледный островитянин улыбнулся нам и причмокнул, подгоняя лошадь вверх по тропе.
Мы посмотрели на свои руки, на завернутое в листья мясо… Вот тебе и тропический рай!.. Эпидемия. Скоро и до нас доберется.
Обед никак не хотел лезть в горло.
День проходил за днем, мы ждали чумы. И она явилась. Мы приготовились к самому худшему. Но дальше боли в горле (у меня) и расстройства желудка (у Лив) дело не пошло. Лив поминутно бегала в пальмовую рощицу поодаль. А затем «чума» и вовсе прошла. Мы от души смеялись: подумаешь, легкий
грипп, только и всего!
Но вот однажды к нам постучался наш друг, звонарь Тиоти. Он был очень бледен, сильно кашлял, глаза блестели от жара. Мы не узнавали долговязого весельчака.
— Мсье не мог бы спуститься, сфотографировать последнего сына Тиоти? Остальных детей унесла чума.
Понурившись, он брел впереди меня вниз по долине.
В деревне дело обстояло совсем плохо. Всюду резали свиней: чуть ли не в каждой хижине шли поминки. Настроение у всех было мрачное.
Облачившись в европейскую одежду, островитяне ходили навещать больных. Врачей на острове не было, и некуда ехать за помощью. Никто им не рассказывал о бактериях, и они мало заботились о чистоте. С ужасом входил я в темные дощатые домики, где рядом со здоровыми лежали, кашляя, умирающие.
Белые сбывают островитянам самые скверные товары, прививают им свои худшие пороки, а хорошие стороны европейской культуры сюда не доходят. Полинезийцы обречены на гибель. У них не было иммунитета против болезней, которые сюда завезли европейцы. В этом белых трудно винить. Теперь иммунитет выработался— зато нет знаний, которые помогали бы бороться с болезнями. В этом виноваты белые.
Если бы мы жили в таких условиях, как островитяне, мы бы очень скоро все повымирали. Большинство из них поражено болезнями, которые нас бы тотчас скосили. Но островитяне привычны к ним с детства. Для них болезнь — нечто неизбежное… И только когда ко всему еще добавится грипп или пьянство, организм не выдерживает. Вот почему легкий грипп на этих островах — та же чума.
Старик Иоане трудился без передышки. Он был местным столяром и гробовщиком. Когда болезнь валила с ног кого-нибудь из его односельчан, Иоане приходил к нему в дом и прямо у постели больного сколачивал гроб. Говорите про полинезийцев что хотите, но смерти они не боятся. Для них смерть — возможность встретиться с предками, свидетелями славного прошлого острова, увидеть своих умерших друзей.
При жизни островитяне никогда не обувались. Даже на званый обед, когда полагалось надевать соломенную шляпу, шорты и пиджак, они приходили босиком. Возможно, дело в том, что у них очень широкие ступни. Но после смерти, когда тесная обувь уже не страшна, их обували в чистые белые тапочки. На тот свет покойника сопровождали гармонь, колода карт и прочие земные предметы. Хоть они и считали себя католиками, старая вера в то, что после смерти предстоит путешествие в страну предков — Гаваики, сохранилась. То-то будет весело — сыграть на гармошке для древних людоедов!..
Между тем наша жизнь в бамбуковой лачуге текла по-старому. Беспечные дни помогли быстро забыть трагедию в деревне. То ласково светило солнце, то дождь хлестал по крыше нашего дома. Луна выходила в ночной обход, играя бликами на лаково-черных листьях заколдованного леса-
После первого открытия таинственных каменных плит мы увлеклись поисками следов древности. До нас дошел слух об удивительных находках, которые островитяне сделали в дебрях. В гротах и в тайниках среди развалин будто бы лежали старинные изделия искусства. Большинство островитян безумно боялось этих памятников старины. Собственность мертвых охранялась страшными заклинаниями, и когда островитяне что-нибудь находили, они нередко разбивали находку вдребезги и выбрасывали осколки в море, чтобы утопить злых духов. Так гибли предметы огромной ценности, навсегда исчезали важнейшие ключи к познанию прошлого…
Нам удалось договориться с некоторыми островитянами посмелее и купить у них коллекцию древних изделий; среди них были такие предметы, о которых думали, что они давно исчезли. Гротескные изображения богов из черного и красного камня, всевозможных размеров и разновидностей. Резные деревянные чаши, украшенные каким-то орнаментом, фигурами, инкрустацией из зубов и человеческой кости. Подлинно художественные изделия людей каменного века, у которых из инструментов были лишь каменные топоры, ракушки да крысиные зубы.
Вот изящные серьги из человеческой кости: цепочка крохотных древних богов во всевозможных позах, выпол-ненных с мельчайшими деталями. Такие серьги обычно находили внутри черепов.
А однажды нам рассказали про старое святилище на горе, возвышающейся у самого моря. Мы тотчас отправились туда. Но чтобы попасть на узкую тропку, которая вела к святилищу, нужно было сперва пройти через деревню, а там, как только узнали, куда мы собрались, следом за нами отрядили лазутчика.
Мы поднимались по раскаленной солнцем скале, любуясь голубой гладью океана, которая простиралась в бесконечность, сливаясь с небосводом. Одолев подъем, очутились на большом плато с редкими пальмами. Островитянин следовал за нами по пятам. Он особенно насторожился, когда мы подошли к древним стенам.
Стены были сложены из красных каменных глыб. На некоторых глыбах высечены боги, которые угрожающе подняли вверх руки. Заглянув за стену, мы невольно вздрогнули: на земле, скаля зубы, лежало множество черепов… Я поднял один череп. Какие чудесные зубы были в прошлом у островитян! Тотчас наш смуглый спутник оказался рядом со мной. Он ревниво следил за тем, чтобы мы не унесли ни одного черепа, ни одного зуба.
Наша находка представляла собой величайшую научную ценность. Ученому-специалисту эти старые черепа рассказали бы очень многое. Я принес с собой мешок, но было как-то неловко собирать экспонаты на глазах у недоверчивого островитянина. А он следил за каждым нашим шагом, каждым движением.
Мы посовещались на норвежском языке и придумали выход. На Фату-Хиве мужчина — человек, женщина — всего лишь женщина. Она готовит пищу и рожает детей, только это оправдывает ее существование.
Я пошел вдоль плато; Лив осталась. Все в порядке: лазутчик шагал за мной, не обращая никакого внимания на Лив. Я свернул в заросли — он тоже. Я поднимал палочки и камни, внимательно их разглядывал, и лазутчик подозрительно наблюдал за моими действиями. А Лив не теряла времени зря, и когда я вернулся к развалинам со своим назойливым спутником, мешок был набит битком. Сторож не сказал ни слова и с явным облегчением проводил нас вниз, в долину.
Когда мы подошли к деревне, неожиданно, как это бывает в тропиках, спустился мрак. Мы шли как ни в чем не бывало со своей таинственной ношей. Вдруг возле последнего дома нас окликнули.
— Хемаи каикаи!
Тахиапитиани, местная красавица, приглашала нас зайти перекусить.
— Она просто из вежливости приглашает, — тихо объяснил я Лив. — Это, как на Таити, обычная приветственная фраза.
— Венез манжер! — повторила островитянка на ломаном французском языке.
Кажется, всерьез приглашает…
Приглашение нас нисколько не соблазняло, мы знали, что в ее доме много больных. Но отказаться — значит, испортить отношения. Мы подчинились, но как только поднялись на террасу, на которой она сидела с мужем, поняли, что это все-таки была вежливая фраза. Однако теперь было поздно отступать, и они предложили нам отведать их пищи.
Осторожно положив на землю мешок, мы сели на корточках подле больших деревянных мисок. Здесь, под сенью деревьев, было еще темнее. Слабая керосиновая лампа еле-еле освещала содержимое двух мисок. В одной лежала сырая несвежая рыба, обильно политая кокосовым соусом, из другой пахло поипои — древним национальным блюдом маркизцев. Поипои — перебродившие плоды хлебного дерева, выдержанные в земле в обертке из больших листьев. Их достают из ямы, толкут каменным пестом и добавляют немного свежих плодов. Получается густое кислое тесто, которое прямо пальцами отправляют в рот.
Это блюдо — память о тех временах, когда Маркизский архипелаг был перенаселен и приходилось заготавливать пищу впрок, на случай неурожая. Уже столько поколений ело поипои, что островитяне просто не могут без него жить. Оно непременный спутник любой трапезы. У нас тяжелое кислое тесто вызывало содрогание. Но ведь мы почти что сами напросились…
Ни тарелок, ни вилок, угощайтесь пальцами из общей миски, вперегонки с хозяевами и ребятишками.
Темнота выручила нас: мы только делали вид, что ели. Огромные тараканы, которые бегали по террасе, щекоча нам ноги, подъедали все, что мы незаметно выбрасывали.
Несколько тощих псов недоверчиво обнюхивали наш мешок. Им дали облизать посуду, когда кончился ужин, и по кругу пошло ведро с питьевой водой. Но вот наконец этот кошмар позади… Нас коробило при мысли о том, в какой обстановке здесь растут дети.
За едой не было сказано ни слова, но когда все поели и детей уложили спать на панданусовой циновке, Тахиапитиани начала беседу. Мы любовались красивыми чертами лица и телосложением хозяйки и хозяина.
— Вео — хороший охотник, — сказала она, кивая в сторону мужа. — Вео хорошо знает остров.
И она поведала нам вполголоса — чтобы никто чужой не услышал! — удивительную историю.
В пустынной долине по названню Ханахоуа, на противоположном, труднодоступном конце острова, есть в скалах пять больших пещер. Вео удалось подняться к двум из них. Вход загораживали большие деревянные идолы, но Вео разглядел за ними в пещерах всевозможные орудия, украшения, изображения богов. Входить он не стал, потому что склепы охраняются табу — запретом предков.
Вео не трус, он согласен показать нам это место. Но долина Ханахоуа окружена неприступными горами, туда можно попасть только с моря. А прибой там такой, что на обычной лодке не подойти. Однажды правительственная шхуна пыталась приблизиться к острову с той стороны, но ее чуть не разбило о скалы, и пришлось отступить.
Лишь большие мореходные каноэ могут справиться с тамошним прибоем. А таких каноэ на всем острове только три. Если мы сумеем одолжить лодку и нанять четырех сильных гребцов, Вео покажет путь к пещерным тайникам.
Было уже поздно, когда мы неохотно прервали разговор о сокровищах и побрели с нашей ношей вверх по долине. Придя домой, мы высыпали черепа под нары — единственный тайник во всей лачуге.
А на следующий день приступили к организации похода за кладами. Капитаном назначили звонаря, подобрали команду, лодку. Оставалось дождаться благоприятного ветра…
Однажды Лив разбудила меня среди ночи и шепотом сообщила, что в комнате кто-то есть. Но я лежал на краю нар и при свете луны отчетливо видел, что наша лачуга пуста.
— Я слышала какой-то шум, — настаивала Лив.
Я успокоил ее — дескать, это ворочаются людоеды под нашей кроватью — и закрыл глаза.
Но тут мы оба вздрогнули. Действительно, послышался шум — и действительно под нарами! Мы взглянули под кровать. И усомнились в своем рассудке…
Три черепа, лежа в кучке, кивали и качались, постукивая челюстями. Никакой живой людоед не придумал бы более дьявольской пляски! Мы оцепенели…
Вдруг Лив взвизгнула; в тот же миг через всю комнату метнулась черная тень и юркнула в щель в стене.
Маленькая безобидная крыса, которая пробралась сквозь затылочное отверстие в один из черепов, была виновницей переполоха!
Казалось, заколдованные лунным светом деревья колышутся от смеха, глядя на нас…
А через несколько дней примчался верхом молодой парнишка и сообщил, что в заливе бросила якорь "Тереора".
Старик Брандер пригласил нас на пир — и очень удивился, что мы не собираемся уезжать. На одном из коралловых атоллов на юге кто-то рассказывал ему, что мы поражены слоновой болезнью и ждем не дождемся, когда придет корабль. А мы, оказывается, в полном здравии и довольны своей жизнью! Брандер был от души рад за нас.
Среди пассажиров шхуны был французский художник Алло. Он делал зарисовки райского края и его обитателей. Мы сразу узнали Алло — он был вместе с нами на борту "Комиссара Рамеля". Теперь он сошел на берег, чтобы посмотреть на наш домик, но тотчас удрал обратно на шхуну, боясь, как бы комары не занесли ему какую-нибудь заразу. Тщательно вымывшись с головы до ног, художник принялся натирать каждую ссадину и царапину мазями собственного приготовления.
— Здешние острова — ад, сплошные бациллы, — ворчал он. — При первом же удобном случае уносите отсюда ноги.
И Алло сел в удобный шезлонг делать новые зарисовки обетованной страны…
Настала пора «Тереоре» уходить. На какой-то миг мы словно ощутили беспокойное дыхание большого мира. Когда-то еще она придет опять…
Король Тур Фату-Хивский. Корона на голове Хейердала — ценное древнее изделие. Она собрана из перламутра и черепаховых пластинок. С помощью крысиного зуба на ней вырезаны гротескные изображения богов

На опушке тропического леса. Мы направляемся в глубь острова

"Ночная вода" принимает гостей

Патер Викторин, французский католический священник; справа — Пакеекее, местный священник протестант

Наши Фату-Хивские друзья. Местные жители совмещают в себе признаки многих рас

Под вечер на нашу "дворцовую площадь" пришел звонарь. В руке у него было несколько рыб. Раз возобновилась рыбная ловля, значит море успокоилось!
И пока Лив готовила на очаге праздничный обед, я стал расспрашивать Тиоти, когда же состоится поход. Звонарь почему-то все время ерзал и почесывал себе спину… Скверный признак: не иначе что-то стряслось. В конце концов мне удалось выжать из него, что с «Тереорой» на остров явился отец Викторин, французский католический священник. Он уже много лет объезжал острова, пекясь о своей пастве, и сейчас на некоторое время поселился в деревне Омоа.
Узнав, что в дебрях живут двое белых, которые к тому же подружились со священником-протестантом, отец Викторин воспылал к нам непримиримой ненавистью. Скольких трудов ему стоило обратить в истинную веру всех местных жителей, не считая двоих, а теперь его достижения под угрозой! Островитяне увидят, что белые — протестанты, и, чего доброго, переменят веру! Отец Викторин хорошо помнил, что произошло на острове Такароа. Там было триста католиков, по стоило явиться миссионеру-мормону, как двести девяносто восемь островитян стали мормонами, и остался один католик и один протестант, на каждого из которых приходилось по огромной дощатой церкви. На тихоокеанских островах борьба за души смуглых жителей велась не на жизнь, а на смерть… Побеждал наиболее щедрый священник, который строил самую роскошную церковь. Впрочем, души не очень сопротивлялись. Для островитян весь смысл посещения церкви сводился к тому, чтобы щегольнуть там своими лучшими нарядами. Явиться на службу без шляпы здесь неприлично. Праздничная обстановка, пение — все это делает храм божий единственным увеселительным заведением на острове.
В первой же своей проповеди отец Викторин ополчился против нас. Дескать, мы протестанты, басурманы. Дескать, не грех и соврать нам, обмануть нас, сделать все, чтобы отравить нам жизнь. Никаких подарков нам давать не надо, а зайдет речь о покупке чего-нибудь — драть с нас втридорога. И складывать товар возле дома, ни в коем случае не переступать порога нашей лачуги. Он уговаривал прихожан следить за каждым нашим шагом: ведь неспроста мы поселились одни в лесу — наверное, задумали что-нибудь недоброе…
Островитяне выходили из церкви в отличном настроении. Можно ли придумать более легкий и приятный способ заработать путевку в царство небесное!
— Вот так же он все эти годы преследует меня и Пакеекее, — объяснил звонарь. — Стоит ему явиться на остров, как вся деревня восстанавливается против нас. Даже разговаривать с нами не хотят. Ничего, скоро уедет, и они позабудут его наказы…
Мы были вне себя. Меня так и подмывало пойти в деревню и вздуть этого негодяя в черной сутане. В этой глуши у нас вдруг появился серьезный враг — белый, которого мы до тех пор и в глаза-то не видели! Какая несправедливость! Разве мы покушались хоть на одну из его душ?..
А звонарь Тиоти уже рассказывал про больного слоновой болезнью Хаии, который разбавил мочой апельсиновый сок и послал протестантскому священнику, надеясь его заразить; рассказывал, как про Пакеекее сочиняли грязные небылицы, чтобы на него донесли правительству, как с ним проделывали самые подлые шутки. Мы оторопели: что-то нас ждет…
Поход за кладами сорвался. Католики отказались грести, а два протестанта, Лив и я не могли одни справиться с мореходной лодкой. К тому же за день пользования ею с меня запросили столько, что за эти деньги на Таити можно было купить себе лодку в полную собственность.
Всю ночь длилось наше совещание, и на рассвете мы, захватив рюкзаки, покинули свой домик. Решили полазить по горам, пока в деревне не утихнут страсти. Звонарь не изменил дружбе. Он привел нам двух лошадей—свою и священника; на одну из них мы навьючили орехи, фрукты, котелок, палатку, плед и несколько банок тушеной говядины, полученных на "Тереоре".
Путь па тропу, ведущую в горы, лежал через деревню. Из многих домов поглядеть на нас вышли католики. Они уже не приветствовали нас обычным «каоха», а с презрительным видом о чем-то перешептывались между собой. Вот и дом отца Викторина. Хозяин в это время спал…
Наконец наш караван ступил на тропу, извивающуюся вдоль склона над бухтой. Впереди верхом ехала Лив, за ней шли я и звонарь; приемный сынишка священника, Пахо, вел навьюченную лошадь. Чем выше мы поднимались, тем лучше становилось настроение. Мы смеялись над этими негодяями, которые думали нас сломить.
Вот и солнце появилось из-за гор. Дул легкий свежий ветерок, внизу простерся могучий океан… Тропа, петляя, шла все выше и выше, достигла гребня и потянулась вдоль него, продолжая подниматься. Природа здесь была совсем дикая. Крутой склон отвесно обрывался в долину; поглядишь вниз — голова кружится. Где-то на противоположном склоне должна быть наша лачуга… Вот она, под пальмами, кроны которых с высоты кажутся не больше цветочного венчика!
Начались горные луга. Самый воздух говорил о том, как мы высоко забрались. Нам столько рассказывали об этой части острова, которая никем не изучена и не нанесена на карты, а в специальной литературе почему-то названа пустыней. Иногда островитяне, вооружившись копьями, отправлялись сюда на охоту с собаками, но холод быстро прогонял их обратно в долину. К кому из местных жителей мы ни обращались, каждый по-своему описывал виденное. Теперь я понял, в чем дело: мы и в самом деле очутились в удивительной стране. Ничего похожего на пустыню — напротив, такое разнообразие, такая красота, о которой я и не мечтал. Острые пики и шпили чередовались с круглыми вершинами и плоскими поверхностями. Непроходимые дебри сменялись обширными лугами, луга — редколесьем с всякими причудливыми растениями. Мы наконец-то увидели цветы, почувствовали чудесное благоухание, которого нам так недоставало в сырой пальмовой долине. В листве копошились звонкоголосые птицы, над цветами порхали изумительные бабочки, летали разноцветные жучки.
Тут — пропасть до самого дна долины или берега моря, там — воткнувшиеся в небо вершины… Мы были на высоте примерно тысячи метров. Здесь никто не жил — слишком холодно для полинезийцев. Нам горный климат казался идеальным, мы словно очнулись от вечной дремы, которая угнетала нас в долине.
Впереди раскинулся большой луг с сухим папоротником и кустами гуайявы, усыпанными плодами, из-за которых маленькие птицы сражались с осами. Гуайява напоминает желтое яблоко, а ее сердцевина — нечто вроде исполинской малины. Необычный плод сразу пришелся нам по вкусу. А вообще здешние горные леса, несмотря на пышную растительность, бедны плодовыми деревьями. Можно увидеть кокосовую пальму или банан, но их очень мало. Иногда возле тропы мы видели огромные манговые деревья.
Наши смуглые друзья жаловались, что зябнут. Дескать, им тут конец придет — еще никто не отваживался ночевать так высоко в горах. Тогда мы рассказали им про нашу страну, где вода от мороза делается как камень, а дождь, замерзая, превращается в белый песок. Рассказали, как мы там без лодки ходили по морю и спали в шалашах, которые делали из замороженного дождя. Они только рты разевали, слушая такие басни… На Фату-Хиве тепло круглый год.
Пахо шел последним, стуча зубами от холода и покатываясь со смеху от наших выдумок. Чудесный парнишка — крепкий, стройный, с приятным лицом. Ему всего двенадцать лет, но такого озорника свет еще не видывал. Затеет какие-нибудь плутни — и хохочет на весь лес, словно Пан. Или мчится верхом с тарзаньими воплями. Мало кто из взрослых мог так быстро забираться вверх по стволу кокосовой пальмы, и никто проворнее его не бил копьем рыбу в заливе. Этот живой, подвижной, как ртуть, бесенок мог и соврать, и смошенничать, но все равно он нам нравился.
…Мы шагали по тропе сквозь заросли папоротника, грызя гуайявы. Вдруг Пахо выпустил из рук повод вьючной лошади и помчался вниз по склону. В жизни не видел такого отчаянного бега: два шага — огромный прыжок, два шага — прыжок. Миг — и исчез за гребнем.
Мы решили было, что парень свихнулся, но в это время снизу донесся дикий крик и визг, а затем Пахо вынырнул из-за гребня, держа в руках какое-то бешено отбивающееся существо. Мы не сразу разглядели, что это такое, но и по крику можно было догадаться, что способен так визжать только поросенок! Да-да, мальчуган поймал руками дикого поросенка! И теперь они словно старались перевизжать друг друга. Вот Пахо пробивается сквозь высокий, по грудь, папоротник, одной рукой обхватив звереныша, а другой сжимая его морду, чтобы поросенок не отхватил ему пальцы.
И тут мы увидели такое, что я не скоро забуду… Куда там приключенческим фильмам! Среди папоротника мелькнула черная спина дикой свиньи с взъерошенной щетиной, а с другой стороны мчалась вторая! Точно два паровоза неслись прямо на мальчишку, который стиснул в объятиях визжащего поросенка.
Мы вскрикнули от страха, предупреждая Пахо об опасности. И когда первый зверь был совсем близко, мальчишка тигром отскочил в сторону, издав пронзительный боевой клич. Еще прыжок, еще, но свою беспокойную добычу он не отпускал. Каким-то чудом Пахо увернулся от преследования и доставил нам свой трофей!
Под градом камней свиньи отступили. Но когда звонарь стал привязывать на шею поросенку лубяную веревку, звереныш щелкнул зубами, вырвался и улизнул в заросли. Пришлось силой удерживать Пахо, чтобы он не ринулся вдогонку.
Наконец мы пришли к горному источнику — заполненной водой ямке в пещере Теумукеукеу. Разбили палатки, а наши друзья, сев на лошадей, галопом помчались вниз.
И вот мы одни, вокруг самый красивый ландшафт, какой только нам приходилось видеть до сих пор на тихоокеанских островах. Под сенью дерева, покрытого кроваво-красными цветками, мы сделали себе ложе из папоротника. Рядом стеной стоял лес с неведомыми растениями. Впереди полого спускался луг, дальше открывался вид на плато и горы Ханававе. Стемнело, мы разожгли костер, чтобы вскипятить чай с сухими апельсиновыми листьями. Я перевернул большой камень — под ним вокруг грозди белых яиц извивалась огромная ядовитая тысяченожка. И этот рай не без змеи…
Стало и в самом деле холодновато. Мы завернулись в пледы и уснули.
Чудесное это было время, когда мы жили в горах, дыша чистым, свежим воздухом. Простор и воля — и никаких комаров, никакой заразы. Только красивые растения и дикие животные — потомки одичавшего домашнего скота.
Когда во времена парусного флота на остров впервые приплыли белые, островитяне знали из домашних животных лишь одну свинью. С кораблей доставили на берег и другие породы скота, но полинезийцы считали всех их разновидностями свиньи! Лошадь назвали "свиньей, которая быстро бежит по дороге", коза стала называться "свиньей с зубами на голове". Новые «свиньи» размножались так же быстро, как старые. Люди вымирали, и долина за долиной становились необитаемыми, а скот, уйдя в горы, отлично там прижился. Вот откуда на острове появилась дичь.
Множество диких лошадей, ослов и других животных паслись на горных лугах. Горе тому, кто встретит стаю диких собак! Большие и маленькие псы всевозможной масти с воем и лаем гонятся за перепуганными козами и овцами; они справляются даже с телятами. А если одна из собак погибнет от грозных клыков дикого кабана, то вся стая с воем набрасывается на убитую.
Дикие кошки лазят по деревьям, грабя гнезда, или охотятся за крысами и дикими курами среди развалин в долине. Птенцы и птицы — добыча кошек, а яйца остаются крысам, которые тоже умеют лазить по деревьям. Поэтому количество птиц резко сокращается. Многие ранее известные виды почти совершенно вымерли, иных уже нет совсем. Морским птицам достается не так. Они гнездятся на голых утесах или отвесных скалах, куда крысам не пробраться.
Да-а, все эти одичавшие животные внесли немалое своеобразие в местную фауну…
Островитяне ловят лубяными арканами длинноногих диких жеребят. Впоследствии нам не раз доводилось верхом на укрощенных конях подниматься на высокогорные плато. Отличные кони — сильные, надежные.
Часто тропы вились вдоль головокружительных пропастей, на дне которых громоздились камни. У нас невольно сосало под ложечкой, когда кони трусили по самому краю тропы, небрежно пощипывая свисающую вниз травку. Поводьями служила веревка, обвязанная вокруг лошадиной морды. Если мы натягивали ее, пытаясь отвести лошадь от края тропы, животное станови лось на дыбы и затевало такую пляску, что мы поспешно уступали. Впрочем, мы быстро прониклись доверием к этим жителям гор. Бывало, едешь ночью, в кромешном мраке, по горным карнизам — и никогда лошадь не оступится. Нам рассказали лишь об одном случае, когда островитянин вместе с конем сорвался в пропасть. Но тогда тропа была сырой и скользкой после дождя.
Кстати, мы тоже однажды попали в переделку на краю бездны и испытали неприятное чувство страха. Мы шли по горному карнизу, Лив — впереди, я — за ней, ведя на поводу Туивету, укрощенного дикого жеребца, сильного и не очень-то послушного. Узкий уступ был не больше полуметра шириной. Справа в долину Ханававе обрывалась пропасть, слева вздымалась отвесная стена. Робко прижимаясь к скале, мы любовались замечательным видом. Вдруг впереди показались идущие нам навстречу три дикие лошади: могучий жеребец, кобыла и жеребенок с курчавой гривой. Кобыла и жеребенок повернули обратно, а жеребец остался охранять отступление.
Звонко заржав, Туивета мотнул головой и рванулся было навстречу чужаку, который подходил все ближе. Я дернул повод — тогда Туивета встал на дыбы, силясь вырвать веревку у меня из рук. Я крикнул Лив, чтобы она прижалась плотнее к скале, и сам сделал то же. Туивета опять бросился вперед, и жеребцы встретились— почти рядом с нами. Мгновение они, дрожа от напряжения, стояли голова к голове, точно мерялись силами. И вот началось… Они кусались, брыкались, ржали, вставали на дыбы. Каждую секунду мы ждали, что один из них полетит кувырком с обрыва, как это бывало у нас на глазах с дикими козами, спасающимися от собак. Но жеребцы твердо стояли на ногах. Только вьюк взлетел в воздух и исчез в пропасти… Пледы застряли в расщелине, а все остальное пропало безвозвратно.
Победил в поединке Туивета. Дождавшись, пока кобыла и жеребенок уйдут на достаточное расстояние, чужак отступил, сохраняя гордый вид. Теперь Туивета спокойно позволил поймать себя. Он был доволен победой, и только пропажа вьюка смущала его.
…После каждой такой вылазки в горы мы крайне неохотно возвращались в долину. Вверху было так хорошо и вольготно! Но нас ограничивали запасы продовольствия. Плодовых деревьев в горах почти не было, охотиться нам было не с чем.
Из первого похода мы возвращались, чувствуя прилив новых сил. Оцепенение, которое так долго владело нами, прошло, и даже долина казалась уже не такой душной. Католики встретили нас любопытными взгляддами. Пока мы жили в горах, они подсылали к нам лазутчиков — проверить, не затеваем ли мы каких-нибудь козней против них. Мы показали лазутчикам банку с зоологическими образцами, и нас оставили в покое.
Твердым шагом мы направились прямо к дому патера, решив познакомиться с нашим врагом и дать ему понять, что мы не конкурирующие с ним проповедники.
Сразу за большой дощатой церковью католиков стояли два домика с террасами. Один домик пустовал; в прошлом, в ту пору, когда на острове было много жителей и он не считался захолустьем, в нем жил французский управитель с жандармами. Рядом с домом валялся старый барабан; прежде старик Иоане бил в него, извещая о появлении шхуны в бухте. Где ты, былое величие…
Мы подошли к террасе второго домика. Там, окруженный ребятишками, сидел человек в черной сутане. Он обучал детей азбуке. Родители не могли этого сделать, так как они сами были неграмотны. Увидев нас, человек в сутане встал. Мы поднялись по ступенькам и оказались лицом к лицу с отцом Викторином. Его маленькая щуплая фигурка буквально тонула в просторной сутане. Он очень вежливо предложил нам сесть. Мы сели.
Патер был весь сплошная улыбка, его любезность не имела границ. Казалось, он не чувствует к нам никакой вражды — если бы не колючие глаза, которые так плохо согласовались с улыбкой, со всем его обликом. Эти глаза ненавидели нас.
Мы затеяли светскую беседу. О том, о сем, о нас самих. Очень тонко патер отвел разговор от острых вопросов. Но мы все-таки воспользовались случаем и дали ему понять, что коллекционируем представителей фауны, а не человеческие души.
Отец Викторин рассказал нам о себе. Тридцать три долгих года, с тех пор как его прислали сюда из Франции, он в одиночестве путешествует по островам Маркизского архипелага. Живет вместе с полинезийцами в их грязных лачугах, ест их пищу, сидит у ложа больных и умирающих. У него нет ни единого друга: он не смог завоевать расположения островитян. Он не знает никаких развлечений. Природа во всех ее проявлениях для него не существовала. Жизнь большого мира шла своим чередом, жизнь архипелага — своим. Одинокий, заброшенный, он оказался как бы отверженным, весь смысл его бытия был в одном: сделать из островитян католиков, всех записать в приходские книги! Хоть именем овладеть, если не удастся завоевать душу!..
Этакий филателист, панически боящийся потерять хоть одну марку из своей коллекции.
Что ж, его можно было понять. Не удивительно, что он прибегает к любым средствам для достижения своей цели. И отец Викторин не скрывал своей жгучей ревности к нам. Нас двое. Мы молоды. Он один и стар, и ему нечего вспомнить, потому что жизнь потрачена впустую.
Мы молча пошли домой.
Глава шестая
МЫ НАРУШАЕМ ТАБУ
На лодке вдоль побережья. Страшный склеп. Тайна "Большого камня". Быть беде. На гребне волны. "Ночная вода" принимает гостей

С большим трудом наша лодчонка пробивала себе путь через длинные валы, катившие к берегу. Утреннее солнце ласково освещало дикий остров, над океанской гладью веяло холодком — несся пассат.
На корме в лодке лежала Лив, обняв гроздь бананов. Она слушала, как мы с Тиоти обсуждаем план нашей поездки. За кладами в Ханахоуа? Нет, сорвалось, и все из-за отца Викторина. Для рыбной ловли маленькая долбленка Тиоти еще годилась, но с наветренной стороны лучше на ней не появляться. А направлялись мы в долину Ханававе, решили исследовать участок леса, объявленный запретным. Один из великих шаманов прошлого наложил табу на эти заросли, и с тех пор никто не смел туда заходить. Большинство табу давно утратили свою силу, но этот запрет еще действовал, как и тот, который охранял вход в склепы Ханахоуа. Всяческие ужасы, а то и смерть грозили нарушителю. Протестант Тиоти очень красочно все это расписывал. Он ничуть не сомневался в том, что древние людоеды знались с бесами.
Гребем и гребем, вверх и вниз по волнам, а берегу нет конца. Долина за долиной скользили мимо. Забытые, обезлюдевшие. Высоко-высоко на склонах паслись пятнистые козы; из-под пальм, щурясь, смотрел на лодку щетинистый кабан. Посмотрел и опять принялся уписывать падалицу под хлебным деревом. Кто сказал, что долина необитаема? Вон сколько домашних животных! Только люди вымирают.
Но вот наконец горы раздвинулись, и нашему взору предстала долина Ханававе. Полно, не мираж ли это?.. Стройные пальмы, острые пики. Красные скалы и зеленые заросли. Выветривание создало на склонах гор причудливые фигуры троллей и других исполинских чудовищ. Не мудрено, что здесь родились суеверия… Точно заколдованный мир, огороженный неприступными хребтами. В глубине долины высоко в горе мы увидели отверстие, сквозь которое просвечивало небо. Само время прогрызло туннель в вершине. Через этот проход когда-то прорывались в Ханававе воинственные людоеды из Ханахоуа. Они лазили по горам не хуже коз и прямо в скале вырубили узенькие тропки. Но с тех пор тропы осыпались, и теперь к туннелю, который носил замысловатое название Техавахиненао, было не пройти. Так что с этой стороны гор в Ханахоуа не попадешь.
До того как высадиться на берег, надо было обеспечить себя пищей; мы не захватили ничего съестного. В глубине бухты резвились серебристые рыбки. Тиоти встал в лодке и с силой метнул копье с плоским наконечником. Описав дугу, оно опустилось прямо в рыбью стаю, и торчащее из воды древко красноречиво говорило о том, что цель поражена.
И вот уже мы идем через деревушку. Полсотни островитян — вот и все, что осталось от могучего племени в долине Ханававе, где некогда правили три короля: один в верховьях, у гор, второй в средней части долины, а третий— на берегу. Все трое враждовали с обитателями Ханахоуа, и в лесу до сих пор можно увидеть каменные вышки, с которых караульные наблюдали за туннелем в горе. А когда враг вел себя смирно, три короля воевали между собой. Смерть угрожала каждому, кто смел переступить границу соседа. Из верхней части долины никто не смел спускаться к берегу, ловить рыбу, а жителям побережья нельзя было подниматься вверх за плодами…
Мы шли по узкой тропке. Впереди, насвистывая, шагал долговязый Тиоти; у него на плече лежала заостренная палка, на которую был нанизан плод хлебного дерева. За ним, неся рыбу, следовал я. Замыкала шествие Лив. Она без устали уписывала апельсины. Чудесные плоды — сочные, ароматные. Но апельсиновый рай Ханававе явно никого не соблазнял… Выйдя из него, мы очутились в густых зарослях. Тропа извивалась между кустарниками и древними каменными изгородями. Тиоти перестал свистеть. Мы приближались к заколдованному лесу. Наш проводник нерешительно предложил сделать привал. Чудесный запах дыма и печеных плодов хлебного дерева распространился меж стволов. Рыбу изжарили на угольях.
Закусив, повели речь о табу. Тиоти его не боялся. Он звонарь, протестант, ему никакая чертовщина не страшна. Людоеды, табу — это все с бесами связано. Он легко может доказать это. И Тиоти рассказал про один случай.
Последнего великого шамана-кудесника — он еще был жив, когда на Фату-Хиве появились белые, — звали Тукопана. Он прославился на все Маркизские острова своим колдовством. Перед смертью Тукопана призвал короля и весь свой народ и показал им двух идолов, сделанных из белоснежного камня — одного побольше, другого поменьше. Кудесник возвестил, что его душа вселится в большого каменного бога, который будет носить имя Тукопана. В маленького божка вселится душа его любимой покойной дочери. Все будущие поколения должны поклоняться этим идолам.
Тукопана умер. Каменные изваяния поставили на площадке у моря — на той самой площадке, на которой мы однажды побывали — и окружили их сотнями оскаленных черепов.
А лет двадцать назад на Маркизские острова прибыл французский губернатор. Он услышал историю про Тукопану и его дочь, и ему очень захотелось присвоить редкостные статуи с Фату-Хивы. Губернатор силой заставил четырех полинезийцев отнести тяжелых идолов на его шхуну и увез изваяния в деревню на Хива-Оа, где был его дом. Тукопану и его дочь поставили у въезда на участок губернатора. Жители Хива-Оа сильно перепугались.
Вскоре над Маркизским архипелагом разразился страшный ураган. День за днем хлестал проливной дождь. Огромный поток сорвался с гор и понесся вниз по долине. Он валил деревья, мчась прямо к усадьбе губернатора. Дом был разнесен в щепки, а когда наводнение кончилось, Тукопана и его дочь словно провалились сквозь землю. И по сей день продолжаются еще поиски этих больших каменных изваяний. Но тщетно…
Новый дом губернатора построили далеко от старого участка.
Мы все еще были под впечатлением рассказанного, когда пересекли журчащий ручей и нырнули в лес, охраняемый табу… Темно и сыро, густые заросли манго — словом, обычные дебри. Почему на них наложен запрет?
Вдруг перед нами выросла высокая замшелая стена. От волнения у меня пробежал холодок по спине. Стена высотой с человека была сложена из больших обтесанных камней. Я осторожно взобрался на нее. Лив и звонарь последовали моему примеру, и мы очутились на площадке, сделанной из тщательно пригнанных друг к другу тяжелых камней. Густые кроны почти не пропускали света, было темно и мрачно.
Я старался понять, как могли древние люди доставить сюда такие огромные плиты и сложить из них стену… Вдруг раздался громкий возглас Тиоти — он что-то обнаружил!
Мы подошли к нему. Две большие красные плиты были приставлены друг к другу, наподобие скатов крыши. Дерн и корни почти полностью скрыли камни, но когда мы их расчистили, то увидели на плитах древние высеченные рисунки, странные фигуры. Боги или дьяволы?.. Во всяком случае, нечто гротескное. Одни размышляли, подперев рукой подбородок, другие стояли, сложив руки накрест, третьи вскинули руки вверх. Какие большие торчащие уши — на человеческие и не похожи! Среди бесовских созданий было причудливое двойное изображение: на одном цоколе — две совершенно одинаковые фигуры.
На второй плите были высечены три пляшущих большеглазых существа с отвислыми ушами; одна рука на бедре, другая изогнута над головой. Они четко выделялись на кроваво-красном камне. А рядом с ними вычерчен какой-то геометрический орнамент.
Неожиданный ливень заставил нас поспешно укрыться под широкими листьями. А когда мы вернулись на старое место, то приметили еще одну плиту, приставленную сбоку к двум первым. Промежуток между плитами в другом конце был тщательно заложен камнями. Мы осторожно разобрали каменную преграду и увидели за ней черное отверстие. Да-а, тут что-то есть…
Лив даже ахнула от возбуждения. Я осторожно спустил в отверстие ноги. Это было уже слишком для звонаря.
— Будь у тебя большой фонарь, ты бы мог выгнать оттуда бесов, — сказал он.
А так как у нас фонаря не было, Тиоти предпочел отойти в сторонку.
Проход был очень узкий, но я втиснулся в него, подняв кверху руки, и очутился в кромешной тьме. Ощупывая сырую холодную стену, сделал шаг-другой вперед, потом решил зажечь спичку. Чиркнул, но она тут же погасла. Мелькнул кружок света на гладком влажном камне — и опять мрак.
Еще одна спичка, еще… Гаснут! Я присел на корточки, заслонил коробок рукой и чиркнул снова. Опять впустую. Но то, что я успел заметить во время мгновенной вспышки света, заставило меня вздрогнуть: череп! Даже в темноте я мысленно видел его. Достаю спичку, чиркаю — не тем концом. Еще раз. Спичка загорелась. Да тут целый скелет простерт на земле! Пожелтевшие кости наполовину ушли в почву. Наверно, какой-нибудь древний король или могущественный кудесник нашел здесь последнее пристанище…
Причудливые фигуры на крыше склепа явно были призваны отгонять злых духов. А так как самые злые «духи» на тихоокеанских островах — белые люди, я поспешил выбраться из склепа на волю. Спи спокойно, старина…
Сразу же за каменной платформой поднималась гора Мотунуи — "Большой камень". Она торчала над лесом, будто "чертов палец". Ветер и дождь отполировали скалу, и лишь несколько косматых деревьев ухитрились закрепиться на крохотных выступах, свесив вниз длинные-длинные корни. Вот по этим-то корням мы полезли вверх — Тиоти, его друг Фаи и я. Как ни спорила Лив, мы ее оставили в долине. Тут и мужчине-то взобраться не просто! Цепляясь руками и ногами, помогая друг другу, мы карабкались по тугим корням.
Большой камень сдвинулся под моим коленом и запрыгал вниз. Провожая его взглядом, я прямо под собой увидел широкополую шляпу звонаря.
— Берегись! — завопил я и в ужасе зажмурился.
Теперь конец Тиоти… Не решаясь еще раз посмотреть
в ту сторону, я слабым голосом спросил, обращаясь в пространство, что произошло.
— Камень разбился о голову Тиоти, — донесся снизу спокойный ответ.
Говорил Тиоти. Значит, сумел увернуться!
Узкий карниз пересек отвесный склон. Фаи вскарабкался на него первый — и хотел тут же вернуться: скелеты! Там была целая пещера, полная старых деревянных коробов, в которых лежали черепа и кости, обернутые в лоскуты белой таны. Тапу делали, обрабатывая колотушками кору дерева эуте; теперь это дерево исчезло.
Со свода пещеры свисали длинные косы, сплетенные из черных как смоль человеческих волос. А за деревянными коробами, которые были выдолблены в мощных стволах каменными орудиями и углублены при помощи огня, стоял ящик, сколоченный из досок. В нем лежал скелет в европейской одежде с пуговицами. Неприятное зрелище: уж не моряк ли попал когда-то в лапы ненасытных людоедов…
Храбрый Фан уже начал спускаться, когда я услышал его вопль:
— Она может упади! О-о! Тогда меня тюрьма сади!
Мы заглянули в пропасть. Лив преспокойно карабкалась вверх по корню! Миг, и она уже на карнизе!
Когда мы наконец спустились в долину, я облегченно вздохнул. А наши смуглые друзья были в полном смятении. Нарушено табу!.. Теперь не миновать кары! Быть беде. Фаи и Тиоти настолько верили в это, что действительно следовало ждать какого-нибудь промаха.
На следующий день мы простились с долиной и стали спускать па воду нашу лодку. Надо сказать, что это было далеко не просто. Один за другим могучие океанские валы, рокоча и пенясь, набегали на берег и с ревом обрушивались па гальку. Только полинезийцы умеют покорять эту бурную стихию. Они обычно долго стоят на берегу, ожидая «подходящей» волны. Что это за «подходящая» волна, нам так и не удалось уяснить. Может быть, она чуть пониже других? Или чуть больше отдалена от следующего вала?
Итак, мы стоим, ожидая «подходящей» волны. Стоим на безопасном расстоянии от прибоя, лодку держим в руках, готовые, как только настанет подходящий момент, бежать с ней в воду. Внимание, обрушилась ожидаемая волна! Мы ринулись в пенный хаос, прыгнули в лодку
и стали грести как безумные, чтобы успеть отойти подальше от берега, пока нас не накрыло следующим исполинским валом.
Несколько сильных гребков, и мы очутились на гребне, который тотчас взметнулся вверх и стремительно понесся к берегу, курчавясь грозной пеной… И тут оказалось, что звонарь, пребывая в расстроенных чувствах, забыл воткнуть затычку в днище! Из дыры фонтаном била вода! Я выпустил весло и зажал дыру ладонью, а звонарь греб и греб, силясь вырвать лодчонку из объятий волны. Лодка уже наполовину заполнилась водой… Нам еле-еле удалось пробиться за полосу прибоя. Тиоти стал вычерпывать воду своей шляпой, Лив — скорлупой кокосового ореха, а я поспешил законопатить отверстие кокосовой пенькой. Опасность миновала…
Океан плавно покачивает наше суденышко, мы идем вдоль берега, где стоят чередой пышные пальмы… Нет, возвращаться домой рано, мы намеревались пройти еще дальше. На северной оконечности острова есть безлюдная долина — Таиокаи. Нас манило туда Ваи По — "Ночная вода" — таинственное подземное озеро, о котором не слышал до нас ни один белый. Этому озеру посвящено старинное предание, герои которого — Капири и Кеакеа — заходили в пещеру и видели теряющийся во мраке водоем…
Вверх-вниз, вверх-вниз по неровной поверхности океана. Смуглый белозубый Фаи не отстает, хотя его лодчонка еще меньше нашей. Она нам пригодится на таинственном озере.
Можно было подумать, что все долины кончились — тянулись сплошные обрывы, острые пики и шпили. Глубина такая, что прибоя нет, волны покорно лижут скалу. Мы подошли к ней вплотную.
Стаи красных, серых, зеленых и черных крабов метались по каменной стене, ныряя в ямки и расщелины. Но от копья Тиоти не уйти! Попадались большие гроты — такие большие, что в дождь там могли бы укрыться несколько лодок. Вода — кристальная, а рыбы — как в садке. Огромные рыбины всех цветов радуги сновали туда и обратно, дно испестрили маленькие кораллы и морские анемоны. У самой поверхности воды, укрывшись в ямки, высовывали свои грозные клешни омары. Не такие, как у нас в Норвегии, а полуметровые богатыри, с узловатым колючим панцирем, расписанным яркими узорами. Непревзойденные красавцы здешних вод.
Но всего удивительнее была рыба, которая умела ходить по суше. Величиной с палец, черная, большеголовая, она скользила с волной к скале, подпрыгивала, прилеплялась к камню и начинала скакать так, словно боялась, как бы ее не замочило! Нагуляется вдоволь и ныряет в воду, но не надолго. Вот она уже спешит к берегу с очередной волной.
На закате мы добрались до Таиокаи. Подойти к берегу так же трудно, как отойти от него, нужно опять-таки подстеречь «подходящую» волну. Обычно Тиоти великолепно с этим справлялся, но сегодня у него все не ладилось.
Лодчонка Фаи уже преодолела прибой, когда звонарь наконец облюбовал себе волну. Благодаря балансиру полинезийские лодки чрезвычайно устойчивы. Они могут опрокинуться лишь в том случае, если балансир высоко подбросит или утопит волной. А для этого требуется немалое усилие. Но мы слишком рано оседлали гребень… Балансир взлетел вверх, лодка опрокинулась, и вот уже мы барахтаемся в воде, отчаянно цепляясь за днище. Могучий вал вышвырнул нас на берег.
— Табу, — первым делом вымолвил звонарь, когда мы, избитые, наглотавшиеся соленой воды, поднялись на ноги.
Но ведь все обошлось благополучно! И лодка как будто цела.
В подступивших к самой воде зарослях мы разведи костер и устроили привал, чтобы обсушиться и залечить свои ссадины. Потом свернулись калачиком, намереваясь поспать.
В жизни не проводил более беспокойной ночи! Оказалось, что па этом берегу обитают тысячи раков-отшельников. Всю ночь напролет они бродили туда и обратно, таская за собой свои краденые раковины, некоторые величиной с детскую ладонь. Самые нахальные упорно пытались протиснуться под нами, карабкались через пас, щипали и кусали без всякой жалости. И когда рассвело, наше терпение лопнуло, мы решительно стряхнули с себя всех мучителей. Они обиженно спрятались в свои домики.
Тиоти, Лив и я стали искать на берегу что-либо съедобное па завтрак, а Фаи, вооружившись веревкой из луба борао и большим ножом, пошел в лес. Вернулся он с большой ношей апельсинов и плодов хлебного дерева. Кроме этого мы зажарили несколько съедобных улиток прямо в их раковинах.
А затем отправились на разведку. Некогда в Таиокаи было многочисленное население. Но злой рок преследует эти острова… Целый горный гребень обрушился и засыпал долину вместе с хижинами и людьми. От сотрясения родилась могучая волна, которая прошла не один десяток километров по океану. И по сей день долину Таиокаи окружают страшные, крутые обрывы. Большая часть долины завалена глыбами, лишь кое-где можно увидеть остатки древних стен; сверху гигантская осыпь поросла кустарником.
Неприятное место… Ночью мы то и дело слышали грохот камнепадов.
У подножия горы Фаи отыскал вход в грот. Широкая расселина уходила во мрак. Согнувшись, мы нырнули туда и пошли вниз по камням. Вдруг в темноте, озаренный светом из трещины позади нас, засветился белый песчаный бережок. Над головами навис тяжелый свод, неровный, волнистый, словно окаменевшее море. Все здесь казалось таким огромным… Белый песок омывала кристально чистая вода подземного озера, которое терялось в непроницаемой тьме. Ваи По — "Ночная вода"… Наши друзья были поражены не меньше нас: такие большие гроты на здешних островах редкость.
Тиоти и Фаи принесли в грот маленькую лодку и благоговейно спустили ее на воду. Лив и я, захватив с собой керосиновый фонарь, отправились путешествовать в таинственный мрак. Казалось, в гроте звенит колокольчик. Из тьмы доносились чистые мелодичные звуки. "Кликк-клакк-клюкк-клокк-кликк…" Волны от лодки разбегались по зеркальной глади и извлекали чудную музыку из невидимых каменных степ. Призрачный свет из входа падал на Фаи и Тиоти; они сидели на корточках на берегу тихо, как мыши. Несколько серебристых полосок протянулись по синей воде, смешиваясь с красными и желтыми бликами от нашего фонаря.
Красота грота произвела на нас незабываемое впечатление.
Но вот за черным выступом исчезли Фаи и звонарь, пропали все краски. Теперь со всех сторон нас окружал плотный мрак, и огонек фонаря казался таким крохотным, беспомощным… Напоследок наши друзья успели еще крикнуть нам что-то про табу и про морских чудовищ.
Мы гребли не спеша, и лодка скользила медленно-медленно. Лучше быть осторожным: еще попадешь в какое-нибудь течение. Да мало ли что еще может случиться.
Мелодичный звон прекратился, теперь было слышно только, как падают капли со свода. Мы зачерпнули воды и отпили глоток. Холодная, удивительно вкусная, чуть солоноватая. А ведь мы, наверно, были ниже уровня моря.
Лив взяла заложенный за ухо цветок тиаре и бросила в озеро. Цветок замер на месте: у поверхности совершенно не было течения. А лодка уходила все дальше, дальше… Когда же кончится грот? Вдруг мы больно стукнулись обо что-то головами. Свод опустился совсем низко. Пригнулись, но и это не помогло; вскоре нос лодки уперся в скалу.
Однако "Ночная вода" уходила под скалой еще дальше.
Предание рассказывает, что где-то здесь, если нырнуть, можно найти скрытое отверстие. Широкий ход ведет в другую пещеру, которая расположена выше и не затоплена водой. Будто бы там, пока обвал не погубил жителей Таиокаи, жил шаман здешнего племени. И будто бы скелет шамана и по сей день сидит в каменном кресле у алтаря в подземном святилище. Мы не решились проверить…
Когда мы выбрались наружу, наши смуглые друзья озабоченно глядели на небо. Тиоти почесал затылок. Плохо дело. Конец хорошей погоде. Теперь опасно выходить в море на каноэ. Увы, погожие дни редки на Фату-Хиве…
Надо было спешить. Мы побежали к лодке и снесли ее к воде. Нам стоило немалых усилий прорваться через бушующий прибой. А теперь — назад, к долине Омоа, к нашей бамбуковой хижине, скорее, пока шторм еще только начинается.
Мы отошли подальше от берега, а Фаи вел свою лодчонку так близко к скалам, что ее швыряло то в одну, то в другую сторону. Валы стали еще выше и круче прежнего. И хотя мы выбросили за борт все наши запасы фруктов, казалось, нас вот-вот захлестнет.
Был уже вечер, когда мы опять поравнялись с Хана-ваве. Солнце погрузилось в океан, оставив в небе красочное зарево. Потом и оно погасло, наступила ночь. Тьма-тьмущая, хоть глаз выколи.
Водная равнина становилась все более пересеченной. Мы то скользили вниз по крутому склону, то с трудом карабкались вверх, то скатывались наискосок в пропасть. Приятного мало… Ничего не видно, вдруг откуда-то из мрака на тебя обрушивается стена холодной воды. Давай вычерпывай! А через минуту лодка уже опять почти полна. И так все время… Мы вычерпывали воду, словно заводные. Потому что если уровень воды в лодке сровняется с уровнем океана, дело будет совсем плохо! Нет, долбленка-то не потонет. На этот счет Тиоти нас успокоил. Знай греби, пока голова над водой торчит! А вот акулы… Они бы, возможно, и не стали нападать на нас, но после рыбной ловли в лодке остались следы крови, а кровь акулы чуют издалека. Стоит, например, сорваться в море раненому козлу — они тут как тут. Если бросить за борт рыбьи внутренности — тотчас налетят. Самые крупные из них были втрое длиннее нашей лодчонки. Маркизские акулы вообще известны своей величиной.
Ох, какая это была долгая ночь… Кромешный мрак, пляшущая на волнах лодка…
Наконец мы подошли к долине Омоа. Издали приметили свет в хижинах; кроме того, Пакеекее, ожидая нас, развел между пальмами огромный костер.
Идем к берегу, от которого нас отделяет громогласно ревущий прибой. По-прежнему тьма, только на берегу колышется пламя и мечутся, подбрасывая хворост в костер, полуголые фигуры.
Мы ждали команды звонаря.
— Пошел!
Нас подхватил несущийся к берегу вал. Выше, выше… Вокруг все кипело, бурлило. С огромной высоты мы вместе с волной обрушились на гальку. Тотчас сильные руки извлекли нас из грохочущей воды и отнесли к костру. С благополучным возвращением!
— Кончилась хорошая погода, — вздохнула Лив.
— Да, счастливо отделались, — подхватил я, выходя на нашу тропу.
— Табу, — буркнул нам вслед Тиоти.
Глава седьмая
ЗА КУЛИСАМИ ПАЛЬМ
Нравы и болезнь «фе-фе». С факелами за летучими рыбками. Пленники в собственной лачуге. Наши лесные приятели. Дети рая. Тяжелые дни. Отец Викторин бежит с острова. Прощай, бамбуковая хижина. На шлюпке в открытый океан. Высадка на берег Хива-Оа

Наступила пора путешествий. Мы бродили то по горам, то по дебрям, а в хорошую погоду несколько раз ходили на лодке в Ханававе. Здесь нас привлекала пещера на отвесном склоне, вход в которую, наполовину заложенный камнями, был виден с моря. Но пробиться в нее снизу нам не удалось, а сверху пути вообще не было.
В прошлом племена Ханававе и Омоа постоянно враждовали и вооруженные стычки между ними были в порядке вещей. Воины шли за советом к своему шаману, и тот в состоянии одержимости плясал, стуча подвешенными к поясу черепами и выкрикивая бессвязные фразы. Все, что он говорил, толковалось как наказ высших сил.
Однажды шаман омоанцев предупредил, что люди из Ханававе идут на Омоа войной. Несколько человек, захватив все свое имущество, поднялись в пещеру, и когда на море внизу показались лодки врага, они из засады сбросили на них тяжелые обломки скал. Надежная баррикада защищала храбрецов от копий и камней. Но вышло так, что они потом не смогли выбраться из пещеры и остались там навсегда. Так рассказывают островитяне…
Не удалось и нам проникнуть в пещеру, зато мы нашли много интересного в горах и в дебрях. Наскальные изображения, захоронения в чаще леса… А в верхней части долины Ханававе, на безлесном гребне, покрытом травой в рост человека, были культовые сооруже-ния из кроваво-красного камня. Мы наткнулись на них, пробираясь сквозь гущу травы по тропам, вытоптанным дикими свиньями.
Па остром гребне стояли высокие платформы и стены из обтесанного красного камня. Здесь же были воздвигнуты идолы метровой высоты, около ног которых лежали грозные каменные топоры для обезглавливания людей. Наши проводники и не подозревали о существовании этого памятника старины.
Но недолго пришлось нам бродить по горам и подолам. Болезненные нарывы и язвы на ногах приковали нас к дому. Они появились уже давно, но до сих пор мы как-то на них не обращали внимания. Теперь стало совсем худо. У Лив было три нарыва почти с ладонь, у меня появилось много болячек на ступнях и икрах. Стоило замочить ноги в море, как они вздувались, словно шары. А в лесу от непрерывных дождей все размокло, и мы ходили по колено в грязи.
Поэтому мы предпочитали отсиживаться в бамбуковой хижине и промывать болячки горячей водой. Как-то к нам пришел Тиоти, принес свежей рыбы. Он заверил нас, что болезнь «фе-фе» можно вылечить за одну неделю, нужно только применить нужное лекарство, и отправился в лес за лепестками желтых цветов борао. Из них мы сварили густое зелье, которым и смазали болячки. Да, прав был Ларсен из Мосса, когда предостерегал нас…
Зелье вытянуло гной, но остались незаживающие язвочки.
Мы бинтовали ноги пальмовыми листьями и сидели дома, выходя только за плодами. И лишь иногда мы позволяли себе развлечься. Как-то нас позвали на совершенно необычную рыбную ловлю. Такой потехи я еще никогда не видывал!
Поужинав у Пакеекее, мы дождались темноты и пошли на берег. Море было настроено добродушно. Позади нас качались черные пальмовые кроны, над головой сверкало звездное небо… Спустили на воду две лодки; в одну сели Пакеекее и Лив, в другую — звонарь, Пахо и я. На носу лежали трехметровые связки теиты. Из тонких сухих стеблей этой травы, связанных вместе, получались великолепные факелы. Выйдя в залив, мы их зажгли.
Трескучее пламя, рассыпая искры в ночном воздухе, прочертило на воде световые дорожки. У лаково-черной поверхности кишели какие-то мальки, но нас они не занимали. Мы пошли вдоль крутого берега дальше, в сторону Тахаоа. Беспокойное пламя причудливо освещало наши лодки, во мраке вверху хрипло кричали гнездящиеся на скалах морские птицы.
Вдруг появились летучие рыбки. Будто сверкающие снаряды вырывались из тьмы и, пролетев мимо нас, погружались в немую пучину. Их-то нам и предстояло ловить! Не удочкой и не острогой — а хватать на лету, словно птиц! Что тут было… Трескучие факелы делали свое дело: множество рыбок со всех сторон летело на свет. Неслись, точно стрелы, пущенные хорошим луком; только и слышно было, как они ударяются о борта.
Глаза берегите! — крикнул звонарь.
Уместное предупреждение: блестящие стрелы проносились возле самой головы…
Тиоти размахивал в воздухе сачком на длинной палке. Есть! Одна рыбка шлепнулась из сачка на дно лодки. Отсюда она уже не могла взлететь. Летучая рыбка — словно планер: чтобы подняться в воздух, ей нужен разгон, и она набирает скорость в воде.
Я поднял пленницу. Длиной с локоть, спина черная, брюхо белое, по бокам серебристо-голубые полоски… Длинные пятнистые «крылья», громадные черные глаза — словно шары по бокам головы.
Еще одна! Вот это да! Вдруг я увидел рыбу, которая неслась прямо на меня. Удар в живот, и я повалился с банки на дно. Пахо тоже чуть не упал — от смеха. Прямое попадание! Ничего, зато теперь у нас уже три рыбы. С другой лодки тоже доносился хохот: видно, и там кому-то досталось!
А рыбки все летели — словно озорные мальчишки затеяли игру в снежки. Все освещенное пространство вокруг лодки пронизывали блестящие снаряды. У звонаря от меткого попадания слетела с головы шляпа. Мы хохотали и размахивали руками, хватая рыб в воздухе и в воде, приседали и извивались, мокрые от брызг и шлепков. Тиоти как мог защищался своим сачком.
Когда от факелов остались одни хвостики, мы надели их на палки, чтобы уж горели до конца. Но вот, шипя, погасли в воде последние искры, и тотчас рыбьи гонки прекратились. Снова только свет звезд да хриплые крики птиц…
У наших ног лежало тридцать пять рыб. Большинство из них сами влетели в лодку. Богатый улов! Но звонарю все было мало. Теперь Тиоти хотел добыть као-као. Довольно скоро к нашему прежнему улову прибавились четыре здоровенные рыбины с головой, напоминающей длинный клюв. Но пятая заставляла себя ждать. Я чуть не заснул.
Сильный стук веслом о борт заставил меня встрепенуться. Поймал? Нет, не клюет. Снова потянулось ожидание. Вдруг Тиоти опять взял весло и принялся стучать, так что гул пошел над водой.
— Зачем ты так делаешь? — не удержался я.
— Рыбу бужу, — объяснил звонарь…
Шла неделя, другая, третья, а «фе-фе» все не унималась. Напротив — язвы увеличились, и боль порой была такая, что мы не могли встать с постели.
Ели что придется. Дождь лил не переставая, почва в лесу превратилась в сплошную жидкую грязь, воздух насытился испарениями. Сырость была страшная. Наша хижина покрылась плесенью, нары стали гнить. Кругом стояли лужи, и комары размножались в невероятных количествах. Вот для кого здесь был рай!..
Комарье тучами окружало хижину. А ветер помогал им проникать даже сквозь сетку на окнах. С утра до вечера мы их давили, обеспечивая работой полчища крохотных мурашей, которые подъедали с пола комариные трупы. Казалось, все насекомые дебрей ищут спасения в нашей хижине! Всюду, всюду что-нибудь копошилось. Даже в постели завелись муравьи. Три семьи облюбовали наше ложе из листьев.
Чтобы не шлепать босиком по грязи, мы купили в «магазине» Вилли тапочки; они были такого размера, что пришлось их привязывать к ногам. Однажды утром Лив побрела за водой к роднику; вдруг раздался ее дикий вопль. Огромный — чуть ли не с мышь! — косматый паук забрался к ней в тапочку и основательно укусил ногу. Хорошо еще, что укус оказался не опасным.
А затем началось самое худшее… Из щелей в стенах посыпалась мелкая, как мука, белая пыль. Она покрывала пол, собиралась в лепешки на стенах, роилась в воздухе. От нее нигде не было спасения. Ляжешь спать, а наутро тебя словно снегом занесло. Мы дышали пылью, глотали пыль…
Иоане и его друзья все-таки подвели нас. Ведь они должны были знать, что на зеленый, молодой бамбук нападет жучок. Только желтый бамбук, да еще вымоченный неделю в соленой воде, годится для постройки. Видно, они не верили, что мы задержимся здесь надолго.
А пыль все летела и сыпалась, сыпалась и летела. Что ни день — генеральная уборка. Но толку мало. Кончилась бамбуковая идиллия. Ее уничтожили пыль и комарье, пауки и плесень.
Правда, было у нас одно утешение — Пото. На маркизском диалекте «пото» — «кот». Наш Пото был чудесным полудиким котом. Полосатая шубка, пушистый хвост, мягкая походка хищника… Он пришел к нам, надеясь поохотиться на мышей и ящериц. Из окна мы хорошо видели, как он в первый раз крался к нашей кухне. Внимательно все обнюхал, подъел крошки от кокосового ореха, еще что-то…
На каменном столике стояли в ореховой скорлупе густые сливки, которые мы готовили сами. Лив натирала теркой кокосовый орех, получившуюся массу заворачивала в кокосовую пеньку и выжимала жирный сок. Он играл немалую роль в нашем домашнем хозяйстве и отлично заменял настоящие сливки.
Вскочив на стол, Пото сунул мордочку в скорлупу. За всю свою кошачью жизнь он не пробовал такой вкусной еды! Вылизав миску начисто, кот аккуратно умылся лапками и игриво покатался на камне. Потом, видно, услышал какой-то шум из хижины, так как в следующий миг его уже не было.
Но назавтра Пото явится снова и смело прыгнул на стол, где его уже ожидали сливки. С тех пор он стал наведываться к нам каждый день.
Как только Лив садилась тереть орех, из леса выхолил Пото. Любопытный кот никак не мог надивиться на странное двуногое создание. Он ложился на каменную ограду и смотрел оттуда на Лив. Но мало-помалу дикарь становился все более ручным и наконец до того осмелел, что стал подкрадываться за кокосовой массой прямо к ногам Лив. Однако тут стали ревновать куры, наши единственные домашние животные — две молодые курицы, которые всегда расхаживали с таким важным видом, будто они были петухами, и постоянно дрались между собой так, что только перья летели. И когда Пото посягнул на крошки, которые драчуньи считали своим достоянием, ему пришлось отступить. Казалось, в лес летит пушистый мяч, преследуемый по пятам разгневанными птицами.
Чтобы умиротворить девиц, мы раздобыли в деревне петушка. Но когда мы опустили отважного рыцаря на землю между двумя «вахинами», новый красавец встретил далеко не любезный прием. Они задали ему такую взбучку, что он еле унес ноги в лес, где его появление очень обрадовало диких собак… А наши отнюдь не женственные куры, выпятив грудь, вышагивали по двору, чрезвычайно гордые своей победой. Этак они скоро даже нам перестанут дорогу уступать!..
Они неслись, но явно стыдились этого. Чтобы найти яйцо, нам приходилось обыскивать чуть ли не весь лес. Найдешь, а оно уже протухло… Но мы все им прощали: все-таки хоть какая-то компания!
Бывало, только удивишься: что это на дворе пусто — как уже из леса или из-за каменной стены бесшумно крадется Пото, а откуда-то сверху, громко хлопая крыльями, летят воинственные подружки.
У Пото был закадычный друг, которого мы назвали Леопардом. Леопард был примерно того же возраста, только порыжее и более робкий. Пото каждый день приводил друга к участку и преспокойно шагал через двор к кухонному навесу. Оттуда он оглядывался на Леопарда, как бы зовя его, но тот робко жался к ограде. Как ни заманивал Пото приятеля, рыжий дальше стены не шел, предпочитая издали смотреть, как Пото с наслаждением уписывает вкусное угощение — разумеется, если в это время не было поблизости кур.
И еще один приятель завелся у нас — ящерица Гарибальдус. Большая, с новорожденного котенка, она лихо расправлялась с насекомыми, не отступая даже перед коварной тысяченожкой. Нельзя сказать, чтобы Гарибальдус охотилась бесшумно: она топала по стенам так, что источенный жуками бамбук жалобно скрипел, посыпая нас пылью. А когда мы ложились спать, Гарибальдус устраивала на потолке целый концерт: пищала, шипела, квакала.
Родители явно не приучили ее к чистоплотности — с потолка нет-нет да и летели вниз лепешечки, и почему-то всегда на мою голову! По-моему, она это делала нарочно. Сколько бы я ни менялся местами с Лив, это меня не спасало. А стоило мне ударить кулаком по столу и пригрозить, что я сейчас посажу безобразницу в формалин, как Гарибальдус, весело хохоча, исчезала в какой-нибудь щели в потолке.
За все то время пока мы не выходили из дому, привязанные к хижине болезнью, у нас не было другой компании. С четвероногими и пернатыми друзьями были связаны все события нашей однообразной жизни; островитяне неделями не появлялись в долине. В листве деревьев обитали птахи, а по соседству с нашим участком ходила дикая лошадь с жеребенком, но они были уж очень робкие. А однажды к нам во двор забрели крабы! Мы даже поймали несколько штук. Вдали от моря, в сердце острова! Для меня это было совершенной новостью.
Были у нас и враги. Самые страшные из них — комары. Комары и отец Викторин. Мы прятали ноги в мешки, кутались в пледы — и все равно кожа была бугристой от жгучих укусов. Порой нами овладевал садизм. Мы давали комарам как следует напиться крови. Раздувшись, словно шары, они летели, сытые, довольные, к окну. Но теперь ячея сетки не пропускала их! И мы с наслаждением расправлялись с кровопийцами…
Часто за окном гудела целая туча комарья. Стоило приставить к сетке палец, как они тысячами бросались на добычу, вытянув свои хоботки. Подразнив их всласть, мы хватали какого-нибудь мучителя за хоботок и втаскивали внутрь. Вот бы отца Викторина так…
Нередко боль в ногах заставляла нас лежать. Иногда мы все-таки выходили, прихрамывая, на добычу в лес. Но вдруг обнаружилось, что с фруктами дело плохо! Все плодоносящие бананы срублены, у хлебного дерева наступила передышка. Ох, как нам хотелось есть! "И какая же была радость, когда звонарь приносил рыбу! Только тот, кто голодал, поймет нас. Обычно человек в цивилизованном обществе настоящего голода не знает, он жалуется на голод перед обедом, когда его одолевает аппетит. Для него еда уже не то неземное наслаждение, каким она, наверно, была в прошлом.
Рыба-меч… С каким удовольствием мы ее ели!.. Конечно, можно приготовить дорогое, изысканное блюдо. Безусловно, будет вкусно. Но и только. Тот, кто по-настоящему голоден, готовит куда проще, зато испытывает такое наслаждение, о котором никакой лакомка и мечтать не может. Трапеза изголодавшегося — сплошное блаженство и счастье.
Совершенно неожиданно выяснилось, куда исчезают все плоды. Как-то рано утром, еще до рассвета, мы увидели в лесу целый отряд вахин и молодых парней го главе с нашим старым приятелем Иоане! В мешках и прямо в охапках они тащили плоды, за которые мы честно уплатили вперед. И ведь им эти плоды были совсем не нужны. Это делалось нарочно… Они обобрали даже кокосовые пальмы возле самой хижины. Порядком разозленный, я догнал отряд Иоане возле реки, где они грузили мешки на лошадей. Неплохо поживились!..
— Иоане, — сказал я, — ведь эти плоды мои.
— Аоэ,
[532] — беззастенчиво солгал Иоане. — Я собрал их на соседнем участке.
Мы оба были настроены одинаково агрессивно. Но спорить бесполезно. Против меня будет все племя во главе с вождем.
А еще через несколько дней я застал Иоане, когда он слезал с кокосовой пальмы возле нашего дома. Я бросился к нему. Он зло посмотрел на меня.
— Это наш участок, — сказал я.
— А пальма моя! — крикнул Иоане.
— Мы же заплатили за пользование участком и за фрукты.
— За фрукты платили, а за орехи нет.
— Нет, уплачено за все съедобное и за орехи. Мы не можем обойтись без орехов. К тому же фрукты тоже все исчезли.
Я с трудом сдерживал себя.
— Кокос — не еда, кокос мои деньги! — завопил он.
Не знаю, чем бы это кончилось, если бы Иоане не
ушел, буркнув, что я могу забрать оставшиеся орехи.
Что делать. Мы не дома. Придет судно — можем послать жалобу. Но через сколько месяцев се рассмотрят? Через сколько лет пришлют решение? К тому же островитяне будут настаивать на своем — попробуй установи, кто прав. Всем известно, что белые грабят полинезийцев. Так что лучше помалкивать… Но ведь орехи нам необходимы, это наша главная пища!
Жизнь в дебрях становилась невыносимой. Без конца хлестал ливень, куда-то пропали все раки, полчища комаров безжалостно преследовали нас. Их развелось столько, что островитяне не могли работать в долине — заготавливать копру. Скорее бы явился корабль, который мог бы забрать нас из этого ада и доставить туда, где есть врач, способный подлечить наши язвы!
Одна женщина в деревне наступила на рыбью кость. Ранка быстро разрослась, распространившись на всю ступню. Пришлось ей потом на Таити отнимать ногу…
Как мы ждали корабля… И однажды поздно вечером, когда мы сели ужинать, издалека донесся гудок парохода. Там, за лесом, в океане — пароход! Не мудрено, что нам в ту ночь было не до сна. Задолго до рассвета мы достали нашу самую лучшую одежду, от которой давно успели отвыкнуть.
Я даже оторопел, когда взглянул в зеркальце, чтобы завязать галстук: он совершенно исчез под косматой дикарской бородой. На плечи длинными прядями падали волосы. Лив-то что — ее только красили длинные волосы. Ну да неважно! Хотя смешно, конечно, с непривычки. Сами виноваты — отдали свои бритвы и ножницы…
Натянув на ноги мешки для защиты от грязи, мы поплелись вниз по долине. Не доходя до деревни, мешки сняли и пошли по главной улице во всем параде. Фатухивцы ахнули.
Но что это? Синяя гладь океана, белые гребни волн — и никаких пароходов! Ничего — хоть бы шхуна была!
Пакеекее рассказал, что ночью он видел огни, но пароход прошел мимо… Он тоже приуныл. Этому мученику веры, которого преследовали все соплеменники, приходилось не сладко. Соседи переносили его межевые камни, устраивали ему всевозможные козни. Только что вождь оштрафовал священника за кражу феи. Это Пакеекее-то, который не то что украсть, а даже солгать не способен? Я рассказал ему о том, как Иоане воровал наши фрукты и уверял, что они собраны на соседнем участке.
Се па бьен!
[533] — ответил Пакеекее. — Соседний участок — мой!
Звонарь сообщил нам еще одну неприятную новость. Сын Иоане— Хаии, страдающий слоновой болезнью, да-да, тот самый, который подмешивал мочу в апельсиновый сок, посылаемый священнику, поймал на берегу скорпиониху с детенышами и заготовил для нас полную коробку этих тварей. Так что нужно быть начеку…
Положение в деревне было бедственное. Местные жители целиком зависели от поставок риса и муки, а подвалы Вилли уже давно опустели. «Тереора» привезла очень мало продуктов. В Ханававе тоже голод, туда ходила лодка, чтобы узнать, как дела. И там ждут парохода…
Дни складывались в недели, недели — в месяцы, и когда прошло три месяца без каких-либо перемен, мы решили, что все ясно. Последние новости о том, что происходит в мире, были шестимесячной давности. Тогда шла война в Испании и в Китае. Видно, теперь началась мировая бойня. От островитян мы слышали, что во время первой мировой войны они годами были оторваны от внешнего мира. За копрой в то время никто не заходил. На Фату-Хиве тогда даже не знали о том, что был разрушен Папеэте.
На четвертый месяц тщетных ожиданий в деревне стало совсем плохо. И особенно отвратительно чувствовал себя отец Викторин. Он решил любой ценой покинуть Фату-Хиву.
До ближайшего острова — больше ста километров пути по бурному океану. А самым крупным судном на Фату-Хиве была старая рассохшаяся шлюпка, которая лежала под пальмами на берегу. Она принадлежала Вилли Греле, но он давно забросил ее и решил купить себе новую лодку.
По приказу отца Викторина фатухивцы законопатили щели в шлюпке, провели ее через полосу прибоя и поставили на якорь в бухте, чтобы разбухли доски. Затем они срубили в лесу несколько тонких деревьев для мачты и оснастили ее огромным парусом, который, на наш взгляд, подходил для более крупного судна, чем открытая шлюпка.
В эти дни океан бороздили буйные валы. Дул сильный ветер — правда, в нужном направлении, на север, к ближайшим от Фату-Хивы островам Хива-Оа и Тахуата.
И однажды утром, таким же хмурым, как и многие предыдущие, отец Викторин решился. Вместе с командой гребцов он вышел на подлатанной скорлупке в океан. Нельзя было не воздать должное его отваге. Огромные волны швыряли лодку вверх-вниз, она то и дело исчезала за водяной горой, и нам казалось — навсегда. Но всякий раз ее выносил вверх гребень очередной волны. И белый парус затерялся вдали. А мы стояли на берегу, волнуясь за смельчаков…
Отец Викторин хотел остаться на Хива-Оа, главном острове архипелага, а его спутники должны были вернуться с рисом, мукой, сахаром. Вернутся ли?.. Наконец через неделю наблюдатель на берегу сообщил, что видит шлюпку.
Могучие волны легко вынесли ее на берег. Команда была совершенно измотана. Им пришлось грести всю дорогу. Мачта сломалась, из днища вышибло доску, и они немало потрудились, вычерпывая воду, пока длилась починка. Отец Викторин добрался благополучно, но из продуктов они раздобыли только небольшой мешок муки.
Путешественники еле добрались до своих хижин и заснули как убитые. Гребцы привезли с собой известие о том, что никакой войны нет, виноваты спекулянты копрой…
Положение становилось совершенно отчаянным. Суда не появлялись.
Ко всему прочему стало окончательно ясно, что наши ноги под угрозой ампутации. Даже островитяне не могли смотреть на них без ужаса. Теперь, когда патер уехал, большинство фатухивцев восстановило с нами добрые отношения. Вилли, честный католик, долго был в затруднительном положении, но теперь и он всячески старался нам помочь.
И вот мы созвали совет. Выбора никакого не оставалось: надо отправляться в путь. Вилли и еще несколько человек решили плыть за мукой и рисом и согласились взять нас с собой. Хижину пока можно запереть.
Но как сохранить наши коллекции от разграбления? С собой мы можем захватить только чемодан с одеждой, а черепа, идолов и древние изделия придется оставить… Что, если еще раз выступить в роли фокусника? Я позвал к себе в гости самых «надежных» фатухивцев и дал им понюхать формалин. Они зачихали, запрыгали, держась за нос, а я объяснил, что это смертельный яд, им будет облит весь пол хижины. Жидкость, которая убивала даже тысяченожку, произвела сильнейшее впечатление. Тысяченожку! Ведь ее хоть режь на тысячу кусков, хоть топи — все равно живет. А эта жидкость ее умертвляла. Для большей убедительности я, прежде чем поливать пол, заткнул ватой нос и завязал глаза. Потом молнией выскочил наружу и захлопнул дверь. Через несколько минут все помещение заполнит смертоносное испарение!..
И простившись со своим первым жильем, провожаемые тучей комаров, мы побрели вниз по долине, совершенно уверенные в том, что наши коллекции хранятся надежно, как в сейфе.
Эту ночь мы провели у Вилли. Ни одного комарика!.. Мы уже успели забыть, что такое спокойные ночи. Точно всю жизнь прожили в лесу.
Под утро нас разбудил собачий лай. Одновременно из леса вынырнуло несколько фонарей — это собиралась команда. Сегодня — в путь. Как-то погода? По ночному небу мчались тучи. Значит, в океане сильное волнение. Подождем немного…
Было холодновато; поставили чай, чтобы согреться и разогнать сон. Странно было сидеть в окружении старых недругов. Ни звонаря, ни Пакеекее… Зато вместе с нами пил чай Иоане. Он беспокойно поглядывал на небо. Накрапывал дождь.
До чего же прибой грохочет! Никогда еще мы не слышали такого шума. От холода и страха по телу бегали мурашки.
Кажется, светает? Да, утро теснит ночь. Вилли встал и распорядился: "Хамаи!".
[534]
Итак, в путь!.. Приступаем к безумному предприятию. Но ждать на острове — еще хуже. Мы вереницей спустились на берег, и тут все сомнения и колебания вытеснил из головы оглушительный рев прибоя. Искусные гребцы доставили нас на каноэ к шлюпке, которая стояла на якоре в бухте, и вернулись за другими пассажирами. Последний заход сделан, а на берегу еще стоит кто-то, отчаянно размахивая руками. Это полукитаец из Ханававе — он тоже пресытился Фату-Хивой. Но у нас все места заняты, а он притащил все свое имущество, да к тому же еще свинью и несколько кур! И смешно, и жалко человека. Ему так хотелось плыть с нами, но шлюпка и без того перегружена. Борта еле-еле поднимались над водой. По правде говоря, нам с Лив вся эта затея вообще казалась безрассудной. А впрочем, ведь в прошлый раз все обошлось благополучно.
Под банками лежали запасы бананов, на носу стоял бидон с пресной водой. Если все будет хорошо, то мы при благоприятном ветре за- день доберемся до цели. Правда, у нас нет ни карты, ни компаса, но достаточно с самого начала взять верный курс и идти в этом направлении до тех пор, пока из-за горизонта не появятся горы Хива-Оа. Вот если опустится туман, тогда мы пропали — не заметим, как окажемся за пределами архипелага.
Перегруженная лодка угрожающе кренилась. Фатухивцы еще раз проверили направление ветра. Все в порядке: пассат дул нам прямо в сниму.
Нас было одиннадцать. Роль капитана исполнял старик Иоане; он сидел на корме, держа рулевое весло. Рядом с ним на чемоданах и мешках пристроились Вилли, Лив и я. Впереди сидели гребцы: энергичные черты лица, закаленная обветренная кожа, смуглые торсы, тугие мышцы. Молоток и гвозди наготове — на тот случай, если не выдержат доски в днище.
Иоане, облаченный в свое обычное одеяние — соломенную шляпу, белые шорты и майку, нетерпеливо ждал. Казалось, он высечен из камня, только лицо улыбалось волнам и ветру. Все готово. Иоане встал, обнажил голову, перекрестил грудь и лоб. Гребцы, суровые, торжественные, сидели опустив головы, а Иоане медленно читал молитву на родном языке. Затем все еще раз перекрестились — церемония окончена.
Внезапно в шлюпке словно разразился ураган. Иоане командовал, размахивая руками, матросы кричали, прыгали туда и обратно через банки. Мигом выбрали якорь, в страшной суматохе подняли парус. Как только шлюпка не перевернулась! Все точно обезумели. Даже обычно спокойный Вилли вопил диким голосом, отдавая распоряжения.
И вот мы птицей летим по волнам. Фатухивцы сияли от радости. Казалось, они сбросили с себя оцепенение, кровь предков забурлила в их жилах. Иоане крепко держал руль, вызывающе задрав щетинистый подбородок.
Эх, и мчались же мы! Поневоле кровь закипит у сонных сынов дебрей. Если бы можно было все плавание совершить под прикрытием Фату-Хивы… По скоро нас начнет трепать еще больше. В открытом море волнение, наверно, будет посильнее.
И действительно. Когда вдали исчезли зубчатые скалы острова, мы вплотную познакомились с океаном… Могучие пенящиеся валы горой вырастали над нами, но шлюпка легко взмывала на них в тучах брызг. Вот смотрим сверху в глубокую серо-зеленую долину, а вот мы уже внизу, теснимые исполинскими валами. Да, тут туго пришлось бы и не такой скорлупке, как наша.
Мы не знали, что одновременно с нами борется со штормом и «Тереора». Волны обрушились на палубу шхуны, ворвались в кают-компанию и все переломали. А крохотное суденышко с Фату-Хивы уверенно справлялось с бушующей стихией. Мы стремительно перелетали с гребня на гребень.
Иоане был отличным рулевым. Оскалив рот в застывшей улыбке, он внимательно следил за волнами и умело вел лодку на гребень. Когда же нас накрывал водяной вал и шлюпка скрипела по всем швам, он только еще крепче вцеплялся в руль, не сводя глаз со следующей волны. Его окатывало водой, соль ела глаза, но он ни на миг не выпускал из рук руля. Великолепный рулевой!
Двое гребцов, помоложе, скорчились на дне шлюпки; товарищи безжалостно высмеивали моряков, которые поддались морской болезни. На раздувшиеся ноги Лив было страшно глядеть — все бинты сорвало и унесло за борт… Она лежала без сознания на мешке, и я удерживал ее изо всех сил, когда нас захлестывало.
Иногда вся шлюпка погружалась в морскую пену, и казалось, что мы вот-вот пойдем ко дну. Но лодка вырывалась из могучих объятий океана, отдав ему лишь несколько фруктов из наших запасов. Вычерпывать, живо! Ни секунды передышки, непрерывное напряжение. Не раз мне чудилось, что настал конец: когда мы неслись вдоль водяной стены, которая вздымалась все выше, выше и вдруг рушилась прямо на нас!.. Или когда мы с безумной скоростью перелетали через гребень и мгновенно скатывались в ложбину между волнами, так что весь корпус нашей лодки скрипел, вонзаясь в фонтаны брызг! На моих глазах шлюпка и ее команда совершали чудеса.
Но как бы высоко мы ни взлетали на могучих валах, даже с вершины гребня земли не было видно. Фату-Хива давно исчез, следующий остров еще не появился. Однако Иоане не сомневался в верности нашего курса,
Я плохо помню эти часы. То хлестал дождь, то жгло ослепительное солнце… Голые смуглые спины чернели на глазах: у меня и Лив вздулась пузырями кожа, обжигаемая морской солью и лучами солнца. Хорошо еще, что волосы отросли — а то бы нам не избежать солнечного удара. Помню, как вокруг нас в ложбине плясали, фыркая, черные дельфины. В следующий миг лодку подкинуло вверх, и мы потеряли их из виду.
Мы плывем все дальше и дальше… Уже день в разгаре. Сквозь полудремоту я услышал голос Иоане:
— Мотане!
Надо менять курс. Засуетились матросы, до тех пор вяло следившие за тем, чтобы волны не поломали рею.
Мотане… Необитаемый скалистый островок севернее Фату-Хивы. Он нам очень нужен для проверки курса. Мы должны пройти западнее его.
Теперь, когда мы видели на севере темную глыбу Мотане, стало как-то веселее на душе. Пусть нас по-прежнему швыряет во все стороны и окатывает водой с головы до ног — впереди земля! А вот левее Мотане на мглы проступили зеленые полосы долин на фоне гор. Это Тахуата — словно непрестанно отступающий мираж… Нам еще плыть и плыть до него: горы видно издалека.
Между Мотане и Тахуатой вдали из океана длинной серо-зеленой полосой вынырнул Хива-Оа. Я крикнул Лив, что появился наш остров. Но она не услышала моего голоса.
Самое опасное еще предстояло. В проливе между южной оконечностью Хива-Оа и Тахуатой проходит сильное океанское течение, поэтому здесь особенно большие волны. Наши гребцы хорошо это знали. Встревоженный Вилли посовещался с Иоане. Но другого пути все равно не было. Будем, насколько возможно, держаться правее.
Мы полным ходом неслись к бушующей полосе. Иоане сидел, как наэлектризованный, он напрягся, точно зверь перед прыжком.
Все зависело от него.
Крупнейшая на Хива-Оа долина называется Атуона. Тут расположена столица архипелага, в которой обитают двести-триста жителей. Когда-то в Атуоне жил губернатор Маркизских островов; это здесь исчезли статуи Тукопаны и его дочерей.
В долине разбросаны дощатые хижины, но их не заметно с моря за пальмами. Издали видны только лес и горы, полумесяцем окаймляющие широкую долину. Здесь прожил последние годы своей жизни художник Гоген. Его могила расположена на холме в долине.
На Маркизском архипелаге почти нет белых: на Нуку-Хиве их лишь двое — администратор и один миссионер; все остальные — жандарм Триффе, телеграфист Бельвас и владелец небольшой лавчонки мистер Боб — живут на Хива-Оа. Еще на Хива-Оа есть миссионерский пункт, где обитают священники и две монашенки-католички. И, наконец, здесь живет норвежец Генри Ли; у него плантация в одном из глухих уголков острова. Остальные жители архипелага — полинезийцы и метисы.
Островитянину, никогда не бывавшему на Таити, Атуона, в которой находились лишь кучка деревянных домов и заброшенная резиденция губернатора, кажется большим городом, верхом красоты, царством небесным.
Мы подошли к столице, когда солнце уже заходило.
Промокшие насквозь, смертельно усталые, мы вспоминали кошмарный путь в скорлупке среди неукротимых исполинских валов…
Идем к берегу, четко звучат слова команды, черные от загара гребцы убирают парус и мачту. Цель трудного плавания достигнута, но напряжение все еще не оставляло нас. Мы отлично знали, что рано чувствовать себя в безопасности. Подходить к берегу с наветренной стороны — дело серьезное.
Гребцы взялись за весла. Далеко в море простиралась отмель, и могучие валы с оглушительным ревом обрушивались на нее. Сегодня они докатывались до самого леса… Несколько островитян стояло на берегу, любуясь игрой могучей стихии.
Лив очнулась, но глаза ее безучастно смотрели на пенный хаос. Гребцы внимательно слушали
команду Иоане. Недомогавшие парни получили одно весло на двоих — настала пора напрячь все силы.
Решительно идем к кромке прибоя, но сзади нас вырастает грозный вал, и приходится отступать, отчаянно работая веслами. Шлюпка взлетает в воздух, точно мячик… Пронесло. Теперь молено опять вперед.
Иоане, с лицом разъяренного демона, срывающимся голосом выкрикивал команды. Без его указаний гребцы не делали ни одного движения. Он был весь внимание и энергия. Только его воля и опыт могли нас спасти.
Вот она, нужная волна!.. Иоане командует:
— Греби, греби, греби!
И гребцы, стиснув зубы, сверкая глазами, навалились так, что весла затрещали.
Через всю полосу прибоя стремительно нес шлюпку бурлящий гребень. Мы вцепились в борта. Вдруг двое парней выпустили свое весло.
Иоане взревел от ярости. Одним прыжком Вилли пролетел мимо нас и схватил весло; парни лежали плашмя на груде фруктов.
По Вилли опоздал. Шлюпка уже развернулась боком к волне, и Иоане ничего не мог сделать. Бросив весла, гребцы вскочили на ноги и нырнули за борт.
Я схватил Лив и тоже прыгнул в воду. Вилли последовал за нами. Нас подхватил кипящий вихрь…
Опомнился я, лишь когда ощутил под ногами песок, и тут же побежал вместе с Лив к берегу, спеша уйти от неумолимо надвигающейся с моря новой, отливающей стеклянным блеском стены. Борясь с кипящим водоворотом, мы вырвались из цепких объятий предыдущей волны и упали на траву.
А наши спутники облепили, словно муравьи, шлюпку, которую швыряло прибоем. Во что бы то ни стало надо спасти ее! Они поминутно исчезали в лавине воды, но лодку не выпускали. Плывя больше под водой, чем по воде, они вытащили на берег все мешки и чемоданы, а затем привели и шлюпку!
На всякий случай мы отнесли все подальше в лес. Весла, фрукты и прочие мелочи волны сами потом выбросят на берег…
Мы добрались до Хива-Оа.
Глава восьмая
НА ХИВА-ОА
Бездомные в деревне Атуона. Через горы в Пуамау. Исполинские боги в дебрях. Культовая площадка и неприступное укрепление. Мауриури — привидение Южных морей. Охота на кур. Удивительные судьбы. Ханаиапа — долина смерти. Комитет заседает

От берега в пальмовую рощу шла поросшая травой дорожка. Сперва мы увидели домик телеграфиста, потом, возле самой дороги, — футбольное поле, правда, не очень-то ровное. Все-таки цивилизация!.. И островитяне здесь были одеты более элегантно, чем наши друзья на Фату-Хиве. Шляпы набекрень, в уголке рта небрежно болтается сигарета — сразу видно, что сюда часто наведываются увеселительные яхты.
Местные жители смотрели на нас критически. Они уже успели узнать белых. Островитяне делили их на три категории: мундиры, требующие почтения, туристы — объект их насмешек и заготовщики копры, к которым они относились безо всякого уважения.
Мундир для них воплощал в себе правительство, власть. Власть, которая издает законы и отправляет островитян в тюрьму на Таити…
Турист, по их понятиям, олицетворение глупости. Он тратит жизнь на то, чтобы слоняться по белу свету и бросать деньги на ветер. За старого, потрескавшегося каменного божка он отдаст не только кучу денег, но даже шляпу и костюм!
А сколько глупых вопросов он задает! Турист не видит разницы между феи и другими бананами, годовалый ребенок — и тот толковее его. Ни дома, ни красивые наряды островитян его не привлекают: сойдя на берег, он сейчас же устремляется в лес — дескать, вот где красота!
Но турист — хоть миллионер. Не то, что заготовщик копры. Эти тоже белые, но совершенно нищие. Правда, голова у них варит лучше, они не донимают людей глупыми вопросами. И с кокосовой пальмой умеют обращаться не хуже островитян, и лихо пьют кокосовое вино. Но они приезжают не сорить деньгами, а выкачивать их. Туристы и правительственные чиновники смотрят на них свысока. Заготовщикам недостает благородства. В общем, какие-то странные люди…
Поскольку мы прибыли на скромном туземном суденышке и сошли на берег в такую дрянную погоду, нас встретили с холодком. А когда мы, одетые в мокрое тряпье, побрели по дорожке, еле передвигая ноги, местные жители вынесли окончательный приговор: это белые самого низшего разряда.
Точно так же оценил нас жандарм Триффе, когда мы вместе с Вилли и Иоане постучали в дверь его конторы. Ибо белый, который всю свою жизнь провел в одиночестве среди полинезийцев, перенимает их взгляд на вещи.
Тощий человек в пробковом шлеме смерил нас мутным взглядом. Не вынимая из кармана правой руки, протянул левую Лив для приветствия. Затем повернулся к нам спиной и пригласил Вилли и Иоане переночевать у него, если им некуда пойти. На нас он больше не глядел. Что ж, вид у нас действительно был не особенно представительный.
Пошли дальше…
В дальнем конце деревни мы отыскали лавку мистера Боба, просто Боба и все, или Попе по-местному. Он встретил нас в дверях — толстый, улыбающийся, в коротких штанах. Волосатые ноги, разрисованные татуировкой руки… Наколотый на руке голубоватый якорек отлично сочетался со всем его обликом: сразу видно бывшего моряка, который осел на суше.
Но и здесь места для нас не было. Мистер Боб сообщил, что у него уже поселились два фотографа, больше некуда. И исчез в доме, пробурчав что-то насчет несносной погоды. Действительно, шел дождь…
Только теперь мы начали понимать, что в чем-то сделали промах. Жить дикарем — не комильфо. Нас окружал все тот же мир, основанный на борьбе за преуспевание. Мы бросили вызов здешним белым тем, что не считались с правилами приличия. Задели их гордость, самодовольное убеждение, что они не отстают от времени, живут не в каком-нибудь глухом захолустье…
Мимо прошли наши гребцы. Их приютили в католической миссии.
Вилли был родственником вождя и устроился у него.
Вспомнив совет Пакеекее, мы отыскали дом протестантского священника. Грязный, темный барак на отшибе был, может быть, попросторнее большинства здешних лачуг, но ничуть не уютнее. Все, кто исповедовали веру священника-протестанта, могли поселиться в его бараке.
Навстречу нам вышел улыбающийся босой священник в черном пиджаке и полинезийской юбочке. Он пригласил нас присоединиться к пастве. Помню страшно фальшивое псалмопение, калейдоскоп странных лиц — затем мы повалились на только что освободившуюся кровать и уснули.
Когда мы проснулись, был ясный день. Сквозь разбитое окно лучи солнца падали на кучу кофе, разложенного для сушки на полу. В соседнем помещении кто-то стонал и кашлял.
Лив стиснула зубы… Нет, здесь оставаться невозможно.
Мы достали из «непромокаемого» чемодана нашу лучшую одежду. Она слиплась от морской воды. Ничего! Зато будем хоть немного похожи на туристов!
Лив — в шелковом платье и в туфлях на высоких каблуках, я — в костюме и шляпе отправились, прихрамывая, в деревню. Великолепный эффект! Никто не смотрел на пятна и складки. Теперь мы в глазах местных жителей были туристами! Совсем другое дело.
Боб стоял в лавке, окруженный горластыми покупателями. Он отпускал варенье, жидкость для волос, фуражки с блестящими козырьками. Одна женщина попросила полметра резинки. Боб приложил кусок резинки к мерке, растянул его до нужной длины и отрезал. Затем подал изумленной покупательнице коротенькую резинку…
— Мистер Боб, — обратился я к нему, — нам бы кое-что купить…
Боб смотрел на нас и не узнавал.
— Слушаюсь, мистер, — вымолвил он наконец, вежливо поклонившись.
— Варенье есть? — спросил я.
— Есть, мистер, сколько банок вам надо?
— Давайте все.
— Ты с ума сошел, — прошептала Лив, глядя, как Боб тащит одну за другой целые охапки банок с заманчивыми этикетками.
Тсс, — ответил я, — надо пустить пыль в глаза.
Все, — с почтением в голосе доложил Боб, заставив половину прилавка разноцветными банками.
— Еще что-нибудь вкусное есть? — осведомился я.
— Конфеты, леденцы и шоколад, — отчеканил Боб, стирая со лба пот и не сводя с меня почтительного взгляда.
— Несите весь запас, — распорядился я. — А как насчет табака?
— Какой вы курите?
— Я не курю, мне для подарков местным жителям,
Зрители, окружившие нас, буквально облизывались,
видя, как Боб достает добрую порцию жевательного табака и длинный нож.
— Столько? — спросил он, примеряясь ножом.
— Чего там резать, все давайте, — небрежно бросил я, чувствуя себя Ротшильдом в деревенской лавке.
— А это что? — продолжал я.
— Жидкость для волос, с Таити прислали.
— Давайте.
Тут и Лив нашлась и стала отбирать товары для себя. Когда весь прилавок был завален покупками, мы угомонились.
Я вытащил свой самый большой чек, готовясь уплатить.
Что вы, это не к спеху! — всполошился Боб и торопливо схватил чек.
Мы вышли из лавки, чувствуя себя князьями. Условились, что покупки нам пришлют. Куда? Этого мы пока сами не знали…
Положение было исправлено. Отныне на нас смотрели как на людей.
На дороге нам встретились «фотографы», о которых Боб говорил накануне. Он — худой, длинный, обвешанный аппаратами, на одной руке браслет из кабаньих клыков. Она — маленькая, юркая, как дикая кошка, с пышной шапкой ярко-рыжих волос.
Они были для нас словно оазис в пустыне. Мы тотчас подружились. Мадам Рене Шамон, французская журналистка, прибыла на Хива-Оа с кинооператором, чтобы сделать фильм об острове, где некогда жил Поль Гоген. Название фильма — "По стопам Гогена". Они уже сняли первые кадры — дорожку от берега в глубь острова, по которой ходил великий художник.
Мадам Шамон была женщиной энергичной, не признающей никаких препятствий. А увидев наши ноги и услышав, где мы ночевали, она буквально взорвалась.
— Се т'юн скандаль! — кричала она. — Вы находитесь в колониях моей страны, и сегодня ночью миссис Хейердал будет спать по-человечески, хотя бы мне для этого пришлось уступить свою собственную кровать!
Они поселились в пустующем домике губернатора, а к Бобу приходили только есть.
Мадам Шамон и кинооператор приплыли на «Тереоре» накануне утром. Они собирались поработать на Хива-Оа неделю-другую, пока шхуна набирает груз копры, а потом вернуться на Таити.
— А оттуда — домой! — воскликнул тощий оператор, счастливо улыбаясь. — Тысячу стройных пальм за одну сосновую иглу под снегом!
— Да уж, занесло нас в дыру! — бушевала Рене Шамон. — Вернусь во Францию—такую пародию сочиню!.. Назвали когда-то Южные моря раем, и теперь никто не смеет сказать правду.
На дороге показалась жалкая фигура Триффе, окруженная толпой островитян. Мадам Шамон подмигнула нам и налетела на беднягу, словно ураган. Он в отчаянии воздел руки к небу. И вот уже рабочие несут в пустующий бунгало, где некогда жил врач, кровати, постель, веники!
Через неделю мы сердечно попрощались с нашими заботливыми друзьями. Держа за руку нагруженного оператора, маленькая огневая француженка крикнула последнее "о ревуар" и прыгнула в шлюпку «Тереоры», пришвартованную к утесу, который заменял волнорез.
"Тереора" увезла также наших попутчиков с Фату-Хивы. За кормой шхуны прыгала на буксире старая лодчонка Вилли. Скоро они высадятся на уединенном островке, где стоит в лесу пустая бамбуковая хижина…
А нам пришлось остаться лечить ноги. Мы очень подружились с лекарем, недаром его, как и меня, звали Тераи! Я отлично помнил свое полинезийское имя: Тераиматеата.
Тераи родился на Таити. В тамошней больнице он научился оказывать первую помощь, лечить несложные болезни. И надо сказать, он хорошо знал свое дело. Тераи колол и резал, врачевал мазями, извлекал больные ногти, чтобы спасти кость от инфекции. Совсем молодой — ему было немногим больше двадцати лет — он весил килограммов сто с лишним. Внешностью Тераи напоминал своего соплеменника Теринероо и был таким же добродушным здоровяком. Умница, полный чувства собственного достоинства, верный традициям своего народа, нисколько не испорченный новыми временами.
Вся деревня в долине Атуона состояла из дощатых домиков, крытых железом; один Тераи построил себе бамбуковую хижину с крышей из пальмовых листьев. Больница была рядом; больные лежали прямо на полу и сами готовили себе пищу. Ни одного свободного места…
Мы питались у китайца Чинь Лу, который жил особняком. С каждой неделей наши ноги все больше заживали.
Тераи один олицетворял здравоохранение на пяти островах южной части архипелага. Но разве поспеешь всюду при такой разобщенности! Раз в месяц он садился на коня и отправлялся навещать глухие горные долины Хива-Оа. Несмотря на солидный вес, Тераи был лучшим всадником на острове и держал самых резвых коней. Пешком Тераи вообще не ходил: времени не было. Когда наставал срок делать «обход», он садился на неоседланного коня и вихрем мчался вверх по долине.
Однажды мы попросили Тераи взять нас с собой. Язвы заживали хорошо, и нам хотелось размяться. Он долго пугал Лив трудностями пути, но в конце концов сдался.
Рано утром, еще до восхода солнца, из долины Атуона отправились в горы четыре всадника: четвертым был один местный житель, наполовину полинезиец, наполовину китаец. Сперва мы проследовали вдоль побережья до следующей долины, а уже там начали подъем все выше и выше… Тераи отобрал самых лучших коней, они то и дело срывались в галоп, но мы их сдерживали. До
Пуамау далеко — сорок пять километров утомительного пути по диким горам. Да, мы снова были в сказочном горном крае и вновь испытали неописуемое чувство блаженства от общения с нетронутой природой. Тропа петляла в густом кустарнике, воздух благоухал, и солнце взбиралось по небу все выше и выше, освещая долину во всем ее великолепии. Веера пальм, пышные кроны деревьев. Словно зеленая волна омывала подножие гор. Над нами возвышалась покрытая растительностью высочайшая вершина острова. А далеко внизу — океан: сперва зеленоватая бухта, исчерченная белыми гребнями волн, затем сверкающий голубой простор до зубчатых контуров гористого островка Мотане, который словно плыл по волнам.
Белые птицы парили в воздухе, сине-зеленые ящерицы улепетывали с красной тропы, по которой ступали копыта наших коней.
В необитаемой долине дикие петухи кукареканьем приветствовали солнце. Весело ржали кони, чуя близость лугов, окаймленных тонкими стволами карликового железного дерева.
Я придержал коня, любуясь великолепным видом. Острые гребни, гряды, шпили были краями кратеров; внутри них простирались светлые луга, покрытые папоротником и травой теитой. Луга окаймляла темная зелень лесов. Узловатые стволы и косматые кроны пандануса, мощные зонты древовидного папоротника. Заросли борао перемежались с растениями, присущими только горам. А рядом круто вниз обрывались совершенно голые стены.
Отсюда океан казался особенно огромным, ему не было ни конца, ни края. Вон зеленые горы острова Тахуата, еще дальше — словно парусный корабль — Мотане. Каким крохотным выглядел с этой высоты островной мир Иоане, Тиоти и Пакеекее…
— Се жоли, — произнес чей-то голос за моей спиной.
Тераи тоже любовался горами.
— Что красиво? — Я удивленно взглянул на моего спутника.
— Горы, лес — все! Природа… Очень красиво.
Похоже, Тераи не такой, как все островитяне…
— А Папеэте? — спросил я. — Разве город не идеал красоты для вас всех?
— Для меня — нет, — ответил Тераи. — Прежний Таити нравился мне больше.
— И все-таки большинство его жителей переезжает в город.
— Да, — согласился Тераи. — Очень плохо. А как ведут себя девушки?.. Это хуже всего…
— Все девушки?
— Все…
— Почему?
— Деньги. Белые мужчины.
Тераи тронул коня, и мы двинулись дальше рядом.
— Посмотрите, — показал Тераи, — такой была прежде наша страна. И мы были счастливы. Наш старый король сочинил гимн Таити. "Я счастлив — цветок тиаре с Таити". Вот и весь текст!
Начался красивый лес; здесь по заросшей тропе можно было ехать только гуськом. Между кронами редко проглядывало солнце, лианы и низко нависшие ветки заставляли нас то и дело нагибаться. Среди зеленой листвы резвились почти не боящиеся людей удивительные птицы редкой расцветки.
…Мы обогнули лесистый утес. Прямо из скалы бил чистый родник, и ручеек сбегал вниз, в дебри. Отсюда открывался прекрасный вид; к тому же здесь было отличное пастбище для коней. Мы устроили привал. Достали расплющенную булку хлеба; тотчас из норки поблизости выглянула любопытная горная мышка. Заметив нас, она что-то сердито пискнула и скрылась. Видно, хозяйка здешних мест…
Кони напились из родника, покатались на густой, сочной траве, потом стали пастись. Все, кроме мышки, были в отличном настроении.
И снова в путь по узкому карнизу с многочисленными выступами. Здесь опасно ехать верхом, а пешком идти и вовсе нельзя: весь уступ заливало сочившейся из трещин водой, и на протяжении километра на нем лежал мощный слой скользкой глины. Кони шли очень осторожно, местами копыта проваливались в трещины. Вот один конь споткнулся… Всадник молниеносно соскочил на тропу, прямо в грязь.
Наконец неприятный участок остался позади, зато горы стали еще круче. Выйдя снова из зарослей, мы испытали такое ощущение, будто парим в воздухе… Прямо перед нами открылась бездна. Слух уловил далекий непонятный гул, из пропасти тянуло холодящим ветерком. С карниза мы увидели отвесную стену, которой, казалось, не было конца. Далеко-далеко внизу простерлась крохотная долина, и в ее устье — крохотный бережок.
— Здесь высоко, — произнес Тераи.
Конский круп совершенно заслонял вьющуюся вдоль обрыва тропу, и мы предпочли смотреть на каменную стену рядом. Узкий гребень… перевал, а за перевалом — новая бездна, со дна которой поднимались резкие порывы ветра.
Вот мы и пересекли весь остров! Перед нами другая долина, другой берег. А какой бурный прибой! Наветренная сторона… Но лучше не смотреть вниз, лучше опять повернуться лицом к стенке, пока кони медленно плетутся по карнизу.
Вдруг стенка исчезла! С обеих сторон — пустота. Впереди— вершина, сзади — другая, между ними, точно лезвие, гребень, за который цеплялась наша тропка… Тераи обернулся, улыбаясь. Слева пропасть, справа пропасть; и тут и там на дне — извилистый морской бережок, опоясанный белой каймой прибоя. Длинные пенистые валы исчертили зеленую гладь, но шум разбивающихся волн не доносился к нам. Мы слышали лишь слабый ровный гул да шорох ветра снизу.
Оставалось крепче держаться в седле и глядеть на конские уши. Сорвешься — будешь лететь без задержки. Соскочить некуда. Кони уверенно шли вперед, настороженно подняв голову. Похоже было, что порывы ветра из бездны их беспокоят. А мы, пока тянулся гребень, даже боялись вздохнуть…
Пронесло!.. Тропа обогнула вершину, миновала еще один гребень и вокруг нас снова сомкнулась лесная чаща. Из нее мы выехали уже под вечер, на закате. Новый перевал — и опять такое ощущение, словно перед нами провалилась земля. Кони непроизвольно остановились.
Внизу полумесяцем изогнулась широкая, просторная долина Пуамау. окаймленная крутыми склонами древних кратеров. На длинный берег обрушивались океанские валы. Тусклые лучи вечернего солнца еще освещали лесной свод под нами. Один шаг — и ты будешь в долине… пролетев тысячу метров. Огороженная стеной Пуамау казалась нам другим миром.
Теперь тропа была высечена прямо в стене. Мы погнали вперед усталых коней. Впереди больше чем на километр тянулся узкий карниз, дальше тропа петляла по склону до самого подножия. А на часах уже шесть! Значит, нам предстоит весь спуск совершить в темноте…
Постепенно мрак поглотил все вокруг, даже уступа не видно. Лишь таинственное дыхание снизу говорило нам о том, что наш путь не совсем обычен, что мы едем отнюдь не по ровным лугам… Впрочем, об этом свидетельствовали и порывистые движения коней, наклоненная вперед тряская конская спина, стук камешков под осторожно ступающими копытами… Мы не видели друг друга и поминутно перекликались. В кромешном мраке голоса казались необычно звонкими.
Наконец конские спины выровнялись, копыта застучали чаще. Вот они уже шлепают по воде шумного ручья. Спустились… Тераи стегнул своего коня, и мы пошли через лес рысью, навстречу все более громкому гулу прибоя.
Деревья расступились, и рев валов стал оглушительным. В лицо нам дул морской бриз.
На берегу мелькнул огонек — свет в окне хижины. Приехали! Это был домик норвежца Генри Ли, владельца самой лучшей на архипелаге плантации кокосовых орехов. Мы соскочили с коней, одеревеневшие от долгой езды, и постучались в дверь. Из щелей в стенах доносился соблазнительный запах жарящейся яичницы.
Дверь распахнулась, нас ослепило светом. Хозяин стоял на пороге с фонарем в руке, внимательно изучая ночных пришельцев. Не часто сюда являлись белые гости, и уж во всяком случае не с гор!
— Бонжур! — весело поздоровался он.
— Добрый вечер, — ответил я по-норвежски.
Он даже попятился от неожиданности.
…Не одну яичницу съели мы в тот вечер. И долго хлопали пробки в уединенной норвежской хижине в долине Пуамау на острове Хива-Оа.
Дьявольские, гротескные фигуры из красного камня… Огромные, тяжеловесные… Глаза — как тазы, рот от уха до уха. Громадные круглые головы, маленькие кривые ноги, руки сложены на животе. Этакие неуклюжие тролли стоят и ухмыляются на открытой культовой площадке. Некоторые повалены на землю; лежат бессильные и таращат страшные глазища на звезды, которые следуют по своим извечным путям.
Это боги Пуамау.
Выйдя из чащи на древнюю культовую площадку, мы замерли на месте. Всю поляну занимали каменные стены и террасы, на которых стояли боги — красные исполины сверхъестественного размера.
Каменнные лица строго глядели на нас, словно повелевая стать на колени. Боги первого загадочного населения архипелага привыкли к тому, что люди поклонялись им.
Мы ясно представили себе, как древние островитяне ночью, при луне молились и приносили жертвы каменным идолам. Дьявольские физиономии, барабаны, песни, ночной лес — все это, конечно, возбуждало воображение людей, и оно наделяло гротескных богов сверхъестественными качествами. Вся сила идолов была в самовнушении островитян, которые приписывали своим кумирам чудесные свойства.
Вот они по-прежнему презрительно улыбаются, хотя люди уже давно их покинули.
Сооружение этой культовой площадки не было доведено до конца. Рядом с низвергнутыми идолами лежали другие, которые так и не были воздвигнуты, даже не были изваяны до конца. Произошло так по вине полинезийцев; они прибыли на лодках из своей неведомой родины за океаном и вытеснили первых обитателей в горы, где те вскоре вымерли.
Взобравшись на древнюю террасу, мы подошли к одному из богов, чувствуя себя рядом с богатырем карликами, пигмеями. Как и все остальные идолы, он был высечен из кроваво-красного монолита.
Нелегко представить себе, как воздвигались пирамиды Египта. Не менее трудно вообразить, как доставляли на площадку и водружали на постаменты этих исполинов. По соседству с культовой площадкой нет красных горных пород, зато в верхней части долины расположена древняя каменоломня. Теслами из очень твердой породы здесь вырубали в склоне огромные глыбы.
Остается загадкой, каким образом древние жители острова спускали эти глыбы вниз по долине для обработки и установки на террасах. С берега вверх тоже доставляли камни для сооружения террас.
Мы нашли много жертвенников с изображениями богов. Поверхность камня была испещрена ямками. Что это — так называемые "солнечные символы" или вместилища для человеческой крови?
Наши друзья, островитяне, предложили свое объяснение: в старину не только люди, воздвигшие этих идолов, но и все другие существа обладали сверхъестественной силой. И ямки на камне — это следы присосков спрута…
В одном конце площадки мы увидели бога, лежащего на животе. Нет-нет, он не был повален, его так и изваяли, вместе с постаментом, уходящим в землю. Загадочный идол был совершенно не похож на других. Голова поднята, руки вытянуты вперед; он точно плыл. Мы расчистили ножом землю вокруг постамента и увидели на круглой колонне высеченные изображения богов. Что ж, это вполне понятно. Но кроме того, мы обнаружили силуэт животного длиной около полуметра. По хвосту можно было определить, что это собака. Вот это уже непонятно: когда первые обитатели острова ваяли своих кумиров, на нем не было собак. Они появились лишь позже, вместе с европейскими судами.
Следовательно, древние ваятели изобразили животное из своей далекой, неведомой родины?
Сверху — лежащий бог-великан; Снизу — изображения на колонне

Расчистив соседнюю стену, мы нашли на ней непонятные знаки. Письмена? Иероглифы? Никто не ведает…
Над культовой площадкой возвышалась остроконечная горная вершина. Она напоминала "Большой камень" — Мотунуи. Генри Ли кое-что рассказал нам про этот пик, на котором не побывал еще ни один белый. Однажды он сам стал карабкаться на высокий шпиль, но у самой цели сдался. Поверх глубокой расщелины, которая казалась бездной, лежал шаткий камень. Генри счел этот мостик чересчур ненадежным…
А его сын от жены-таитянки, удалой парнишка Алетти, был не прочь попытать счастья. И мы отправились в путь, пригласив с собой одного таитянина. Лив осталась у Генри Ли — ее ноги еще не зажили как следует.
Сперва шли вдоль лесистого гребня, затем лес кончился, потянулась голая скала. Здесь был широкий каменный выступ. Осторожно карабкаясь вверх, мы очутились на следующем уступе, похожем на первый. Отсюда открывался великолепный вид на долину и домики на берегу… Дальше скальная стенка была почти гладкой, лишь кое-где выветривание создало причудливые колонны и ходы.
Уже совсем не за что зацепиться. Все-таки Алетти, шедший впереди, нашел расселину. Вверху она переходила в камин. Один за другим мы протиснулись сквозь него. Одолев камин, мы очутились перед следующей расселиной с шатким мостиком, сделанным самой природой. Теперь долина была прямо у нас под ногами. Там внизу парили белые птицы… Алетти смело пошел по камню. Пришлось и нам с таитянином следовать за ним.
Еще несколько шагов — и мы стоим на вершине острого шпиля. В незапамятные времена здесь, видимо, существовало укрепление. Руки людей расчистили круглую площадку и вымостили ее плоскими плитами. Площадку окаймляла каменная стена. Отсюда древние обитатели острова могли следить за появлением врага. Должно быть, они видели, как подходили с океана и высаживались на берег те, кому было суждено истребить первоначальных насельников…
Гора была неприступной крепостью, но на ее вершине могли разместиться только вожди. Воины, оче-видно, занимали позицию на уступах внизу. Но и после их разгрома камин был для противника серьезным препятствием: ведь он пропускал не больше одного чело-пека. А за камином, у шаткого мостика? Здесь даже женщине было под силу отправить непрошеного гостя вниз, в пропасть. Крепость могла держаться столько времени, сколько позволяли запасы продовольствия.
В нишах в скале мы нашли камни для пращи. Л сразу за стеной начинались два естественных туннеля, которые выходили на склон. В туннелях лежали кости и оскаленные черепа. Голод победил…
Целый народ погиб, погиб безвозвратно. В долинах развилась новая культура. Теперь ее вытесняет наша раса, но на смену нынешней культуре в опустевших долинах не развивается ничего нового.
"Тси-тси-тси-тси-тсириририри", — неслось к нам из ночного мрака.
Мы прислушались.
— Мауриури, — объяснил Генри Ли и показал на потолок. — Привидение, дух умерших предков, которые обращаются к своим потомкам.
Он улыбнулся.
Мы не впервые слышали о мауриури. Нам говорили о нем еще на Таити. На шхуне наши спутники, полинезийцы, рассказывали про его зов; на Фату-Хиве о мауриури нам поведали Тиоти и Пакеекее.
Мауриури, паиоио — у него много имен, он известен на большинстве островов Южных морей. Полинезийцы твердо верят, что его стрекот — голос их предков. Никто не видел его — ни полинезийцы, ни белые. Таинственный голос доносится то с одной, то с другой стороны, то звучит прямо над головой! Но не пытайтесь найти мауриури, все равно ничего не выйдет! Вы можете услышать его голос в открытом море, плывя на шхуне. Не ищите на палубе — бесполезно. А если стрекот доносится с мачты, то сколько ни карабкайся вверх, он все равно будет звучать над вами.
Мауриури бесшумно появляется, бесшумно исчезает. И всегда только ночью. Самый яркий фонарь не поможет его найти. Если несколько человек сидят вместе, а услышав голос мауриури, расходятся в разные стороны, то зов следует за каждым из них. Но его так же отчетливо слышит и тот, кто остался сидеть на месте!..
Мы сами не раз слышали голос мауриури. Ночью на крыше нашего бамбукового домика их сидело сразу два-три. Мы пытались их обнаружить — нам попадались ящерицы, цикады, всякие прочие твари, только не мауриури.
Для островитян этот неуловимый дух — своего рода оракул. Если ночью над хижиной раздался крик, хозяин уже знает: это предостережение. Он начинает выспрашивать мауриури и до тех пор выкрикивает вопросы, пока дух не замолчит. Вот смолк: значит, произойдет именно то, о чем говорилось в последнем вопросе.
Полинезийцы кладут духам пищу: рыбу, фрукты, немного поипои. Насыпают щепотку табаку.
Однажды Генри Ли был в гостях у старика островитянина. Они ели поипои, в это время над хижиной закричал дух. Старик, не вставая, швырнул вверх комок поипои — липкое тесто так и прилипло к потолку.
— Нотеаха? — спросил Генри. — Зачем ты так сделал?
— Родственники, — невозмутимо ответил старик.
Пока мы, сидя вокруг лампы, толковали про загадочный голос, он внезапно смолк, и со двора в хижину ворвался Алетти. Положив на стол ветку с зелеными листьями борао, юноша поспешил плотно закрыть дверь.
— Эна инеи! — Вот он!
Мы рассматривали ветку, перебирали листья, но ничего не могли обнаружить.
Алетти объяснил, что, услышав характерный стрекот, он стал красться по направлению к нему. На дворе был всего один кустик, и звук доносился именно оттуда. Внимательно прислушиваясь, Алетти приметил наконец подозрительную ветку, срезал ее и примчался к нам.
— Алетти впустую болтать не станет, — строго произнес отец.
Мы осторожно подвесили трофей над столом. Если там что-то есть, уж мы непременно найдем! Все дружно уставились на ветку, освещенную керосиновой лампой. Вдруг из сухого, свернутого листика на мгновение высунулись какие-то ниточки и тотчас исчезли.
Мы переглянулись. Подозрительно… Подождем еще. Сидели молча, совершенно неподвижно, только тени колыхались на стене.
Внимание! Появилось маленькое невзрачное насекомое. Покрутило усиками, осталось довольно результатом разведки и выбралось на середину листика. Неужели эта крохотная тварь — и есть загадка, которую столько людей тщетно пытались разгадать? Эта серенькая козявка— виновник несчетных россказней о привидениях?
Насекомое стало в позу, точно готовясь нам ответить. Вот на спине появилось нечто вроде воронки, раз-другой дернулась задняя нога… "Тси, тси", — и насекомое юркнуло назад в свое убежище.
Я увидел, как Генри стирает со лба пот. Алетти сиял от гордости, у Лив был такой вид, словно она с луны свалилась. Значит, не я один слышал!
А козявка снова вышла, стала в позу и упоенно застрекотала. Снаружи кто-то вторил…
Вороночка на спине напоминала граммофонный рупор. Она многократно усиливала вибрирующий звук, который возникал от того, что нога насекомого терлась об нее, как смычок о скрипку.
"Тси-тси-тси-тси-тсириририри", — неслось по комнате.
И тут зоолог во мне взял вверх: я схватил музыканта и сунул его в коробочку.
Бедняжка музыкант, самое прославленное насекомое и самое знаменитое привидение Тихоокеанской области, — ты пал жертвой науки…
"Тси-тси-тси", — неслось со двора.
Ничего, хватит мауриури еще не на одно поколение суеверных!..
— Это надо отметить! — воскликнул Генри Ли. — Алетти, поймай курицу! Хотите посмотреть на охоту? — обратился он к нам.
И в мрак тропической ночи выступила охотничья экспедиция.
Да, на кур охотятся ночью. Без оружия. Через лес мы вышли к прогалине, на которой стояло несколько деревьев. Алетти нес длинную жердь с поперечной палочкой на конце. Генри посветил вверх фонариком. Несколько диких кур сидели на ветвях, охваченные крепким сном. С величайшей осторожностью Алетти стал подносить к ним жердь.
Непонятно… Он же спугнет их! Сколько раз мы видели, как куры, хлопая крыльями, улетают от преследующей их собаки. Они отлично летают.
Вот жердь дотянулась до одной из куриц. Алетти осторожно подтолкнул спящую птицу сзади. Она сонно закудахтала, затем, не просыпаясь, шагнула на поперечную палочку сперва одной, потом другой ногой. Сидя на жерди, она продолжала спать…
С невероятной осторожностью Алетти стал опускать жердь вниз между ветвями. Легкий толчок… курица закудахтала… взмахнула одним крылом… Спит! Лишь когда жердь опустилась на землю и парнишка схватил добычу, птица проснулась и подняла отчаянный крик.
Опоздала, голубушка!
Генри Ли удивительный человек с необыкновенной судьбой. Он прибыл сюда еще юнгой, во времена парусных судов. Капитан его корабля любил выпить, пьянство и драки были на борту обычным явлением. И когда корабль после кошмарного плавания бросил якорь у Хива-Оа, Генри бежал и отсиживался в пещере на берегу, пока судно не ушло.
Он женился на женщине с Гавайских островов и нанялся па шхуну, плававшую в здешних водах. Достиг должности суперкарго, потом его жена получила наследство — долину на островке, он осел и стал заниматься заготовкой копры.
Теперь Генри был уже пожилой человек. Первая жена умерла, многое переменилось. Здесь, на Хива-Оа, он возделал лучшую плантацию кокосовых пальм на всем архипелаге. С внешним миром он был связан только через шхуну, которая забирала копру. Дом Генри стоял в стороне от деревни. Любимые книги и сын Алетти — вот и вся отрада норвежца.
Чудесный парень этот Алетти и настоящий здоровяк! Он не знал, что такое школа, зато был самым искусным в этих местах охотником и рыбаком.
— Вот уже тридцать лет здесь живу, — сказал нам однажды Генри, — а подружиться с островитянами не удалось. Вреда они мне не причиняют. Моя плантация обеспечивает меня всем необходимым. Однако сблизиться с островитянами белому невозможно. Им это вроде бы ни к чему. К белому они подходят с мыслью: как бы из него побольше выудить. Островитянин подарит цыпленка— и ждет, что ему в ответ подарят быка. На других островах они хоть поприветливее. На маркизянке я бы ни за что не женился.
— А вообще-то хорошо вам здесь? — спросил я.
— Что значит — хорошо?! Здесь у меня есть плантация и лавка. Поеду домой — буду нищим.
— А тропический рай, — не унимался я, — как насчет него?
Он расхохотался:
— Если знаешь, какой суп предпочитают клиенты, конечно будешь его подавать.
— И вас никогда никуда не тянуло отсюда?
— Нет, — ответил Ли. — В прошлом году я побывал на Таити — это мое первое путешествие за много лет. Каждый день ем отраву, чтобы не пристала какая-нибудь зараза, но в прошлом году мне пришлось все-таки отправиться на Таити в больницу, на операцию. Чудно мне показалось на этом острове. Я впервые увидел самолет, услышал радио. И привез оттуда жену, уроженку Тубуаи, солидную женщину — весом в сто килограммов! Алетти путешествовал со мной. Его больше всего поразила какая-то необыкновенная ласточка, здесь он таких не видел.
Во всей долине Пуамау у Генри Ли был лишь один друг — старый усач, француз. Они до полуночи просиживали, беседуя о философии и политике, об искусстве и науке, и когда спорили, то старик, шумно втянув носом понюшку табаку, сердито стучал кулаком по столу. Ему ли не знать свет! Он был шеф-поваром на увеселительной яхте, стрелял медведей в лесах Канады, пас овец в Новой Зеландии, искал золото на Аляске…
Теперь этот потешный французик занимал лачугу по соседству с Ли. Он с гордостью повел нас к себе показать свой «дворец». Крыша — из связок травы, стены — из ящиков и обломков… Но сколько выдумки и изобретений было в этой конурке! Потянешь за веревочку или дернешь гвоздь — что-нибудь да появится.
Чтобы лечь, хозяин откуда-то вытягивает за веревочку кровать; нужен стол — дерни другую веревочку. Стоя посреди комнаты, старик мог дотянуться до любого отделения и приспособления.
Потянешь не ту веревку — вдруг сверху спускается конское седло. Или открывается ящик с чудесным свежим хлебом: усач его пек прямо над огнем в жестяном камине, стоящем между кроватью и столом.
Никогда мне не забыть этого человечка с его забавным покосившимся домиком… Дом и небольшой участок с отличным огородом и стройными пальмами — вот все его владения.
Старик был по-настоящему счастлив.
Тераи и четвертый член нашей компании уехали, но нас гостеприимный хозяин задержал. Генри Ли взялся окончательно залечить наши язвы. Сам он никогда не ходил босиком и дезинфицировал малейшую царапину на коже, но болезнь «фе-фе» знал хорошо.
Однако и мы не могли остаться здесь навеки. Пришел день прощания; с пастбища привели наших коней. Было искренне жаль расставаться. Утешало лишь то, что мы снова поднимались в великолепную страну гор.
Пропасти и обрывы, горные пики и пышные леса. И чистый, свежий воздух, лучше которого не найти.
На безлесном бугре среди зарослей папоротника сидела на тропе странная бескрылая птица. При виде несущихся галопом коней она стремительно бросилась бежать, потом вдруг нырнула в заросли папоротника и исчезла. Птица эта еще не изучена, ее никому не удалось поймать. Полинезийцы часто за ней охотились, но она слишком быстро бегает по своим бесчисленным ходам. Подобные бескрылые виды известны и на других изолированных архипелагах. На всякий случай мы прочесали все ходы, но беглянка будто сквозь землю провалилась.
Свернув с тропы, ведущей в Атуону, мы двинулись вдоль гребня на север. Под вечер мы очутились в глубокой угрюмой долине — Ханаиапа. Это третья населенная долина на Хива-Оа. С трудом прорывается она к морю между грозно нависшими скалами.
Возле дороги одиноко стоял дощатый дом с железной крышей. Заглянули в окна: пусто… Большинство домов было заброшено, и лишь на самом берегу мы нашли обитаемое жилье.
К нам подошел островитянин и пригласил идти за ним. Мы узнали в нем одного из постояльцев протестантского барака в Атуоне.
— Вене, — сказал он. — Плюис томпер.
Это он «по-французски» предлагал нам переночевать в доме местного священника.
— Спасибо, — ответил я, — мы будем спать на воздухе.
Он покачал головой и указал на горы. Небо потемнело, вокруг вершины собрались тучи. Вдали рокотало. Гроза… Она бывает здесь очень редко, но уж если разразится — держись!
Мы отказывались до тех пор, пока над долиной не прокатился мощный раскат грома и не хлынул ливень.
Только после этого мы укрылись на террасе дома священника. Сгустился ночной мрак, а дождь все хлестал, ослепительные молнии рассекали тьму, и в узкой теснине грохотал гром. Никуда не денешься…
Мотаро, владелец дома, рассказал нам кое-что об этой страшной долине, в которой осталось всего тридцать жителей: туберкулез…
Суеверные люди не хоронили умерших, а клали их под пол своих лачуг. Понятно, что все остальные жители дома тоже отправлялись на тот свет.
Слоновая болезнь и проказа свирепствовали здесь с особой силой. Двое из оставшихся тридцати — помешанные.
Кошмарное место… Яркие молнии падали в теснину, от стенки к стенке метались раскаты грома. Мы сидели на террасе прямо на полу. Полинезийцы обиделись, когда мы отказались лечь на их кровати. Но мы скорее согласились бы всю ночь ходить под ливнем. Нельзя было без содрогания слушать этот кашель, стоны, хрипы.
Среди ночи вдруг раздался такой грохот, что мы подскочили. Казалось, весь соседний гребень обрушился в долину! Впереди летели мелкие камешки, за ними — обломки покрупнее, и наконец вниз по склону двинулась огромная скала.
Глыбы завалили русло речушки. Весь дом дрожал…
Но вот как будто все стихло, только мелкие камешки еще стучат. Сверкают молнии… Подождав немного, местные жители легли спать: в Ханаиапе привыкли к лавинам.
На следующее утро гроза, рокоча, ушла в океан. От самого гребня до подножия, там где прошла лавина, тянулся широкий след. Деревья будто сбрило, речка широко разлилась и стала густой от шоколадной глины.
Мы быстро оседлали коней: хватит, погостили… Вдруг подошел тот самый человек, который первым заговорил с нами накануне вечером. Он хотел что-то показать нам. Мы не особенно охотно последовали за ним.
В лесу за одинокой лачугой стояла древняя каменная стена; около нее я увидел своеобразный жертвенный камень с круглыми ямками. А затем мы очутились на прогалине, вымощенной большими плитами. Она вся была усеяна сотнями человеческих черепов — больших и малых, целых и разбитых.
Наш проводник широко улыбался беззубым ртом. Мы подумали, что древние обитатели острова — пусть даже они были людоедами — явно могли похвастаться куда лучшими зубами, чем их нынешние потомки.
Рысью мы двинулись вверх по тропе. Внизу осталась Ханаиапа, мрачная долина с тридцатью жителями, тремя церквами и с тысячей черепов.
Горы нам показались приветливее, чем когда-либо.
По главной улице Атуоны шагал толстяк Бельвас, местный телеграфист. Он шел вразвалочку, качаясь — точно ступал по матрасу. Перед лавкой Боба Бельвас остановился и визгливым голосом зачитал телеграмму толпе островитян во главе с Бобом и Триффе.
Взволнованным гулом встретила толпа новость о том, что назначен новый губернатор французских владений в Океании. На борту военного корабля он плывет на Маркизские острова — хочет посетить находящиеся в его ведении территории, прежде чем обосноваться в постоянной резиденции на Таити.
Важная весть вихрем облетела всю деревню. Тотчас снарядили гонца, который должен был известить жителей других долин. Триффе объявил, что предстоит большой праздник.
Местные деятели срочно собрались на совещание. Наконец-то представится случай добиться улучшения условий жизни! Сам губернатор приедет, надо будет просить ассигнований и иной помощи.
Боб требовал отмены ограничений в торговле: ему разрешалось продавать только одну бутылку вина в неделю на каждого человека. Думаете, его беспокоит прибыль? Что вы, его волнует совсем другое: островитяне незаконно гонят кокосовое вино и
напиваются до бесчувствия. Это же недопустимо.
Бельвас возражал. Белые покупают что хотят и сколько хотят, нынешний порядок очень хорош. Если отменить ограничения, все упьются до смерти. Все-таки пока хоть что-то сдерживает.
Предложение Боба провалилось.
Зато единогласно постановили вырыть канаву поперек деревенской улицы.
Общей мечтой было электрическое освещение и фонари на улицах, как на Таити. Решили выяснить насчет этого у губернатора.
Кто-то потребовал, чтобы на Фату-Хиве был свой штатный фельдшер. Мол, люди там живут совсем изолированно и лишены медицинского обслуживания.
— Нет, — отозвался другой участник заседания, — на Фату-Хиве нет никакого смысла наводить порядок. Пусть себе вымирают…
И деятели перешли к обсуждению предстоящего праздника.
В программе: пляски и песни. Белые это любят. Танцевать, как обычно: вертеть бедрами и напевать, размахивая руками, пока другие, усевшись в круг, отбивают такт.
В исполнителях не будет недостатка, так как богатые туристы охотно раскошеливаются, лишь бы увидеть редкостное представление.
А костюмы? Да, в самом деле!
— Лубяные юбочки, — решительно заявил Боб. — Из тонких ленточек. Это то, что им надо. На худой конец можно из бумаги сделать.
— Лубяные юбочки? — возмутились остальные. — Лубяные?! Нет уж! Слава богу, мы люди культурные. Белые костюмы и белые платья, одинаковые у всех! Чтобы вид был!
Разгорелись горячие дебаты. Сами танцоры мечтали о блестящих козырьках — Боб только что закупил оптом целую партию. Вот будет здорово: у всех блестящие козырьки! Губернатор придет в восторг.
В итоге постановили следующее: футбольная команда в полосатых майках прошагает с развевающимися знаменами от причала до деревни, чтобы придать встрече надлежащую торжественность.
После этого можно допустить и лубяные юбочки. Пусть танцоры выступят в шелковых сорочках и белых брюках, а юбочки наденут сверху.
Такое решение всем пришлось по душе.
Можно было встречать губернатора.
Глава девятая
В БЕЗЛЮДНОЙ ДОЛИНЕ КАННИБАЛОВ
Мотане — перенаселенный необитаемый остров. Мы узнаем о Теи Тетуа, последнем хранителе старых традиций. В долине Теи. Сооружение свайной хижины. Новые друзья: Теи и его приемная дочь. История творения. Каннибалы и хирурги. Счастливые дни. Гости. Всего лишь поросенок. В ожидании корабля. Завершение

Это было много дней спустя. Корабль губернатора ушел. Зато пришла шхуна. Минуло полтора месяца с тех пор, как мы на шлюпке Вилли сражались с океаном. Наши ноги совершенно зажили. Когда шхуна вновь подняла якорь, мы стояли на ее корме, прощаясь с островом. По пути на Таити нас опять высадят на Фату-Хиве. Мы твердо решили сделать еще одну, последнюю попытку. Заберемся еще дальше в глушь, чтобы совсем изолироваться от местных жителей.
Паруса наполнились ветром, и мы в последний раз увидели долину Атуона. На мысу стояло несколько стен — все, что осталось от лепрозория. Его сожгли. Якобы для того, чтобы убить бациллы и предотвратить распространение заразы. А больных разослали по домам…
Над синей гладью летел благословенный свежий пассат. Шхуна обогнула мыс и вышла в открытое море. На борту был опасный преступник, которого везли на Таити. Жертва табу — или болезненного воображения.
Это случилось в смежной с Атуоной долине, населенной горсткой полинезийцев. Двое из них перебрались сюда с Таити в поисках свободной земли, чтобы выращивать орехи и заготовлять копру. В той же самой долине стояло могучее дерево, на которое было наложено табу. Но парни с Таити ничего не боялись. Они заглянули в дупло запретного дерева и увидели там три черепа. Огромные черепа, подобных которым они никогда не встречали. Тотчас в таитянах заговорила коммерческая жилка: ага, есть что предложить богатым туристам!.. И находку спрятали в чемодан, для того чтобы потом переправить на Таити. Но с наступлением ночи черепа, как рассказывали после островитяне, начали жаловаться. Один из двух друзей решил положить их обратно в дупло, второй возражал. Тут в чемодане начались такие охи и причитания, что в соседних хижинах проснулись люди и пришли выяснить, в чем дело.
Причитания не прекращались. Вдруг на того, который отказался нести находку обратно, напало безумие. Он выхватил нож и бросился на товарища. После отчаянной борьбы безумца схватили и доставили в Атуону. И вот теперь его везут в тюрьму на Таити.
А черепа положили обратно в дупло.
Грустная судьба постигла Маркизский архипелаг… Белые успели натворить здесь немало зла, прежде чем оставили его в покое. Возделанные поля, расчищенные земли превратились в пустоши и покрылись зарослями. Впрочем, об этом мы знали давно, знали, что так было на крупнейших островах. Сегодня нам предстояло увидеть кое-что еще: как пышные леса и тучные пастбища превратились в каменистые пустыни. Такова судьба самых маленьких островков. Если на больших островах еще остались жители, то маленькие совершенно обезлюдели. Когда-то и они были обитаемы, об этом можно судить хотя бы по оставшимся каменным сооружениям. Люди исчезли, зато отлично чувствовали себя домашние животные, завезенные белыми. Здесь хищников нет, и ослы, коровы, козы, овцы и свиньи размножались с невиданной быстротой. Некому было истреблять их потомство. Огромные стада паслись на островках. Когда исчезла трава и листва, они стали поедать ростки и корни деревьев, глодать кору. А затем скот начал погибать от бескормицы.
Сегодня нам предстояло самим все это увидеть. Мы подошли к Мотане, гористому островку, который видели по пути на Хива-Оа. Здесь шхуна должна была пополнить свои запасы продовольствия.
Несколько полинезийцев принялись бить острогой разноцветных рыб, мы же направились в глубь необитаемого островка.
Крутой скалистый берег… Тропа идет в гору по сухому белому склону, сложенному галькой л песком. Кое-где торчат жалкие засохшие кусты с грубыми жесткими листьями. Больше никакой растительности нет. Солнце обжигает почву, которую больше не защищают густые кроны деревьев. Высохшие русла рек занесены песком. О прибрежные скалы разбиваются соленые океанские валы, от вида которых жажда только усиливается.
Всюду валяются иссушенные солнцем бараньи скелеты, изогнутые рога, черепа… Казалось, весь остров сплошь устлан ими. Галька, сухие кустарники и кости… В кустах сидели, звонко кукарекая, дикие петухи.
Поодаль от берега мы увидели овец с ягнятами. Испуганные животные, блея, прятались за кустами. Тощие, малорослые, с грязной шерстью, они улепетывали от преследовавших их моряков-таитян. Но люди мчались вдогонку за ними то вверх, то вниз по склону. Догнав, бросались на жертву, хватали ее за шерсть и взваливали на плечо. Овцу за овцой, ягненка за ягненком тащили в шлюпку.
Было еще светло, когда мы покинули умирающий остров белых скелетов, сухая почва которого никогда уж не покроется зеленью…
Теперь — на Фату-Хиву. Плавная качка быстро убаюкала нас.
Долина Омоа встретила нас свинцовыми тучами. Все это время на Фату-Хиве лил дождь. В лесу — сырость, запах грибов. Мошкара зверствовала как никогда. Что ж, мы не думали долго задерживаться в Омоа.
Одевшись так, чтобы комары были для нас не страшны, мы зашагали к расчищенному нами участку, узнавая по пути каждое дерево, каждый утес, каждый изгиб речушки. Мы успели полюбить долину. Мы помнили первые, счастливые дни. Но это было, а теперь…
Сопровождаемые тучей комаров, с трудом передвигая ноги по размытой тропе, мы наконец подошли к платформе, на которой стояла бамбуковая хижина. Где же она? Наше жилье совершенно заслонили высокая трава, кустарник и бананы. Они тянулись вверх с фантастической быстротой. Мы не верили своим глазам. Столбы, на которых покоился кухонный навес, проросли, и на длинных ветвях зеленели листья. Бамбуковая хижина истлела. Рука проходила через стену, как сквозь бумагу, крыша распалась. Кругом сновали тысяченожки и пауки. Внутри дома на всем лежал слой белой пыли.
Никто не входил сюда за время нашего отсутствия. Мы собрали свое имущество и спрятали его в пещере в лесу; туда же перетащили и древние черепа. Неудобно, если островитяне, когда хижина окончательно развалится, обнаружат под нашей кроватью останки своих предков…
В эту ночь мы спали во дворе, на куче листьев, укрывшись противомоскитной сеткой.
Вместе с нашим другом Тиоти мы составили план дальнейших действий.
Тиоти был все тем же весельчаком, но одна его нога превратилась в бесформенный ком и продолжала распухать. Еще одна жертва самого распространенного недуга на острове — слоновой болезни…
Мы решили покинуть долину Омоа. Бежать из дождевого леса и от назойливых насекомых. От болезней и вымирающих островитян. Мы задумали перебраться к Теи Тетуа — почтенному старцу, потомку одного из древнейших местных родов.
Вдоль острова, разделяя его на восточную и западную части, протянулась могучая цепь гор Тауауохо и Намана. Мы знали западную часть, пышные дождевые леса Омоа и Ханававе. Здесь сосредоточено местное население, сюда изредка заходят суда.
Восточная половина Фату-Хивы скрыта от всего мира. Огорожена крутыми хребтами и буйным океаном, который гонит сюда свои валы от дальних берегов американского материка. Долины здесь разделены неприступными горами. Климат суше — словно неугомонный пассат относит тучи на запад через хребты.
Все население восточной части острова вымерло. Лишь в долине Уиа еще остались люди. Здесь жил старина Теи Тетуа вместе со своей приемной дочуркой.
Некогда Теи Тетуа был вождем четырех племен, но он пережил всех своих подданных, а также двенадцать жен. Тиоти называл его последним из людей прошлого. Действительно, Теи Тетуа — последний из тех, кто ел человеческое мясо…
Уиа — единственная из восточных долин, в которую можно проникнуть с гор. Но путь в нее далеко не легок. Ее-то мы и выбрали своим новым местом жительства.
Нам хотелось узнать поближе потомка древних, которого не изменили новые времена, который хранил традиции своего народа. Нынешние презрительно называют его «дикарем», хотя он, быть может, гораздо лучше их.
…Караван выступил в путь. Сначала вниз по долине потом вверх, в горы, хорошо знакомой тропой. Кроме Тиоти и Пахо нам вызвался помочь еще один островитянин, который знал дорогу. Две лошади — в их числе наш старый друг Туивета — несли поклажу: банки с вареньем и консервами, леденцы, табак, шоколад. Вот когда нам пригодятся покупки, сделанные у Боба. Наверное, старику Теи будет приятно получить подарки из нашего мира.
Поднявшись в горы, мы свернули с уже знакомой дороги на старую, заросшую тропу. То и дело путь нам преграждали почти непроходимые болота. Часто поперек тропы лежали огромные стволы. А под вечер мы наткнулись на плотную стену бамбуковых зарослей. Пришлось шаг за шагом прорубать себе дорогу в переплетении желтых и зеленых ветвей. Тиоти не повезло: срубленный ствол бамбука, падая, пропорол ему руку.
Но мы не сдавались и через некоторое время вышли на край чудовищной пропасти, склоны которой отвесно падали вниз, в мрачные дебри Уиа. Здесь пришлось оставить лошадей пастись, привязав их к дереву. Поклажу взвалили себе на плечи наши друзья островитяне. Предстоял сложный спуск… Вдоль бездны тянулся узкий уступ: держись крепче, коли не хочешь сорваться! Во многих местах уступ обвалился, и мы делали мосты из толстых бревен.
Но возврата нет, больше деваться некуда, шхуна ушла. У нас был только один путь — вниз, в долину. И мы спустились!
По дну темной теснины мы пробирались вдоль реки сквозь заросли деревьев борао. Вдруг река исчезла, ушла под землю! И лишь в устье долины бурный поток снова выходил из-под земли, устремляясь в океан.
Пахо убежал вперед. Далекий лай дал нам понять, что он уже достиг лачуги старика. Теперь уж осталось немного…
Долина расширялась, переходя в светлое, открытое устье. Кустарники сменились пальмовой рощей, и между стволами мы увидели у самого моря несколько лачуг, построенных на старинный лад. Навстречу нам бежал голый человек. Теи Тетуа!
Смуглый, здоровый, мускулистый, с одной лишь набедренной повязкой на теле; чудесные ослепительные зубы. Его улыбка сменилась радостным смехом, когда мы, здороваясь, протянули ему руку. Он был словно сгусток жизни и энергии. После долгого одиночества старик никак не мог найти нужных слов для выражения переполнявших его чувств
— Есть свинью, — вымолвил он наконец. — Свинья кончится, есть петуха, петух кончится, есть еще свинью.
И он помчался к дому, крича на своих одичавших свиней. С помощью Пахо ему удалось поймать одну из них за заднюю ногу лубяным арканом. И вот уже Теи тащит к нам отчаянно визжащую добычу.
— Есть свинью, — твердит он, сияя.
Видимо, это было у него высшим знаком дружбы. И мы до поздней ночи сидели вокруг трескучего костра и "ели свинью" держа в руках огромные куски жирного мяса… К смуглому старику прильнула его приемная дочурка, красавица Тахиа Момо. Сверкая большими глазами, она слушала, о чем говорят взрослые. Теи Тетуа радовался, как ребенок, тому, что в его безлюдную долину пришли люди.
— Останьтесь здесь, — уговаривал он нас. — Уиа большая. В Уиа много плодов. Много свиней. Хороший ветер в Уиа.
Лив и я обещали остаться. Старик Теи и маленькая Момо, сияя, придумывали один план заманчивее другого. Но наши друзья из Омоа неодобрительно качали головами.
— В Уиа плохо, — сказал звонарь, — Много фруктов, много свиней, много ветра. Но в Уиа нет копры, нет денег. В Омоа хорошо. Много домов, много мужчин. Много копры, много денег.
— Тиоти, — вмешался я, — на что тебе деньги, будто ты и так не сыт?
Звонарь рассмеялся.
— Верно. — Он пожал плечами. — Раньше было хорошо без денег. Теперь нет. Теперь мы не дикари.
Старик затушил головешки и пригласил нас с Лив в свой домик. Сам он вместе с остальными собирался спать в сарайчике.
Мы завернулись в свои пледы. Островитяне еще не наговорились. Сидя вокруг тлеющих углей, они шепотом говорили о нас, обсуждали прошлое и настоящее.
Стены лачуги были сделаны из неровных жердей, и в щели снаружи проникал свет. Мы видели на стенах сосуды, сделанные из высушенной тыквы, из скорлупы кокосового ореха. Некоторые из них были очень искусно украшены. В углу висела связка сушеных листьев табака. На полу лежали старые каменные топоры, различные железные инструменты, огниво. А под потолком был какой-то ящик. Теи Тетуа объяснил нам, что это его гроб,
— Если я заболею, то влезу в гроб и закрою крышку. Здесь некому меня перенести, а если я останусь лежать мертвый на кровати, меня съедят собаки.
Рядом с лачугой была вырыта могила. Он аккуратно расчищал ее, выкидывая из ямы мусор и куриный помет.
Погасли последние угли. Наши друзья тоже легли спать. Завтра им рано вставать — еще до рассвета они выйдут в обратный путь, через горы.
Странные истуканы стояли на культовой площадке в лесу (Остров Хива-Оа)

Отвесные горы отгородили долину Уиа от внешнего мира

Теи Тетуа, последний из потомков одного из древнейших местных родов, очень гостеприимно встретил нас в уединенной долине

В свайной хижине было уютно

Мы приступили к строительству нашего второго дома… На этот раз на берегу океана. Единоличным владельцем долины Уиа был Теи Тетуа, он не взял с нас никакой платы за участок. Мы — его гости, и все, чем он владел, принадлежало также и нам.
"Усадьба" старика располагалась в пальмовой роще на берегу, на платформе, за прочной каменной оградой, сделанной для защиты от полчищ диких и полудиких свиней. Вдоль ограды текла речушка. На ее противоположном берегу как раз было место для нашего домика. От пляжа наш участок отделялся галечным барьером, сооруженным прибоем.
Широкая бухта с изумрудной водой, вечно исчерченная белыми гребнями волн, переходила в голубую бесконечность океана. Вот где приволье и чистый воздух! Неугомонный пассат круглый год дует с востока, гоня прочь из рощи комаров и прочую мошкару. Только в лесу они находили убежище и плясали роями, эти бесы, которых сюда доставили белые.
Старик посоветовал нам строиться основательно. Он долго сокрушался, узнав, какая судьба постигла нашу бамбуковую хижину.
…Ханатива — так называлась маленькая долина, в которую мы попали, обогнув скалистый мысок. Здесь среди зарослей миру и борао стояли старые стены, склепы, истуканы, но мы пришли сюда за строительным лесом. Старик легко карабкался вверх по стволам, отбирая для нас самые прямые, крепкие деревья миру.
Сперва с них снимали кору, колотя ствол камнями; после этого связывали вместе по нескольку штук гладких тяжелых бревен. Мое голое плечо превратилось в болезненную рану, а ноги покрылись ссадинами, после того как я несколько раз прошелся с ношей по скалам. А Теи играючи нес свою поклажу. Он от души смеялся, когда я испуганно замирал на месте, цепляясь за камни там, где волны захлестывали тропинку. На мысу мы бросали бревна в море и возвращались за следующей связкой. Течение само несло стволы через залив и выкидывало их на берег как раз возле нашего участка.
Мы ставили дом на сваях, чтобы оградиться от непрошеных гостей. Сам домик был низкий, с крышей из пальмовых листьев, с тремя стенами; входили в него по лесенке. Вдоль задней стены на полу тоже настелили пальмовые листья. Трудно представить себе лучшее жилье; всегда свежий воздух и ни единого комара.
Я хотел рядом соорудить кухню, но тут старик воспротивился. Раз мы гостим в долине Теи Тетуа, значит и есть должны вместе с Теи Тетуа. Он забрал наш котелок и унес его к себе.
Так начались наши самые чудесные дни в Полинезии.
Лив и Момо отлично подружились. Момо исполнилось десять лет: почти взрослая! Она была очень рада новой подруге и охотно обучала ее тему тому, что должна уметь хорошая вахина. Они плели циновки из листьев пандануса, изготовляли арканы из луба борао, при помощи колотушки превращали кору хлебного дерева в тапу— материал для одежды. Делали украшения из цветов, браслеты и бусы из красных горошин и причудливых плодов.
Как-то Момо пришла к нам с миской из скорлупы кокосового ореха и показала странную кашицу. Все тело и смеющуюся рожицу девочки покрывали узоры, нанесенные желто-зеленой растительной краской. Теперь она хотела и Лив раскрасить в соответствии с требованиями древней косметики!..
Пока женщины занимались домашними делами, Теи и я отправлялись в лес за съестными припасами. Фруктов здесь было множество, недоставало только феи. Плоды хлебного дерева, бананы, манго, папайя, ананасы… Здесь росли таро, лимонный кустарник, апельсиновые деревья— желтые от обилия сочных плодов, которые нам никогда не приедались. Помимо этого старик собирал всевозможные съедобные корни.
Еще мы ловили раков в речке и заманивали в ловушки полудиких свиней.
В тихую погоду Момо и Лив шли гулять на мыс, Здесь были всякие чудеса: пещеры, гроты, провалы. Волны, обрушиваясь на берег, образовали соленые лужицы, в которых кишели разные твари. Подруги находили здесь удивительных рыб, крабов, моллюсков. Момо отлично знала, какие из них съедобны, а какие ядовиты А Теи Тетуа был превосходным поваром.
Сам он ел вместе с Момо у себя в хижине. К нам доносился запах черного кислого поипои, которое они доставали из подземных «кладовок». Эх, поипои, неизменный спутник всех полинезийских блюд…
В Омоа наше меню было очень скудным. Зато здесь ежедневно утром, в обед и вечером старик осторожно поднимался по лесенке в нашу свайную хижину, неся лакомые блюда для Лив и меня. Особенно ему удавались крабы в кокосовом соусе и сырая рыба. Да-да, сырая рыба, если ее умело приготовить, настоящее объедение! Ее надо нарезать кубиками и на ночь класть в лимонный сок. Потом добавить морской воды и кокосового масла — и блюдо готово. Вкуса сырой рыбы как не бывало!
И ни одна трапеза не обходилась без свинины. Сочная свинина, тушенная в больших листьях на раскаленных камнях…
Страшно вспомнить, сколько еды Теи приносил нам всякий раз! Мы добросовестно отведывали каждого блюда, но всего одолеть никак не могли. Однако старик отказывался уносить оставшееся — пусть, мол, полежит до следующего раза! А к "следующему разу" он уже нес жареную курицу, таро, плоды хлебного дерева и… свинину.
— Старик откармливает нас на убой, — сказала как-то Лив, глядя на свое отражение в заводи, — Старый людоед слишком долго жил один…
И она перешла на диету. Две недели ела только апельсины да ананасы, лишь иногда позволяя себе взять банан из гроздей, висящих у нас под потолком.
Как только темнело, мы выносили несъеденное за хижину. По ночам сюда сбегались косматые свиньи, которые чавкали, хрюкали и визжали так, что мы боялись, как бы они не разбудили деда! А когда самые огромные из них принимались чесаться о сваи, вся хижина угрожающе раскачивалась.
Но строение оказалось достаточно прочным. Как бы ни бушевал шторм, срывая гребни с огромных валов, хижина все выносила, она только клонилась набок, точно гибкая пальма.
Широкая — во всю стену — дверь была обращена в подветренную сторону. Когда над веерами пальм плыла луна, ее лучи заглядывали прямо в нашу «спальню». Но от дождя мы были надежно укрыты. А крылатых мучителей уносило ветром. Словом, это было чудесное время…
Я никогда не забуду, как мы, все четверо, собирались вечерами на берегу возле потрескивающего костра. Свет луны серебрил Тихий океан, играл на пальмовых кронах над нашими лачугами. Дальше, за пальмами, блестели огромные листья удивительных растений, море листьев, которое простиралось до черной как смоль зубчатой стены, отгородившей нас от всего мира.
Дикие козы блеяли на склоне, хрюкали свиньи, журчал, сбегая вниз, ручеек.
Обычно Теи Тетуа высекал огонь из кремня железом, но он обучил нас также искусству добывать огонь трением. Это легче, чем иные думают! Он расщеплял пополам сухую-сухую палочку и заострял конец одной половинки. Потом, взяв эту половинку обеими руками, быстро и сильно тер острым концом по канальчику второй половинки.
Постепенно в конце желобка собиралась кучка мелких, как пыль, сухих опилок. Желобок чернел, пахло паленым, потом опилки начинали дымиться. Теи посыпал их трутом и раздувал. И вот уже есть огонек!
…Сидим и смотрим на пляшущее пламя костра. Тихая, мирная тропическая ночь. Словно мы перенеслись на тысячи лет назад, когда во всем мире безраздельно царствовала природа, а времени не существовало.
Сидя на корточках, Теи Тетуа курит свой самосад. Старый сморщенный дед, с одной лишь маленькой пестрой тряпочкой на бедрах. Рядом пристроилась Момо — юная, красивая, большеглазая. Мы все легко одеты; солнце и ветер закалили кожу. Разница только в том, что Теи и Момо еще смуглее нас, их кожа еще здоровее, а подошвы жестче и неуязвимее.
Вот Теи, не сводя глаз с костра, начал ритмично покачиваться. И запел, запел хриплым голосом монотонную песню. Мелодия предельно однообразна, но ее будто создала сама природа, которая окружала нас, и мы ощутили дыхание далекого прошлого… Словно мы перенеслись в дни молодости Теи Тетуа, даже еще дальше — в ту пору, когда на островах жили их первые обитатели.
В песне рассказывалась древнейшая полинезийская легенда о сотворении мира. Когда-то ее знали и островитяне. Задолго до появления белых ее пели во время религиозных церемоний.
Вот коротко содержание легенды:
Тики, обитающий на небесах, создал землю. Потом он создал воду. Потом — рыб. Потом — птиц. Потом — плоды. Потом — свинью (единственное млекопитающее, известное островитянам до открытия Полинезии белыми). И только после этого он создал человека. Мужчину по имени Атеа и женщину — Атаноа.
— Дальше они справились сами, — объяснил Теи. И продолжал петь, перечисляя всех потомков Атеа и Атаноа.
— Теи, — заговорил я, — ты веришь в Тики?
— Да, — сказал Теи, — я есть католик. Сейчас все есть католики. Но я верю в Тики. Верю, что Тики и Иегова — одно и то же. Как это на твоем языке? — он указал на костер. Я ответил.
— Твой народ называет это «костер», А мой народ — «ахи». Твой народ говори «Иегова». Мой народ говори «Тики». Тики есть Иегова. Мы это поняли, когда пришел белый человек. Но белый человек не понял. Белый издеваться над Тики. Они хотят дать нам новая вера.
Старик смотрел на огонь… Его народ не уважал белых. А белые презирали его народ. Мы представили себе первых прибывших сюда белых, которые в обмен на стекло и мишуру получали настоящий жемчуг. Они смеялись над глупыми островитянами…
А для полинезийцев жестяные броши и стеклянные бусы были огромной ценностью. Ничего подобного не было на островах. И они смеялись над белыми, которые так неумно вели торговлю. Кто же был прав? Обе стороны или ни одна из них?
— Теи, — продолжал я, — как по-твоему, Тики съедал жертвы, которые ему приносили?
Теи лукаво усмехнулся.
— Тераи, — ответил он, — как по-твоему, Иегова съедает то, что ему приносят? Нет, священники съедают. И Тики не ел жертв. Это делали таоа, старые кудесники— наши священники.
— Но Теи, — не унимался я, — я часто видел в лесу Тики. Из камня, вы сами его вытесали.
— Тики не из камня, — спокойно ответил старик, — Тики никто не видеть. Таоа делали для народа каменные изображения Тики. Ваши священники делают изображения Иеговы. Я видеть церковь в Омоа. Там Иегова на стене.
Теи взял бамбуковую дудочку и заиграл на ней носом причудливую мелодию. Ему больше не хотелось говорить об этом… Он католик, но сохранил старую веру. Тики для него стал Иеговой.
Дед часто вспоминал старину. Рассказывал о войнах, о людоедстве.
Когда-то острова были перенаселены. Мы находили развалины жилищ даже на самых крутых склонах над морем: здесь много лет назад обитали бедные рыбаки. Ночью, в темноте, они прокрадывались в занятую врагом долину, чтобы набрать питьевой воды в длинные трубы из бамбука. Племена постоянно враждовали между собой.
Зато природа была тогда щедрее. Она и сейчас щедра, но не так, как прежде. В большинстве долин нельзя жить, потому что там высохли, исчезли ручьи. Может быть, виноваты свиньи, которые перерыли всю землю?
Животные объедают молодые побеги фруктовых деревьев, лошади обгладывают кору хлебного дерева, и оно сохнет. Пока что плодов избыток, но надолго ли?
Почти совершенно истреблена черепаха. Некогда собирали множество птичьих яиц, ловили птиц. Теперь это уже не так просто. Впрочем, как ни богата была природа, на острове все равно царил голод! Полинезийцы ели растения, которых теперь никто в рот не возьмет. Отсюда— одичание, отсюда — людоедство, хотя чаще всего людоедство было религиозной церемонией, связанной с жертвоприношениями богу Тики.
Как правило, человеческое мясо доставалось таоа и королю. Но иногда и простой народ приходил в неистовство. Теи Тетуа помнил случай, когда его друзья во время военного набега съели щеки живого пленника.
Да, страшные истории услышали мы в эти ночи у костра…
— Теи, — спросил я однажды, — из-за чего, по-твоему, вымер твой народ?
— Болезни виноваты, их сюда привез двойной человек, — ответил он.
— Двойной человек? О чем это ты?
— Когда на Маркизские острова прибыли первые белые, их называли двойными людьми. Потому что у них было по две головы, по два тела и по четыре ноги.
Полинезийцы не знали, что такое одежда. Когда белые раздевались, островитянам казалось, что они отделяют от себя одно тело. Снимут шляпу — а под ней еще голова! Снимут ботинки — еще ноги есть! Даже страшно…
Двойной человек принес на острова кашель, лихорадку и боли в животе. Смерть косила островитян.
— Прежде мы никогда не умирали от болезней, — сказал Теи Тетуа. — Люди делались совсем старыми, похожими на высохшие шкуры. Они могли лишь сидеть на одном месте, и приходилось их кормить. Молодые умирали, например, если упадут и шею сломают. Или в океане нападет акула, мурена. Или в битве голову разобьют палицей.
Впрочем, таоа умел лечить сильные ушибы. Таоа — по-нашему шаман или знахарь. Но способности таоа простирались гораздо шире знахарства. Он был отличным психологом и великолепным хирургом. Он умел завоевать полное доверие народа. Таоа исцелял раненых, ловко пуская в ход бесовские пляски и мимику, умел сделать операцию, не внеся инфекции. А теперь малейшая царапина или ссадина гноится. Всюду проникают бациллы.
Ученые собрали замечательные инструменты таоа, искусно сделанные из кости, зуба, камня и дерева. Древние врачи пользовались шилом, буром, они даже изобрели особую пилу.
Словом, таоа — это врач. Теи Тетуа помнил таоа Теке. Он давно умер, но в Ханахепу на берегу стоит каменный идол, носящий его имя. По словам островитян, в этом истукане обитает душа умершего таоа.
Теи видел, как Теке вставил человеку, сломавшему ногу, искусственную кость из дерева. Больной поправился и мог ходить.
Но еще интереснее знаменитые операции на черепе. Один островитянин, живший в Уиа, упал и пробил себе голову. Его доставили к Теке. После пляски и заклинаний врач принялся за дело. Он промыл рану, удалил осколки кости и тщательно выровнял края отверстия, ни разу не задев мозга (если был поврежден мозг, кудесник не брался за лечение). Затем Теке вставил в отверстие гладко отполированный кусок ореховой скорлупы. В кости и в скорлупе он просверлил много дырочек и сшил все вместе ниткой из кокосового волокна. Рана зажила, и тот человек благополучно жил еще много лет.
Такая операция не была редкостью в то время. Мы, конечно, читали об этом, но совсем иное дело самому обнаружить неопровержимое свидетельство. В старом склепе мы увидели висящие под сводом черепа, оплетенные кокосовым волокном; кругом на полу лежали другие, и на одном из них мы обнаружили шов — след операции!
Этот череп нам разрешили унести с собой.
— Цивилизация, — заявила однажды Лив, — странная причуда. Без нее отлично можно обойтись!
Мы лежали после обеда на травке, отдыхая. Ноги — в журчащем ручейке, голова — в тени пальмы, тело подставлено солнышку.
Гудели жучки, шумел прибой. Прямо в ручье, стоял, удовлетворенно хрюкая, поросенок, то и дело выбегала погреться на солнце ядовито-зеленая ящерица.
В долине тихо, мирно, мягко качаются зеленые кроны, Теи и Момо спят в своем доме.
— Нет, — возразил я, — все-таки у цивилизации много хороших сторон.
— Да, конечно, — ответила Лив, — но они всего-навсего призваны возместить ее же минусы. Скажи, например, кому здесь нужна музыка?
— Это верно, — согласился я, — ручей журчит, и птицы щебечут, и…
— Нет, я не про то, — перебила Лив, — не про звуки, а про то настроение, которое они создают. Здесь сама природа переполняет всю душу!
— Так-то оно так, но мы только рады были, когда попали на Хива-Оа, к врачу…
— Вот именно, — подхватила Лив, — а кто занес сюда болезни?
— Ладно, ладно, но ведь теперь поздно говорить об этом. Невозможно всех заставить расстаться с городами.
— Конечно, поздно… Я просто так…
Мы поднялись и стали купаться в ручье. Набрав воды в горсть, я напился; блестящие чистые капли падали с ладони вниз.
— Погляди-ка, Лив, — сказал я, — до чего вода красивая.
Лив рассмеялась.
— Сидя в ванне, ты об этом не задумывался! Все-таки портит нас цивилизация, вынуждает прятаться в скорлупу. Шум, гам, гонка — если все воспринимать, лопнешь от впечатлений!
— Ну и хватит об этом, — ответил я, стоя под струями маленького водопада, — зато сейчас нам хорошо!
Так проходили дни. Простая, счастливая жизнь, приволье… Мышцы постоянно в работе, душа открыта впечатлениям. Мы совершенно не были связаны с большим миром. Даже подумать о нем было как-то странно. Когда мы рассказывали Теи Тетуа про самолеты, то удивлялись не меньше его. Мир техники был чем-то огромным, даже страшным. Точно мы попали сюда с другой планеты.
Однажды, рубя дрова в лесу, я услышал лай; потом показалось несколько полинезийцев. Две семьи пришли из-за гор с запада. Неожиданно нагрянули в гости к Теи Тетуа. Старик был в восторге.
Их заманили сюда рассказы Тиоти, который распространил слух о том, что мы будто бы засыпали Теи Тетуа всевозможными подарками. Впрочем, мы быстро поладили, стали вместе охотиться, вместе ловить рыбу, деля добычу поровну.
Иногда океан бывал настолько спокоен, что мы купались и ловили спрутов. Островитяне ели их сырыми. Нарочно, чтобы подразнить нас, они жевали живых спрутов, которые обвивали их шеи длинными щупальцами! И они, видя ужас на наших лицах, хохотали до упаду.
Момо любила щекотать нежные пятки Лив. Стоило Лив чуть усмехнуться, как она покатывалась со смеху. У самой Момо кожа на пятках была толстая, и девочка безболезненно могла срезать ее целыми слоями. От этакого зрелища Лив испуганно визжала — на радость и потеху островитянам.
Вечерами мы пели возле костра древние песни, которым нас обучил Теи Тетуа, слушали его рассказы.
Словом, в долине Уиа царила настоящая идиллия. Увы, недолго… Видя, что первые две семьи не возвращаются, за ними следом потянулись через горы и другие. Старику Теи приходилось трудно: гости особым прилежанием не отличались, а требовали от хозяина, чтобы он о них заботился. Они бессовестно посмеивались над глупым дедом, который из кожи вон лез, чтобы всех накормить.
И стало здесь так же шумно, как было в Омоа… Варили апельсиновое пиво, и даже малыши напивались допьяна. Момо тоже. Хуже всех вел себя метис по имени Наполеон. Выпив, он терял рассудок. Он уже забил до смерти двух жен, а теперь ухаживал за вдовушкой Хакаева, которая перебралась в Уиа, похоронив мужа. Она заплатила отцу Викторину четыреста франков, чтобы тот своими молитвами открыл покойнику ворота в царство небесное, и была теперь свободна.
Ночью, когда мы спали, нашу хижину начали навещать воры. И нам уже не нравилось в долине Уиа. А тут еще случилось то, чего мы меньше всего ждали: новые пришельцы восстановили против нас Теи Тетуа. Вдруг он потребовал с нас деньги за пользование участком, за фрукты, за все, что мы получили и что он еще только собирался нам дать. Подарки его больше не устраивали— ему нужны только деньги!
Помню день, когда мы сидели на лесенке нашей хижины и внезапно заметили на горизонте дымок. Пароход! Первый с тех самых пор, как мы покинули Таити,
Прежде я не верил тому, что потерпевшие кораблекрушение, попав, подобно Робинзону Крузо, на тропический островок, ежедневно всматриваются в просторы океана, ожидая, когда же появится корабль-спаситель! И вот мы сами не можем оторвать глаз от дымка вдали. Появились мачты, труба, нос…
Приближается!
Наконец мы видим весь пароход. Идет к нам! На нем люди из нашего собственного мира. Стоят на палубе, любуясь чудесным островком, живописной долиной среди могучих гор. Так же, как ими любовались мы, когда подходили к Таити.
Наверно, они видят в бинокль нашу лачугу. И, наверное, приняли ее за жилье островитян, потому что корабль прошел мимо, повернул в сторону Таити…
И мы опять одни — без друзей.
На следующий день один из полинезийцев собрался по делам через горы в Омоа. Мы попросили его захватить письмо. Он отказался. Предложили хорошее вознаграждение — не взял.
Как-то ночью Лив проснулась от болезненного укуса. Держась за ногу, она кричала, что в ее постели кишат какие-то твари. Я сразу понял, в чем дело: тварь была только одна — тысяченожка.
При свете луны мы долго ее искали между пальмовыми листьями, но чудовище исчезло.
Выдавили на ранку лимон: лимонный сок успокаивает боль и нейтрализует яд. На следующий день Лив жаловалась только на то, что нога плохо сгибается. Как только взошло солнце, мы продолжили поиски и нашли в своем ложе желтую гадину. Немного позже я убил в хижине еще одну тысяченожку, а третья улизнула.
После этого терпение наше лопнуло, и мы уговорили одного островитянина провести нас через горы на западную сторону.
Как раз в это время в долине Уиа произошло великое событие: полудикая свинья родила шестерых близнецов— обаятельных крошек с длинными рыльцами, крохотными копытцами и жесткой щетиной. Один из них был рыжий с кокетливыми черными пятнышками и весело закрученным хвостиком. И Лив не устояла. Она усыновила поросеночка, дав ему имя Маи-маи, что в переводе означает "поросюшечка".
Рано утром мы собрались в путь, Лив привела своего Маи-маи на веревочке из луба борао. Решила везти любимчика в Норвегию.
— Ты с ума сошла, — ужаснулся я. — Пока мы доедем домой, он вырастет, разжиреет и будет пугать всех пассажиров.
Но Лив непоколебимо стояла на своем. Я попросил нашего проводника нести поросеночка, но он отказался наотрез. Придется тащить самому…
И вот мы шагаем вверх по долине. Маи-маи визжит и брыкается как бешеный. Я нес его на руках, нес на спине, нес за пазухой — визжит да и только. А солнце жарит вовсю…
Наш проводник прибавил ходу и исчез впереди со своей ношей — пледами, фруктами, вареными клубнями таро. И когда мы подошли к горе, где тропа пропадала в высоченной траве, то совершенно растерялись. Надо было самим искать дорогу.
Долина кончилась, дальше предстояло взбираться вверх по раскаленному склону. Ни единого кустика, ни малейшей тени, ветра нет, солнце палит. В сухой траве теита не скроешься от беспощадных лучей. От дикого визга Маи-маи нам казалось еще жарче. Я робко предложил отпустить поросеночка. Лив решительно воспротивилась этому.
— Бедняжка, — воскликнула она, — он же высохнет, как муха, на этих скалах!
И мы продолжали карабкаться все выше и выше. Тропа и раньше была неясной, а теперь она и вовсе стала исчезать. Какие-то неопределенные следы на песке… Потом пошли теснины и обрывы, и мы окончательно запутались. Я внимательно присмотрелся к следам, по которым мы шли. Это были следы диких свиней. Заблудились…
Идти сквозь заросли теиты не так-то просто, а возвращаться по своим следам и того хуже. Примятые ногами длинные острые листья наклонены навстречу идущему и режут икры, как нож.
Когда мы наконец выбрались на тропу, то были чуть живы. Жара, как в печи; ссадины и царапины горят, все поры закупорены потом и песком…
Распаренный неумолимым солнцем, Маи-маи не унимался ни на минуту. Злобный визг пронизывал нас до костей, и я едва удерживался от того, чтобы швырнуть поросенка вниз с обрыва.
Теи носом играет на бамбуковой флейте. Лив и Момо внимательно слушают необыкновенную мелодию
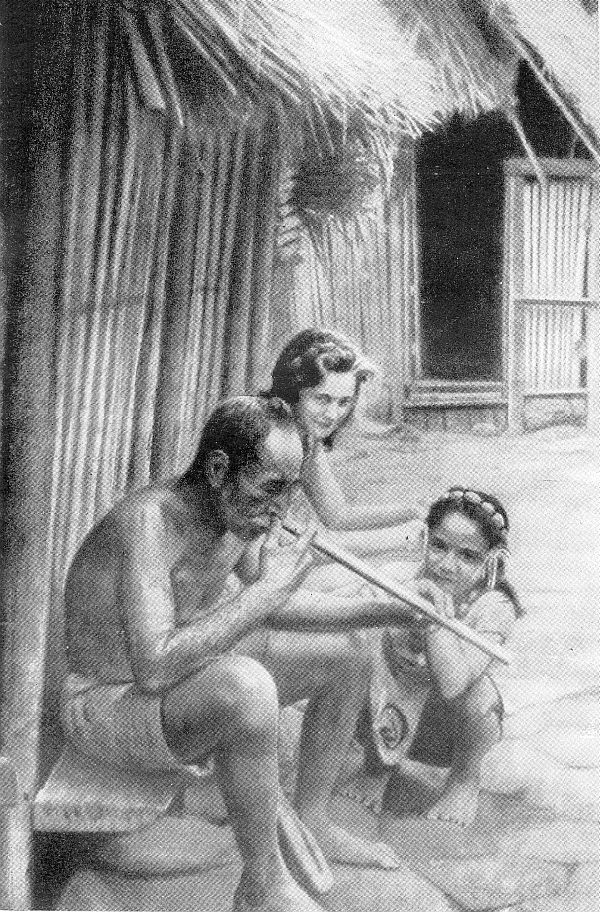
У Теи Тетуа стало очень людно, когда из-за гор пришло сразу несколько семей

На переднем плане — Тахиа Момо, приемная дочь Теи Тетуа. Сзади — Хаиа с скорпионами. Слева женщина, которую муж хотел обменять на Лив. Вверху — Пахо с пойманным поросенком

Ждем корабля… Последнее время мы жили в пещере вдали от людей
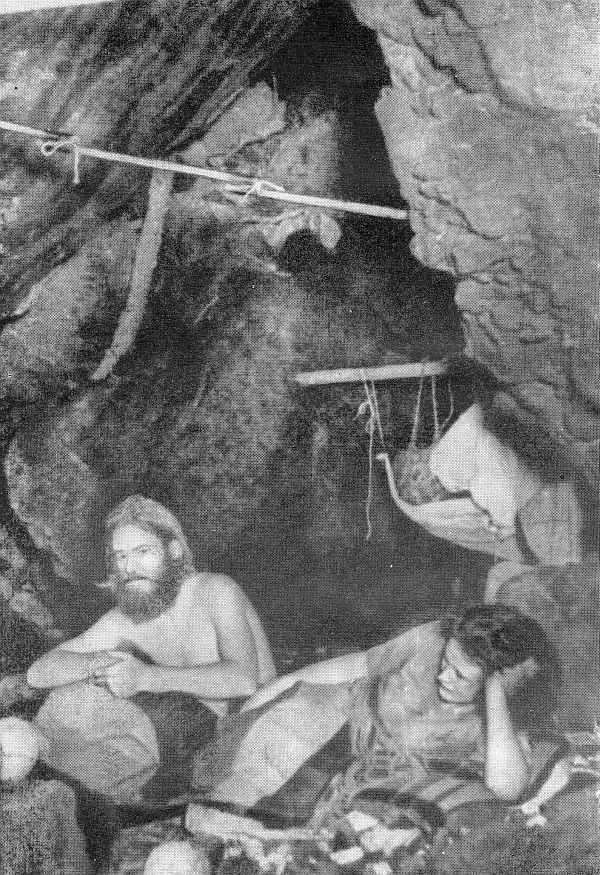
А до гребня идти еще столько же… Без отдыха не доберемся. Но разве отдохнешь на солнцепеке! Песок раскалился, наши шляпы, сплетенные из листьев пандануса, сильно нагрелись, легкие совершенно не получали свежего воздуха.
Надо лезть выше. Мы наметили себе место для отдыха там, где на склоне виднелось причудливое образование, которое запомнилось нам еще с прошлого раза. Казалось, два тролля стоят рядом на горе, глядя на долину. Под ногами у них проходит природный туннель — единственное на всем склоне место, где можно было найти хоть какую-то тень.
Мы поминутно посматривали на странные скалы. Под конец Лив совсем ослабла. Она спотыкалась на каждом шагу, обмахивалась шляпой, как веером. Ветерок пришелся по душе Маи-маи, он притих, но стоило Лив перестать обмахиваться, как поросенок опять поднимал страшный визг.
Какое мы испытали наслаждение, когда, поравнявшись с могучими троллями, нырнули в темный проход!.. Подъем еще не кончился, но тут хоть можно переждать до вечера — пусть даже носильщик исчез вместе с нашими запасами еды и кокосового молока.
Маи-маи довольно похрюкивал и вскоре уснул на руках у Лив. Мы лежали на спине, упиваясь прохладой… Хотя ветра в этот день совсем не было, в туннеле приятно сквозило. Далеко внизу простерлась залитая солнцем долина.
Прошло несколько часов, прежде чем мы собрались с силами, чтобы продолжить путь. Снова — вверх…
На спине у меня был рюкзак с фотоаппаратом и пленками. Туда же мы сунули теперь неугомонного крикуна — хоть руки свободны!
Маи-маи отчаянно визжал, но затем вдруг стих.
— Понравилось, — решил я.
Но когда молчание затянулось, мы испугались и заглянули в рюкзак. Ух ты, словно в духовке! Уж не изжарился ли поросеночек? Мы вытащили его и снова понесли на руках. Постепенно он опомнился и опять начал свой концерт. Но теперь мы уже знали средство заставить его замолчать. Только завизжит — мы его в рюкзак: полежи, пока уймешься. Притихнет — пожалуйста на волю.
Вот так мы мало-помалу достигли гребня. Наконец! Перед нами простерлось высокогорное плато. Жадно вдыхая свежий воздух, мы направились к ближайшему родничку.
Наступила ночь, но нам не хотелось спускаться в долину Омоа. Мы окончательно обиделись на островитян. В расщелине горы мы настелили ложе из больших листьев и легли спать прямо под звездами. Легли на тропе, на открытом месте и вокруг разложили костер, чтобы не лезли тысяченожки. Хорошо в горах!..
Вот только Маи-маи визжит, не давая уснуть. Впрочем, обнаружив, что это девица, мы перекрестили поросенка, назвав его Сиреной. Итак, я сунул Сирену в рюкзак, отошел подальше и привязал рюкзак к камню. Теперь визг до нас не доносился. И мы заснули…
Среди ночи нас разбудил какой-то топот. Костер погас, но мы разглядели на перевале силуэты двух диких коней. Они быстро приближались.
Я сел и издал страшный крик. Поздно — один конь не успел свернуть и, испуганный моим криком, прыгнул через нас. Второй в последний миг остановился и помчался в другую сторону.
Мы вскочили на ноги и разожгли костер.
— Сирена! — ахнула Лив.
— Вот именно, — подхватил я.
Да, вот именно! Конский топот разбудил поросеночка, Сирена взвыла и запрыгала рюкзаке — настоящее привидение! Представляю себе, как оторопели бедные кони…
Спустившись в долину Омоа, мы первым делом отдали Сирену. Пусть другие развлекаются!..
В Омоа все было по-прежнему: сыро,
неуютно. Мы зашли к Вилли и забрали свое имущество, которое занес к нему наш проводник-невидимка. Заодно мы наскоро совершили сделку. Некогда Поль Гоген дружил с отцом Вилли, швейцарцем Греле, и часто гостил у него в доме. Перед смертью Гоген подарил Греле свое любимое ружье, приклад которого сам украсил резьбой. После смерти Греле ружье перешло к островитянину, а тот перепродал его китайцу. Никто не знал подлинной цены ружья, и китаец охотился с ним на диких коз, пока Вилли не прослышал о славе Гогена и о том, как важно все, что связано с именем художника. Вилли выменял ружье обратно и теперь собрался везти его на Таити.
Мы избавили Вилли от необходимости далеко ехать…
А когда мы простились с ним, к нам подошел островитянин, чтобы предложить еще одну сделку: я оставлю ему Лив, а он уступит мне свою жену и четверых детей в придачу!
Мы поспешили уехать из Омоа.
Знакомой тропой мы пробрались в Тахаоа, на берег с белыми камнями. Здесь мы провели оставшееся время в ожидании судна. Жили в пещере, это было надежное убежище от камнепадов с подступающих к самому берегу гор. Во время прилива волны лизали порог нашего жилья. Нередко среди камней извивались ядовитые мурены… Ели мы кокосовые орехи, папайю и то, что собирали на берегу.
Мы расчистили дно пещеры от гальки и лежали на мягком белом песочке. Белый гребень волны, играющие дельфины, птица на горизонте — буквально все настораживало нас: не корабль ли? Мы то и дело взбирались на большие утесы, глядя вдаль. Только бы не пропустить шхуну! На западе весь океан был открыт нашему взгляду, и днем она не могла пройти, не замеченная нами.
А когда солнце тонуло в фейерверке красок, мы шли домой — в пещеру, к костру — и кутались в пледы. Мы знали: если шхуна придет ночью, Тиоти нас известит. Он остался нашим верным другом.
Ровный гул прибоя убаюкивал нас, а на освещенный луной берег на поиски пищи выходили раки-отшельники.
Никогда мы не забудем того дня, когда на краю неба сверкнули белые паруса «Тереоры», идущей на Фату-Хиву.
И когда мы, лежа на палубе, в последний раз смотрели на остров, то были не менее счастливы, чем в день приезда!
До чего же остров красив… Дикие горы, солнечные берега. В точности такой же, как когда мы сюда приплыли.
Но теперь мы знали, что кроется за блестящей сенью листвы и заманчивыми кронами пальм. Мы изучили остров, живя в бамбуковой лачуге в лесу и в свайной хижине у Теи Тетуа. И мы знали, что над солнечными островками навис туман…
— Знаешь, Лив, — сказал я, — пустое это дело, искать рая…
Примечания
1
Тем самым было сохранено бесценное содержание тетради, ведь «деревенский шкипер» покинул остров, едва ушло экспедиционное судно, и никто не знает, что с ним случилось. Возможно, тетрадь лежит в неведомом подземном тайнике. Возможно, владелец увез ее с собой
(прим. авт.).
(обратно)
2
О том, что дало изучение рукописей, собранных экспедицией, можно прочесть в книге Тура Хейердала «Приключения одной теории». Л., 1969
(прим. перев.).
(обратно)
3
На норвежском флаге синий крест с белой каймой изображен на красном поле
(прим. перев.).
(обратно)
4
Caillot Eugene. Histoire de l'ile Oparo ou Rapa. Paris, 1932
(обратно)
5
См. книгу Бенгта Даниельссона «На „Баунти“ в Южные моря». М., 1968
(прим. перев.).
(обратно)
6
Речь идет о романе «Тайпи». М., 1967
(прим. перев.).
(обратно)
7
Сказания инков об их белых бородатых предшественниках в Перу можно найти на страницах 224–268 в монография Хейердала «Американские индейцы в Тихом океане»
(прим. авт.).
(обратно)
8
«Одинокий американец» — Уильям Уиллис; см. его книги «Семь сестричек» и «Возраст не помеха»
(прим. перев.).
(обратно)
9
Здесь и далее автор, как правило, пользуется одним словом (reed) для обозначения конструкций из камыша, папируса и т. п. Мы останавливаемся на определении «камышовая» как более универсальном, кроме особых случаев
. — Прим. ред.
(обратно)
10
Здесь и далее цифры в квадратных скобках означают порядковый номер в библиографии. —
Ред.
(обратно)
11
«Есть в Библии и еще одно древнее указание на способ строительства корабля, возможно представляющий переход от компактной конструкции из бунтов к дощатому судну с полым корпусом. В книге „Бытие“ (6, 14–16) Ной получает такое веление свыше: „Сделай себе ковчег с ребрами кипарисовыми, покрой его камышом и Осмоли внутри и снаружи“. Независимо от того, как оценивать слова иудеев о контакте с всевышним, остается фактом, что книжник, записавший этот рассказ, знал, что камышовыми связками, обмазанными смолой, покрывали корпус судна со шпангоутами, притом судна изрядных размеров. Можно верить или не верить в приводимые размеры Ноева ковчега — длина 150 метров, ширина 25 метров, высота 15 метров, но речь явно идет о достаточно внушительной конструкции, коль скоро говорится о трех палубах — верхней, средней и нижней». —
Прим. авт.
(обратно)
12
Продолжая исследования лодок в Ираке, Тур Хейердал осенью 1977 г. с помощью местных арабов и своих друзей — боливийских индейцев построил камышовое судно «Тигрис» и 23 ноября того же года возглавил новую экспедицию. Плавание «Тигриса» началось у слияния Тигра и Евфрата и закончилось весной 1978 г. в Восточной Африке. Заготовленный в августе камыш
берди плавучестью намного превзошел папирус. —
Прим. перев.
(обратно)
13
«Дошедшие до наших дней наземные сооружения свидетельствуют, что в древних царствах Ближнего Востока не было недостатка во времени и рабочей силе, а папирус и камыш росли в изобилии на речных болотах Египта и Двуречья. Но папирусные и камышовые суда, в отличие от долговечного кирпича и камня, со временем сгнивают, поэтому мы хорошо знаем египетские пирамиды и шумерские зиккураты, а о размерах бунтовых ладей той поры можем судить только по египетским петроглифам и шумерским керамическим печатям». —
Прим. авт.
(обратно)
14
Здесь и далее имеется в виду материк Северной Америки. —
Прим. ред.
(обратно)
15
«Эксперимент де Бишопа, который тщетно бился семь месяцев, пытаясь пройти на примитивном суденышке из Полинезии в Южную Америку в полосе ледяных ветров к югу от „ревущих сороковых“, и неудачные попытки Ингриса и Витала Альсара вернуться в Америку, используя слабо выраженное Экваториальное противотечение, ясно показывают, что в южной части Тихого океана не было морского конвейера для древних мореплавателей». —
Прим. авт.
(обратно)
16
«Современная археология приходит к выводу, что одна из древнейших культур Мексики, давшая толчок развитию последующих цивилизаций, зародилась в низменной области тропических лесов на берегу Мексиканского залива. В том самом месте, как было показано выше, куда подходит пересекающее Атлантику мощное течение и где высадились на берег испанцы под предводительством Кортеса. В этом приморье с самым неблагоприятным климатом началась, по данным археологии, американская цивилизация — началась с внезапным появлением неизвестного народа, который современная наука условно назвала ольмеками». —
Прим. авт.
(обратно)
17
«Об этом красноречиво рассказано в той же доколумбовой рукописи:
„Вскоре объявил он о введении во всей стране христианства и католической веры, и передал людям послание короля Улава Трюгвасона, и поведал им, сколько в той вере благости и величия. Эрик не спешил отойти от своей прежней веры, но Тьодхильд сразу восприняла новое учение и повелела строить церковь недалеко от дома. И назвали эту церковь ее именем, и там она и другие признавшие христианство, а таких было много, имели обыкновение произносить свои молитвы. Приняв веру, Тьодхильд отказалась от сожительства с Эриком, чем вызвала его великую досаду“ (Grey, 1930)». —
Прим. авт.
(обратно)
18
«Снорри рассказывает, как король Харалд привел в Палестину все свое войско и двинулся на Иерусалим, покоряя крепости и города. Он заключает:
„…Под властью Харалда земли эти не подвергались огню и разорению. И он дошел до реки Иордан и совершил омовение, как это было принято у паломников. Харалд возложил богатые дары на гроб господень и к святому кресту и у других святынь Палестины. Он охранял дороги на всем пути до Иордана, казня грабителей и других разбойников“ (Holtsmark and Seip, 1942).
Следующим норвежским королем, выступившим против мусульманской экспансии, был Сигюрд Мангюссон. Король Сигюрд отплыл из Норвегии с шестьюдесятью ладьями; зиму он мирно провел как гость короля Англии Генриха I. Далее начались битвы за дело католической церкви. Сперва он сражался с мусульманскими захватчиками в Португалии и Испании, убивая всех, кто отказывается креститься, затем распространил свою активность на Марокко и Балеарские острова. Сицилия уже была покорена его норвежскими предшественниками, которые поставили там у власти своего христианского герцога. Соотечественники на Сицилии приняли Сигюрда так хорошо, что он возвысил герцога Родгейра в ранг короля; впоследствии король Родгейр покорил изрядную часть Апеннинского полуострова и его королевское семейство норманнского происхождения породнилось с римским императором. Столь же дружественный прием был оказан Сигюрду королем Балдуином в Иерусалиме. Балдуин и патриарх поднесли Сигюрду священные реликвии, с тем чтобы он продолжал сражаться за христианство и учредил в Норвегии архиепископство. Сигюрд выполнил оба обязательства. Наиболее выдающимся его подвигом было взятие в 1110 году неприступного дотоле города-крепости Сидон в Ливане, который десятилетиями не давал покоя христианским паломникам. Здесь до наших дней сохранилась мемориальная надпись в честь победы норманнов. Оставив свои суда и большую часть войска в Средиземноморье для дальнейшей службы, король Сигюрд направился обратно в Норвегию верхом на коне. Христианская Европа принимала его с великими почестями; между королем и двумя римскими императорами — в Константинополе и Риме — установилась тесная дружба.
Затем Ярл Рагнвалд и Эрлинг Скакке, сопровождаемые епископом Вильялмом, на пятнадцати длинных ладьях с множеством воинов повторили маршрут Сигюрда от Норвегии до Средиземного моря через Гибралтар. Совершив по пути набеги на мусульманские области Португалии и Испании, они тоже закончили поход паломничеством в святую землю и на реку Иордан.
Во исполнение договоренности между норвежским королем и папским нунцием в Иерусалиме папа Анастасий IV в 1153 году направил из Рима в Норвегию кардинала Николая. Кардинал и Сигюрд согласились посвятить в сан архиепископа Юна Биргерсона. Согласно Снорри, еще ни одному чужеземцу не оказывали в Норвегии столь восторженного приема, какой ожидал кардинала Николая, и он вернулся в Рим с множеством дружественных даров. В это время скончался папа Анастасий, и новым папой избрали самого Николая, принявшего имя Адриана IV. Исландец Снорри пишет: „И прибывшие в Рим во времена его папства рассказывают, что, какие бы важные дела ни обсуждал он с другими мужами, он прежде всего принимал норманнов, если они желали беседовать с ним“ (там же).
Вскоре после того, в 1163 году, Ватикан назначил Стефана папским нунцием в Бергене, главном порте захода гренландских судов. Здесь он первым делом встретился с епископом Исландии Брандом и вторым архиепископом Норвегии — Эйстейном. После чего они совместно с пятью норвежскими епископами и многочисленными священниками произвели коронацию нового норвежского короля, восьмилетнего Магнюса Эрлингсона». —
Прим. авт.
(обратно)
19
«Это смешение в Америке и в Полинезии почитаемого легендарного народа с впервые прибывшими европейцами принесло выгоду последним, хотя и стоило жизни капитану Куку. При „открытии“ им Гавайских островов капитана Кука приняли за белого светловолосого бога-прародителя Роно (Лоно); когда же ошибка открылась, его убили. Его уцелевший товарищ капитан Кинг писал потом: „Нас обычно считали представителями расы, превосходящей их самих, и часто говорили, что великие Эатоа (боги-прародители) обитают в нашей стране“ (Соок, 1784)».(
Прим. авт.)
(обратно)
20
Из Полинезии — Chenopodium и Solanum insulaepaschalis; id Америки — Scirpus riparius (главный строительный материал), Sophora toromiro (здесь дикорастущее дерево, наиболее ценимое для резных изделий), Lycium carolineanum (дикий кустарник, съедобные ягоды), Cyperus vegetus (съедобные корневища) и Polygonum acuminatum (лекарственное).
(обратно)
21
Морская лига (межд.) ≈ 5,560 км. —
Прим. ред.
(обратно)
22
Плавание на камышовой ладье «Тигрис», когда в Персидском заливе и в Индийском океане с 23. XI. 1977 по 29. III. 1978 г. было пройдено 6800 км. убедило Тура Хейердала о вескости предположений о том, что Дильмун — это область острова Бахрейн и прилегающей части Аравийского полуострова. Макан — восточная часть Омана, Мелухха — область реки Инд и приморье по обе стороны от ее устья. Одновременно Хейердал показал, что в принципе такая ладья могла пройти и более длинный путь, отделяющий афро-азиатский регион от Южной Америки. —
Прим. перев.
(обратно)
23
Как указывал еще в 1921 г. Диксон, лишь около 250 полинезийских слов либо совпадают с малайскими, либо восходят к общим с ними корням. Поскольку, подчеркивал он, известно минимум 25 тысяч полинезийских слов, «сходство ограничивается всего одним процентом — явно недостаточная пропорция, чтобы говорить о расовой близости».
(обратно)
24
Amlet P. La Glyptique Mesopotamienne Archaique. Paris, 1961.
(обратно)
25
По срезу стебля, доставленного в нашу страну со строительства «Тигриса», специалисты определили это растение как рогоз узколистный (Typha angustifolia), который в обиходе принято называть «камышом». Это обиходное название и употребляется в переводе, как более удобное для словообразования (камышовый, например), чем рогоз. —
Прим. ред.
(обратно)
26
Salonen A. Die Wasserfahrzeuge in Babylonien. Ed. K. Tallquist. Studia Orientalia edidit Societas Orientalis Fennica, 1969, vol. VIII,4, s. 70.
(обратно)
27
Бытие, гл. 15.
(обратно)
28
Tallquist K. Gilgames‑eposet. Stockholm, 1977, s. 22
(обратно)
29
Бытие, гл. 6.
(обратно)
30
Tallquist. Op. cit., s. 125.
(обратно)
31
Glob P. V. Al‑Bahrain. Copenhagen, 1968, p. 214.
(обратно)
32
Bibby G. Looking for Dilmun. New York, 1969, p. 263.
(обратно)
33
Kramer S. N. Sumerian Mythology. A study of spiritual and literary achievements in the third millenium B. C. Philadelphia, 1944, pp. 37‑38.
(обратно)
34
Oppenhein A. L. The Seafaring Merchants of Ur. Journ. Amer. Oriental Soc., 1954, vol. 74, No 1, pp. 6‑17.
(обратно)
35
Gordon E. I. The Sumerian Proverb Collektion: A Preliminary Report. Journ. Amer. Oriental Soc., 1954, vol. 74, No 2, pp. 82‑85.
(обратно)
36
Salonen. Op. cit., ss. 12‑14, 49, 66, 70.
(обратно)
37
Woolley C. L. The Sumerians. New York, 1965, pp. 7‑8, 192‑194.
(обратно)
38
Kramer. Op. cit., p. 60.
(обратно)
39
Woolley. Op. cit., pp. 35‑45.
(обратно)
40
Glob. Op. cit.
(обратно)
41
Bibby. Op. cit., p. 80.
(обратно)
42
Вскоре после захода «Тигриса» на Бахрейн датские археологи возобновили раскопки дильмунского порта. В черте города они нашли глубокую выемку, огражденную валами, и установили, что в прилив суда с малой осадкой могли входить прямо в высеченный в каменистом грунте защищенный бассейн внутри обращенной к морю городской стены, которая в таких случаях играла роль мола.
18
(обратно)
43
Bibby. Op. cit., 1969, pp. 186‑189.
(обратно)
44
Хейердал Т. Аку‑аку. Тайна острова Пасхи. М., «Мысль», 1959,
Heyerdahl T. Art of Easter Island. London, 1976.
(обратно)
45
Mallowan M. E. L. Nimrud and its remains. New York, 1966, vol.1, pp. 78‑81, 323.
(обратно)
46
Bibby. Op. cit., 1969, pp. 67‑77, 160‑161.
(обратно)
47
Glob. Op. cit., p. 20.
(обратно)
48
Journal of Oman Studies, 1976.
(обратно)
49
Bibby. Op. cit., 1969, pp. 191, 219‑220.
(обратно)
50
Woolley. Op. cit., pp. 45‑46.
(обратно)
51
Bibby. Op. cit., p. 220.
(обратно)
52
Plinius. Naturalis Historiae, v. VI.
(обратно)
53
Bibby. Op. cit., 1969, p. 219.
(обратно)
54
Kramer. Op. cit., p. 112.
(обратно)
55
Bibby. Op. cit., 1969, pp. 221‑222.
(обратно)
56
Там же, с. 192.
(обратно)
57
Dales G. F. Harrapan outposts on the Makran Coast. Antiquity, 1962, vol. 36, No 142, pp. 86‑92.
(обратно)
58
Plinius. Op. cit., v. VI.
(обратно)
59
Tallquist. Op. cit., s. 91.
(обратно)
60
Khan F. A. Indus Vallev Civilisation. In: «Cultural Heritage of Pakistan» Karachi, 1966, p. 11.
(обратно)
61
Raikes R. L. The End of the Ancient Cities of the Indus. American Anthropologist, 1964, vol. 66, No 2, p. 291.
(обратно)
62
Rao S. R. Shipping and Maritime Trade of the Indus People. Expedition, 1965, University of Penn., Philadelphia, vol. 7, No 3, pp.30‑37.
(обратно)
63
Rao S. R. A “Persian Gulf” Seal from Lothal. Antiquity, 1963, vol. 37, No 146, pp. 96‑99.
(обратно)
64
Mackay E. J. H. Further Excavations of Moherijo‑Daro. New Delhi Government Press, 1938, vol. I, pp. 340‑341.
(обратно)
65
LeBaron Bowen R. Jr. Boats of the Indus Civilisation. The Mariners Mirror, 1956, 41‑42, pp. 279‑290.
(обратно)
66
Fairserius W. A. The Roots of Ancient India. The University of Chicago Press, 1975, pp. 277‑278.
(обратно)
67
Plinius. Op. cit., vv. VI, XXXVII.
(обратно)
68
Lawrence D. B. Ms. 26 February 1977.
(обратно)
69
Heyerdahl T. Early Man and the Ocean. London, 1978, pp. 40‑63.
(обратно)
70
Red Sea nad Gulf of Aden Pilot. London, 1967, pp. 557‑559.
(обратно)
71
Plinius. Op. cit., v. VI.
(обратно)
72
Karageorgis V. The Ancient Civilization of Cyprus. New York, 1969, p. 37.
(обратно)
73
Evans J. D. The Prehistoris Antiquities of Maltese Islands. London, 1971, pp. 212‑214.
(обратно)
74
Hood S. The Minoans' Crete in the Bronze Age. London, 1971, p.29
(обратно)
75
Тексты Платона об Атлантиде цитируются по кн.:
Жиров Н. Ф. Атлантида, М., «Мысль», 1964, с. 384‑394.
(обратно)
76
Генеральный секретарь ООН ответил очень теплым посланием, от души поздравив команду с успешным завершением эксперимента и заверив, что ее призыв не пройдет незамеченным в ООН.
(обратно)
77
1
(обратно)
78
2
(обратно)
79
3
(обратно)
80
Н. Schurtz. Das Augenornarnent und verwandte Probleme. Abh. Phil. — Hist. Kl. Kgl. Sachs. Ges. Wiss., vol. XV, N 2. Leipzig, 1895. Heyerdahl. American Indians in the Pacific. London — Chicago, 1952, p. 116-119.
(обратно)
81
4
(обратно)
82
5
(обратно)
83
Подробное иллюстрированное описание этого и остальных монументов на культовых террасах Пуамау см. в монографии: Reports of the Norwegian Archaeological Expedition to Easter Island and the East Pacific. Ed. Heyerdahl and Ferdon, vol. 2, Report 10, i 1965.
(обратно)
84
К. von den Steinen. Die Marquesaner und ihre Kunst, vol. 2. Berlin, 1925-1928.
(обратно)
85
Ralph Linton. Archaeology of the Marquesas Islands. B. P. Bishop Mus. Bull. 23. Honolulu, p. 162.
(обратно)
86
Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода. М., 1959, стр. 185; A. Metraux. Ethnology of Easter Island. В. Р. Bishop Museum Bull, N 160. Honolulu, I960, p. 308.
(обратно)
87
Анри Лот. В поисках фресок Тассили. М., 1976.
(обратно)
88
Такую же версию записал этнолог Э. Хэнди, который в 19201921 годах собирал маркизские предания на других островах архипелага (Е. S. С. Handy. Polynesian Religion. Bishop Museum Bull. 34, Honolulu, 1927, p. 105).
(обратно)
89
E. S. С. Handy. Marquesan Legends. В. P. Bishop Museum Bull 69. Honolulu, 1931, p. 131.
(обратно)
90
Подробнее об инкских преданиях и маршрутах в Полинезию см.: Т. Хейердал. Приключения одной теории. Л., 1969, стр. 61-75; Heyerdahl. American Indians in the Pacific. London, 1952, P. 556-569.
(обратно)
91
L. R. Sullivan. Marquesan Somatology with comparative s on Samoa and Tonga. B. P. Bishop Museum Memoirs, vol. 9, N 2 Honolulu, 1923, p. 7-299.
(обратно)
92
Pedro Pizarro. Relation of the Discovery and Conquest of the Kingdom of Peru. Рукопись 1571 года в переводе Р. A. Means. New York, 1921, p 380.
(обратно)
93
Pedro Fernandez de Quiros. Narrative of the Second Voyage of the Adelantado Alvaro de Mendana. The Hakluyt Society, Second Series, N 14. Nendeln-Lichtenstein, 1967, p. 15-29, 150.
(обратно)
94
D. J. Wolfel. Die Trepanation. Studien uber Ursprung, Zusammenhange und kulturelle Zugehorigkeit der Trepanation. Anthropos, vol. 20. Wien, 1925, S. 42.
(обратно)
95
С. S. Stewart. A Visit to the South Seas in the U. S. Ship «Vincennes» during the years 1829 and 1830. Ed. by VV. Ellis. London, 1832; E. S. C. Handy. The Native Culture in the Marquesas. B. P. Bishop Museum Bull. 9. Honolulu, 1923, p. 269. Подробности о трепанациях в Полинезии см. также: Т. Heyerdahl. American Indians in the Pacific. London, 1952, p. 655-665.
(обратно)
96
F. S. J. Brown Flora of Southeastern Polynesia, vol. I, B. P. Bishop Museum Bull 84. Honolulu, 1931, p. 49, 137.
(обратно)
97
Там же, vol. III, B. P. Bishop, Bull. 130. Honolulu, 1935, p. 190.
(обратно)
98
E. Nordenskidld Origin of the Indian Civilization in South America. Comparative Ethnographic Studies, vol. 29. Goteborg, 1931, P. 269.
(обратно)
99
R. В. Dlxon. The Problem of the Sweet Potato in Polynesia. American Anthropologist, vol. 34. Menasha, Wis., 1932, p. 59.
(обратно)
100
S. K. Lothrop. Aboriginal Navigation of the West Coast of South America. Royal Anthropological Institute, vol. 62. London, 1932, p. 238; R. B. Dixon. The long voyages of the Polynesians. Proceedings American Philosophical Society, vol. 74, N 3, 1934, p. 173.
(обратно)
101
Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода. М., 1959, стр. 251; P. H. Buck An Introduction to Polynesian Anthropology. B. P. Bishop Museum Bull. Honolulu, 1945, p. 108-111.
(обратно)
102
T. Heyerdahl. American Indians in the Pacific. London, 1952, p. 428-453.
(обратно)
103
Е. S. С. Handy. Marquesan Legends. В. P. Bishop Museum Bull., N 69. Honolulu, 1930, p. 137.
(обратно)
104
J. В. Hutchinson, R. A Silow and S. G. Stephens. The Evolution of Qossypium and the Differentiation of Cultivated Cottons. London, New York, Toronto, 1947.
(обратно)
105
О. F. Cook and R. С. Cook. The Mano, or Managua, as a Transpacific Plant. Journal of Washington Academy of Sciences, vol. 8, 1918, p. 1G9; ?. D. Merrill. Comments of Cook's Theory… Philippine lournal of Science, vol. 17. Manila, 1920, p. 195; G. F. Carter. Plant Evidence for early contact with America. S. — W. Journal of Anthropology, vol. 6, N 2, Albuquerque, N. M., 1950, p. 181.
(обратно)
106
Т. Heyerdahl. Did Polynesian Culture Originate in America? International Science, vol. 1. New York, 1941.
(обратно)
107
Т. Хейердал. Вместо предисловия. В книге Ю. Сенкевича «На „Ра“ через Атлантику», Л., 1973. стр. 4.
(обратно)
108
Искаженная цитата из Библии.
(обратно)
109
1869 nach Valparaiso gesandt
(обратно)
110
(A. Sharp. Ancient voyagers in the Pacific. Lnd, 1957; idem. Polynesian navigation to distant islands. Lnd, 1901; idem. Ancient voyagers of Polynesia. Berkeley, 1964).
(обратно)
111
Перевод сделан с 21-го английского издания 1954 года. Послесловие автора взято из 10-го английского издания 1951 года. Норвежские, испанские и английские имена мы даем в форме, наиболее близкой к произношению этих языков; лишь в собственных именах в нескольких случаях мы оставили транскрипцию, ставшую уже традиционной в русское языке: так, мы пишем Тор, Кнут и Герман — вместо более близких к норвежскому произношению Тур, Кнют, Херман.
Географические названия даны в транскрипции Большого атласа мира, изданного Главным управлением геодезии и картографии в 1954 году. Из необычных у нас географических названий мы сохраняем часто употребляемое автором «Южное море» — как на английском языке называют южную часть Тихого океана.
(обратно)
112
Южная Америка, как предполагают, соединялась с Австралией и Юго-Восточной Азией сушей, существовавшей в южной части Тихого океана очень давно, в конце палеозоя, то есть около 200 миллионов лет тому назад. Некоторые геологи считают, что в юго-восточной части Тихого океана могла существовать суша и позже, но все же задолго до появления человека.
(обратно)
113
Якоб Роггевеен — голландский мореплаватель (1669–1733), совершивший несколько путешествий в южную часть Тихого океана. Во время одного из них им был открыт остров Пасхи, получивший свое название оттого, что день его открытия совпал с днем церковного праздника пасхи. Есть сведения, что ранее, в 1687 году, этот остров открыл английский пират Девис.
(обратно)
114
Мурманский конвой — во время Великой Отечественной войны так называли караваны судов, которые через северную часть Атлантического океана под охраной военных кораблей доставляли грузы из США в Мурманск. У берегов Кольского полуострова в охране этих караванов от нападений немцев принимала участие советская авиация.
(обратно)
115
Финмаркен — северная провинция Норвегии, граничащая с СССР.
(обратно)
116
Иванов день — 23 июня, день летнего солнцестояния.
(обратно)
117
Бальса (исп.) — в Южной Америке так называют плоты разной формы, изготовленные из дерева, бамбука, тростника. Бальсовое дерево — дерево с легкой древесиной, охрома (Ochroma lagopus), реже сейба (Ceiba), из которых обычно делают плоты и долбленые челноки. Древесина охромы в высушенном виде легче пробки, но очень прочна и применяется для самолетов и как изоляционный материал.
(обратно)
118
Гринвич Вилледж — деревня на острове Манхаттэн, впоследствии вошедшая в состав Манхаттэнского района Нью-Йорка.
(обратно)
119
Оссининг — городок вблизи Нью-Йорка. Другое его название, Синг-Синг, более известно, так как тем же именем называется находящаяся в этом городе тюрьма, в которой содержались и содержатся ныне многие известные политические заключенные.
(обратно)
120
Фрейхен Петер — датчанин, известный полярный исследователь. Родился в 1886 году, получил медицинское образование, с 1905 по 1924 год участвовал в ряде очень, тяжелых экспедиций в Гренландию. Во время последней экспедиции 1921–1924 годов отморозил себе ногу, которую пришлось ампутировать. Провел много лет в Гренландии; первой его женой была гренландская эскимоска. Им написано несколько интересных книг о Гренландии и эскимосах (есть русские переводы).
(обратно)
121
Каяк — эскимосская лодка, легкий ее каркас обтянут кожей морского зверя.
(обратно)
122
Иглу — эскимосская хижина, которую складывают из прямоугольных кусков твердого снега.
(обратно)
123
Тяжелая вода — окись дейтерия, то есть тяжелого изотопа водорода; содержится в небольшом количестве в обыкновенной воде. Применяется в производстве атомных бомб в атомном котле в качестве замедлителя реакции наравне с графитом. Рьюкан — город в южной Норвегии, в провинции Телемарк, с населением около 8 тысяч; после войны здесь вновь построен завод для производства тяжелой воды.
(обратно)
124
Кумара (или кумера) — название сладкого картофеля, или батата, в Южной Америке и Полинезии.
(обратно)
125
Военная академия, получившая свое название от города Уэст-Пойнт, в котором она находится.
(обратно)
126
Сукре — эквадорская монета.
(обратно)
127
«К востоку от солнца, к западу от месяца» — фраза из норвежской сказки.
(обратно)
128
Конго — по-видимому, муравей из семейства Poneridae; эти насекомые, так же как и семейство Myrmicidae, в отличие от других муравьев, имеют жало на конце брюшка. Муравья Роnеra clavata, живущего в северной части Южной Америки, очень боятся местные индейцы, так как его укус чрезвычайно болезнен и вызывает сильное недомогание.
(обратно)
129
Игуаны — семейство ящериц, включает до 300 видов. Обыкновенная игуана живет в Центральной Америке и Бразилии, преимущественно на деревьях, отлично плавает, питается насекомыми и растениями. Храбро защищается. На игуан охотятся из-за их нежного мяса; яйца также употребляются в пищу.
(обратно)
130
Мачете (исп.) — большой тяжелый нож, употребляющийся главным образом для резки сахарного тростника.
(обратно)
131
Ронжины (или ромжины) — поперечные бревна, которые кладутся поперек плота для его скрепления. На речных плотах в СССР ронжины прикрепляются к продольным бревнам при помощи колец (хомутов), сплетенных из сырых ветвей (вицы).
(обратно)
132
Один момент (исп.).
(обратно)
133
Участников экспедиции (исп.).
(обратно)
134
Участников экспедиции, норвежцев (исп.).
(обратно)
135
Писарро Франсиско (около 1471–1541) — испанский конквистадор, завоевавший государство инков в Перу.
(обратно)
136
Аугустин де Сарате (около 1492–1560) — испанский историк, который составил описание завоевания испанцами Перу.
(обратно)
137
Бониты — рыбы из подотряда скумбриевых.
(обратно)
138
Гарнели — маленькие раки из десятиногих (Decapoda), похожие на креветок.
(обратно)
139
Уолт Дисней — современный американский кинорежиссер-мультипликатор; известны его фильмы «Три поросенка», «Бемби», «Белоснежка и семь гномов» и др.
(обратно)
140
Де Овьедо и Вальдес (1478–1557) — испанский историк, автор хроник.
(обратно)
141
Сюрреализм — сверхреализм. Одно из эстетических течений во Франции, типичное для эпохи кризиса буржуазной культуры. Сюрреалисты утверждают, что источником сверхреалистического искусства является не объективная реальная действительность, а подсознательный мир человека, сны, бред, различные патологические состояния.
(обратно)
142
Морские уточки — усоногие рачки, прикрепляющиеся к камням и плавучим предметам.
(обратно)
143
Спагетти — итальянские очень тонкие макароны без просвета внутри.
(обратно)
144
Тендер — маленькая металлическая рамка с винтом для натягивания тросов или проволоки.
(обратно)
145
Нутодден — город в южной Норвегии в провинции Телемарк с населением около 6 500 человек.
(обратно)
146
Три высокие волны, которые описывает Хейердал, — это, по-видимому, «тсунами» — огромные волны, возникающие при моретрясениях — тектонических подвижках морского дна, очаг которых находится под дном моря или в прибрежной части суши. Волны эти пересекают океан со средней скоростью 200 метров в секунду. Например, волна японского землетрясения 1854 года достигла Сан-Франциско через 12,5 часа; в 1868 году волна землетрясения в Перу через 12,5 часа достигла Гавайских островов, через 19 часов — Новой Зеландии, а через 24 часа — Японии. При проходе через более мелководные участки океана скорость движения волны замедляется до 140 метров в секунду при глубине 2 тысячи метров и до 16–20 метров при глубине 25–50 метров. Подойдя к берегу, волна достигает большой высоты, иногда более 20 метров, и, заливая побережье и опрокидываясь, производит большие разрушения и может послужить причиной гибели десятков тысяч людей. Волны, которые настигли «Кон-Тики», судя по направлению их, шли от берегов Южной Америки.
(обратно)
147
Определение положения корабля в море производится сначала по «счислению» — для этого необходимо знать скорость хода, которая получается из отсчетов лага, и направление движения корабля, определяемого компасом. На «Кон-Тики» лага не было, и скорость хода определялась по отставанию щепок, как это описано в тексте. Но и при полном учете скорости и направления результат получается не вполне верным, так как показания лага несколько неточны, и невозможно также точно учесть снос корабля ветром и течениями. Поэтому необходимо возможно чаще определять положение судна по солнцу или звездам при помощи секстанта. Для этого надо знать также очень точно и время, которое теперь узнают, принимая специальные сигналы времени больших радиостанций; раньше время определялось по точным часам — хронометрам.
(обратно)
148
Некоторые острова Полинезии, о которых упоминает Хейердал, были открыты впервые русскими мореплавателями (И. Ф. Крузенштерном, Ю. Ф. Лисянским, В. М. Головниным, О. Е. Коцебу и др.) и получили русские названия. Так, остров Ангатау был назван именем Аракчеева, остров Такуме — Волконского, остров Рароиа — Барклая де Толли, остров Фангахина получил название «остров Предприятие» — по имени корабля экспедиции О. Е. Коцебу.
(обратно)
149
Морские угри — рыбы из отряда угреобразных; достигают длины 2–3 метров и 65 килограммов веса. Прожорливые хищники. Водятся в тропических и умеренных водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов.
(обратно)
150
Христиания — прежнее название столицы Норвегии Осло.
(обратно)
151
Бинг Кросби — Гарри Л. Кросби — современный американский киноартист.
(обратно)
152
Вахине — по-полинезийски «женщина».
(обратно)
153
Семь гномов — по сказке братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».
(обратно)
154
Какое судно? (франц.).
(обратно)
155
Папирус (Cyperus papyrus) – высокое (достигает 8 метров) травянистое растение из семейства осоковых. Дико растет в странах Африки, занесен кое-где в Средиземноморье. Камыш (виды рода Scirpus) – травянистые растения из семейства осоковых, распространены повсеместно. Тростник (виды рода Phragmites) – крупные многолетние травы (до 7-9 метров высоты в тропиках) из семейства злаков, космополит. – Прим. ред.
(обратно)
156
Как видно из текста, автор считает трепанацию черепа свидетельством высокой культуры народа. С этим согласиться трудно. Известно, например, что некоторые народы, стоящие еще на стадии первобытности, практикуют трепанацию. Можно спорить, приносила ли такая трепанация больше пользы или вреда. Известный советский специалист по истории первобытного общества Н. О. Косвен считал, что последствия подобного врачевания могли быть только отрицательными. – Прим. ред.
(обратно)
157
Объяснение быстрого подчинения ацтеков и инков наличием подобных записей и преданий представляется недостаточным. Важная причина такого хода событий заключалась, очевидно, в том, что и наиболее развитые индейские народы все же сильно уступали по уровню развития производительных сил испанцам. Огнестрельное оружие конкистадоров намного превышало по своим боевым качествам оружие индейцев (см. Н. О. Косвен «Очерки истории первобытной культуры». М., 1957). – Прим. ред.
(обратно)
158
Как известно, индейцы до прихода европейцев не знали ни лошадей, ни рогатого скота. Когда автор говорит о том, что на камышовых лодках перевозили по морю лошадей и скот, он имеет, вероятно, в виду первые годы, последовавшие за завоеванием, когда индейцы уже заимствовали у европейцев их домашних животных, но продолжали еще широко пользоваться своими старыми транспортными средствами. – Прим. ред.
(обратно)
159
A. Cabrera. Balsa de juncos en el Bajo Lucus. Bevista del Istituto de Antropologia de la Universidad Nacional de Tucuman. Vol. I, № 2. Tucuman, 1938.
(обратно)
160
Отрывки из книги С. Хеновеса напечатаны в журнале «Иностранная литература», № 8, 1970. – Прим. ред.
(обратно)
161
Тур Хейердал. В поисках рая. Аку-Аку. М., 1970, стр. 7.
(обратно)
162
Арнольд Якоби. Сеньор Кон-Тики. М., 1970, стр. 37. См., например, Leslie Sklair. The revolt against the machine. – «Cahiers d'Histoire Mondiale», 1970, v. XII, № 3.
(обратно)
163
Тур Хейердал. В поисках рая. М., 1964.
(обратно)
164
Тур Хейердал. Аку-Аку. Тайна острова Пасхи. М., 1959. Последнее издание – «В поисках рая. Аку-Аку». М., 1970
(обратно)
165
Тур Хейердал. Приключения одной теории. Л., 1969
(обратно)
166
Тур Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». М., 1957, стр. 266.
(обратно)
167
American Indians in the Pacific. The Theory behind the Kon-Tiki Expedition. Stockholm – London – Chicago, 1952.
(обратно)
168
Арнольд Якоби. Сеньор Кон-Тики, стр. 236-245.
(обратно)
169
Тур Хейердал. Приключения одной теории, стр. 286-297
(обратно)
170
T. Heyerdahl and A. Skjolsvold. Archaeological Evidence of pre-Spanish Visits to the Galapagos Islands. Memories of the Society for American Archaeology, №. 12, Salt Lake City, 1956.
(обратно)
name=t417>
171
Тур Хейердал. В поисках рая. Аку-Аку. М., 1970, стр. 7.
(обратно)
172
Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М. -Л., 1958. С. 47, 80.
(обратно)
173
См., напр.: Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., 2003; Кулаковский Ю. А. Избранные труды по истории алан и Сарматии. СПб., 2000; Ковалевская В Б. Кавказ и аланы. М., 1984; Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси, 1966; Кузнецов В. А. Очерки истории алан. Владикавказ, 1992; Бубенок О. Б. Аланы-асы в Золотой Орде (XIII в.). Киев, 2004; Лысенко H. H. Асы-аланы в Восточной Скифии. СПб., 2002.
(обратно)
174
Вернадский Г. В. Древняя Русь. М., 1996. С. 267–268.
(обратно)
175
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 78–79.
(обратно)
176
Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 86–131.
(обратно)
177
Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965. С. 106–108.
(обратно)
178
Моргенстьерне Г. Норвежское ass и As «осетин»? / Вопросы иранской и общей филологии. Тбилиси, 1977. С. 205.
(обратно)
179
Танаис — античный город в устье реки Дон (III в. до н. э. — V в. н. э.). В первые века нашей эры входил в Боспорское царство.
(обратно)
180
Один — верховный бог в скандинавской мифологии, могучий шаман, мудрец, хозяин Вальхаллы.
(обратно)
181
Снорри Стурлусон (1178–1241) — средневековый исландский поэт-скальд, историк и политик. Его главный труд — «Круг земной», в котором излагается история норвежских королей с легендарных времен и до 1177 г.
(обратно)
182
Асы — высшие боги германо-скандинавской мифологии.
(обратно)
183
Гюльви — легендарный дроттин (конунг) свеев, правивший в Свеарики (Швеция) до того, как туда пришли асы во главе с Одином.
(обратно)
184
Тор — один из главных богов скандинавской мифологии, бог грома, бури и плодородия.
(обратно)
185
Меларен — озеро в средней части Швеции.
(обратно)
186
Кристиан Крог (1852–1925) — норвежский художник, писал пейзажи норвежской природы, а также реалистические сцены из жизни моряков и бедных горожан.
(обратно)
187
Грегор Иоганн Мендель (1822–1884) — австрийский естествоиспытатель, монах, основал учение о наследственности. Законы Менделя — сформулированные им закономерности распределения в потомстве наследственных факторов, названных позже генами.
(обратно)
188
Геродот (490/480 до н. э. — 430/424 до н. э.) — крупнейший греческий историк и путешественник, автор «Истории» в девяти книгах.
(обратно)
189
Плиний Старший (23/24 — 79) — римский писатель, ученый. Единственный сохранившийся труд «Естественная история» в 37 книгах представляет собой энциклопедию естественнонаучных знаний античности.
(обратно)
190
Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк. Его главные труды посвящены истории Рима и Римской империи.
(обратно)
191
Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ, историк. Много путешествовал, автор «Географии» в 17 книгах.
(обратно)
192
Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — греческий писатель и историк. Главное сочинение — «Сравнительные жизнеописания» о выдающихся греках и римлянах.
(обратно)
193
Имеется в виду французский маршал Жан Батист Бернадот, который в 1810 г. на заседании риксдага был избран новым шведским кронпринцем. Под именем Карла Юхана он был усыновлен Карлом XIII и стал родоначальником династии, которая до сих пор находится в Швеции на престоле.
(обратно)
194
Харальд Прекрасноволосый (ок. 890–940/945) — норвежский конунг (король), впервые объединивший Норвегию в IX в. Наука не располагает бесспорными данными о времени жизни и правления Харальда Прекрасноволосого. Решающую битву в Хаврсфьорде историки раньше датировали 872 г., а теперь считают, что она произошла позже.
(обратно)
195
Хальвдан Черный (840–863) — норвежский конунг, отец Харальда Прекрасноволосого.
(обратно)
196
Рансфьорд — самое большое озеро в губернии Оппланн.
(обратно)
197
Гудбраннсдален — долина в средней части Норвегии.
(обратно)
198
Хюльдра — сказочный персонаж — молодая девушка с коровьим хвостом.
(обратно)
199
Пер, Пол и Аскеладден — три брата, персонажи норвежских сказок.
(обратно)
200
Нордкап — мыс Нордкап в Норвегии, самая северная точка Европы.
(обратно)
201
Олав Трюивасон — король Норвегии в 995—1000 гг., пытался ввести христианство в Норвегии, погиб в битве с шведскими и датскими викингами у Сволвера в 1000 г.; основал Тронхейм.
(обратно)
202
Лейф Эйрикссон, или Лейф Счастливый (ок. 975 — ок. 1022) — исландский викинг, сын Эйрика Рыжего, жил в Гренландии. В 1004 г. плавал в Америку, которую назвал Винландом.
(обратно)
203
Ари Фруде, или Ари Мудрый Торгильсон (1067/68 — 1148) — исландский священник, основоположник традиции записи исландских саг.
(обратно)
204
Древненорвежский, или древнеисландский, язык — общий язык Норвегии и Исландии в Средние века.
(обратно)
205
Хакон IVХаконссон (1204–1263, годы правления 1217–1263) — первый норвежский король, которого короновал римский кардинал Вильгельм Сабинский.
(обратно)
206
Ярл Скули (1189–1240) — норвежский ярл, дядя Хакона, правил страной, когда Хакон Хаконссон был несовершеннолетним, впоследствии претендовал на королевский престол, боролся против Хакона, проиграл и был убит.
(обратно)
207
Гёталанд — историческая область в южной части Швеции.
(обратно)
208
Остров Готланд — остров в Балтийском море, принадлежит Швеции.
(обратно)
209
Лендрман — обладатель земельного пожалования от короля.
(обратно)
210
Хакон Хаконссон — Хакон IV.
(обратно)
211
Эретинг — старейший тинг для восьми трендских губерний в местечке Эра.
(обратно)
212
Вильгельм Сабинский — папский легат в Прибалтике, был направлен папой Иннокентием IV в Берген для коронации Хакона.
(обратно)
213
Иоанн де Сакробоско — английский ученый, умер в 1256 г. в Париже.
(обратно)
214
Герберт из Орильяка (940—1003) — первый профессиональный ученый католической Европы, приобрел известность как преподаватель и руководитель Реймской школы (972–982).
(обратно)
215
Эратосфен Киренский (ок. 276–194 до н. э.) — древнегреческий ученый, математик, филолог, географ, возглавлял Мусейон — научный центр в Александрии.
(обратно)
216
Эней — легендарный родоначальник Рима и римлян, один из главных защитников Трои во время Троянской войны. Ему посвящена поэма Вергилия «Энеида». Не очень понятно, почему Снорри выводит из его имени название Европы. Может быть, потому, что к нему возводили свой род европейские народы — римляне и бритты.
(обратно)
217
См.: «Младшая Эдда» / Пер. O. A. Смирницкой. М., 1994.
(обратно)
218
Йорсалаланд — древнее название Иерусалима и Палестины.
(обратно)
219
Свартахав — так Снорри называет Черное море.
(обратно)
220
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной. Сага об Инглингах / Пер. М. И. Стеблина-Каменского. М., 1980.
(обратно)
221
Свитьод Великая (Великая Швеция), или Холодная: Свитьод, или Свеаланд, означает страну свеев, а Свитьод Великая — это, по Снорри, большие степные пространства к северу от Черного моря. Применяемый в некоторых переводах термин «Великая Швеция» не надо путать со Швецией.
(обратно)
222
Великий Серкланд — обычно так называли землю сарацин или обозначали некоторые области в Северной Африке и Передней Азии.
(обратно)
223
Великий Блаланд — Эфиопия, или Северо-Западная Африка.
(обратно)
224
Ваналанд, или Ванахейм — земля ванов.
(обратно)
225
Асгард — в скандинавской мифологии жилище богов в центре Вселенной
(обратно)
226
См.: Т. Н. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 1993.
(обратно)
227
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
228
См.: «Младшая Эдда»…
(обратно)
229
Гардарика — Русь.
(обратно)
230
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
231
См.: «Младшая Эдда»…
(обратно)
232
Одинсей — г. Оденсе на о. Фюн.
(обратно)
233
Там же.
(обратно)
234
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
235
Ранее современная Швеция называлась Свитьод.
(обратно)
236
См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда…
(обратно)
237
Там же.
(обратно)
238
Йотунхеймен, или Ютунхеймен — обитель великанов.
(обратно)
239
См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда…
(обратно)
240
Там же.
(обратно)
241
Берсерки — в древнескандинавских сказаниях свирепые воины, которые в припадке боевого исступления добивали всех, кто попадался им на глаза.
(обратно)
242
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
243
Олав Лесоруб — сын Ингьяльда Коварного, после смерти отца бежал в норвежские земли и корчевал там лес, отсюда прозвище «Лесоруб».
(обратно)
244
Nordisk Familiebok, Konversations bxikon och Realencyclopedi, Stockholm, 1903–1926.
(обратно)
245
Ворона — давнее прозвище жителей Венделя. Оно было перенесено на Оттара, потому что он был погребен там или там жил.
(обратно)
246
Ракнехауген — самый большой курган Северной Европы. Археологи относят его к VI в.
(обратно)
247
Имеется в виду ярл Хакон Эйриксон (935–995), который был фактически единовластным правителем Норвегии в 970–995 гг.
(обратно)
248
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
249
Там же.
(обратно)
250
У Снорри — дроттин свеев.
(обратно)
251
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
252
Там же.
(обратно)
253
Иногда в русском переводе его называют Снэр Старый.
(обратно)
254
Мара — ведьма, душащая спящих.
(обратно)
255
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
256
Скипландер, или Скидбладнир — корабль Одина, на котором он переплывал через большие моря и который можно было свернуть, как платок.
(обратно)
257
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
258
Там же.
(обратно)
259
Аланы — группа ираноязычных кочевых племен. В I в. н. э. осели на Южнорусской равнине восточнее Дона и севернее Кавказа. Неоднократно вторгались в пределы Римской империи.
(обратно)
260
У Снорри — Аустрвег, или Восточный путь, т. е. путь «из варяг в греки». Аустрвег выступает также в качестве обозначения Руси.
(обратно)
261
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
262
Здесь и далее у Снорри — Свитьод.
(обратно)
263
У Снорри — Браут-Энунд. Braut, или по-норвежски bryte орр, bryte vei, означает «корчевать пни, прокладывать дорогу».
(обратно)
264
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
265
Вендельский период, или вендельское время — эпоха, непосредственно предшествовавшая эпохе викингов, т. е. VI–VIII вв.
(обратно)
266
«Кубок браги» — бытовавший обычай, когда во время тризны по конунгу или ярлу тот, кто ее устраивал и был наследником, должен был сидеть на скамеечке перед престолом до тех пор, пока не вносили кубок, который назывался «кубком браги». Затем преемник должен был встать, принять кубок, дать обет совершить что-то и осушить кубок. После этого наследника возводили на престол, который раньше занимал его отец, и он вступал в наследство.
(обратно)
267
Восточная держава, или восточные земли (Аустррики), т. е. земли по пути «из варяг в греки», к востоку от Балтийского моря.
(обратно)
268
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
269
Саттон-Ху — древний курганный некрополь в Южной Англии, сооруженный в честь короля англосаксов в середине VII в.
(обратно)
270
Petersen N. M. Danmarks Historie. Schubote, Kjøbenhavn, 1854.
(обратно)
271
Рагнар Лодброк (ок. 750–845) — легендарный ютландский конунг, викинг, совершил поход на Париж.
(обратно)
272
Свеарики — страна свеев.
(обратно)
273
У Снорри здесь и далее — свеев.
(обратно)
274
Венир — озеро Венерн.
(обратно)
275
У Снорри — в Свитьоде.
(обратно)
276
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
277
Ракнехауген — самый большой курган Северной Европы. Археологи относят его к VI в.
(обратно)
278
Skre Dagfinn. Herredømmet — Bos og besittelse på Romerike 200— 1350 e. kr., Doktoravhandling, 1996.
(обратно)
279
Раумарики — Румерике.
(обратно)
280
Хедмарк.
(обратно)
281
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
282
Там же.
(обратно)
283
Там же.
(обратно)
284
Там же.
(обратно)
285
Данавельди — страна данов.
(обратно)
286
Хрингарики — Рингерике.
(обратно)
287
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
288
Там же.
(обратно)
289
Йоль — языческий праздник в середине зимы.
(обратно)
290
Там же
(обратно)
291
Финнланд (Finnland) — буквально «земля финнов». Под финнами в средневековых источниках понимались как финны, так и лопари.
(обратно)
292
Квенланд (Kvenland) — земля квенов. Квены — финское население прибрежной полосы у северной оконечности Ботнического залива.
(обратно)
293
См.: Т. Н. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе…
(обратно)
294
Там же.
(обратно)
295
Там же.
(обратно)
296
Месяц «торри» в Исландии в древности — с третьей недели января по третью неделю февраля.
(обратно)
297
См.: Т. Н. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе…
(обратно)
298
Вестланн — Западная Норвегия.
(обратно)
299
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
300
Там же.
(обратно)
301
Там же.
(обратно)
302
Йотланд — Ютландия.
(обратно)
303
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
304
Там же.
(обратно)
305
Хакон Воспитанник Адальстейна, или Хакон Добрый.
(обратно)
306
Винчестерская рукопись — основной источник информации по событиям до 924 г. Известна также под названием «Хроника Паркера», по имени архиепископа Кентерберийского Мэтью Паркера, в чьей библиотеке она находилась.
(обратно)
307
Кердик — в русской транскрипции иногда Цердик, саксонский предводитель, умер ок. 534 г. Прибыл в Англию в конце V в., в течение 20 лет вел войну с бриттами.
(обратно)
308
Fell Christine E. Götter und Heroen der Nordisehen Welt, J: Wilson, David. Kulturen und Norden. Die Welt der Germanen, Kelten und Slawen 400—1100 n. chr. Verlag C. H. Beck, München, 1980.
(обратно)
309
См.: «Младшая Эдда»…
(обратно)
310
Кентерберийская хроника отличается тем, что написана на двух языках — древнеанглийском и латыни. Рукопись была создана в аббатстве Сент-Августин в Кентербери около 1100 г.
(обратно)
311
Фракия — историческая область на востоке Балканского п-ва, между Эгейским, Черным и Мраморным морями. Сегодня — в составе Турции, Греции и Болгарии.
(обратно)
312
См.: «Младшая Эдда»…
(обратно)
313
Løftingsmo Arnt. Edda i Aust. Gudediktinga i lys av kvitsjø-handelen og det eurasiske verdsbildet, Solum Forlag. Oslo, 1990.
(обратно)
314
«История франков» — труд епископа Григория Турского, выдающийся памятник европейской культуры раннего Средневековья. В нем описываются события VI в., относящиеся к истории возникновения и развития государства франков.
(обратно)
315
Царь Эней — один из главных защитников Трои во время Троянской войны, стал затем родоначальником Рима и римлян. Ему посвящена поэма «Энеида» Вергилия.
(обратно)
316
Аланы (асы, ясы) — народ скифо-сарматского происхождения, под этим именем известен с I в. н. э. До Великого переселения народа занимали территорию от Кавказа на юге до Волго-Донского междуречья на Севере. В эпоху Великого переселения дошли до Пиренеев и Северной Африки. Средневековое аланское государство на Кавказе разрушено монголо-татарами и Тимуром в XIII–XIV вв. С середины XVIII в. называются по-русски осетинами.
(обратно)
317
Император Валентиниан назвал троянцев за непоколебимую их смелость «франками», что на аттическом языке значило «дикие». (См.: Das Buch von der Geschichte der Franken // Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. 4a. Darmstadt, 1982.)
(обратно)
318
Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий ученый. Разработал математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли, позволявшую вычислять их положение на небе. Совместно с теорией движения Солнца и Луны она составила так называемую птолемееву систему мира.
(обратно)
319
Фракийцы — группа древних индоевропейских племен (даки, одрисы, геты и др.), населявших северо-восток Балканского п-ва и северо-запад Малой Азии. В ходе Великого переселения народов смешались с другими племенами, став одним из этнических элементов при формировании болгар, румын и др.
(обратно)
320
«Народы моря». После падения Трои последовал период миграции. Ахейцы были вытеснены с привычных мест более сильными греческими племенами, пришедшими с севера. Это привело, в свою очередь, к давлению на людей, проживавших на островах и западном побережье Средиземного моря. В своем передвижении в поиске пристанища они постепенно достигли побережья Северной Африки. Египтяне называли эти племена «народами моря», в Палестине их назвали филистимлянами.
(обратно)
321
Боспор Киммерийский — древнегреческое название Керченского пролива в отличие от Боспора Фракийского (теперешний Босфор) — древнегреческого названия пролива, соединявшего Черное море с Мраморным.
(обратно)
322
Боспорское царство — государство, существовавшее в Крыму, восточном Причерноморье и Приазовье в V в. до н. э. — IV в. н. э. Столица — Пантикапей (современная Керчь). Объединяло греческие города-колонии — Феодосию, Горгиппию (современная Анапа) и др. С конца II в. до н. э. — часть Понтийского царства, затем — вассал Рима. Уничтожено гуннами.
(обратно)
323
Тмутаракань — древнерусский город X–XII вв. на Таманском полуострове, современная станица Таманская. Возник на месте античной Гермонассы и хазарской Таматархи. В результате борьбы с половцами и Византией Тмутараканское княжество в начале XII в. прекратило свое существование.
(обратно)
324
«Деяния франков» (Gesta Francorum) — ранняя редакция названия книги Григория Турского «История франков».
(обратно)
325
Паннония — в древности территория на юге Европы, лежащая к югу и западу от Дуная, ныне территория Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии. Она находилась под римским владычеством с 35 г. до н. э., став римской провинцией в 6 г. н. э.; после ухода римлян в конце IV в. Паннония перестала существовать как единое целое. Древние германские генеалогические легенды помещают одну из прародин германцев в район Танаиса и Меотского болота, называя этот район Паннонией.
(обратно)
326
Гандвик — так в исландских висах и сагах обозначались Белое море и Ледовитый океан.
(обратно)
327
Павел Орозий (ок. 385–420) — римский историк и христианский теолог V в. Его основной труд — «Семь книг истории против язычников» — написан по указанию Августина, чтобы доказать, что христианство явилось спасением для человечества.
(обратно)
328
См.: Английские средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий / Пер. с англ. В. И. Матузовой. М., 1979.
(обратно)
329
Там же.
(обратно)
330
Хольмгард — древнескандинавское обозначение Новгорода.
(обратно)
331
Северный калот — Заполярье, полярные районы Норвегии, Швеции и Кольского п-ва.
(обратно)
332
Беармы — бьярмы.
(обратно)
333
Терский берег — восточное побережье Кольского полуострова.
(обратно)
334
См.: Английские средневековые источники…
(обратно)
335
Ален — локоть, старинная норвежская мера длины, равная 0,6275 м.
(обратно)
336
См.: Английские средневековые источники…
(обратно)
337
Солид — римская, позднее византийская золотая монета стала чеканиться с 309 г. Солид был позаимствован у Рима германскими народами и послужил образцом золотых монет раннего Средневековья в Западной Европе.
(обратно)
338
См.: Т. Н. Джаксон. Исландские королевские саги о Восточной Европе…
(обратно)
339
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
340
Там же.
(обратно)
341
Там же.
(обратно)
342
Куфийские дирхамы — старинные арабские монеты с надписями, сделанными куфическим декоративным шрифтом (по названию города Куфа).
(обратно)
343
Тимерёвский могильник находится на Верхней Волге, под Ярославлем.
(обратно)
344
Хакон Воспитанник Торира (1093–1094) — сын конунга Магнуса (1066–1069).
(обратно)
345
Хольмгард — городище под Новгородом.
(обратно)
346
Имеется в виду Северный морской путь.
(обратно)
347
Nilsen Sverre. Hvem befolket Skandinavia, 2001.
(обратно)
348
Beazley, R., Forbes, N. og Birhett, G. From the Varangians to the Bolsheviks, Oxford, 1918.
(обратно)
349
Имеется в виду «Повесть временных лет».
(обратно)
350
Имеется в виду «Повесть временных лет».
(обратно)
351
Михаил — византийский император Михаил III (842–867).
(обратно)
352
См.: «Повесть временных лет».
(обратно)
353
Там же.
(обратно)
354
Там же.
(обратно)
355
Там же.
(обратно)
356
Holme по-норвежски — «небольшой остров».
(обратно)
357
Omeljan Pritsak. The Origin of Rus. Harvard University Press, 1981.
(обратно)
358
«О происхождении имени и народа российского».
(обратно)
359
«Бертинские анналы» (Annales Bertiniani) — хроники аббатства Сен-Бертьен, ныне Сен-Омер, в департаменте Па-де-Кале. Охватывают историю государства франков в 830–882 гг. Для истории Древней Руси интерес представляет запись от 839 г., в которой говорится о прибытии ко двору императора Людовика Благочестивого послов от византийского императора Феофила (829–842). С византийским посольством были люди, называвшиеся россами и попавшие в Византию в качестве послов своего правителя. Считается, что это первое упоминание названия «Русь».
(обратно)
360
Основной труд Омельяна Иосифовича Прицака The Origin of Rus («Происхождение Руси») вышел в 1981 г. на английском языке. Прицак (1919–2006) родился на Украине, эмигрировал, жил и работал в США. Книга на русский язык не переведена.
(обратно)
361
Або (совр. Турку) — город в Финляндии, где был заключен мир между Швецией и Россией после войны 1741–1743 гг., которая закончилась поражением Швеции. По условиям мира Швеция должна была уступить России небольшую территорию в Юго-Восточной Финляндии.
(обратно)
362
Рослаген — прибрежная область в Восточной Швеции.
(обратно)
363
Речь идет об отрывке из трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей».
(обратно)
364
Сирийская церковная хроника — анонимная хроника, написанная в 555 г. неким жителем сирийского города Амиды. Основу его труда (кн. III–VI) составляет переведенная с греческого «История» Захарии Митиленского (отсюда условное имя автора — Псевдо-Захария, по имени которого стала называться и сирийская анонимная компиляция). После описания амазонок вблизи Азовского моря упоминается «соседний с ними народ „хрос“, мужи с огромными конечностями, у которых нет оружия и которых не могут носить кони из-за их конечностей».
(обратно)
365
Арабский писатель и географ персидского происхождения ибн Хордадбех (полное имя — Абу-ль-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбех), ок. 820 — ок. 912/13. В его сочинении «Книга путей и стран» (ок. 880–889 гг.) содержатся самые ранние в арабской географии упоминания о русах, которых он считает разновидностью славян.
(обратно)
366
Фризы — народ, живший на противоположном от Англии берегу Северного моря и на Фризских островах.
(обратно)
367
Битва у Броваллы — битва, которая произошла якобы в древние времена на поле Броваллы, в провинции Эстергётланд, между датским конунгом Харальдом Боезубом и шведским конунгом Сигурдом Кольцо.
(обратно)
368
Саксон Грамматик (ок. 1140 — между 1206 и 1220) — датский историк, священник, автор «Истории Дании».
(обратно)
369
Ипатьевская летопись — летописный свод XIII — начала XIV в., сохранившийся в списках XIV в. Восходит к южнорусскому летописному своду конца XIII в. Включает «Повесть временных лет» с продолжением до 1117 г. Получила свое название по местонахождению в Ипатьевском монастыре под Костромой.
(обратно)
370
Алдейгьюборг — древнескандинавское обозначение Ладоги, упоминается при описании событий, относящихся к эпохе викингов.
(обратно)
371
Будины — кочевые племена, обитавшие на территории между Днепром и Волгой в 1-м тыс. до н. э.
(обратно)
372
Стадий — единица измерения расстояний в Древней Греции. Значения стадия варьируют от 177,6 м (аттический) до 192,27 м (олимпийский).
(обратно)
373
Геродот. История: В 9 кн. Л., 1972. Кн. 4-я, с. 108–109.
(обратно)
374
Имеется в виду Скифия.
(обратно)
375
Там же.
(обратно)
376
Гутоны — германское племя, упоминаемое римскими историками (Тацит, Плиний Старший), предки готов.
(обратно)
377
Рожер II (ок. 1095–1154) — норманн по происхождению, первый король Сицилийского королевства, объединил под своей властью владения норманнов в Сицилии и Южной Италии.
(обратно)
378
Абу-ль-Фида (1273–1331) — арабский историк и географ, написал сочинение по всеобщей истории и географии в таблицах с координатами местностей.
(обратно)
379
Римский легион XII Fulminata, что в переводе означает «Громоносный», был сформирован в 58 г. до н. э. и расформирован в начале V в.
(обратно)
380
Император Домициан — Тит Флавий Домициан (51–96), последний римский император из династии Флавиев (с 14 сентября 81–96). Почётный титул «Germanicus» получил в 84 г. за победы над германским племенем хеттов.
(обратно)
381
См.: «Младшая Эдда»…
(обратно)
382
Митридатовы войны — войны понтийского царя Митридата VI Евпатора (132—63 до н. э.) против Рима. Митридат воевал с Римом трижды (в 89–84, 83–81, 74–63 гг. до н. э.). В последней войне был побежден и покончил с собой.
(обратно)
383
Понт, или Понтийское царство, — государство эллинов в Малой Азии в 302 — 64 гг. до н. э.
(обратно)
384
Синопа — древнегреческий город на черноморском побережье Малой Азии, совр. Синоп, административный центр турецкого вилайета Синоп. Основан не позднее VII в. до н. э. как колония г. Милета. В античное время — важный торговый и ремесленный центр Причерноморья. До IV в. до н. э. Синопа находился в номинальной зависимости от державы Ахеменидов. С 183 г. до н. э. входил в Понтийское царство (сначала как резиденция царя, затем — столица). В 70 до н. э. завоёван римским полководцем Лукуллом. С конца IV в. н. э. принадлежал Византии.
(обратно)
385
Митра — древнеиранский бог справедливости, войны и солнца, следящий за исполнением данного слова и договора, блюститель порядка и истины. Правители обращались к Митре с просьбой о покровительстве, ибо небесная благодать фарн, посылаемая Митрой, освящала власть царей, выделяя их из числа смертных. Именем Митридат, т. е. «Дарованный Митрой», называли и других правителей и аристократов в Персии и ряде сопредельных стран.
(обратно)
386
Удины — древний народ, который впервые упоминается Геродотом в V в. до н. э., а затем греко-римскими авторами. Удины жили в северо-западном Прикаспии. Современные удины живут в Азербайджане, в селе Нидж и в районном центре Варташен. Верующие — христиане-григориане.
(обратно)
387
Пер. Тимофея Ермолаева.
(обратно)
388
Ванское царство, или Урарту (урартское название — Биайнили, библейское — «царство Арарат») — государство в Передней Азии в XII–VI вв. до н. э., занимавшее в период своего расцвета всю территорию Армянского нагорья.
(обратно)
389
Великий шелковый путь — общее название (до XVI в.) торговых караванных путей из Китая в Переднюю Азию через Среднюю Азию, по которым привозились шелковые ткани.
(обратно)
390
«Сага об Ингваре Путешественнике» предположительно написана исландским клириком Оддом Сноррасоном (ум. ок. 1200).
(обратно)
391
Норвежская миссия для санталов — организация, учрежденная в 1867 г. в целях миссионерской деятельности в Индии, а позднее и в других странах, в том числе и в Азербайджане. В 2001 г. слилась с Норвежским лютеранским обществом в новую организацию — Нормишун.
(обратно)
392
Wegge Bjørn. Aserbajdsjan. Der 0st møter vest. Santalmisjonens forlag, Oslo, 1995. Эта книга не переведена.
(обратно)
393
Название «Азербайджан» восходит (через среднеперсидское «Адурбадган») к древнеперсидскому «Мада-и-Атурпаткан», т. е. «Атурпатова Мидия» (у греков — «Мидия Атропатена», или просто «Атропатена»). Атурпат (Атропат) — последний ахеменидский сатрап Мидии, который после смерти Александра Македонского провозгласил себя царём ее северной части и основал царство Малая Мидия, или Мидия Атропатена. Толкование названия «Азербайджан» как «страна огней» связано с древней народной этимологией, основанной на созвучии с древнеиранским названием огня.
(обратно)
394
Сасаниды — династия иранских шахов в 224–651 гг. Основатель — Ардашир I (224–239 или 241). В середине VII в. государство Сасанидов было завоевано арабами.
(обратно)
395
Кавказская Албания — одно из древнейших государств на территории Восточного Закавказья, населенное разноплеменными народами на побережье Каспийского моря. Особое место Кавказской Албании в истории определялось тем, что на ее территории были расположены «ворота Кавказа» (город Чола в районе современного Дербента), которые служили мостом между Европой и Азией. Главный город к началу новой эры — Кабала. В I в. до н. э. Албанию, как и Армению, и Иберию, пытались захватить римляне.
(обратно)
396
Аль-Газаль, или Газель (770–864) — крупный поэт Андалусии, прозванный так за свою редкую красоту. Он был не только поэтом, но и дипломатом; эмир назначил его послом при византийском дворе, где в него влюбилась императрица. Аль-Газаль писал сатирические стихи, застольные песни, любовную лирику.
(обратно)
397
Удины (утии) упоминаются Геродотом дважды: при перечислении податного населения XIV сатрапии (III, 93), в которую входили Дрангиана и Кармания — землиВнутреннего Ирана, и при описании персидского войска, уже среди кавказских народов (VII, 68).
(обратно)
398
В мифологии упоминаются два ворона Одина — Хугин и Мунин, которые сообщают ему обо всем, что происходит в мире. Хугин олицетворяет силу интеллектуальной мысли, а Мунин — силу рефлективного мышления, или «память».
(обратно)
399
Кнут Гамсун. В сказочном царстве: мечты и впечатления о Кавказе / Пер. с норвежск. Л. Горлиной. М., 2005.
(обратно)
400
Святой пророк Илия — один из величайших библейских пророков. С малых лет посвятил себя единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве. Илия стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия и обличал израильский народ, который отпал от веры своих отцов и поклонялся языческим идолам. За свое поклонение великому Богу пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице.
(обратно)
401
Руймон — в осетинской мифологии змеевидное чудовище.
(обратно)
402
Осетины — народ, проживающий на Кавказе (численность — около 600 тыс. чел.). Осетинский язык принадлежит к северо-восточной группе иранских языков. Этногенез осетин связан со скифами (VIII–VII вв. до н. э.), сарматами (IV–I вв. до н. э.) и аланами (с I в. н. э.). В западноевропейских и восточных источниках предки осетин назывались аланами, в грузинских — осами, в русских — ясами. После нашествия татаро-монголов (1222) и других завоевателей территория, которую занимали аланы-осетины, сильно сократилась. Осетины сохранили национальный эпос — цикл сказаний о богатырях-нартах, который был частично заимствован у них соседними народами (абхазами, адыгами, карачаевцами и рядом других народов Кавказа). По мнению многих исследователей, нартовский эпос восходит к аланам, в нем явно видны следы эпоса древнейших индоевропейцев.
(обратно)
403
Сарматы — общее обозначение кочевых скотоводческих племен, говоривших, как и скифы, на иранских языках. Этим словом обозначались собственно сарматы (савроматы), часть скифов, языги, аланы, роксоланы и другие племена. В III в. до н. э. сарматы вытеснили скифов из Северного Причерноморья и расселились от нижнего течения Днепра до устья Дуная. В IV в. н. э. были разгромлены пришельцами с востока — гуннами.
(обратно)
404
Парфяне — иранское племя, которое в середине III в. до н. э. основало Парфянское царство, существовавшее с 250 г. до н. э. по 224 г. н. э. к юго-востоку от Каспийского моря. В период расцвета — в середине I в. до н. э. — территория царства простиралась от Двуречья до реки Инд. Парфяне завоевали большую часть современного Ирана и Афганистана, вели войны с греками и римлянами. С 224 г. Парфянское царство входило в государство Сасанидов.
(обратно)
405
Адыги — общее наименование многочисленной в прошлом группы родственных по происхождению племен Северного Кавказа, называвших себя адыге и известных в европейской и восточной литературе со времен Средневековья под именем черкесов. В древности адыгские племена обитали на юго-западе Северного Кавказа и черноморском побережье.
(обратно)
406
Фракийцы — группа индоевропейских племен (даки, одрисы, геты и др.), в древности населяли северо-восток Балканского полуострова и северо-запад Малой Азии. В ходе Великого переселения народов смешались с другими племенами, став одним из этнических элементов при формировании болгар, румын и др.
(обратно)
407
Тохары — древние племена, обитавшие в Средней Азии во II в. до н. э. — 1-м тыс. н. э., язык которых принадлежит к семье индоевропейских. Тохары сокрушили во II в. до н. э. Греко-Бактрийское царство и основали государство Тохаристан в Иране и Северо-Западной Индии.
(обратно)
408
На рубеже нашей эры по берегам Нижнего Дона возникла цепь поселений, экономически и политически тесно связанных с Танаисом. Два из них — Панеардис (Крепостное городище) и Патарва (Подазовское городище) — возникли на территории Азова.
(обратно)
409
Уже в IX–X вв. персидские и арабские путешественники рассказывали о раковинах каури, служивших жителям Мальдивских островов монетами. И сегодня на мальдивских банкнотах изображены эти раковины. Сведений о первых поселениях на Мальдивах практически нет, но есть предположения, что первыми здесь поселились жители Шри-Ланка и Южной Индии. Согласно же теории Хейердала, Мальдивы были заселены народом рединов около 2000 г. до н. э. Они поклонялись солнцу, строили храмы; подтверждение тому — рисунки и тексты, найденные при раскопках.
(обратно)
410
Косма Индикоплов — современник Юстиниана, жил в Византии в VI в. Автор книги «Христианская топография» (ок. 547 г.), ознаменовавшей отход европейской космологии от достижений античной системы Птолемея. Это сочинение имеет значение также как единственный для этого времени европейский источник, содержащий сведения о портах и торговле стран, расположенных по берегам Аравийского моря (Цейлон, Индия, Иран, Аравия, Восточная Африка), которые Косма посетил как купец сам или описал по чужим рассказам.
(обратно)
411
Чен Хо (1371–1435) — китайский адмирал эпохи династии Минь. За 70 лет до Колумба адмирал Чен Хо пересек Индийский океан семь раз! Под его командованием было более 60 кораблей и 27 тыс. матросов. В XV в. это был самый большой флот в мире.
(обратно)
412
Аль-Бируни, Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед (973 — 1048) — среднеазиатский ученый-энциклопедист, писал на арабском языке.
(обратно)
413
Ибн-Баттута, Абу Абдаллах Мухаммед ибн Абдаллах аль-Лавати ат-Ганджи (1304–1377) — арабский путешественник, странствующий купец, описал свои путешествия.
(обратно)
414
Жоао де Барруш (Joao de Barros, 1496–1570) — знаменитый португальский хронист, составивший труд, посвященный истории португальских открытий и завоеваний на Востоке. Часть его труда, озаглавленная «Азия: деяния португальцев в эпоху открытия и завоевания земель и морей Востока», — ценный и достоверный источник по истории португальских открытий и завоеваний на Востоке в XV–XVI вв.
(обратно)
415
См. примечание № 238
(обратно)
416
Мохенджо-Даро — один из крупнейших центров хараппской цивилизации, существовавшей в долине реки Инд в 2500–1500 гг. до н. э. (на территории нынешнего Пакистана). Город имел регулярную планировку, прямые широкие улицы, шедшие параллельно друг другу, налаженную систему водоснабжения и канализации.
(обратно)
417
S. Lindgvist «Tecknens Rike». Stockholm, 1989.
(обратно)
418
Абд-ар-Раззак Самаркандский (1413–1482) — арабский историк, жил в Самарканде.
(обратно)
419
Волжско-Камская Булгария — государство волжско-камских булгар, финно-угорских народов и др. в Среднем Поволжье и Прикамье в X–XIV вв. Столица — город Булгар, с XII в. — Биляр. Была развита торговля с Арабским халифатом, Византией, восточными славянами. Покорена монголо-татарами в 1241 г. и в конце XIV в. разгромлена Тимуром.
(обратно)
420
Ибн-Фадлан, Ахмед ибн-аль-Аббас ибн Рашид ибн-Хаммад — арабский путешественник и писатель первой половины X в. В 921–922 гг. посетил Волжскую Булгарию в качестве секретаря посольства аббасидского халифа ал-Муктадира. Один из немногих арабских путешественников, лично побывавших в Восточной Европе.
(обратно)
421
Мари, марийцы — народ, живущий в среднем течении Волги. Формирование марийских племен относится к началу новой эры. В X–XII вв. марийцы находились под экономическим и культурным влиянием Волжско-Камской Булгарии. В XIII в. территория была захвачена монголо-татарами. В 1551–1552 гг. марийские земли вошли в состав Русского государства.
(обратно)
422
Trotzig Gustaf. Trade and Exchange in Prehistory, Acta Archaeologica Ludensia, 1988.
(обратно)
423
Корабль из Осеберга — погребальный корабль IX в., найденный в Осеберге на берегу Осло-фьорда.
(обратно)
424
Восточная Готландия, или Эстерьётланд, или Восточный Гёталанд — историческая область в южной части Швеции.
(обратно)
425
Ямталанд — теперешний Емтланд.
(обратно)
426
Фьординг — низкорослая норвежская порода лошадей обычно буланой масти.
(обратно)
427
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной…
(обратно)
428
Йортспритский корабль — старейший из найденных в Дании кораблей примерно 300–150 гг. до н. э. Корабль был построен из липового дерева без киля и мачты; шел с помощью команды из 22–24 гребцов. Похож на корабли, изображенные на наскальных рисунках бронзового века.
(обратно)
429
Кяманча — азербайджанский народный струнный смычковый музыкальный инструмент с чашевидным деревянным корпусом, обтянутым сверху осетровой кожей; различные его разновидности имеют от двух до пяти струн. Диапазон инструмента охватывает звуки от «ля» малой октавы до «ля» третьей октавы.
(обратно)
430
Мугам — традиционная система музыкального исполнения, основной жанр азербайджанской музыкальной классической традиции, имеющий древние корни.
(обратно)
431
«Сага о Боси», или «Сага о Боси и Херрауде», относится к так называемым «сагам о древних временах», сохранилась в рукописи XV в. и повествует о приключениях крестьянского сына Боси и его названого брата Херрауда, сына конунга Ринга из Восточной Готландии.
(обратно)
432
Имеется в виду «Песнь о Сигурде» из «Старшей Эдды», где Гуннар, брошенный в змеиную яму, играет на арфе пальцами ног, так как руки у него связаны.
(обратно)
433
См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда…
(обратно)
434
Иоганн Фридрих Блуменбах (1752–1840) — немецкий анатом, зоолог и антрополог. Профессор Геттингенского университета. Один из основателей современной антропологии, положивший начало изучению черепа человека и животных. Исследовал вопрос о происхождении человеческих рас и рассматривал их как разновидности единого вида человека, образовавшиеся под влиянием климатических воздействий.
(обратно)
435
Гуанчи — древнее население Канарских островов. Легенда гласит, что на Тенерифе жили высокие белокурые и светлокожие люди, названные гуанчами, что на местном языке означало «сын Тенерифе». Происхождение гуанчей теряется в легендах. До сих пор некоторые историки считают, что они — выходцы из реально существовавшей Атлантиды. Хотя древние канарцы жили в каменном веке, их социальная организация была довольно сложной. Каждый род управлялся монархом и советом старейшин. Гуанчи не знали металла, мумифицировали мертвых и использовали краски для украшения тел в виде штампов из глины. Они поклонялись солнцу, луне, звездам, верили в духов, а высшее божество называли Ачман. В ритуальных целях строили каменные сооружения, похожие на ступенчатые пирамиды Перу и Мексики.
(обратно)
436
Галатия — историческая область в центре Малой Азии, которую заселили вторгшиеся в III в. до н. э. галлы (галаты). В 64 г. до н. э. Галатия стала протекторатом Рима и в 25 г. до н. э. вместе с некоторыми более отдаленными территориями — провинцией Римской империи.
(обратно)
437
У-ди — посмертное имя императора из династии Хань, правившего в 140—87 гг. до н. э. Личное имя — Лю Чэ.
(обратно)
438
Сыма Цянь — первый великий историк китайского народа, живший во время правления ханьского императора У-ди. Он написал первый труд по истории Китая.
(обратно)
439
Правление династии Хань стало временем расцвета и господства конфуцианства, приправленного изрядной порцией легистских и даосских идей. Основы конфуцианства были заложены в VI в. до н. э. великим китайским философом Кун-цзы, известным в европейской литературе под именем Конфуция (551–479 гг. до н. э.). Конфуцианство объявляло власть правителя священной, дарованной небом. В основу социального устройства конфуцианство ставило нравственное самоусовершенствование и соблюдение этических норм.
(обратно)
440
У-дин — император китайской династии Шан-Инь (1250–1192 гг. до н. э.).
(обратно)
441
Шан-Инь — древняя китайская династия, под властью которой в середине 2-го тыс. до н. э. в долине реки Хуанхэ возникло первое китайское государство.
(обратно)
442
Чжоу — китайская императорская династия, правившая в 1027—256 (или, по другим данным, 249) гг. до н. э.
(обратно)
443
Ибн Мискавайх (? — 1030) — арабоязычный историк и философ; известны его труды по всеобщей истории, философии и этике.
(обратно)
444
Масуди (конец IX в. — 956 или 957 гг.) — арабский историк и путешественник. Посетил Иран, Индию, Северную Африку, Азербайджан, Армению, жил в Сирии и Египте.
(обратно)
445
Хагани Ширвани — Хиссан ал-Аджам Хакани Ширвани Афдал ад-Дин Бадил ибн Али (1120–1199) — придворный поэт правителей Ширвана, писал на языке фарси. О вторжении русов в Ширван и победе над ними ширваншаха Ахситана упоминается в оде Хагани, посвященной восхвалению ширваншаха.
(обратно)
446
Ахситан — ширваншах Ахситан I ибн Манучихр (правл. 1160–1196).
(обратно)
447
Codex Regius, или «Королевская книга» — пергаментный кодекс XIII в., содержащий свод песен о богах и героях. Найден в Исландии в 1643 г. епископом Бриньольвом Свейнссоном. Получил название «Старшей Эдды» в отличие от «Эдды» Снорри Стурлусона, которая стала называться «Младшей Эддой». Хранился в Королевской библиотеке в Копенгагене. С 1971 г. находится в Рейкьявике.
(обратно)
448
Хрофт — одно из имен Одина; руны окрашивались кровью.
(обратно)
449
Здесь и далее отрывки из «Старшей Эдды» приводятся в переводе А. И. Корсуна. См.: «Старшая Эдда». Эпос. СПб. 2000.
(обратно)
450
Хрофт — Один.
(обратно)
451
Jlkjær Jørgen. Illerup Ådal — et arkæologisk tryllespejl. Moesgård Museum. Højbjerg, 2000.
(обратно)
452
Lars Magnar Enoksen. Runor. Historiska Media. Lund, 1998.
(обратно)
453
Орхонские памятники — древнетюркские памятники руноподобной письменности в районе верховьев р. Орхон.
(обратно)
454
Готы — племена восточных германцев, близкие по языку северным германцам. В начале нашей эры жили на южном побережье Балтийского моря и по нижней Висле. Передвигаясь с конца II в. на юго-восток, достигли в первой половине III в. Северного Причерноморья. Влияние более высокой культуры скифо-сарматских племен и городов Северного и Западного Причерноморья (захваченных готами ок. 260 г.) ускорило развитие готских племен. Готы в союзе с другими племенами совершали опустошительные вторжения в пределы Римской империи. В IV в. готы приняли христианство в форме арианства. Готы делились на остготов, или остроготов, которые жили в низовьях Днепра, и вестготов, или визиготов, обосновавшихся в низовьях Днестра.
(обратно)
455
Герулы — германское племя, которое первоначально жило в Северной Европе, а в III в. двинулось на юг. Восточные герулы во второй половине IV в. были гуннами, а после распада гуннского союза племен основали ок. 500 г. на Дунае свое «царство», разгромленное в начале VI в. лангобардами. Западные герулы были в начале VI в. подчинены франкам.
(обратно)
456
Пантикапей — столица Боспорского царства.
(обратно)
457
Боспор Киммерийский — древнегреческое название Керченского пролива в отличие от Боспора Фракийского (теперешний Босфор) — древнегреческого названия пролива, соединявшего Черное море с Мраморным.
(обратно)
458
Хетты — народ индоевропейского происхождения, пришедший в Малую Азию в XX в. до н. э. и основавший там Хеттское государство, которое на протяжении последующих столетий стало одной из могущественных империй Древнего мира на Ближнем Востоке наряду с Древним Египтом, Вавилоном и Ассирией. О путях переселения хеттов в Малую Азию существуют различные точки зрения: «западная» — через Балканы, «восточная» — через Кавказ. По другой гипотезе хетты принадлежали к древнейшему населению Малой Азии.
(обратно)
459
Страбон. Сочинение Страбона «География» в 17 книгах, написанное ок. 7 г. до н. э., является фактически первым опытом исторической географии и представляет собой ценный исторический источник.
(обратно)
460
Тацит. Труд Тацита «Германия», написанный в 98 г., представляет собой описание общественного устройства, религии и быта германских племен.
(обратно)
461
Кассиодор (ок. 487 — ок. 578) — полное имя Флавий Магнус Аурелий Кассиодор Сенатор — писатель и государственный деятель остготского государства. Был приближенным Теодориха и его преемников, являлся проводником политики сближения остготов и римлян. Автор 12-томной «Истории готов», которая сохранилась в сокращенном изложении Иордана.
(обратно)
462
Теодорих Великий (ок. 454, Паннония — 526, Равенна) — король остготов с 493 г., основатель остготского государства в Италии. В 488 г. вторгся в Италию и захватил власть. Выражая интересы остготской знати, сближавшейся с римской аристократией, Теодорих сохранил в государственном управлении и законодательстве римские институты.
(обратно)
463
Иордан — готский историк VI в., остгот по происхождению. Иордан был нотарием (секретарем) аланского военачальника, состоявшего на службе в Восточной Римской империи. Главное сочинение Иордана «О происхождении и деяниях готов» (период до 551 г.) — один из важнейших источников по истории племени готов, народов Северного Причерноморья и всего периода Великого переселения народов. Будучи сокращенным изложением не дошедшего до нас труда Кассиодора, сочинение Иордана содержит и сведения, известные ему как современнику событий.
(обратно)
464
Азагариум — крепость в низовьях реки Березины, недалеко от ее впадения в Днепр.
(обратно)
465
Wolfram Herwig. History of the Goths. Berkeley, 1990.
(обратно)
466
Прокопий Кессарийский (между 490 и 507 — после 562) — византийский историк, советник полководца Велисария, родом из сенаторской аристократии. Прокопий участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Сочинения Прокопия — важнейший источник по истории Византии и соседних государств в конце V–VI вв.
(обратно)
467
Туле — по данным эллинистической римской географии, остров, находящийся в шести днях плавания от Британии, у Северного полярного круга, самая северная из обитаемых земель. Существует предположение, что имелась в виду северо-западная часть Норвегии.
(обратно)
468
Иллирия — древняя область, протянувшаяся вдоль северо-восточного берега Адриатического моря, названа по населявшим ее иллирийцам — группе индоевропейских племен.
(обратно)
469
Визиготы, или вестготы — германское племя, западная ветвь готов. Вестготы, жившие в III–IV вв. к востоку от Днестра, участвовали в Великом переселении народов. В 418 г. основали в Южной Галлии первое на территории Западной Римской империи варварское королевство с центром в Тулузе. Во второй половине V в. завоевали большую часть Испании, которая стала основной территорией королевства вестготов; его столицей с середины VI в. был г. Толедо. В 711–718 гг. государство вестготов было завоевано арабами.
(обратно)
470
См.: Снорри Стурлусон. Круг земной. Сага об Инглингах…
(обратно)
471
Анты — название восточнославянских племен в IV–VII вв., применявшееся византийскими писателями VI–VII вв. Основные сведения по истории антов содержатся в трудах Прокопия, Иордана и др. Впервые встречается в керченской надписи III в. н. э. Анты занимали зону лесостепи между Днестром и Днепром и к востоку от Днепра.
(обратно)
472
Росомоны, или розомоны, упоминаются только у Иордана. Он приводит три имени представителей племени росомонов — Сунильда, Сарус и Аммиус. Это основные персонажи легенды о смерти Германариха. Интерес вызывает начало слова «рос». Предполагается, что это осетинское (аланское) «рохс» — «светлый». Было сделано множество попыток связать «рос» в роксоланах и росомонах с «Русью». Б. А. Рыбаков связывает с этим племенем «ядро будущей русской народности».
(обратно)
473
Грейтунги, остготы, или остроготы — германское племя, восточная ветвь готов. В III в. осели в степях Северного Причерноморья, частично в Крыму. Во второй половине IV в. создали племенной союз во главе с Германарихом, объединивший кроме остготов и другие германские, а также скифско-сарматские и славянские племена. В 375 г. союз был разгромлен гуннами.
(обратно)
474
Гепиды — группа германских племен, родственны готам. Во II в. переселились из Скандинавии на восточное побережье Балтийского моря. В конце II в. двинулись вслед за готами на юго-восток. В конце IV в. вошли в племенной союз гуннов. Во второй половине VI в. покорены соединенными силами лангобардов и аваров.
(обратно)
475
Германарих (или Эрманарих, умер в 378 г.) — король остготов. Королевство Германариха располагалось на территории современной Украины, точные границы его неизвестны, но предположительно границами государства были реки Припять, Дон и Днестр. Германарих упоминается в двух римских источниках — «Деяниях» Аммиана Марцеллина и «О происхождении и деяниях готов» историка Иордана. Марцеллин пишет о нем, как о весьма воинственном короле, которого страшились соседние народы из-за его многочисленных и разнообразных военных подвигов.
(обратно)
476
Имеются в виду песни «Старшей Эдды» — «Речи Хамдира» и «Подстрекательство Гудрун».
(обратно)
477
Ёрмунрекк — имя Германариха на древнеисландском языке. Из-за широкого распространения легенд о Германарихе его имя в различных языках звучало по-разному и дошло до нашего времени в различных звучаниях.
(обратно)
478
Серебряная чаша из Гуннеструпа была найдена в болоте в Ютландии, датируется предположительно II–I вв. до н. э. Высота чаши 42 см, диаметр 68 см. Она выложена изнутри и снаружи плитами с изображениями богов, людей и животных. Сделана, очевидно, кельтами.
(обратно)
479
Тевтат — один из кельтских богов. Его имя происходит от названия племени, а римляне уподобляли его богу войны Марсу, а иногда Меркурию. Первоначально это было местное божество, защищающее народ во время войны.
(обратно)
480
Норик — римская провинция в австрийских Альпах.
(обратно)
481
Аквы Секстиевы — римское поселение около современного города Экс-ан-Прованс, близ Марселя (Франция).
(обратно)
482
Пшеворская культура — археологическая культура, распространенная на территории Польши и смежных с ней областей Украины с конца II в. до н. э. до начала V в. н. э. Названа по могильнику у г. Пшеворск на юго-востоке Польши.
(обратно)
483
Тамга — родовой знак у тюркских и некоторых других народов. Как правило, потомок определенного рода наследовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент, лишь видоизменяя ее.
(обратно)
484
Монеты царя Фарзоя — монеты, найденные в г. Белгород-Днестровский, на месте античной Тиры. Монеты были отчеканены в Ольвии с именем царя Фарзоя, в котором видят теперь не царя скифов, а царя одного из сарматских племен. На лицевой стороне монет — изображение царя Фарзоя, а на оборотной — орел с приподнятыми крыльями, в лапах которого просматривается тамга в форме двойной рогатки с шаровидными концами. Известно, что тамга использовалась также у сарматов, скифов, многих народов Северо-Западного Кавказа и абхазов.
(обратно)
485
Тацит — см. сноску. 12. Известны два крупных исторических труда Тацита — «История» и «Анналы». В «Анналах» Тацит дал описание истории Рима в 14–68 гг. Из 16 книг сохранились 8.
(обратно)
486
Тиберий Клавдий, или Клавдий I (41–54 гг.) — римский император.
(обратно)
487
Сираки — одно из сарматских племен. В III–II вв. до н. э. часть сарматов (сираки и аорсы) освоила предкавказские равнины, другие сарматы (языги и роксоланы) установили свою власть в степях Северного Причерноморья, вытеснив оттуда скифов.
(обратно)
488
Барбаро Иосафат (1413–1494) — венецианский купец и дипломат. В 1436 г. предпринял путешествие в Тану (Азов), где пробыл 16 лет, совершая поездки по северному побережью Черного моря и Кавказу. В 1463–1473 гг. был поверенным Венецианской республики в Далмации, затем в Албании, в 1473–1479 гг. послом Узун-Хасана в Тебризе. В 1479 г. был в Москве и дал краткое ее описание. Его «Записки» о путешествии в Тану и Иран содержат ряд интересных сведений по истории, этнографии, географии и археологии местного населения.
(обратно)
489
Массагеты — собирательное название группы племен Закаспия и Приаралья в сочинениях древнегреческих авторов. Неясность приводимых источниками сведений породила в науке многочисленные гипотезы об отождествлении массагетов и их этнической принадлежности. О каких племенах говорит тот или иной автор, называя их массагетами, не всегда ясно. По Геродоту, массагеты — кочевники, сражались пешими и верхом на конях, причем кони имели на груди латы; их утварь и оружие изготовлялись из меди и золота. По Страбону, массагеты поклонялись солнцу и приносили ему в жертву лошадей.
(обратно)
490
Усуни — кочевые племена Центральной и Средней Азии, предположительно ираноязычные. Основная территория усуней располагалась в Илийской долине, а западная граница проходила по рекам Чу и Талас. Около 160 г. до н. э. усуни переселились из Центральной Азии в Семиречье и на Тянь-Шань.
(обратно)
491
А. Н. Бернштам (1910–1956) — советский археолог, доктор исторических наук, профессор Ленинградского университета. Обследовал Семиречье, Тянь-Шань, Памиро-Алай и Фергану, разработал периодизацию археологических памятников Средней Азии от 2-го тыс. до н. э. до XV в. В трудах Бернштама освещаются этногенез, общественный строй, хозяйство и культура древних кочевых народов Средней Азии.
(обратно)
492
Исседоны — одна из древних скифских народностей отдаленного северо-востока, известная древним грекам лишь понаслышке; Геродот рассказывает о них, что они съедали умерших родственников (кн. IV). Позднейшие греческие писатели подразумевали под исседонами многочисленное племя, простиравшееся от Имайских гор в Северной Азии до Серики (Китая).
(обратно)
493
Стефан Византийский (527–565 гг. н. э.) — позднеантичный писатель, греческий, константинопольский грамматик времен императора Юстиниана I, составивший и посвятивший императору этногеографический словарь «Ethnica» («Описание народов»), сделав извлечения из многочисленных греческих и латинских авторов, труды которых были впоследствии утрачены. В «Этнике» в алфавитном порядке описаны все известные в то время народы ойкумены.
(обратно)
494
Помпоний Мела — римский географ, родом из Испании. Автор труда «Описательная география» в трех книгах, созданного ок. 43/44 гг. н. э. Вступительная часть рассказывает о месте Земли во Вселенной, об обитаемых землях, о континентах и морях. Определив размеры трех континентов — Азии, Европы и Африки, автор переходит к описанию отдельных стран. Он начинает с Мавритании и Египта, описывает Аравию, побережье Малой Азии и Черное море, а затем возвращается в Эгейское море и следует вдоль берегов Адриатики и Средиземного моря до Гадеса в Испании. Здесь он поворачивает на север, через Восточную Европу достигает Каспийского моря и оттуда через Персидский залив и Ливию возвращается обратно в Мавританию.
(обратно)
495
Гай Юлий Солин — древнеримский писатель, жил около середины III в.н. э., автор сохранившегося произведения «Собрание достойных упоминания вещей». Это уникальный труд в области географии, основанный главным образом на «Естественной истории» Плиния, географических трудах Помпония Мелы и несохранившихся антикварных трудах Светония. Солин переписывал из этих источников целые куски текста, выбирая прежде всего наиболее важное. Автор начинает с Рима, передает легенды об основании города Ромулом, о временах царей и кратко рассказывает дальнейшую римскую историю, кончая Августом. После отступления, в котором Солин трактует о человеке вообще, он делает описание известных тогда частей Европы, Африки и Азии.
У Солина впервые появляется название «Средиземное море».
(обратно)
496
Хазары — народ, некогда обитавший в нынешней Южной России. Происхождение их точно неизвестно. Достоверные сведения о хазарах начинаются не раньше II в. н. э., когда они занимали земли к северу от Кавказских гор и боролись с армянами. С нашествием гуннов в IV в. хазары скрываются из глаз истории до VI в. Освободившись от гуннов, они начинают усиливаться и угрожать соседним народам. Так, персидский царь Кабад построил в VI в. большой вал для ограждения от хазар. С VII в. начинаются сношения хазар с Византией, для которой они представляли большую опасность. В VIII в. хазары вели войны с арабами, в IX в. разгромили печенегов и венгров. В это время их земли простирались от северной части Кавказа до земель северян и радимичей, т. е. до берегов рек Десны, Сейма, Сулы и Сожа. Столкновения с хазарами имел князь Олег, который подчинил себе некоторых хазарских данников. В 966 или 969 г. князь Святослав Игоревич двинулся в Хозарию и в решительной битве одержал полную победу. Хозария пала.
(обратно)
497
Роджер Бэкон (1214–1292) — английский философ и естествоиспытатель. Преподавал в Оксфордском университете, состоял в ордене францисканцев. Защищал астрологию, за что в 1278 г. был заточен в монастырскую тюрьму. Отстаивал принцип конкретного опытного знания — мистического в области веры и эмпирического в естествознании. Задумал обширную энциклопедию наук, подготовительными работами к которой явились его «Большой труд», «Меньший труд» и «Третий труд».
(обратно)
498
«Opus Majus» — «Большой труд»
(обратно)
499
Карпини Иоанн де Плано — францисканец-минорит, известный путешественник, род. в 1182 г. Пользовался уважением в ордене благодаря своей проповеднической деятельности в германских и польских землях. Он находился во главе миссии, отправленной Папой Иннокентием IV к монгольскому императору с поручением разузнать о положении христианских народов в Азии и собрать сведения относительно татар, которых европейцы, напуганные вторжением Батыя, называли «выходцами из ада» («tartari»). Миссия отправилась из Лиона весной 1245 г. и через Южную Россию, приволжские степи, кочевья киргизов и Хивинское ханство достигла главного стана кочевников. Монголы готовились в это время избрать своим императором Куюка, старшего сына умершего хана Угедея. Карпини стал очевидцем этого чрезвычайного события и подробно описал его. Отчет о путешествии Карпини назвал «Libellus historucus». Это сочинение содержит интересные данные по этнографии и географии Южной России и Монголии.
(обратно)
500
Схизматики — сторонники схизмы, разделения христианской церкви на православную и католическую.
(обратно)
501
Элий Геродиан — греческий грамматик II–III вв., родом из Александрии. Не путать с Геродианом (ок. 170 — ок. 240) — римским историком, греком по происхождению.
(обратно)
502
Дион Кассий (между 155–164 — после 229) — древнегреческий историк, родился и умер в Никее. Был во времена императора Коммода сенатором в Риме, занимал высокие государственные должности. После 229 г. отошел от государственных дел и вернулся в Никею. Автор сочинения «Римская история» в 80 книгах на греческом языке, охватывающего историю Рима с древнейших времен до 229 г.
(обратно)
503
Мидия — историческая область в Азии к юго-западу от Каспийского моря, приблизительно соответствует территории Северо-Западного Ирана и Северо-Восточного Ирака. В настоящее время примерно на этой территории проживают курды. В 550 г. до н. э. Мидия была завоевана персидским царем Киром Великим.
(обратно)
504
См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда…
(обратно)
505
Там же.
(обратно)
506
Хорезм — древнее государство в Средней Азии с центром в низовьях Амударьи, область развитого земледелия, ремесла, торговли и высокой культуры. Возникло в VII–VI вв. до н. э. В 712 г. Хорезм был завоеван арабскими халифами. С 1220 г. находился в составе Монгольской империи, затем Золотой Орды. С 1388 г. — в государстве Тимура, с XVI в. большая часть территории Хорезма была включена в Хивинское ханство.
(обратно)
507
Согдиана, или Согд — историческая область в Средней Азии, в бассейне рек Зеравшан и Кашкадарья, один из древних центров цивилизации. В середине 1-го тыс. до н. э. Согд был территорией одноименного государства. Главный город — Мараканда — современный Самарканд.
(обратно)
508
Маргиана — историческая область в Средней Азии по течению реки Мургаб. Называется также Мервом по городу Мерв. В Средние века входила в Хорасан.
(обратно)
509
Бактрия, или Бактриана — историческая область в Средней Азии по среднему и верхнему течению Амударьи. В VI–IV вв. до н. э. входила в государство Ахеменидов, затем в империю Александра Македонского.
(обратно)
510
«Newsweek International» (20.08 2001).
(обратно)
511
Саркел (хазарское название Шеркил — «желтый город»; Белая Вежа в древнерусских летописях) — столица хазарских каганов, основанная ок. 834 г. на берегу Дона после покорения Тавриды. Город находился на пересечении торговых сухопутных дорог с водным путем по Дону. Ныне не существует. Крепость была отделена от города рвом и имела толстые стены и башни. В 965 г. Саркел был взят и разрушен киевским князем Святославом Игоревичем.
(обратно)
512
Музей Сернуши — музей искусства Азии в Париже, один из старейших музеев, основан в 1898 г. Анри Сернуши.
(обратно)
513
Стратиграфический метод — определение относительной хронологии культурных остатков, сооружений и находок в зависимости от их залегания в слое. Используется при археологических раскопках.
(обратно)
514
«Готландслаг», или «Гуталаг» — старинная пергаментная рукопись, содержащая судебник — свод законов обычного права острова Готланд, действовавших там в Средние века.
(обратно)
515
«Сага о гутах» — последние восемь листов рукописи «Гуталага», посвященные описанию древней истории Готланда. Один из первых издателей «Гуталага» шведский ученый Карл Юхан Шлютер назвал в 1852 г. эту часть «Гуталага» «Историей Готланда», а другой шведский исследователь Карл Сэве в 1859 г. назвал ее «Сагой о гутах». Последнее название стало общепринятым в науке. «Сага о гутах», описывающая заселение Готланда, языческие верования и жертвоприношения гутов, подчинение острова власти конунга свеев, принятие гутами христианства, государственно-правовой и церковный статусы Готланда, считается достоверным историческим источником. Полагают, что она была написана около 1220 г. Автор ее неизвестен.
(обратно)
516
«Вендильская ворона»: в «Саге об Инглингах» рассказывается о конунге Оттаре, который погиб в битве с датчанами в Вендиле (т. е. в Вендсюсселе в Ютландии). Датчане бросили его тело в какой-то курган на растерзание зверям и птицам, затем сделали деревянную ворону и послали ее в Швецию, сказав, что конунг Оттар стоит не больше ее. Так датчане назвали Оттара «вендильской вороной» («Сага об Инглингах»).
(обратно)
517
Половцы (куманы, кипчаки) — народ тюркского племени, некогда составлявший одно целое с печенегами и торками (когда жил в степях Средней Азии); в бумагах Петрарки сохранился словарь половецкого языка, из которого видно, что язык их — тюркский. Половцы пришли в южнорусские степи вслед за печенегами и торками и скоро вытеснили и тех, и других. С этого времени (2-я половина XI в.) до монголо-татарского нашествия они производили постоянные нападения на Русь. Иногда русские предпринимали ответные походы вглубь половецкой земли. Одним из таких походов был поход Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве», в 1185 г. В первой половине XIII в. половцы были покорены монголо-татарами.
(обратно)
518
Св. Николай (предположительно 260–343) — святитель, который прославился многочисленными чудесами при жизни и после смерти; архиепископ г… Миры Ликийские (Малая Азия).
(обратно)
519
Никея — античный город в Малой Азии, имевший огромное значение во времена Римской империи и Византии. Первый Никейский собор 325 г. осудил арианство и выработал «символверы» — основное вероизложение, произносимое верующими в католической, православной и многих протестантских церквах и начинающееся со слов: «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли…»
(обратно)
520
Синоп — город, основанный древнегреческими колонистами из Милета в VIII в. до н. э.
(обратно)
521
Помпей Великий — римский полководец и государственный деятель, жил в I в. до н. э.
(обратно)
522
См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. М., 1994.
(обратно)
523
Аппиан Александрийский жил при Траяне, Адриане и Антонине Пие; был адвокатом в Риме, потом получил высокую государственную должность в Египте и написал по-гречески историю Рима, начиная с древних времен и кончая современной ему эпохой, где он этнографически описывает историю различных стран до их присоединения к Римской империи. Всего им составлено 24 книги. Он пользовался для своего сочинения прекрасными источниками, которые, к сожалению, иногда неверно трактовал.
(обратно)
524
Колхи — собирательное название племен, занимавших территорию Юго-Восточного и Восточного Причерноморья. Древние греки называли эти земли Колхидой. В VI в. до н. э. колхи создали Колхидское царство, которое в конце II в. до н. э. было подчинено Понтийским царством, а в I в. до н. э. — Римом.
(обратно)
525
См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда…
(обратно)
526
Вахина — женщина, жена.
(обратно)
527
Халлинг — норвежский народный танец. — Прим. перев.
(обратно)
528
У банана — ложный ствол. Банан—многолетняя трава с толстым корневищем, от которого отходят листья с влагалищем. Влагалища, облегая друг друга, образуют ложный ствол.
(обратно)
529
Тане — мужчина
(обратно)
530
Суперкарго — лицо, ведающее грузом на судне; обычно это второй помощник капитана.
(обратно)
531
Поль Гоген (1848–1903) — известный французский живописец.
(обратно)
532
Нет.
(обратно)
533
Вот это здорово! (франц.).
(обратно)
534
Пошли.
(обратно)
Оглавление
Тур Хейердал
Аку-аку
Глава первая. Когда детективы собираются на край света
Глава вторая. Что нас ожидало на пупе вселенной
Глава третья. По вулканическим туннелям
Глава четвертая. Загадка великанов острова Пасхи
Глава пятая. Секрет длинноухих
Глава шестая. Клин клином
Глава седьмая. Встреча с немыми сторожами родовых пещер
Глава восьмая. В подземные тайники острова Пасхи
Глава девятая. Среди богов и демонов в пасхальской преисподней
Глава десятая. Моронго Ута, город подоблачных развалин
Глава одиннадцатая. Мой аку-аку говорит
ТУР ХЕЙЕРДАЛ
ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК И ОКЕАН
Предисловие
ЧАСТЬ I
Древние суда и море
Глава 1
Начало мореплавания
Глава 2
Пути через океан
ЧАСТЬ II
Проблема Атлантики
Глава 3
Изоляционисты против диффузионистов
Глава 4
Бородатые боги до Колумба
Глава 5
Колумб и викинги
ЧАСТЬ III
Проблема Тихого океана
Глава 6
Благоприятный путь из Азии в Полинезию
Глава 7
Инки указали европейцам путь в Полинезию
Глава 8
Плавание на бальсовых плотах
Глава 9
Культурные растения и древние мореплаватели
ЧАСТЬ IV
Ступеньки на Запад из Южной Америки
Глава 10
Использование островов Галапагос до испанцев
Глава 11
Кокосовые орехи острова Кокос
Глава 12
Статуи острова Пасхи
Глава 13
Место встречи — самое уединенное в мире
Глава 14
Резюме и дискуссия
Комментарии
31
Тур Хейердал
Экспедиция «Кон-Тики»
Приглашение к путешествию
Глава 1
Теория
Глава 2
Рождение экспедиции
Глава 3
В Южную Америку
Глава 4
Через Тихий океан. I
Глава 5
На полпути
Глава 6
Через Тихий океан. II
Глава 7
Встреча с Полинезией
Глава 8
В гостях у полинезийцев
Фотоматериалы
Тур Хейердал
Экспедиция “Тигрис”
К советскому читателю
Глава I. В поисках начал
Глава II. В Садах Эдема
Глава III. Начинаются затруднения
Глава IV. Затруднения продолжаются
Глава V. В страну Ноя — Дильмун
Глава VI. «Тигрис» начинает слушаться
Глава VII. Ищем пирамиду и находим Макан
Глава VIII. «Тигрис» и супертанкеры. Путь в Пакистан
Глава IX. В долине Инда в поисках Мелуххи
Глава X. От Азии до Африки: от Мелуххи до Пунта
Глава XI. Пять месяцев для нас — пять тысячелетий для человечества
Океан всегда соединял человечество
Тур Хейердал
Фату-Хива
Возврат к природе
Прощай, цивилизация
Возврат к природе
Белые люди, черные тени
Табу
Бегство через океан
На Хива-Оа
Остров дурных предзнаменований
В долине каннибалов
Пещерные жители
Послесловие
В. Бахта
Тур Хейердал
Мальдивская загадка
ОДА МОРЕПЛАВАНИЮ
ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава I. Тайна тысячи островов
Глава II. Большой холм на Фуа-Мулаку
Глава III. Первый пальцевый отпечаток
Глава IV. Пирамида в джунглях
ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава V. Археологи прибывают на Мальдивы
Глава VI. Раскопки начинаются
Глава VII. По следам рединов
Глава VIII. Возвращение к Экваториальному проходу
Глава IX. Мальдивы, древний перекресток
ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава X. Забытая глава всемирной истории
ЧЕТВЕРТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Глава XI. Откуда пришли буддисты?
Глава XII. В поисках следов
Глава XIII. Откуда пришли индуисты?
Глава XIV. Заключение
БИБЛИОГРАФИЯ
Карты
Тур Хейердал
По следам Адама
Жизнь, сотканная из парадоксов
Начало
Время для размышлений
Вода над головой
Голова над водой
По следам Дарвина
У подножия лестницы Иакова
Танцы с дьяволом
Без времени на раздумья
Давид и Голиаф
Научная братия
По ту сторону «железного занавеса»
Красный остров на голубой планете
Райские кущи
По стопам Ноя
Водная гладь и небесная твердь
Красная нить
Тур Хейердал
Приключения одной теории
РЕЧЬ В КОРОЛЕВСКОМ
ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ЗАСЕЛЕНИЕ ПОЛИНЕЗИИ
ВОЗМОЖНЫЕ ОКЕАНСКИЕ ПУТИ В АМЕРИКУ И ИЗ АМЕРИКИ ДО КОЛУМБА
МАРШРУТ ЛЕЙВА ЭЙРИКССОНА
МАРШРУТ КОЛУМБА
МАРШРУТ МЕНДАНЬИ
МАРШРУТ СААВЕДРЫ
МАРШРУТ УРДАНЕТЫ
КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОКОЛУМБОВЫХ КОНТАКТОВ С АМЕРИКОЙ
БАТАТ
КОКОСОВЫЙ ОРЕХ
БУТЫЛОЧНАЯ ТЫКВА
БАНАН
ХЛОПЧАТНИК
РАСТЕНИЯ ОСТРОВА ПАСХИ
АНАНАС
ПЕРУВИАНСКАЯ ВИШНЯ И ARGEMONE
ПАПАЙЯ, ПАВАХИНА, МЕИ-РОРО И HELICONIA BIHAI
ЯМСОВЫЕ БОБЫ
ЯМС
ГИБИСКУС
ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
ФАСОЛЬ ЛИМСКАЯ
КАНАВАЛИЯ
РОЛЬ ИНКСКИХ ПРЕДАНИЙ ДЛЯ ИСПАНЦЕВ, ОТКРЫВШИХ ПОЛИНЕЗИЮ И МЕЛАНЕЗИЮ
БАЛЬСОВЫЙ ПЛОТ И РОЛЬ ГУАР В АБОРИГЕННОМ МОРЕХОДСТВЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
РАСКОПКИ НА ОСТРОВАХ ГАЛАПАГОС
ОСТРОВ КОКОС – БАЗА ДОИСПАНСКОГО ИНДЕЙСКОГО СУДОХОДСТВА?
ОСТРОВ ПАСХИ
СТАТУИ ОСТРОВА ПАСХИ – ПРОБЛЕМА И ИТОГИ
ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ И НЕПОЛИНЕЗИЙСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОСТРОВА ПАСХИ И ПИСЬМЕННОСТЬ РОНГО-РОНГО (XI)
ПОДПИСИ ПАСХАЛЬЦЕВ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА ГОНСАЛЕСА В 1770 ГОДУ
ОТКРЫТИЕ КОХАУ РОНГО-РОНГО И РАССПРОСЫ ПАСХАЛЬДЕВ
ЕПИСКОП ЖОССАН РАССПРАШИВАЕТ ПАСХАЛЬСКИХ РАБОЧИХ НА ТАИТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОФТА НА ТАИТИ В 1874 ГОДУ
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДОЩЕЧЕК
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ С УЧАСТИЕМ А. II. САЛМОНА (1877-1886 годы)
ВИЗИТ КНОХЕ В 1911 ГОДУ
ИССЛЕДОВАНИЯ РАУТЛЕДЖ В 1914-1915 ГОДАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТРО В 1934 ГОДУ
НАБЛЮДЕНИЯ ЭНГЛЕРТА ПОСЛЕ 1935 ГОДА
ОТКРЫТИЕ РУКОПИСЕЙ НА ОСТРОВЕ ПАСХИ В 1955-1956 ГОДАХ
(Страница пасхальской рукописи Эстевана Атана (рукопись А).)
ДРУГИЕ РУКОПИСИ НА ОСТРОВЕ
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
ЛИТЕРАТУРА
ПОСЛЕСЛОВИЕ
КОММЕНТАРИИ
Тор Хейердал
Путешествие на "Кон-Тики"
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1
ТЕОРИЯ
Глава 2
РОЖДЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Глава 3
В южной АМЕРИКЕ
Глава 4
ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ. I
Глава 5
НА ПОЛПУТИ
Глава 6
ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ. II
Глава 7
У ОСТРОВОВ ЮЖНОГО МОРЯ
Глава 8
СРЕДИ ПОЛИНЕЗИЙЦЕВ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Тур Хейердал
«Ра»
Глава 1
Один ребус, два ответа и никакого решения
Глава 2
Почему камышовая лодка?
Остров Пасхи и Перу
Глава 3
К индейцам кактусового леса.
Мексика
Глава 4
Среди бедуинов и будума в сердце Африки.
В республику Чад за лодочными мастерами
Глава 5
Среди черных монахов в истоках Нила.
За папирусом в Эфиопию
Глава 6
В краю строителей пирамид.
Судоверфь в песках Египта
Глава 7
В Атлантический океан.
Семь человек из семи стран, одна обезьянка и клетка с птицей
Глава 8
Вдоль берегов Африки до мыса Юби.
На птичьем гнезде – в океан
Глава 9
Во власти океана.
Мы разрушаем мосты
Глава 10
В американские воды.
Пять тысяч километров на морской тяге с грузом океанских волн
Глава 11
«Ра II».
Шесть тысяч километров на папирусной лодке от Африки до Америки
Эпилог
Классика путешествий и открытий
В ПОГОНЕ ЗА ОДИНОМ
По следам нашего прошлого
Последний поход великого искателя
(предисловие к русскому изданию)
Удивительные вещи
Мир Снорри Стурлусона
Снорри рассказывает
О́дин стране асов и ванов
Один в Скандинавии
Род Инглингов
Прибытие Инглингов в Норвегию
Хальвдан Черный
«Сага об оркнейцах»
Харальд Прекрасноволосый
Один в английской королевской династии
Откуда Снорри знал про Трою?
История франков
Рассказ короля Альфреда о плавании норвежцев в Заполярье
Путь из Варангера к Белому морю
О чем рассказывают клады монет?
Призвание варягов на Русь
Норманисты и антинорманисты
Когда жил Один
Народ Одина — асы и ваны на Кавказе
Мифы — плавильный котел многих религий
В гостях у народа удин
В Азове — колыбели асов
Раковинные деньги с Мальдивских островов
Пыльца из земли асов
Рожь из земли ванов
Лошадь с пятым аллюром
Скидбладнир
Музыка и девы-воительницы
Изобразительное искусство говорит само за себя
«Кавказский» тип
Дальние родственники в Китае
Ву-ди — бог и император из Китая
Появились ли руны в Скандинавии вместе с Одином?
Руны на Кавказе
Норвежско-шведское вторжение в Ютландию
Азовский поход готов
О чем рассказывают находки оружия
Асы сбрасывают маску
Кто такой Тор — бог-громовержец или правитель тюрков?
Борьба с тенями в эфире
«Круглый стол» в Азове
Литература
Тур Хейердал
В поисках рая
О ТУРЕ ХЕЙЕРДАЛЕ И ЕГО ПЕРВОЙ КНИГЕ
Глава первая
В СОЛНЕЧНУЮ СТРАНУ
Глава вторая
НА КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ ТУАМОТУ
Глава третья
УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВОК
Глава четвертая
В БАМБУКОВОЙ ХИЖИНЕ
Глава пятая
НЕТ ЖИЗНИ ПОЛИНЕЗИЙЦАМ В КРАЮ ИЗОБИЛИЯ…
Глава шестая
МЫ НАРУШАЕМ ТАБУ
Глава седьмая
ЗА КУЛИСАМИ ПАЛЬМ
Глава восьмая
НА ХИВА-ОА
Глава девятая
В БЕЗЛЮДНОЙ ДОЛИНЕ КАННИБАЛОВ
*** Примечания ***





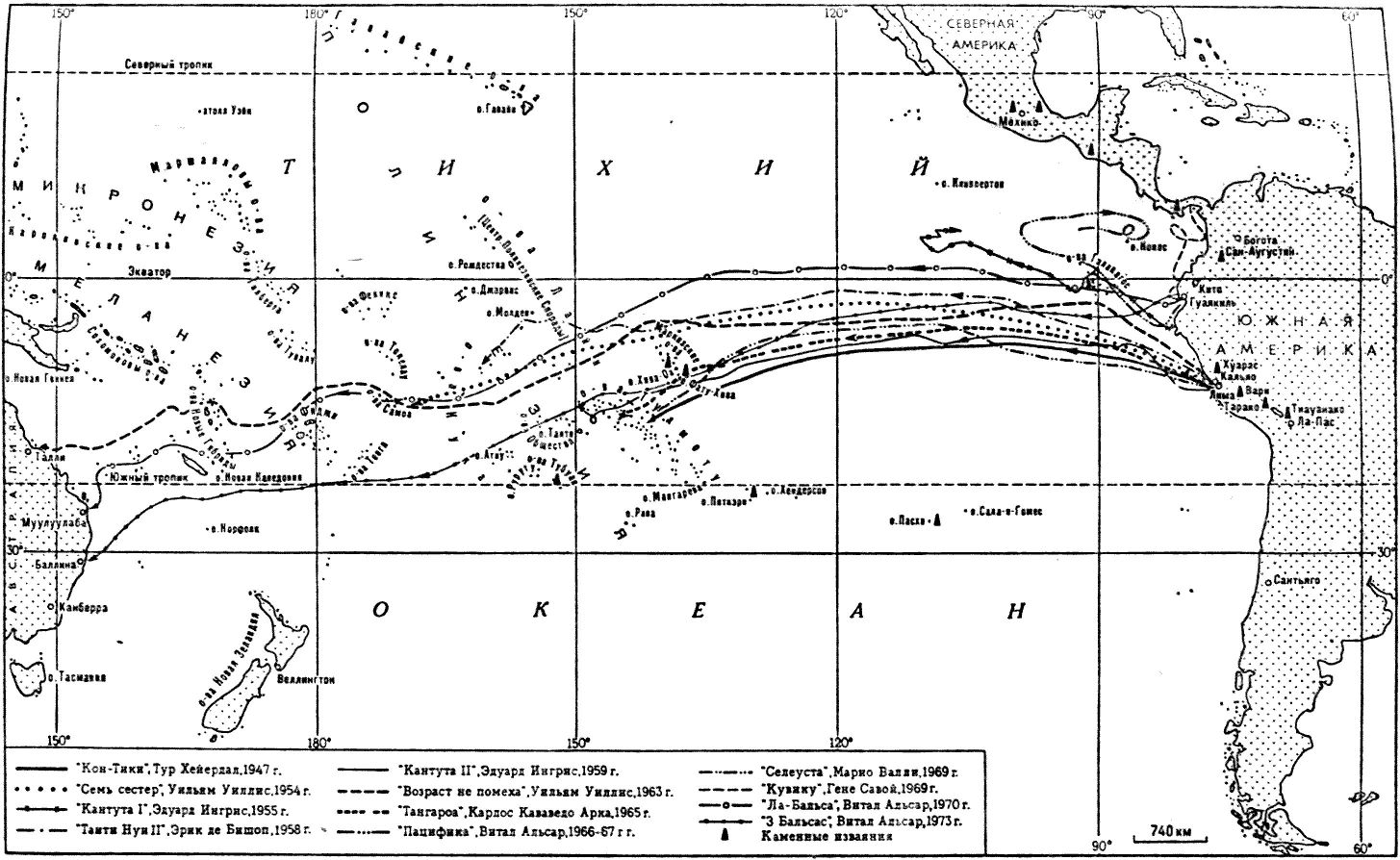 Плавание на плотах из Южной Америки в Океанию начиная с 1947 г.
Плавание на плотах из Южной Америки в Океанию начиная с 1947 г.
 Морские пути в Америку и из Америки, использованные первыми европейскими мореплавателями.
Атлантический океан: Э — маршрут Эйриксона и норманнов от Норвегии до Северной Америки. К — маршрут Колумба и европейцев средневековья от Канарских островов до тропической Америки. Тихий океан: М — маршрут Менданьи от Перу до Полинезии и Меланезии. С — маршрут Сааведры и последующих каравелл из Мексики к Малайскому архипелагу. У — маршрут Урданеты от Малайского архипелага до Северо-Западной Америки. «Кон-Тики», «Ра-I», «Ра-II» — маршруты Т. Хейердала, пройденные на плотах и папирусных ладьях по морским путям древних мореплавателей.
Морские пути в Америку и из Америки, использованные первыми европейскими мореплавателями.
Атлантический океан: Э — маршрут Эйриксона и норманнов от Норвегии до Северной Америки. К — маршрут Колумба и европейцев средневековья от Канарских островов до тропической Америки. Тихий океан: М — маршрут Менданьи от Перу до Полинезии и Меланезии. С — маршрут Сааведры и последующих каравелл из Мексики к Малайскому архипелагу. У — маршрут Урданеты от Малайского архипелага до Северо-Западной Америки. «Кон-Тики», «Ра-I», «Ра-II» — маршруты Т. Хейердала, пройденные на плотах и папирусных ладьях по морским путям древних мореплавателей.


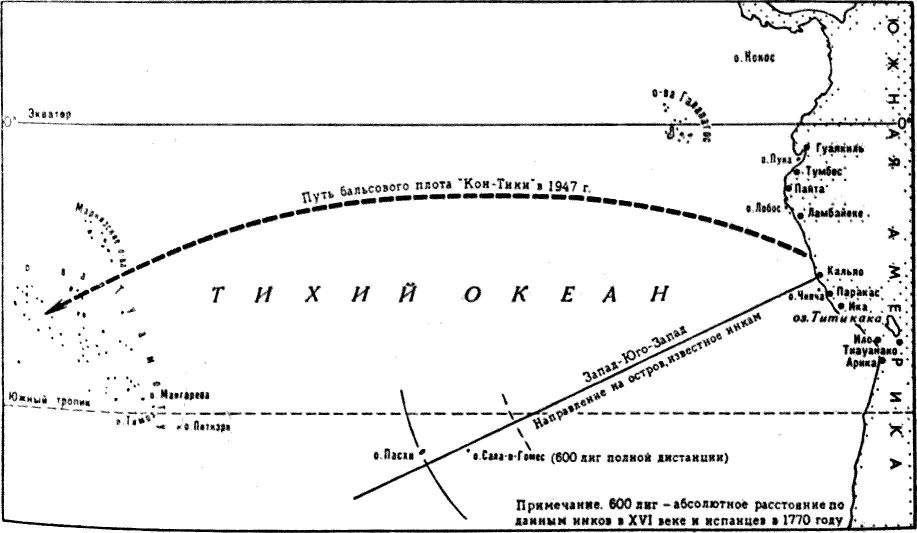 Указанный инками маршрут к ближайшему обитаемому острову в Тихом океане.
Указанный инками маршрут к ближайшему обитаемому острову в Тихом океане.
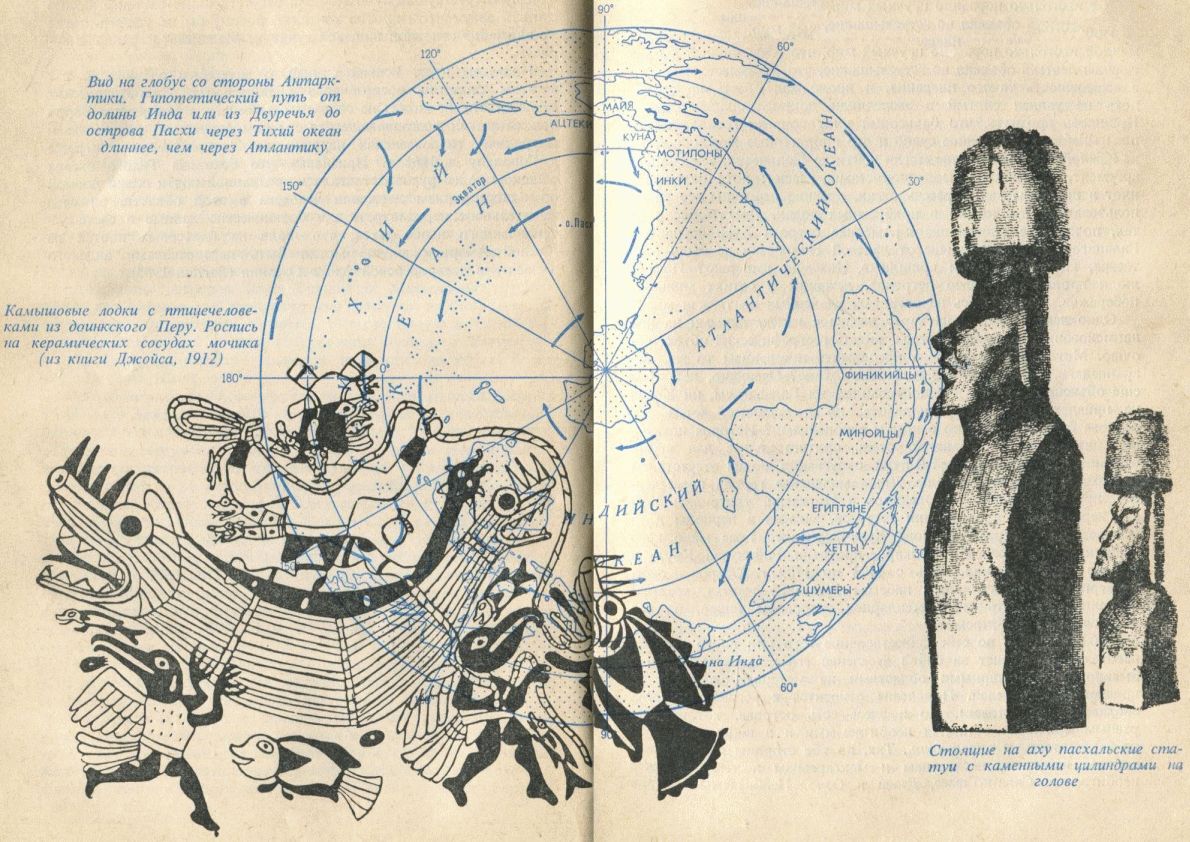
 Археологические объекты на Галапагосских островах
Археологические объекты на Галапагосских островах



 Я отчетливо представлял себе маленький островок с ржаво-красными обветренными скалами, зеленые заросли, сбегающие по косогорам к морю, стройные пальмы, что качаются на берегу в вечном ожидании. Островок называется Фату-Хива; сейчас нас отделяют от него тысячи морских миль, и на всем этом пути ни одного клочка суши. Я видел узкую долину Уиа и отлично помнил, как мы вечерами сидели в ее устье на пустынном берегу, глядя на этот самый необозримый океан. Тогда я совершал свадебное путешествие, и меня не окружали, как сейчас, бородатые пираты. Мы собирали фауну для коллекции, а также идолов и другие остатки давно вымершей культуры. Мне отчетливо запомнился один вечер. Цивилизованный мир казался невообразимо далеким и нереальным. Почти год мы прожили на острове, где не было других европейцев, намеренно расставшись со всеми благами, а заодно и всеми пороками цивилизации. Нашим домом была хижина на сваях, которую мы выстроили под пальмами на берегу, и ели мы то, чем нас потчевал тропический лес и Тихий океан.
Суровая школа практической жизни позволила нам лучше узнать многие своеобразные проблемы Тихого океана; мне думается, мы во многом как физически, так и психологически шли по стопам древнего народа, который прибыл на эти острова неведомо откуда и полинезийские потомки которого безраздельно владели островным царством, пока не явились представители нашей расы — с Библией в одной руке, ружьем и водкой — в другой.
В тот памятный вечер мы, как обычно, сидели в лунном свете на берегу, лицом к океану. Мы были в плену окружающей нас сказки и чутко все воспринимали, боясь хоть что-то пропустить. Жадно вдыхали запах буйного леса и соленого моря, слушали шорох ветра в листве и пальмовых кронах. Время от времени все заглушали могучие океанские валы, они несли свои пенящиеся гребни через отмель, чтобы разбить их вдребезги о гальку. Воздух наполнялся стуком, рокотом и шуршанием миллионов блестящих камешков, затем все стихало: океан отступал, набираясь сил для нового натиска на упорный берег.
— Странно, — заметила Лив, — на той стороне острова никогда не бывает такого прибоя.
— Верно, — ответил я. — Здесь — наветренная сторона, поэтому океан никогда не бывает спокоен.
И мы продолжали любоваться океаном, который готов был без конца подчеркивать: вот я иду к вам с востока, с востока, с востока. Восточный ветер, вечный пассат, — вот кто теребил океанскую гладь, вспахивал ее и гнал борозды вперед к этим островам, где непрерывный натиск океана наконец разбивался о рифы и скалы. А пассат взмывал над берегом, лесом, горами и беспрепятственно летел дальше на запад, от острова к острову, туда, где заходит солнце. С незапамятных времен волны и легкие тучки точно так же переваливали через далекую линию горизонта на востоке. Это отлично знали первые люди, достигшие островов. Это знали птицы и насекомые; вся растительность определялась этим обстоятельством. А мы, кроме того, знали, что там, за горизонтом, на востоке, откуда выплывают облака, далеко-далеко простирается берег Южной Америки. 8 тысяч километров отсюда, и все время вода, вода…
Мы смотрели на летящие облака и залитый лунным светом колышащийся океан и прислушивались к рассказу полуголого старика, который сидел перед нами на корточках, глядя на тлеющие угли прогоревшего костра.
— Тики, — негромко произнес старик. — Он был и бог, и вождь. Это Тики привел моих предков на эти острова, где мы теперь живем. Раньше мы жили в большой стране далеко за морем.
Он поковырял угли палочкой, чтобы не потухли окончательно, а сам продолжал размышлять. Старый человек, он жил прошлым и был связан с ним всеми узами. Он преклонялся перед своими предками и их подвигами, совершенными в незапамятные времена, когда на земле жили боги. И он предвкушал встречу с предками. Старый Теи Тетуа был последним представителем вымерших племен, которые когда-то населяли восточное побережье Фату-Хивы. Он не знал, сколько ему лет, но его морщинистая темно-коричневая кожа выглядела так, словно ветер и солнце сушили ее сто лет. Он был одним из тех немногих жителей архипелага, кто еще помнил сказы отцов и дедов и верил в предания о сыне Солнца — великом полинезийском вожде и боге Тики.
Ночью, когда мы поднялись в нашу клетушку на сваях и легли спать, в моей голове все еще звучал рассказ старого Теи Тетуа о Тики и о заморской родине островитян. Глухие удары прибоя аккомпанировали моим мыслям; казалось, голос седой старины, рокочущий там, в ночи, хочет что-то поведать. Я не мог уснуть. Как будто время перестало существовать, и Тики во главе своей морской дружины в эту самую минуту впервые высаживается на сотрясаемый прибоем берег. И вдруг меня осенило.
— Лив, тебе не кажется, что огромные каменные изваяния Тики в здешних лесах удивительно похожи на могучие статуи, памятники некоторых древних культур Южной Америки?
Прибой явственно пророкотал что-то одобрительное. И постепенно стих: я уснул.
Я отчетливо представлял себе маленький островок с ржаво-красными обветренными скалами, зеленые заросли, сбегающие по косогорам к морю, стройные пальмы, что качаются на берегу в вечном ожидании. Островок называется Фату-Хива; сейчас нас отделяют от него тысячи морских миль, и на всем этом пути ни одного клочка суши. Я видел узкую долину Уиа и отлично помнил, как мы вечерами сидели в ее устье на пустынном берегу, глядя на этот самый необозримый океан. Тогда я совершал свадебное путешествие, и меня не окружали, как сейчас, бородатые пираты. Мы собирали фауну для коллекции, а также идолов и другие остатки давно вымершей культуры. Мне отчетливо запомнился один вечер. Цивилизованный мир казался невообразимо далеким и нереальным. Почти год мы прожили на острове, где не было других европейцев, намеренно расставшись со всеми благами, а заодно и всеми пороками цивилизации. Нашим домом была хижина на сваях, которую мы выстроили под пальмами на берегу, и ели мы то, чем нас потчевал тропический лес и Тихий океан.
Суровая школа практической жизни позволила нам лучше узнать многие своеобразные проблемы Тихого океана; мне думается, мы во многом как физически, так и психологически шли по стопам древнего народа, который прибыл на эти острова неведомо откуда и полинезийские потомки которого безраздельно владели островным царством, пока не явились представители нашей расы — с Библией в одной руке, ружьем и водкой — в другой.
В тот памятный вечер мы, как обычно, сидели в лунном свете на берегу, лицом к океану. Мы были в плену окружающей нас сказки и чутко все воспринимали, боясь хоть что-то пропустить. Жадно вдыхали запах буйного леса и соленого моря, слушали шорох ветра в листве и пальмовых кронах. Время от времени все заглушали могучие океанские валы, они несли свои пенящиеся гребни через отмель, чтобы разбить их вдребезги о гальку. Воздух наполнялся стуком, рокотом и шуршанием миллионов блестящих камешков, затем все стихало: океан отступал, набираясь сил для нового натиска на упорный берег.
— Странно, — заметила Лив, — на той стороне острова никогда не бывает такого прибоя.
— Верно, — ответил я. — Здесь — наветренная сторона, поэтому океан никогда не бывает спокоен.
И мы продолжали любоваться океаном, который готов был без конца подчеркивать: вот я иду к вам с востока, с востока, с востока. Восточный ветер, вечный пассат, — вот кто теребил океанскую гладь, вспахивал ее и гнал борозды вперед к этим островам, где непрерывный натиск океана наконец разбивался о рифы и скалы. А пассат взмывал над берегом, лесом, горами и беспрепятственно летел дальше на запад, от острова к острову, туда, где заходит солнце. С незапамятных времен волны и легкие тучки точно так же переваливали через далекую линию горизонта на востоке. Это отлично знали первые люди, достигшие островов. Это знали птицы и насекомые; вся растительность определялась этим обстоятельством. А мы, кроме того, знали, что там, за горизонтом, на востоке, откуда выплывают облака, далеко-далеко простирается берег Южной Америки. 8 тысяч километров отсюда, и все время вода, вода…
Мы смотрели на летящие облака и залитый лунным светом колышащийся океан и прислушивались к рассказу полуголого старика, который сидел перед нами на корточках, глядя на тлеющие угли прогоревшего костра.
— Тики, — негромко произнес старик. — Он был и бог, и вождь. Это Тики привел моих предков на эти острова, где мы теперь живем. Раньше мы жили в большой стране далеко за морем.
Он поковырял угли палочкой, чтобы не потухли окончательно, а сам продолжал размышлять. Старый человек, он жил прошлым и был связан с ним всеми узами. Он преклонялся перед своими предками и их подвигами, совершенными в незапамятные времена, когда на земле жили боги. И он предвкушал встречу с предками. Старый Теи Тетуа был последним представителем вымерших племен, которые когда-то населяли восточное побережье Фату-Хивы. Он не знал, сколько ему лет, но его морщинистая темно-коричневая кожа выглядела так, словно ветер и солнце сушили ее сто лет. Он был одним из тех немногих жителей архипелага, кто еще помнил сказы отцов и дедов и верил в предания о сыне Солнца — великом полинезийском вожде и боге Тики.
Ночью, когда мы поднялись в нашу клетушку на сваях и легли спать, в моей голове все еще звучал рассказ старого Теи Тетуа о Тики и о заморской родине островитян. Глухие удары прибоя аккомпанировали моим мыслям; казалось, голос седой старины, рокочущий там, в ночи, хочет что-то поведать. Я не мог уснуть. Как будто время перестало существовать, и Тики во главе своей морской дружины в эту самую минуту впервые высаживается на сотрясаемый прибоем берег. И вдруг меня осенило.
— Лив, тебе не кажется, что огромные каменные изваяния Тики в здешних лесах удивительно похожи на могучие статуи, памятники некоторых древних культур Южной Америки?
Прибой явственно пророкотал что-то одобрительное. И постепенно стих: я уснул.
 Оборудованная по последнему слову техники военная верфь здорово выручила нас. Бенгт был переводчиком, Герман — прорабом. Работа спорилась. Нам помогали столярная и парусная мастерские, под наши материалы отвели половину пакгауза. Небольшой причал на понтонах, с которого мы спустили на воду бревна, был нашим главным рабочим местом.
Для основы плота выбрали девять бревен потолще, в них сделали глубокие зарубки для канатов, чтобы связать все вместе. Гвозди и проволока исключались. Отобранные бревна спустили на воду рядом друг с другом: улягутся, как равновесие требует, тогда уж можно вязать плот. Самое длинное, четырнадцатиметровое, бревно лежало посередине, выдаваясь и спереди, и сзади. По бокам следовали по росту все более короткие бревна, так что длина стороны равнялась 10 метрам, а нос выдавался вперед тупым углом. Сзади плот был срезан почти по прямой, только три средних бревна выступали, служили опорой для уложенной поперек широкой бальсовой колоды с уключинами для длинного рулевого весла. Скрепив основу концами пенькового каната толщиной в 5/4 дюйма, мы сверху положили поперек девять бревен потоньше, с просветом примерно в один метр. Итак, самый плот был готов; ка соединения пошло около трехсот концов каната, узлы были прочнейшие. Дальше мы настелили палубу из бамбуковых реек, связанных в секции, и накрыли их матами, которые сплели из прутьев бамбука. Посреди плота, чуть ближе к корме, выстроили небольшую хижину. К стоякам из толстого бамбука привязали плетеные бамбуковые стены, а крышу из бамбуковых реек застелили внакрой плотными банановыми листьями. Перед хижиной — двойная мачта из твердого, как железо, мангрового дерева; нижние концы ее упирались в палубу, а скрещенные верхушки были крепко связаны вместе. Сложили два ствола бамбука — получилась прочная рея, на которой укрепили большой прямой парус.
Впереди бревна основы срезали наискось, чтобы они лучше резали воду, а поверху вдоль носа укрепили бортик, В широкие щели между бревнами мы просунули вертикально вниз ка 1,5 метра пять дюймовых сосновых досок шириной в два фута, закрепив их клиньями и канатами. Доски были размещены беспорядочно и играли роль маленьких параллельных килей или швертов. Задолго до прихода европейцев инки оснащали свои плоты такими швертами против бокового сноса под напором ветра и волн. Мы не стали делать ни поручней, ни ограждений, лишь уложили вдоль бортов по бальсовому бревну.
Наш плот был точной копией древних перуанских и эквадорских плотов, мы добавили только бортик на носу, и тот оказался совершенно излишним. Что до частностей, то тут можно было руководствоваться своим вкусом, лишь бы это не влияло на мореходные качества плота. А частности могли в конечном счете приобрести очень важное значение, ведь плот долго будет, так сказать, всем нашим миром.
И мы постарались возможно более разнообразно обставить нашу крохотную палубу.
Общий вид «Кон-Тики»
Оборудованная по последнему слову техники военная верфь здорово выручила нас. Бенгт был переводчиком, Герман — прорабом. Работа спорилась. Нам помогали столярная и парусная мастерские, под наши материалы отвели половину пакгауза. Небольшой причал на понтонах, с которого мы спустили на воду бревна, был нашим главным рабочим местом.
Для основы плота выбрали девять бревен потолще, в них сделали глубокие зарубки для канатов, чтобы связать все вместе. Гвозди и проволока исключались. Отобранные бревна спустили на воду рядом друг с другом: улягутся, как равновесие требует, тогда уж можно вязать плот. Самое длинное, четырнадцатиметровое, бревно лежало посередине, выдаваясь и спереди, и сзади. По бокам следовали по росту все более короткие бревна, так что длина стороны равнялась 10 метрам, а нос выдавался вперед тупым углом. Сзади плот был срезан почти по прямой, только три средних бревна выступали, служили опорой для уложенной поперек широкой бальсовой колоды с уключинами для длинного рулевого весла. Скрепив основу концами пенькового каната толщиной в 5/4 дюйма, мы сверху положили поперек девять бревен потоньше, с просветом примерно в один метр. Итак, самый плот был готов; ка соединения пошло около трехсот концов каната, узлы были прочнейшие. Дальше мы настелили палубу из бамбуковых реек, связанных в секции, и накрыли их матами, которые сплели из прутьев бамбука. Посреди плота, чуть ближе к корме, выстроили небольшую хижину. К стоякам из толстого бамбука привязали плетеные бамбуковые стены, а крышу из бамбуковых реек застелили внакрой плотными банановыми листьями. Перед хижиной — двойная мачта из твердого, как железо, мангрового дерева; нижние концы ее упирались в палубу, а скрещенные верхушки были крепко связаны вместе. Сложили два ствола бамбука — получилась прочная рея, на которой укрепили большой прямой парус.
Впереди бревна основы срезали наискось, чтобы они лучше резали воду, а поверху вдоль носа укрепили бортик, В широкие щели между бревнами мы просунули вертикально вниз ка 1,5 метра пять дюймовых сосновых досок шириной в два фута, закрепив их клиньями и канатами. Доски были размещены беспорядочно и играли роль маленьких параллельных килей или швертов. Задолго до прихода европейцев инки оснащали свои плоты такими швертами против бокового сноса под напором ветра и волн. Мы не стали делать ни поручней, ни ограждений, лишь уложили вдоль бортов по бальсовому бревну.
Наш плот был точной копией древних перуанских и эквадорских плотов, мы добавили только бортик на носу, и тот оказался совершенно излишним. Что до частностей, то тут можно было руководствоваться своим вкусом, лишь бы это не влияло на мореходные качества плота. А частности могли в конечном счете приобрести очень важное значение, ведь плот долго будет, так сказать, всем нашим миром.
И мы постарались возможно более разнообразно обставить нашу крохотную палубу.
Общий вид «Кон-Тики»
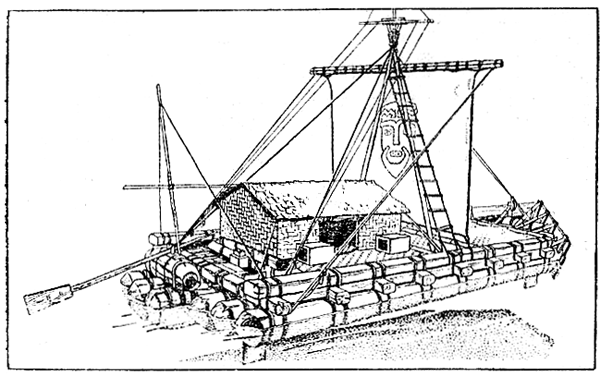 Бамбуковый настил закрывал бревна не целиком, а только впереди хижины и вдоль ее правой, открытой стороны. За стеной слева было что-то вроде заднего двора, заставленного ящиками и всякой всячиной, так что можно было пройти лишь по самому краю. На носу и на корме пола не было. Идешь вокруг хижины с желтых бамбуковых матов на круглые серые бревна, потом шагаешь мимо штабеля ящиков. Вместе не так уж много шагов, но все-таки какое-то разнообразие, чтобы теснота не слишком угнетала душу. На самой верхушке мачты мы укрепили доску, не столько для того, чтобы с нее высматривать сушу, когда пересечем океан, сколько для того, чтобы можно было в пути вскарабкаться туда и поглядеть на море сверху.
Желтея бамбуком и зеленея банановыми листьями, среди военных судов вырос плот. И когда он был почти готов, к нам явился с инспекцией сам министр военно-морского флота. Мы очень гордились своим суденышком — этим маленьким посланцем эпохи инков. Но министра это зрелище потрясло до глубины души. Меня вызвали в канцелярию министерства и предложили подписать документ, в котором Морское ведомство снимало с себя всякую ответственность за то, что было сооружено нами на его верфи. Затем последовал вызов к капитану порта Кальяо, там я расписался в том, что если выйду из порта с людьми и грузом, то буду всецело отвечать за последствия.
Затем иностранным военно-морским экспертам и дипломатам разрешили посетить верфь, чтобы осмотреть плот. Они тоже не пришли в восторг, и через два дня я был пригашен к посланнику одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. Получив утвердительный ответ, он взглянул на меня в упор и глухо, зловеще произнес: — Ваш отец и ваша мать очень тяжело воспримут весть о вашей гибели.
Как частное лицо он посоветовал мне, пока не поздно, отказаться от моей затеи. Один адмирал, смотревший плот, сказал ему, что мы обречены на гибель. Во-первых, у плота неправильные размеры: он так мал, что первая же крутая волна опрокинет его, и вместе с тем настолько велик, что его может поднять сразу на двух гребнях, а тогда хрупкие бревна не выдержат груза и переломятся. Но больше всего посланник был озабочен словами виднейшего в стране экспортера бальсы, который заверил его, что пористые бревна не пройдут и четверти пути: они пропитаются водой и затонут вместе с нами.
Да, страшная перспектива, но я стоял на своем. Тогда посланник подарил мне на дорогу Библию.
Вообще от знатоков, посетивших наш плот, мы не услышали ничего утешительного. Первый же шторм или ураган смоет нас и разобьет вдребезги наше открытое низенькое суденышко, которое окажется игрушкой ветра и волн. Даже самая маленькая волна промочит нас насквозь, морская вода разъест нам ноги и испортит наше снаряжение. Если собрать все, что знатоки считали роковым недостатком нашего плота, не оставалось той детали, которая не угрожала бы сгубить нас в океане. Все бились об заклад, сколько дней протянет наш плот, а один опрометчивый военно-морской атташе обязался на всю жизнь обеспечить нашу команду виски, если мы доберемся до любого из островов Полинезии.
Главное огорчение ожидало нас, когда в гавань пришло норвежское судно и нам разрешили провести на верфь капитана и еще нескольких видавших виды морских волков. Нас очень волновало, что скажут практики. И как же мы Разочаровались: они дружно заявили, что плот слишком тяжелый и неуклюжий, от паруса не будет никакого толка. Капитан сказал, что, если плот не пойдет ко дну, понадобится не меньше года, а то и двух, чтобы пересечь океан с течением Гумбольдта. Боцман осмотрел узлы и покачал головой: нам нечего бояться затяжного путешествия, плот и двух недель не протянет, могучие бревна, колыхаясь вверх-вниз, перетрут все канаты. Если мы не перейдем на стальной трос и цепи, лучше сразу отказаться от экспедиции.
Словом, мрачных пророчеств хватало. Достаточно оправдаться одному из них, и нам конец. Кажется, в те дни я не раз спрашивал сам себя: понимаем ли мы, на что идем. Не обладая морским опытом, я не мог опровергнуть все эти предупреждения. Но у меня был в запасе важный козырь, на котором было основано все наше предприятие. Я был твердо убежден, что древняя культура распространилась из Перу на острова Тихого океана, когда единственным судном на этом побережье был плот. Отсюда я делал вывод: если у Кон-Тики в VI веке бальсовые бревна не тонули и узлы не рвались, то и нам нечего бояться, только надо точно повторить древний образец. Ребята хорошо изучили теорию, и вся наша компания преспокойно веселилась в Лиме, предоставив знатокам переживать и волноваться. Только один раз Торстейн озабоченно спросил, уверен ли я, что океанские течения идут туда, куда нам надо. Это было после того, как мы в кино увидели Дороти Лямур на чудесном тропическом острове, где она танцевала в соломенной юбочке среди пальм и местных девушек.
— Вот куда нам надо попасть! — сказал Торстейн. — Берегись, если течения тебя подведут!
Когда осталось совсем немного до отъезда, мы пошли в паспортный отдел министерства иностранных дел. Первым подошел наш переводчик Бенгт.
— Ваше имя? — спросил кроткий тщедушный чиновник, подозрительно поглядывая поверх очков на бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — последовал почтительный ответ.
Служащий вставил в машинку длинную анкету:
— С каким судном вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — стал объяснять Бенгт, наклонясь над испуганным человечком, — я прибыл не с судном, я приехал в Перу на пироге.
Онемев от изумления, служащий воззрился на Бенгта и написал в анкете: «пирога».
— С каким теплоходом вы покидаете Перу?
— Простите, — продолжал Бенгт вежливо, — я уезжаю не на теплоходе… я поплыву на плоту.
— Ну знаете! — выкрикнул чиновник сердито, выдергивая бланк из машинки. — Будьте любезны отвечать на мои вопросы серьезно!..
За два дня до старта мы погрузили на плот провиант, у и все наше снаряжение. Мы запасли продовольствия на четыре месяца — армейские пайки в небольших картонных коробках. Герман придумал облить каждую коробку тонким слоем расплавленного асфальта. Чтобы они не склеились, мы обсыпали их песком, после чего плотно уложили под бамбуковой палубой между девятью поперечинами.
Пятьдесят шесть канистр общей вместимостью 1100 литров мы наполнили кристально чистой водой из высокогорного источника и также привязали между бревнами, где бы их постоянно омывала морская вода. Сверху ка палубе укрепили снаряжение и большие плетеные корзины, доверху наполненные фруктами и кокосовыми орехами.
Внутри бамбуковой хижины один угол был отведен Кнюту и Торстейну для радиостанции. Между поперечинами мы поставили восемь деревянных ящиков. Два из них мы заняли научными приборами и киносъемочной аппаратурой, а остальные шесть распределили по одному на члена команды, предупредив, что вместимостью ящика определяется, сколько личного имущества может взять с собой каждый. Уложив несколько рулонов рисовальной бумаги и гитару, Эрик был вынужден сунуть свои носки к Торстейну. Ящик Бенгта принесли четыре военных моряка. Его походное имущество составляли одни книги, зато он ухитрился уложить 73 тома социологических и этнологических исследований. На ящики мы настелили плетеные маты и соломенные матрацы по числу участников; можно было отправляться в путь.
Сначала плот отбуксировали с верфи на простор, чтобы проверить, ровно ли распределен груз. Затем нас доставили на пристани яхт-клуба Кальяо. Здесь накануне отплытия состоялось крещение плота с участием приглашенных лиц и прочих, кто пожелал прийти.
27 апреля на плоту был поднят норвежский флаг; вдоль короткой реи над парусом развевались флаги всех наций, которые помогли нам организовать экспедицию. Набережная кишела людьми, многим захотелось посмотреть, как будут крестить столь необычное судно. Судя по чертам лица и цвету кожи, здесь было немало потомков тех, кто в давние времена ходил вдоль побережья на бальсовых плотах. Пришли и потомки первых испанцев во главе с представителями военно-морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины, Кубы, экс-губернатор британских владении в Тихом океане, посланники Швеции, Бельгии и Голландии и наши друзья из норвежского землячества во главе с генеральным консулом Баром. Сновали журналисты, жужжали камерами кинооператоры, не хватало только духового оркестра. Одно было для нас ясно: если плот рассыплется, выйдя из бухты Кальяо, мы скорее погребем каждый на своем бревне в Полинезию, чем возвратимся сюда.
Герд Волд, секретарь экспедиции и ее уполномоченная на суше, должна была крестить плот молоком кокосового ореха — отчасти, чтобы не нарушать колорит каменного века, отчасти же потому, что шампанское, по странному недоразумению, очутилось на дне личного сундучка Торстейна. По-английски и по-испански мы сообщили нашим друзьям, что плот будет назван в честь могущественного предшественника инков, короля-солнца, который полтора тысячелетия тому назад ушел из Перу через океан на запад, чтобы появиться затем в Полинезии. Герд Волд нарекла плот именем «Кон-Тики» и с такой силой стукнула заранее надрезанным кокосовым орехом по переднему бревну, что сок ореха обрызгал всех, кто почтительно окружил наше суденышко.
После этого мы подняли бамбуковую рею и расправили парус, в середине которого наш живописец Эрик намалевал красной краской голову Кон-Тики. Это была точная копия головы бога Солнца, которая высечена на красном камне, стоящем среди развалин города Тиауанако.
— А! Сеньор Даниельссон! — восхищенно воскликнул руководитель строителей, увидев на парусе бородатую физиономию.
Два месяца он величал Бенгта сеньором Кон-Тики, после того как мы показали ему рисунок головы древнего вождя. Теперь до него наконец дошло, что Бенгта зовут Даниельссон…
Перед отъездом команда получила прощальную аудиенцию у президента. Потом мы забрались высоко в горы, чтобы досыта наглядеться на скалы и утесы, прежде чем выходить в безбрежный океан. Пока шла работа, мы жили в пансионате в зеленом пригороде Лимы и каждый день ездили в порт Кальяо на машине военно-воздушного ведомства, которую Герд удалось взять напрокат вместе с персональным водителем. Вот мы и попросили шофера отвезти нас подальше в горы. По иссушенным солнцем склонам, мимо древних оросительных сооружений инков мы поднялись на 4 тысячи метров над верхушкой мачты «Кон-Тики». Здесь мы буквально пожирали глазами камни, утесы и зелень лугов, пытаясь пресытиться величественным зрелищем могучего отрога Анд. Мы внушали себе, что камень и суша нам осточертели, теперь нам не терпится поскорее узнать океан!
Бамбуковый настил закрывал бревна не целиком, а только впереди хижины и вдоль ее правой, открытой стороны. За стеной слева было что-то вроде заднего двора, заставленного ящиками и всякой всячиной, так что можно было пройти лишь по самому краю. На носу и на корме пола не было. Идешь вокруг хижины с желтых бамбуковых матов на круглые серые бревна, потом шагаешь мимо штабеля ящиков. Вместе не так уж много шагов, но все-таки какое-то разнообразие, чтобы теснота не слишком угнетала душу. На самой верхушке мачты мы укрепили доску, не столько для того, чтобы с нее высматривать сушу, когда пересечем океан, сколько для того, чтобы можно было в пути вскарабкаться туда и поглядеть на море сверху.
Желтея бамбуком и зеленея банановыми листьями, среди военных судов вырос плот. И когда он был почти готов, к нам явился с инспекцией сам министр военно-морского флота. Мы очень гордились своим суденышком — этим маленьким посланцем эпохи инков. Но министра это зрелище потрясло до глубины души. Меня вызвали в канцелярию министерства и предложили подписать документ, в котором Морское ведомство снимало с себя всякую ответственность за то, что было сооружено нами на его верфи. Затем последовал вызов к капитану порта Кальяо, там я расписался в том, что если выйду из порта с людьми и грузом, то буду всецело отвечать за последствия.
Затем иностранным военно-морским экспертам и дипломатам разрешили посетить верфь, чтобы осмотреть плот. Они тоже не пришли в восторг, и через два дня я был пригашен к посланнику одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. Получив утвердительный ответ, он взглянул на меня в упор и глухо, зловеще произнес: — Ваш отец и ваша мать очень тяжело воспримут весть о вашей гибели.
Как частное лицо он посоветовал мне, пока не поздно, отказаться от моей затеи. Один адмирал, смотревший плот, сказал ему, что мы обречены на гибель. Во-первых, у плота неправильные размеры: он так мал, что первая же крутая волна опрокинет его, и вместе с тем настолько велик, что его может поднять сразу на двух гребнях, а тогда хрупкие бревна не выдержат груза и переломятся. Но больше всего посланник был озабочен словами виднейшего в стране экспортера бальсы, который заверил его, что пористые бревна не пройдут и четверти пути: они пропитаются водой и затонут вместе с нами.
Да, страшная перспектива, но я стоял на своем. Тогда посланник подарил мне на дорогу Библию.
Вообще от знатоков, посетивших наш плот, мы не услышали ничего утешительного. Первый же шторм или ураган смоет нас и разобьет вдребезги наше открытое низенькое суденышко, которое окажется игрушкой ветра и волн. Даже самая маленькая волна промочит нас насквозь, морская вода разъест нам ноги и испортит наше снаряжение. Если собрать все, что знатоки считали роковым недостатком нашего плота, не оставалось той детали, которая не угрожала бы сгубить нас в океане. Все бились об заклад, сколько дней протянет наш плот, а один опрометчивый военно-морской атташе обязался на всю жизнь обеспечить нашу команду виски, если мы доберемся до любого из островов Полинезии.
Главное огорчение ожидало нас, когда в гавань пришло норвежское судно и нам разрешили провести на верфь капитана и еще нескольких видавших виды морских волков. Нас очень волновало, что скажут практики. И как же мы Разочаровались: они дружно заявили, что плот слишком тяжелый и неуклюжий, от паруса не будет никакого толка. Капитан сказал, что, если плот не пойдет ко дну, понадобится не меньше года, а то и двух, чтобы пересечь океан с течением Гумбольдта. Боцман осмотрел узлы и покачал головой: нам нечего бояться затяжного путешествия, плот и двух недель не протянет, могучие бревна, колыхаясь вверх-вниз, перетрут все канаты. Если мы не перейдем на стальной трос и цепи, лучше сразу отказаться от экспедиции.
Словом, мрачных пророчеств хватало. Достаточно оправдаться одному из них, и нам конец. Кажется, в те дни я не раз спрашивал сам себя: понимаем ли мы, на что идем. Не обладая морским опытом, я не мог опровергнуть все эти предупреждения. Но у меня был в запасе важный козырь, на котором было основано все наше предприятие. Я был твердо убежден, что древняя культура распространилась из Перу на острова Тихого океана, когда единственным судном на этом побережье был плот. Отсюда я делал вывод: если у Кон-Тики в VI веке бальсовые бревна не тонули и узлы не рвались, то и нам нечего бояться, только надо точно повторить древний образец. Ребята хорошо изучили теорию, и вся наша компания преспокойно веселилась в Лиме, предоставив знатокам переживать и волноваться. Только один раз Торстейн озабоченно спросил, уверен ли я, что океанские течения идут туда, куда нам надо. Это было после того, как мы в кино увидели Дороти Лямур на чудесном тропическом острове, где она танцевала в соломенной юбочке среди пальм и местных девушек.
— Вот куда нам надо попасть! — сказал Торстейн. — Берегись, если течения тебя подведут!
Когда осталось совсем немного до отъезда, мы пошли в паспортный отдел министерства иностранных дел. Первым подошел наш переводчик Бенгт.
— Ваше имя? — спросил кроткий тщедушный чиновник, подозрительно поглядывая поверх очков на бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — последовал почтительный ответ.
Служащий вставил в машинку длинную анкету:
— С каким судном вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — стал объяснять Бенгт, наклонясь над испуганным человечком, — я прибыл не с судном, я приехал в Перу на пироге.
Онемев от изумления, служащий воззрился на Бенгта и написал в анкете: «пирога».
— С каким теплоходом вы покидаете Перу?
— Простите, — продолжал Бенгт вежливо, — я уезжаю не на теплоходе… я поплыву на плоту.
— Ну знаете! — выкрикнул чиновник сердито, выдергивая бланк из машинки. — Будьте любезны отвечать на мои вопросы серьезно!..
За два дня до старта мы погрузили на плот провиант, у и все наше снаряжение. Мы запасли продовольствия на четыре месяца — армейские пайки в небольших картонных коробках. Герман придумал облить каждую коробку тонким слоем расплавленного асфальта. Чтобы они не склеились, мы обсыпали их песком, после чего плотно уложили под бамбуковой палубой между девятью поперечинами.
Пятьдесят шесть канистр общей вместимостью 1100 литров мы наполнили кристально чистой водой из высокогорного источника и также привязали между бревнами, где бы их постоянно омывала морская вода. Сверху ка палубе укрепили снаряжение и большие плетеные корзины, доверху наполненные фруктами и кокосовыми орехами.
Внутри бамбуковой хижины один угол был отведен Кнюту и Торстейну для радиостанции. Между поперечинами мы поставили восемь деревянных ящиков. Два из них мы заняли научными приборами и киносъемочной аппаратурой, а остальные шесть распределили по одному на члена команды, предупредив, что вместимостью ящика определяется, сколько личного имущества может взять с собой каждый. Уложив несколько рулонов рисовальной бумаги и гитару, Эрик был вынужден сунуть свои носки к Торстейну. Ящик Бенгта принесли четыре военных моряка. Его походное имущество составляли одни книги, зато он ухитрился уложить 73 тома социологических и этнологических исследований. На ящики мы настелили плетеные маты и соломенные матрацы по числу участников; можно было отправляться в путь.
Сначала плот отбуксировали с верфи на простор, чтобы проверить, ровно ли распределен груз. Затем нас доставили на пристани яхт-клуба Кальяо. Здесь накануне отплытия состоялось крещение плота с участием приглашенных лиц и прочих, кто пожелал прийти.
27 апреля на плоту был поднят норвежский флаг; вдоль короткой реи над парусом развевались флаги всех наций, которые помогли нам организовать экспедицию. Набережная кишела людьми, многим захотелось посмотреть, как будут крестить столь необычное судно. Судя по чертам лица и цвету кожи, здесь было немало потомков тех, кто в давние времена ходил вдоль побережья на бальсовых плотах. Пришли и потомки первых испанцев во главе с представителями военно-морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины, Кубы, экс-губернатор британских владении в Тихом океане, посланники Швеции, Бельгии и Голландии и наши друзья из норвежского землячества во главе с генеральным консулом Баром. Сновали журналисты, жужжали камерами кинооператоры, не хватало только духового оркестра. Одно было для нас ясно: если плот рассыплется, выйдя из бухты Кальяо, мы скорее погребем каждый на своем бревне в Полинезию, чем возвратимся сюда.
Герд Волд, секретарь экспедиции и ее уполномоченная на суше, должна была крестить плот молоком кокосового ореха — отчасти, чтобы не нарушать колорит каменного века, отчасти же потому, что шампанское, по странному недоразумению, очутилось на дне личного сундучка Торстейна. По-английски и по-испански мы сообщили нашим друзьям, что плот будет назван в честь могущественного предшественника инков, короля-солнца, который полтора тысячелетия тому назад ушел из Перу через океан на запад, чтобы появиться затем в Полинезии. Герд Волд нарекла плот именем «Кон-Тики» и с такой силой стукнула заранее надрезанным кокосовым орехом по переднему бревну, что сок ореха обрызгал всех, кто почтительно окружил наше суденышко.
После этого мы подняли бамбуковую рею и расправили парус, в середине которого наш живописец Эрик намалевал красной краской голову Кон-Тики. Это была точная копия головы бога Солнца, которая высечена на красном камне, стоящем среди развалин города Тиауанако.
— А! Сеньор Даниельссон! — восхищенно воскликнул руководитель строителей, увидев на парусе бородатую физиономию.
Два месяца он величал Бенгта сеньором Кон-Тики, после того как мы показали ему рисунок головы древнего вождя. Теперь до него наконец дошло, что Бенгта зовут Даниельссон…
Перед отъездом команда получила прощальную аудиенцию у президента. Потом мы забрались высоко в горы, чтобы досыта наглядеться на скалы и утесы, прежде чем выходить в безбрежный океан. Пока шла работа, мы жили в пансионате в зеленом пригороде Лимы и каждый день ездили в порт Кальяо на машине военно-воздушного ведомства, которую Герд удалось взять напрокат вместе с персональным водителем. Вот мы и попросили шофера отвезти нас подальше в горы. По иссушенным солнцем склонам, мимо древних оросительных сооружений инков мы поднялись на 4 тысячи метров над верхушкой мачты «Кон-Тики». Здесь мы буквально пожирали глазами камни, утесы и зелень лугов, пытаясь пресытиться величественным зрелищем могучего отрога Анд. Мы внушали себе, что камень и суша нам осточертели, теперь нам не терпится поскорее узнать океан!
 Бальса сплавляется по реке к морю
Бальса сплавляется по реке к морю
 Девять бревен в порту Кальяо
Девять бревен в порту Кальяо
 Скоро плот будет готов
Скоро плот будет готов
 На парусе — голова древнего бога Кон-Тики
На парусе — голова древнего бога Кон-Тики
 Мы увидели китовую акулу
Мы увидели китовую акулу
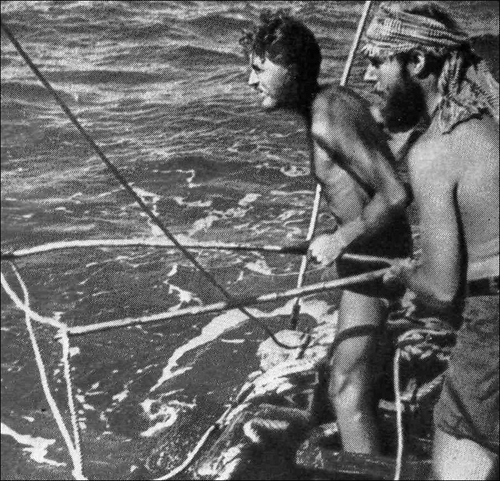 Вот такие тунцы нам попадались!
Вот такие тунцы нам попадались!
 Хессельберг часто брал в руки гитару
Хессельберг часто брал в руки гитару
 Акул мы вытаскивали из воды за хвост
Акул мы вытаскивали из воды за хвост
 Рекордный трофей
Рекордный трофей
 На руле
На руле
 Бенгт Даниэльссон (сидит первый слева) считал наш рейс лучшим отпуском в своей жизни
Бенгт Даниэльссон (сидит первый слева) считал наш рейс лучшим отпуском в своей жизни
 С мачты виднее
С мачты виднее
 В открытом океане
В открытом океане
 «Кон-Тики» на рифе
«Кон-Тики» на рифе
 Подходим к полинезийским островам
Подходим к полинезийским островам
 До острова рукой подать
До острова рукой подать
 Эти орехи мы привезли с собой из Южной Америки
Эти орехи мы привезли с собой из Южной Америки
 Последние метры
Последние метры


 Путешествие первое
Путешествие первое










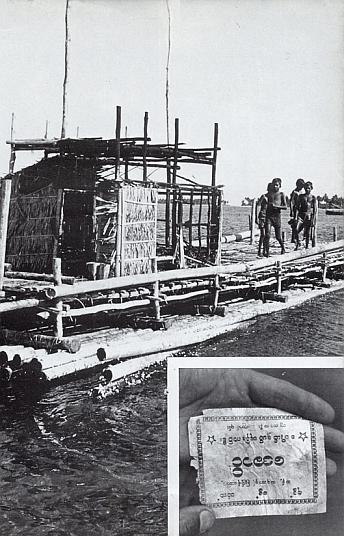





 Второе путешествие
Второе путешествие


















 Третье путешествие
Третье путешествие






 Четвертое путешествие
Четвертое путешествие





 Тур Хейердал безусловно является, как это модно говорить сейчас, знаковой фигурой ушедшего XX века. В самом деле, мы не задумываясь ставим его в один ряд с Ф. Нансеном, Р. Амундсеном, Ж.-И. Кусто. Разумеется, между ними нельзя поставить знака равенства, но все же есть нечто, их объединяющее. На мой взгляд, это преданность своему делу, искренняя потребность принести человечеству пользу, способность к первооткрывательству и, как следствие, мировая известность. Последняя, кстати, возникла не в результате их научных достижений, а скорее, вопреки. И, пожалуй, еще одно обстоятельство: все они страстно стремились познать окружающий их мир, поэтому людская молва всех их называет выдающимися путешественниками.
Разумеется, Тур Хейердал — выдающийся путешественник, хотя бы уже потому, что именно он открыл новую страницу в современном мореплавании — он стал реконструировать маршруты древних мореходов. И надо признать, что весьма на этом поприще преуспел: все знают о бальсовом «Кон-Тики», папирусных «Ра» и камышовом «Тигрисе». Многие слышали и читали о том, что у него появился добрый десяток последователей, таких как Тиммоти Северин или Уильям Уиллис и др. Однако сам Хейердал считает себя ученым, специалистом в области древних цивилизаций, археологом, этнографом, антропологом. Сейчас этот факт ни у кого сомнений не вызывает, ведь он доктор наук, профессор, член не менее десяти научных Академий, почетный доктор многих университетов, в том числе и Московского. Но это сейчас. А что же пришлось Туру Хейердалу претерпеть на пути к этому признанию?
Именно об этом книга, которую Ты, читатель, держишь в своих руках.
Эта книга не похожа на все то, что Тур Хейердал написал прежде. Его перу принадлежит добрый десяток приключенческих книг и добрая сотня научных статей и монографий, несколько книг написано о нем самом. Безусловно, во всех книгах о его путешествиях или экспедициях изложена часть его жизненного пути, они документальны. Но еще ни разу Тур Хейердал не рассказывал о своей жизни, начиная с самого раннего детства. Долгая жизнь Тура Хейердала может служить примером истинного служения своему делу, своему увлечению, своей науке. Читатель узнает о том, что Тур очень рано, еще будучи студентом, увлекся изучением древнего человека, древних цивилизаций и с удивительным упорством, настойчивостью, изобретательностью, смелостью, риском для жизни и бескомпромиссностью занимался одним этим делом. Перерыв пришлось сделать лишь один раз на несколько лет — помешала Вторая мировая война. Военные приключения Тура Хейердала — одна из увлекательнейших страниц его жизни, правда, с одним допущением — он легко мог погибнуть.
Часто, наблюдая жизнь особо одаренных и талантливых людей, обыватель говорит: «Везет же…» Действительно, везунчик — все у него получается, все легко, все просто, протянул руку, а в ней уже птица счастья. На самом деле так не бывает, и жизнь Хейердала — тому пример. Чем больше он работал, чем больше он изучал и познавал, чем больше он популяризировал свои идеи и открытия, чем более известным и популярным он становился, тем зачастую жестче и непримиримей встречал его ученый мир (правда, не весь, но большинство). Большая часть научных авторитетов не брала на себя труд ознакомиться с научными публикациями Тура Хейердала, они (кстати, с удовольствием) читали его приключенческие книги, в которых, разумеется, отсутствовала строго научная аргументация. Читали и делали строго научные выводы.
Парадокс? Да.
Хейердал все умеет делать сам и все сам делает. Он не только вдохновитель и организатор, но и непременный участник всех своих экспериментов. Человек, сидящий безвылазно в своем кабинете и расшифровывающий письмена древних пасхальцев на деревянных дощечках, так называемые «ронго-ронго», не может взять в толк, что это понесло Хейердала на остров Пасхи на целый год?
А Хейердалу нужно было не только увидеть все своими глазами и копать там, но и ощутить загадочную, мистическую ауру острова и его идолов. Попытаться узнать и понять живущих там людей. И ведь именно они открыли Хейердалу свою главную тайну — родовые пещеры, о существовании которых не знал даже пришлый миссионер Патер Себастьян, проживший на острове Пасхи двадцать лет, учивший и лечивший местных жителей.
Парадокс? Да.
Как удалось Хейердалу настолько расположить к себе пасхальцев? Ответ, на мой взгляд, в главной сути Тура — он искренне и глубоко любит себе подобных, ему действительно все равно, араб ты или еврей или еще кто-то, какого цвета твоя кожа и какому Богу ты молишься. Искренняя доброта и отсутствие какой-либо агрессивности, честность и открытость — главные источники удивительного обаяния Тура Хейердала. Именно эти свойства его натуры открывают перед ним все границы и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации и обстановке. Мне много раз приходилось это наблюдать и слышать из рассказов общих друзей.
Герман Карраско, наш друг и участник экспедиции «Тигрис», о котором Тур упоминает в этой книге, рассказывая о «болотных арабах», поведал мне о приключениях Хейердала в Перу. Район Тукуме, где Тур производил раскопки, славился напряженной криминальной обстановкой. Разного рода бандиты и мафиози буквально заполонили эти места, и появляться там без охраны приезжим не рекомендовалось. Тур, однако, просто не обращал на это внимания и свободно один скакал по окрестностям верхом на лошади, общался с рыбаками и крестьянами и приобрел среди них множество друзей.
Опять парадокс? Да.
Но вернемся к книге.
Пожалуй, это первая книга, в которой Хейердал так много и подробно рассказывает о нашей стране (и о бывшем СССР), о своих друзьях, встречах, приключениях и отношениях с партийными боссами и учеными.
Читатель узнает из этой книги и то, о чем Тур не писал никогда. О его личной жизни. О его отце, матери, женах и детях. Тур повествует в этой книге о своей жизненной философии: отношению к Богу, религии, политике, окружающей среде и будущему Планеты. Помимо всех своих талантов, Тур Хейердал обладает явным писательским даром. Книга написана легко и интересно. Начав ее читать, трудно остановиться.
Тур Хейердал безусловно является, как это модно говорить сейчас, знаковой фигурой ушедшего XX века. В самом деле, мы не задумываясь ставим его в один ряд с Ф. Нансеном, Р. Амундсеном, Ж.-И. Кусто. Разумеется, между ними нельзя поставить знака равенства, но все же есть нечто, их объединяющее. На мой взгляд, это преданность своему делу, искренняя потребность принести человечеству пользу, способность к первооткрывательству и, как следствие, мировая известность. Последняя, кстати, возникла не в результате их научных достижений, а скорее, вопреки. И, пожалуй, еще одно обстоятельство: все они страстно стремились познать окружающий их мир, поэтому людская молва всех их называет выдающимися путешественниками.
Разумеется, Тур Хейердал — выдающийся путешественник, хотя бы уже потому, что именно он открыл новую страницу в современном мореплавании — он стал реконструировать маршруты древних мореходов. И надо признать, что весьма на этом поприще преуспел: все знают о бальсовом «Кон-Тики», папирусных «Ра» и камышовом «Тигрисе». Многие слышали и читали о том, что у него появился добрый десяток последователей, таких как Тиммоти Северин или Уильям Уиллис и др. Однако сам Хейердал считает себя ученым, специалистом в области древних цивилизаций, археологом, этнографом, антропологом. Сейчас этот факт ни у кого сомнений не вызывает, ведь он доктор наук, профессор, член не менее десяти научных Академий, почетный доктор многих университетов, в том числе и Московского. Но это сейчас. А что же пришлось Туру Хейердалу претерпеть на пути к этому признанию?
Именно об этом книга, которую Ты, читатель, держишь в своих руках.
Эта книга не похожа на все то, что Тур Хейердал написал прежде. Его перу принадлежит добрый десяток приключенческих книг и добрая сотня научных статей и монографий, несколько книг написано о нем самом. Безусловно, во всех книгах о его путешествиях или экспедициях изложена часть его жизненного пути, они документальны. Но еще ни разу Тур Хейердал не рассказывал о своей жизни, начиная с самого раннего детства. Долгая жизнь Тура Хейердала может служить примером истинного служения своему делу, своему увлечению, своей науке. Читатель узнает о том, что Тур очень рано, еще будучи студентом, увлекся изучением древнего человека, древних цивилизаций и с удивительным упорством, настойчивостью, изобретательностью, смелостью, риском для жизни и бескомпромиссностью занимался одним этим делом. Перерыв пришлось сделать лишь один раз на несколько лет — помешала Вторая мировая война. Военные приключения Тура Хейердала — одна из увлекательнейших страниц его жизни, правда, с одним допущением — он легко мог погибнуть.
Часто, наблюдая жизнь особо одаренных и талантливых людей, обыватель говорит: «Везет же…» Действительно, везунчик — все у него получается, все легко, все просто, протянул руку, а в ней уже птица счастья. На самом деле так не бывает, и жизнь Хейердала — тому пример. Чем больше он работал, чем больше он изучал и познавал, чем больше он популяризировал свои идеи и открытия, чем более известным и популярным он становился, тем зачастую жестче и непримиримей встречал его ученый мир (правда, не весь, но большинство). Большая часть научных авторитетов не брала на себя труд ознакомиться с научными публикациями Тура Хейердала, они (кстати, с удовольствием) читали его приключенческие книги, в которых, разумеется, отсутствовала строго научная аргументация. Читали и делали строго научные выводы.
Парадокс? Да.
Хейердал все умеет делать сам и все сам делает. Он не только вдохновитель и организатор, но и непременный участник всех своих экспериментов. Человек, сидящий безвылазно в своем кабинете и расшифровывающий письмена древних пасхальцев на деревянных дощечках, так называемые «ронго-ронго», не может взять в толк, что это понесло Хейердала на остров Пасхи на целый год?
А Хейердалу нужно было не только увидеть все своими глазами и копать там, но и ощутить загадочную, мистическую ауру острова и его идолов. Попытаться узнать и понять живущих там людей. И ведь именно они открыли Хейердалу свою главную тайну — родовые пещеры, о существовании которых не знал даже пришлый миссионер Патер Себастьян, проживший на острове Пасхи двадцать лет, учивший и лечивший местных жителей.
Парадокс? Да.
Как удалось Хейердалу настолько расположить к себе пасхальцев? Ответ, на мой взгляд, в главной сути Тура — он искренне и глубоко любит себе подобных, ему действительно все равно, араб ты или еврей или еще кто-то, какого цвета твоя кожа и какому Богу ты молишься. Искренняя доброта и отсутствие какой-либо агрессивности, честность и открытость — главные источники удивительного обаяния Тура Хейердала. Именно эти свойства его натуры открывают перед ним все границы и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации и обстановке. Мне много раз приходилось это наблюдать и слышать из рассказов общих друзей.
Герман Карраско, наш друг и участник экспедиции «Тигрис», о котором Тур упоминает в этой книге, рассказывая о «болотных арабах», поведал мне о приключениях Хейердала в Перу. Район Тукуме, где Тур производил раскопки, славился напряженной криминальной обстановкой. Разного рода бандиты и мафиози буквально заполонили эти места, и появляться там без охраны приезжим не рекомендовалось. Тур, однако, просто не обращал на это внимания и свободно один скакал по окрестностям верхом на лошади, общался с рыбаками и крестьянами и приобрел среди них множество друзей.
Опять парадокс? Да.
Но вернемся к книге.
Пожалуй, это первая книга, в которой Хейердал так много и подробно рассказывает о нашей стране (и о бывшем СССР), о своих друзьях, встречах, приключениях и отношениях с партийными боссами и учеными.
Читатель узнает из этой книги и то, о чем Тур не писал никогда. О его личной жизни. О его отце, матери, женах и детях. Тур повествует в этой книге о своей жизненной философии: отношению к Богу, религии, политике, окружающей среде и будущему Планеты. Помимо всех своих талантов, Тур Хейердал обладает явным писательским даром. Книга написана легко и интересно. Начав ее читать, трудно остановиться.



 В тот же самый день, несколько часов спустя, недалеко от алжиро-марокканской границы прогремел взрыв. Бомба, брошенная исламским экстремистом, унесла жизнь архиепископа Оранского, друга отца Акачио.
И доморощенные террористы, и военные сверхдержавы одинаково верят и в Бога, и в Сатану. И в большие взрывы.
Ученые изучили в телескопы звезды и разглядели через микроскопы молекулы, но нигде не обнаружили ни рая, ни ада. Поэтому никакая наука не скажет, в чем разница между добром и злом.
В тот же самый день, несколько часов спустя, недалеко от алжиро-марокканской границы прогремел взрыв. Бомба, брошенная исламским экстремистом, унесла жизнь архиепископа Оранского, друга отца Акачио.
И доморощенные террористы, и военные сверхдержавы одинаково верят и в Бога, и в Сатану. И в большие взрывы.
Ученые изучили в телескопы звезды и разглядели через микроскопы молекулы, но нигде не обнаружили ни рая, ни ада. Поэтому никакая наука не скажет, в чем разница между добром и злом.





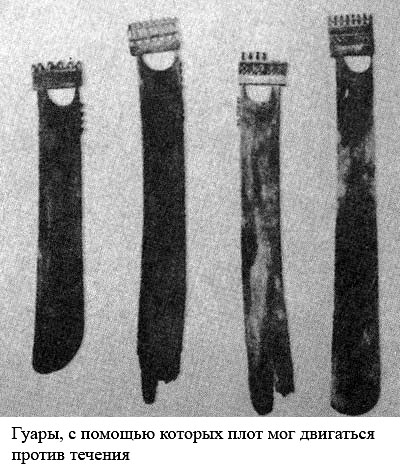
 Экипаж «Кон-Тики» состоял из пяти норвежцев и одного шведа. Все были протестанты, и когда океан вспучился и швырнул нас на берег, я услышал, как Торстейн крикнул Кнуту: «Кто верит в Бога, лучше молитесь!» Я думаю, молились в тот миг не менее половины из нас.
Экипаж «Кон-Тики» состоял из пяти норвежцев и одного шведа. Все были протестанты, и когда океан вспучился и швырнул нас на берег, я услышал, как Торстейн крикнул Кнуту: «Кто верит в Бога, лучше молитесь!» Я думаю, молились в тот миг не менее половины из нас.
 Двадцать два года спустя, когда мы собирались спустить на воду в Марокко тростниковый плот «Ра» в надежде пересечь Атлантику, нас было уже семеро, и все принадлежали к абсолютно различным культурам. Я хотел доказать, что люди могут отлично уживаться на ограниченной площади и в состоянии опасности, независимо от цвета кожи, религии и политических убеждений. На протяжении почти двух месяцев араб и еврей укладывались плечом к плечу в тесной бамбуковой хижине, а штурман из США спал, уткнувшись лицом в ноги доктора из Советского Союза. Араб из Египта был не мусульманин, а копт, представитель древнейшей христианской группы. Абдулла из Центральной Африки, черный как смоль, не будучи арабом, верил в Аллаха. На сей раз паша из Сафи подарил нам Коран, но поскольку Абдулла не умел читать, Коран так и пролежал рядом с моей Библией до нашего следующего путешествия. Тогда на борту оказался грамотный мусульманин, бербер из Марокко, и он читал его каждый день.
Двадцать два года спустя, когда мы собирались спустить на воду в Марокко тростниковый плот «Ра» в надежде пересечь Атлантику, нас было уже семеро, и все принадлежали к абсолютно различным культурам. Я хотел доказать, что люди могут отлично уживаться на ограниченной площади и в состоянии опасности, независимо от цвета кожи, религии и политических убеждений. На протяжении почти двух месяцев араб и еврей укладывались плечом к плечу в тесной бамбуковой хижине, а штурман из США спал, уткнувшись лицом в ноги доктора из Советского Союза. Араб из Египта был не мусульманин, а копт, представитель древнейшей христианской группы. Абдулла из Центральной Африки, черный как смоль, не будучи арабом, верил в Аллаха. На сей раз паша из Сафи подарил нам Коран, но поскольку Абдулла не умел читать, Коран так и пролежал рядом с моей Библией до нашего следующего путешествия. Тогда на борту оказался грамотный мусульманин, бербер из Марокко, и он читал его каждый день.


 И Библия, и Коран, сопровождавшие нас в океанских плаваниях, завершили свой путь на моей книжной полке, где они мирно стоят бок о бок рядом с другими материалами о происхождении мировых цивилизаций. Я еще не раз буду к ним ко всем возвращаться.
И Библия, и Коран, сопровождавшие нас в океанских плаваниях, завершили свой путь на моей книжной полке, где они мирно стоят бок о бок рядом с другими материалами о происхождении мировых цивилизаций. Я еще не раз буду к ним ко всем возвращаться.
 Я часто замечал, что подготовка к путешествию часто оказывается более сложной, чем само путешествие. А иногда и более опасной. Когда я вместе с французским фотографом приехал в Чад искать строителей лодок из тростника, там было неспокойно. В столице государства, Форт-Лами (ныне Нджамена), я нанял джип, чтобы по длинному караванному пути добраться до озера Чад, места обитания темнокожих из народности бамбунду. Многие из них живут посреди озера на плавучих островах из тростника. Нас предупреждали об опасностях путешествия и о том, что на обочине дороги недавно нашли отрезанные головы медицинских сестер из миссии. Уже темнело, когда мы, наконец, добрались до деревни Бол на берегу озера Чад. Вся деревня состояла из очень красивых конусообразных хижин из тростника, а в конце дороги имелся сарай, в котором любой путник мог бесплатно переночевать. Три стены, цементный пол и цементная же крыша.
Мы уже спали на полу, когда вдруг я проснулся от звуков далекой музыки — ритмичного стука барабанов и завывания духовых инструментов. Деревня казалась пустой и безжизненной, любопытство мое разыгралось не на шутку, и я выскользнул из сарая в ночь. Почти сразу же я наступил на лежащего верблюда, тот истошно заорал, и я долго еще приходил в себя, пока не нашел силы продолжить путь.
Стук барабанов становился громче, я завернул за угол и увидел открытую площадь. Вокруг единственной керосиновой лампы кружились в танце молчаливые фигуры в развевающихся одеждах. Постепенно мои глаза привыкли к свету, и я разглядел двух музыкантов. Я плотно прижался к стене хижины и не сомневался, что в непроницаемом мраке африканской ночи увидеть меня невозможно.
К моему удивлению, одна из фигур медленно отделилась от других и, не прерывая танца, двинулась туда, где я стоял. Я надеялся, что незнакомец не подойдет настолько близко, чтобы заметить меня, но тут он вытащил меч и, по-прежнему в ритме танца, принялся делать выпады в мою сторону. Меня прошиб холодный пот, когда я понял, что мое белое тело отлично видно в темноте, и именно я являюсь объектом его атаки.
Остальные продолжали как ни в чем не бывало плясать вокруг лампы. Угрожающая фигура приблизилась настолько, что меч в любое мгновение мог вонзиться в меня. Я был безоружен и не мог убежать. Казалось, выхода не было, и тут я инстинктивно начал перебирать ногами в такт барабанам. Через мгновение я уже танцевал на пару с человеком, который держал меч у моей груди. Казалось, он находится под воздействием какого-то наркотика. Постепенно он начал отступать, а я последовал за ним, по-прежнему вплотную к его мечу. Когда мы приблизились к кругу танцующих, они расступились, чтобы дать нам место. Меч исчез в ножнах, и мы танцевали друг с другом и со всеми остальными.
В скудном свете керосиновой лампы я разглядел даму роскошных форм рядом с музыкантами, и еще я с удивлением заметил, что танцоры, похоже, начали уставать. Один за другим они выходили из круга, все в поту и тяжело дыша, и выкладывали по мелкой монетке в качестве отступного. В конце концов, мы остались только вдвоем, а через несколько минут я уже танцевал в одиночестве. Очевидно, я выиграл какое-то соревнование. Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, я положил довольно крупную купюру в чашу, куда остальные кидали монетки. Как потом оказалось, победителю доставалась та самая пышная красотка, и никто не понял, почему я не взял ее с собой, когда свалился без сил на цементный пол нашего сарая.
На следующее утро выяснилось, что я завоевал огромное уважение среди жителей деревни. В числе моих новых друзей был и Абдулла, строитель тростниковых лодок.
Во время путешествия из сердца Африки к океанскому побережью Абдулла узнал много нового для себя, а мы узнали немало нового от него. Он единственный из всех своими глазами видел настоящий папирус и знал, как строить из него лодки, загибающиеся к носу и корме, чтобы скользить по волнам. Абдулла никогда не видел другого водоема, кроме озера Чад в южной оконечности Сахары, и не представлял волн более крутых, чем те, что поднимаются там. Оказавшись на борту «Ра», он больше доверял Аллаху, нежели нам, ничего не понимавшим в папирусных лодках, но на всякий случай привязал себе на пояс маленький кожаный мешочек с когтями леопарда и заговоренными камнями. Снаряженный таким образом, он пугал нас до полусмерти, беззаботно балансируя без страхующей веревки на скользком борту лодки. А если и соскальзывал в воду, то просто хватался за пучок тростника и со смехом забирался назад на борт.
Волею Аллаха, Абдулла появился на свет в той части Африки, которая знавала лучшие времена. Сегодня Сахара наступаетна юг со скоростью около двух километров в год. Примерно пять тысяч лет назад аборигены, жившие к северу от родных мест Абдуллы, украсили пещеры на плато Тассилин-Аджер наскальными изображениями сцен охоты с лодок на гиппопотамов. Две тысячи лет назад Северная Африка все еще оставалась житницей Римской империи. Когда Абдулла пришел в этот мир, бесчисленные песчаные дюны с севера уже миновали озеро Чад и медленно наступали на тропические джунгли. Вокруг озера невозможно увидеть ни единого кустика, только бескрайнее море песка, ярко-зеленую поросль тростника вдоль кромки воды да искусственные плавучие острова, служащие домом для людей и скота.
В то время как мы живем в мире небоскребов и полетов в космос, Абдулла и двое его соплеменников, которых я привез в Египет для постройки судна, никогда не знали даже обыкновенной лестницы. Первую лестницу в своей жизни они увидели в аэропорту Форт-Лами. Они родились и выросли в живописных конусообразных тростниковых хижинах с земляным полом, и когда мы поднимались на третий этаж отеля в Хартуме, они высоко задирали ноги, словно карабкались на крутую гору. Их выхватили из мира, где единственным предметом обстановки была циновка, брошенная на пол. Поэтому, несмотря на все объяснения Абдуллы, который говорил по-французски и, следовательно, исполнял роль переводчика, один из них все же улегся спать, засунув голову под кровать. С еще большим недоверием они выслушали инструкции по использованию туалета — ослепительно чистого, с бачком, полным прозрачной воды. Сам Абдулла реагировал на все увиденное со стоическим спокойствием, и когда мы, наконец, добрались до Каира, никто, глядя на моих черных, как ночь, спутников, не мог бы заподозрить, что они меньше чем за неделю совершили прыжок из каменного века в век атомный. Всего за неделю… Но видели бы вы их глаза, когда мы привезли их в наш лагерь под сенью пирамиды Хеопса! Я выбрал именно это место, чтобы наше строительство точь-в-точь повторяло сюжеты древних рисунков. Трое из племени бамбунду ошарашенно глядели на пирамиду.
Кто здесь живет? — поинтересовался, наконец, Абдулла, сравнив размеры наших жилых палаток и пирамиды.
— Никто, — пояснил я. — Это могила.
— А сколько человек там похоронено?
— Только один.
Даже для Абдуллы это оказалось слишком.
Врут эти египтяне, — заявил он. Его скептицизм ничуть не уменьшился, когда ему сообщили, что египтяне построили это за три с половиной тысячи лет до рождения Магомета.
Коран позволял Абдулле иметь до четырех жен. Финансовая ответственность за благосостояние бамбундской красавицы, оставленной им на берегах озера Чад, легла на мои плечи. Но прошло совсем немного дней после нашего приезда в Египет, как Абдулла пригласил нас всех в Каир на свадьбу — настоящую арабскую свадьбу с музыкой, песнями и танцем живота. Мне была оказана высокая честь и доверие положить несколько банкнот в лифчик невесты, и к моменту отплытия из Марокко я уже являлся кормильцем двух жен Абдуллы в разных концах Африки. Счастливый миг третьего бракосочетания со скрытой под вуалью берберской дамой надвигался со стремительностью курьерского поезда, но тут нам удалось заманить Абдуллу на борт тростниковой лодки и уговорить повременить со свадьбой до окончания путешествия.
На календаре была весна 1969 года. В то же самое время американские астронавты заканчивали подготовку к первому полету на Луну. НАСА предложила установить нам на лодку какое-то оборудование, чтобы мы, находясь посреди океана, могли бы общаться с разгуливающими по Луне астронавтами. Мысль о том, чтобы воткнуть антенну в тело папирусного судна, названного в честь бога Солнца, для разговоров с людьми на Луне, показалась мне неуклюжей пародией, и я вежливо, но твердо отказался. К моему великому удивлению, в день отплытия на пристани Сафи появился человек из НАСА с коробкой в руках. Оказывается, там не поверили в серьезность моего отказа. Я был непоколебим, и коробка осталась у посыльного. Когда мы вышли в воды Атлантического океана, он, наверное, пролетел в самолете над нашими головами.
Я часто замечал, что подготовка к путешествию часто оказывается более сложной, чем само путешествие. А иногда и более опасной. Когда я вместе с французским фотографом приехал в Чад искать строителей лодок из тростника, там было неспокойно. В столице государства, Форт-Лами (ныне Нджамена), я нанял джип, чтобы по длинному караванному пути добраться до озера Чад, места обитания темнокожих из народности бамбунду. Многие из них живут посреди озера на плавучих островах из тростника. Нас предупреждали об опасностях путешествия и о том, что на обочине дороги недавно нашли отрезанные головы медицинских сестер из миссии. Уже темнело, когда мы, наконец, добрались до деревни Бол на берегу озера Чад. Вся деревня состояла из очень красивых конусообразных хижин из тростника, а в конце дороги имелся сарай, в котором любой путник мог бесплатно переночевать. Три стены, цементный пол и цементная же крыша.
Мы уже спали на полу, когда вдруг я проснулся от звуков далекой музыки — ритмичного стука барабанов и завывания духовых инструментов. Деревня казалась пустой и безжизненной, любопытство мое разыгралось не на шутку, и я выскользнул из сарая в ночь. Почти сразу же я наступил на лежащего верблюда, тот истошно заорал, и я долго еще приходил в себя, пока не нашел силы продолжить путь.
Стук барабанов становился громче, я завернул за угол и увидел открытую площадь. Вокруг единственной керосиновой лампы кружились в танце молчаливые фигуры в развевающихся одеждах. Постепенно мои глаза привыкли к свету, и я разглядел двух музыкантов. Я плотно прижался к стене хижины и не сомневался, что в непроницаемом мраке африканской ночи увидеть меня невозможно.
К моему удивлению, одна из фигур медленно отделилась от других и, не прерывая танца, двинулась туда, где я стоял. Я надеялся, что незнакомец не подойдет настолько близко, чтобы заметить меня, но тут он вытащил меч и, по-прежнему в ритме танца, принялся делать выпады в мою сторону. Меня прошиб холодный пот, когда я понял, что мое белое тело отлично видно в темноте, и именно я являюсь объектом его атаки.
Остальные продолжали как ни в чем не бывало плясать вокруг лампы. Угрожающая фигура приблизилась настолько, что меч в любое мгновение мог вонзиться в меня. Я был безоружен и не мог убежать. Казалось, выхода не было, и тут я инстинктивно начал перебирать ногами в такт барабанам. Через мгновение я уже танцевал на пару с человеком, который держал меч у моей груди. Казалось, он находится под воздействием какого-то наркотика. Постепенно он начал отступать, а я последовал за ним, по-прежнему вплотную к его мечу. Когда мы приблизились к кругу танцующих, они расступились, чтобы дать нам место. Меч исчез в ножнах, и мы танцевали друг с другом и со всеми остальными.
В скудном свете керосиновой лампы я разглядел даму роскошных форм рядом с музыкантами, и еще я с удивлением заметил, что танцоры, похоже, начали уставать. Один за другим они выходили из круга, все в поту и тяжело дыша, и выкладывали по мелкой монетке в качестве отступного. В конце концов, мы остались только вдвоем, а через несколько минут я уже танцевал в одиночестве. Очевидно, я выиграл какое-то соревнование. Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, я положил довольно крупную купюру в чашу, куда остальные кидали монетки. Как потом оказалось, победителю доставалась та самая пышная красотка, и никто не понял, почему я не взял ее с собой, когда свалился без сил на цементный пол нашего сарая.
На следующее утро выяснилось, что я завоевал огромное уважение среди жителей деревни. В числе моих новых друзей был и Абдулла, строитель тростниковых лодок.
Во время путешествия из сердца Африки к океанскому побережью Абдулла узнал много нового для себя, а мы узнали немало нового от него. Он единственный из всех своими глазами видел настоящий папирус и знал, как строить из него лодки, загибающиеся к носу и корме, чтобы скользить по волнам. Абдулла никогда не видел другого водоема, кроме озера Чад в южной оконечности Сахары, и не представлял волн более крутых, чем те, что поднимаются там. Оказавшись на борту «Ра», он больше доверял Аллаху, нежели нам, ничего не понимавшим в папирусных лодках, но на всякий случай привязал себе на пояс маленький кожаный мешочек с когтями леопарда и заговоренными камнями. Снаряженный таким образом, он пугал нас до полусмерти, беззаботно балансируя без страхующей веревки на скользком борту лодки. А если и соскальзывал в воду, то просто хватался за пучок тростника и со смехом забирался назад на борт.
Волею Аллаха, Абдулла появился на свет в той части Африки, которая знавала лучшие времена. Сегодня Сахара наступаетна юг со скоростью около двух километров в год. Примерно пять тысяч лет назад аборигены, жившие к северу от родных мест Абдуллы, украсили пещеры на плато Тассилин-Аджер наскальными изображениями сцен охоты с лодок на гиппопотамов. Две тысячи лет назад Северная Африка все еще оставалась житницей Римской империи. Когда Абдулла пришел в этот мир, бесчисленные песчаные дюны с севера уже миновали озеро Чад и медленно наступали на тропические джунгли. Вокруг озера невозможно увидеть ни единого кустика, только бескрайнее море песка, ярко-зеленую поросль тростника вдоль кромки воды да искусственные плавучие острова, служащие домом для людей и скота.
В то время как мы живем в мире небоскребов и полетов в космос, Абдулла и двое его соплеменников, которых я привез в Египет для постройки судна, никогда не знали даже обыкновенной лестницы. Первую лестницу в своей жизни они увидели в аэропорту Форт-Лами. Они родились и выросли в живописных конусообразных тростниковых хижинах с земляным полом, и когда мы поднимались на третий этаж отеля в Хартуме, они высоко задирали ноги, словно карабкались на крутую гору. Их выхватили из мира, где единственным предметом обстановки была циновка, брошенная на пол. Поэтому, несмотря на все объяснения Абдуллы, который говорил по-французски и, следовательно, исполнял роль переводчика, один из них все же улегся спать, засунув голову под кровать. С еще большим недоверием они выслушали инструкции по использованию туалета — ослепительно чистого, с бачком, полным прозрачной воды. Сам Абдулла реагировал на все увиденное со стоическим спокойствием, и когда мы, наконец, добрались до Каира, никто, глядя на моих черных, как ночь, спутников, не мог бы заподозрить, что они меньше чем за неделю совершили прыжок из каменного века в век атомный. Всего за неделю… Но видели бы вы их глаза, когда мы привезли их в наш лагерь под сенью пирамиды Хеопса! Я выбрал именно это место, чтобы наше строительство точь-в-точь повторяло сюжеты древних рисунков. Трое из племени бамбунду ошарашенно глядели на пирамиду.
Кто здесь живет? — поинтересовался, наконец, Абдулла, сравнив размеры наших жилых палаток и пирамиды.
— Никто, — пояснил я. — Это могила.
— А сколько человек там похоронено?
— Только один.
Даже для Абдуллы это оказалось слишком.
Врут эти египтяне, — заявил он. Его скептицизм ничуть не уменьшился, когда ему сообщили, что египтяне построили это за три с половиной тысячи лет до рождения Магомета.
Коран позволял Абдулле иметь до четырех жен. Финансовая ответственность за благосостояние бамбундской красавицы, оставленной им на берегах озера Чад, легла на мои плечи. Но прошло совсем немного дней после нашего приезда в Египет, как Абдулла пригласил нас всех в Каир на свадьбу — настоящую арабскую свадьбу с музыкой, песнями и танцем живота. Мне была оказана высокая честь и доверие положить несколько банкнот в лифчик невесты, и к моменту отплытия из Марокко я уже являлся кормильцем двух жен Абдуллы в разных концах Африки. Счастливый миг третьего бракосочетания со скрытой под вуалью берберской дамой надвигался со стремительностью курьерского поезда, но тут нам удалось заманить Абдуллу на борт тростниковой лодки и уговорить повременить со свадьбой до окончания путешествия.
На календаре была весна 1969 года. В то же самое время американские астронавты заканчивали подготовку к первому полету на Луну. НАСА предложила установить нам на лодку какое-то оборудование, чтобы мы, находясь посреди океана, могли бы общаться с разгуливающими по Луне астронавтами. Мысль о том, чтобы воткнуть антенну в тело папирусного судна, названного в честь бога Солнца, для разговоров с людьми на Луне, показалась мне неуклюжей пародией, и я вежливо, но твердо отказался. К моему великому удивлению, в день отплытия на пристани Сафи появился человек из НАСА с коробкой в руках. Оказывается, там не поверили в серьезность моего отказа. Я был непоколебим, и коробка осталась у посыльного. Когда мы вышли в воды Атлантического океана, он, наверное, пролетел в самолете над нашими головами.


 Абдулла оказался весьма толковым человеком, гораздо более сообразительным, чем многие другие. Сафи еще не скрылся за горизонтом, а он уже освоился с компасом и во время молитв определял по нему местоположение Мекки. Ветер и течение увлекали нас прямо на запад, как в свое время суда Колумба, поэтому направление на Мекку почти не менялось. Однако в первое же утро в открытом океане при, восходе солнца возникла неожиданная проблема. Абдулла сообщил, что кто-то рассыпал в воду соль. Согласно мусульманскому ритуалу, он зачерпнул воды и омыл лицо и руки по локоть. Затем раздался вопль. Вода оказалась не только соленой, но еще и грязной! Всю океанскую поверхность покрывал тонкий маслянистый слой мазута, в котором плавали тряпки и прочий мусор. Правда, на воде грязь бросалась в глаза сильнее, чем на черной физиономии Абдуллы. Для отправления религиозных церемоний Абдулле требовалась чистая вода. Поскольку все на борту с уважением относились к Аллаху, проблему решили быстро, решив на первое время выдавать Абдулле дополнительную порцию питьевой воды, которая хранилась в больших глиняных кувшинах. Вообще-то, в крайних случаях Коран позволял путешественнику очищаться песком, но Сахара осталась позади и с каждой минутой удалялась все дальше и дальше.
Мы уверили Абдуллу, что скоро вода очистится и будет такой же прозрачной, как двадцать два года назад, во времена «Кон-Тики». Тогда мы проплыли восемь тысяч километров по глади Тихого океана и не увидели ни единого пятна нефти и вообще никаких свидетельств, что кроме нашей шестерки на планете есть еще хоть одна живая душа.
Таким образом, Абдулла первым предупредил нас о страшной опасности: океан подвергается загрязнению!
А он у нас один, перегородки между Атлантикой и другими океанами нет. Материки, подобно островам, поднимаются из вод единого Мирового океана.
Во все последующие дни мы только и делали, что доставали из воды сгустки нефти. Некоторые по размеру не превышали зернышка риса, другие были не меньше картофелины или апельсина и служили домом рыбам-прилипалам и крошечным крабам. А я-то предвкушал, что покажу моим новым друзьям великолепный, девственно чистый океан, знакомый мне по плаванию на плоту из бальсового дерева! Моя тревога достигла таких размеров, что я послал сообщение о нарастающем загрязнении мирового океана Генеральному секретарю ООН У Тану. Он дал нам разрешение поднять над «Ра» флаг ООН, поскольку мы хотели осуществить в миниатюре главную цель этой организации — быть единым миром в центре общего океана.
Ничем другим море Абдуллу не разочаровало. Наоборот, при первой встрече с китами он, как ни в чем не бывало, закричал:
— Гиппопотамы по левому борту!
Абдулла оказался весьма толковым человеком, гораздо более сообразительным, чем многие другие. Сафи еще не скрылся за горизонтом, а он уже освоился с компасом и во время молитв определял по нему местоположение Мекки. Ветер и течение увлекали нас прямо на запад, как в свое время суда Колумба, поэтому направление на Мекку почти не менялось. Однако в первое же утро в открытом океане при, восходе солнца возникла неожиданная проблема. Абдулла сообщил, что кто-то рассыпал в воду соль. Согласно мусульманскому ритуалу, он зачерпнул воды и омыл лицо и руки по локоть. Затем раздался вопль. Вода оказалась не только соленой, но еще и грязной! Всю океанскую поверхность покрывал тонкий маслянистый слой мазута, в котором плавали тряпки и прочий мусор. Правда, на воде грязь бросалась в глаза сильнее, чем на черной физиономии Абдуллы. Для отправления религиозных церемоний Абдулле требовалась чистая вода. Поскольку все на борту с уважением относились к Аллаху, проблему решили быстро, решив на первое время выдавать Абдулле дополнительную порцию питьевой воды, которая хранилась в больших глиняных кувшинах. Вообще-то, в крайних случаях Коран позволял путешественнику очищаться песком, но Сахара осталась позади и с каждой минутой удалялась все дальше и дальше.
Мы уверили Абдуллу, что скоро вода очистится и будет такой же прозрачной, как двадцать два года назад, во времена «Кон-Тики». Тогда мы проплыли восемь тысяч километров по глади Тихого океана и не увидели ни единого пятна нефти и вообще никаких свидетельств, что кроме нашей шестерки на планете есть еще хоть одна живая душа.
Таким образом, Абдулла первым предупредил нас о страшной опасности: океан подвергается загрязнению!
А он у нас один, перегородки между Атлантикой и другими океанами нет. Материки, подобно островам, поднимаются из вод единого Мирового океана.
Во все последующие дни мы только и делали, что доставали из воды сгустки нефти. Некоторые по размеру не превышали зернышка риса, другие были не меньше картофелины или апельсина и служили домом рыбам-прилипалам и крошечным крабам. А я-то предвкушал, что покажу моим новым друзьям великолепный, девственно чистый океан, знакомый мне по плаванию на плоту из бальсового дерева! Моя тревога достигла таких размеров, что я послал сообщение о нарастающем загрязнении мирового океана Генеральному секретарю ООН У Тану. Он дал нам разрешение поднять над «Ра» флаг ООН, поскольку мы хотели осуществить в миниатюре главную цель этой организации — быть единым миром в центре общего океана.
Ничем другим море Абдуллу не разочаровало. Наоборот, при первой встрече с китами он, как ни в чем не бывало, закричал:
— Гиппопотамы по левому борту!
 Никто из них не понимал, почему фараоны строили свои корабли в форме серпа, с высоко задранной кормой, часто даже загибавшейся внутрь. Все решили, что главным соображением здесь служила красота, загнутая корма — лишь продукт воображения строителя, плотники из Чада убрали веревку, соединявшую ее с палубой, подобно тетиве лука. Мы и не подозревали, что это решение окажется роковым. Судно сразу потеряло эластичность, не могло больше легко скользить по гребням волн, и пучки тростника, из которых оно состояло, начали расползаться. Когда мы достигли Барбадоса, стало ясно, что они скоро просто рассыплются.
Никто из них не понимал, почему фараоны строили свои корабли в форме серпа, с высоко задранной кормой, часто даже загибавшейся внутрь. Все решили, что главным соображением здесь служила красота, загнутая корма — лишь продукт воображения строителя, плотники из Чада убрали веревку, соединявшую ее с палубой, подобно тетиве лука. Мы и не подозревали, что это решение окажется роковым. Судно сразу потеряло эластичность, не могло больше легко скользить по гребням волн, и пучки тростника, из которых оно состояло, начали расползаться. Когда мы достигли Барбадоса, стало ясно, что они скоро просто рассыплются.





 Весь этот год Абдулла ждал в доме своей египетской жены. Теперь он твердо решил жениться на берберке, которую он оставил в порту в прошлый раз. И вдруг в норвежское посольство в Каире пришла телеграмма: Абдулла стал отцом! У него родился сын! Аллах сделал ему такой подарок, рядом с которым померкла перспектива путешествия в Америку. Счастливый папаша оказался в Каире со скоростью, которая посрамила бы все ракеты мира. Мы стояли на тростниковой палубе и махали ему вслед, и среди нас стоял и прощался с остающимися на земле новый член экспедиции, бербер с Атласских гор. Днем раньше будущий мореход служил носильщиком в нашем отеле в Сафи. Он тоже впервые увидел океан, только спустившись со своих Атласских гор, но он, как Абдулла, был мусульманин, а горное солнце и ветры пустыни сделали его кожу почти такой же черной.
Мадами умел читать, и в сумке у него лежали плавки, коврик для принятия солнечных ванн и Коран на арабском языке. Абдулла первым обратил внимание на загрязнение океана, поэтому Мадами получил задание ежедневно вести наблюдения за чистотой воды, а также сачок для вылавливания комков нефти. Мы снова плыли под флагом ООН, только на сей раз Генеральный секретарь сам попросил нас составить отчет о загрязнении океана и предоставить образцы мусора. Мы добросовестно собирали большие и маленькие комочки нефти на протяжении сорока трех из пятидесяти семи дней нашего путешествия через Атлантику. На сей раз мы доплыли до Барбадоса. В том же году на Первой конференции по вопросам экологии в Стокгольме Генеральный секретарь У Тан включил наш отчет в качестве приложения «А» к своему докладу.
Несмотря на отсутствие антенн НАСА, мы очень хорошо пообщались с Нилом Армстронгом в Лондоне на конгрессе Всемирного фонда дикой природы. Мы оба подтвердили, что человек живет на очень маленькой и хрупкой планете На Земле так мало суши и так много воды, что с Луны она показалась Нилу окрашенной в голубой цвет. А мировой океан, в свою очередь, оказался таким маленьким что его можно пересечь за несколько недель на тростниковой лодке без мотора. Лодке, которая плыла только чуть-чуть быстрее, чем комочки нефти.
Весь этот год Абдулла ждал в доме своей египетской жены. Теперь он твердо решил жениться на берберке, которую он оставил в порту в прошлый раз. И вдруг в норвежское посольство в Каире пришла телеграмма: Абдулла стал отцом! У него родился сын! Аллах сделал ему такой подарок, рядом с которым померкла перспектива путешествия в Америку. Счастливый папаша оказался в Каире со скоростью, которая посрамила бы все ракеты мира. Мы стояли на тростниковой палубе и махали ему вслед, и среди нас стоял и прощался с остающимися на земле новый член экспедиции, бербер с Атласских гор. Днем раньше будущий мореход служил носильщиком в нашем отеле в Сафи. Он тоже впервые увидел океан, только спустившись со своих Атласских гор, но он, как Абдулла, был мусульманин, а горное солнце и ветры пустыни сделали его кожу почти такой же черной.
Мадами умел читать, и в сумке у него лежали плавки, коврик для принятия солнечных ванн и Коран на арабском языке. Абдулла первым обратил внимание на загрязнение океана, поэтому Мадами получил задание ежедневно вести наблюдения за чистотой воды, а также сачок для вылавливания комков нефти. Мы снова плыли под флагом ООН, только на сей раз Генеральный секретарь сам попросил нас составить отчет о загрязнении океана и предоставить образцы мусора. Мы добросовестно собирали большие и маленькие комочки нефти на протяжении сорока трех из пятидесяти семи дней нашего путешествия через Атлантику. На сей раз мы доплыли до Барбадоса. В том же году на Первой конференции по вопросам экологии в Стокгольме Генеральный секретарь У Тан включил наш отчет в качестве приложения «А» к своему докладу.
Несмотря на отсутствие антенн НАСА, мы очень хорошо пообщались с Нилом Армстронгом в Лондоне на конгрессе Всемирного фонда дикой природы. Мы оба подтвердили, что человек живет на очень маленькой и хрупкой планете На Земле так мало суши и так много воды, что с Луны она показалась Нилу окрашенной в голубой цвет. А мировой океан, в свою очередь, оказался таким маленьким что его можно пересечь за несколько недель на тростниковой лодке без мотора. Лодке, которая плыла только чуть-чуть быстрее, чем комочки нефти.

 Идеальное место для детей. Почти при каждом доме имелся задний дворик для игр, сады были обнесены деревянными заборами, по которым так здорово лазить, а в лесах и на пляжах можно было гулять, где угодно.
Мои родители переехали туда из главных, по их мнению, городов Норвегии: отец из столицы, Осло, тогда еще Христиании, а мама из Тронхейма. В таком маленьком городке, как Ларвик, наша семья наверняка служила темой для пересудов. Развод в те годы считался чем-то, свойственным исключительно миру богемы. А моя свободомыслящая мама прошла через два развода, в то время как более консервативный отец развелся только один раз, чтобы жениться на ней.
Отец, способный бизнесмен, открыл собственную пивоварню. Когда он начал разливать по бутылкам местную минеральную воду, то получил разрешение короля Хокона назвать напиток его именем. Затем он объединил усилия с коллегой, и их общая пивоварня стала единственной в городе. Другая стояла заброшенная, и мы, мальчишки, замечательно играли в ее больших темных цехах, сводчатых погребах, опустевших конюшнях и на просторном дворе, обнесенном высоким деревянным забором. Тем более что она напрямую примыкала к заднему двору нашего дома.
Именно там я впервые почувствовал себя самостоятельной личностью, а не частью теплого материнского тела. Осень, вечер, начало Первой мировой войны. Кажется, я даже помню завывания осеннего ветра и хлопанье веревки на флагштоке во дворе. Я боялся темноты и вообще был трусоватым мальчиком.
— Ты, которого так все защищали?
— Возможно, именно поэтому. Мои родители были немолоды. Они так боялись, что с их единственным ребенком случится какая-нибудь беда, что у меня создалось впечатление, будто опасность скрывается повсюду. Другим детям разрешалось одним ходить в порт и играть на улице после темноты. Но не мне. Другие мальчики могли вытесать топором биту, вырезать острым ножом лук и стрелы. Но не я.
Если мои родители в чем-то и соглашались друг с другом — кроме подхода к моему воспитанию — так это в их вере в прогресс. Папа — потому что и его отец, и его дядя одними из первых в Норвегии использовали электроэнергию и сельскохозяйственную технику. Мама — поскольку была дарвинисткой и не сомневалась, что прогресс со временем принесет еще более замечательные плоды. Когда мы с отцом рассматривали его семейный альбом, он рассказывал, что его предки пришли из дремучих лесов на границе со Швецией и что среди них можно проследить двенадцать поколений землевладельцев, пока его отец и дядя не перебрались в столицу и не основали компанию «Хейердал и компания». Они провели первую в стране телефонную линию между офисом фирмы и складом. Отец хранил вырезки из столичных газет 1880 года с рассказом о том, как жители города впервые увидели электрическую лампочку:
«И по всей улице Карла Юхана, насколько можно видеть, стоя у пожарной части, горел свет, похожий на сияющую звезду и так же не похожий на желтые и тусклые газовые лампы, как свет газовой лампы не похож на свет лампы масляной».
Два года спустя их ждал главный триумф: мой дед, майор национальной гвардии, шел впереди королевской процессии, а два его брата зажгли два электрических фонаря перед входом во дворец. Газета «Афтенпостен» писала: «Словно по мановению волшебной палочки, возник из темноты дворец, сияя, будто под лучами солнца. Все собравшиеся восторженными криками отозвались на неожиданное возвращение из ночи в день».
— И вот, спустя два поколения, ты отказываешься от спичек, чтобы стать ближе к природе?
— Возможно, я унаследовал еще кое-что и от матери. Ее семья, наоборот, стремилась уйти подальше от городской жизни. Ее старший брат изучал теологию и мечтал стать деревенским священником. Его отличала большая рассеянность. Свою первую службу он проводил в годы объединения со Швецией. Он сложил руки и вместо «Наш Господь во облацех…» почему-то начал: «Наш Господь во Швеции…» Подобное заявление не могло встретить теплого приема среди норвежских фермеров того времени, и его отец увез сына назад в город. Двое других братьев моей матери изучали философию в Германии. Вернувшись в Норвегию ярыми последователями Руссо, оба купили по наделу земли в глуши Силенских гор. Один через какое-то время сдался, другой — нет. Мама получала от него письма, в которых он описывал себя сидящим на телеге, полной навоза, и с томиком Шопенгауэра в руках. Его дети построили автомобильную дорогу, чтобы приобщить долину Тидален к цивилизации.
Уже в раннем возрасте я начал сомневаться, правильно ли мы понимаем слово «прогресс»?
Сперва оно означало движение вперед к чему-то лучшему, но едва будучи произнесено, вырвалось из-под контроля и приобрело смысл решительного расставания с природой. Мы достигли того, что забыли свой долг перед породившей нас природой. Мы — часть природы, она в нас и вокруг нас, независимо от нашего мнения о собственном месте в мироздании.
Непросто объяснить, почему в таком раннем возрасте я начал подозревать, что, нанося вред окружающему миру, мы можем навредить себе. Возможно, дело в том, что с самого детства я привык воспринимать мир вокруг себя как нечто неустойчивое, постоянно меняющееся. Мать постоянно говорила о Дарвине, об эволюции. Ничто не казалось мне вечным.
Мама потеряла свою мать в детстве, и с тех пор у нее были сложные отношения с Иисусом. Ее мать, болезненная женщина, часто говорила, как ей не терпится снова встретиться с Христом. В юности маму отправили учиться в Англию, и вернулась она убежденной дарвинисткой: все, в том числе и люди, от поколения к поколению становятся лучше и умнее. Отец, в отличие от матери, был не столь вольнодумен. Из Германии, где он учился пивоваренному делу, он вывез убеждение Мартина Лютера, что Господь создал этот мир и не в людских силах изменить его. Он с радостью принимал жизнь такой, какая она есть, и не тратил времени на неразрешимые проблемы. Он никогда не произносил таких слов, как «Бог» или «Иисус», но возносил свои молитвы некоей силе на небесах и, похоже, в равной степени уважал и того, и другого.
«Вот они, плоды прогресса», — говаривала мама, указывая на пылесос или электроплиту. Человек ее поколения все-таки воспринимал как чудо воду, вскипевшую от каких-то проволочек, без помощи огня. Отец не был столь убежден, что человечество становится лучше. Газеты пестрили сообщениями о новых видах смертельного оружия, о политических бурях, о гонке вооружений, развернувшейся буквально на другой день после кошмарной мировой войны с ее ипритом, взрывчаткой, минами и подводными лодками. Норвегия держала нейтралитет, но немало невинных норвежских рыбаков пошло ко дну вместе со своими кораблями. Океан превратился в огромное кладбище и начал казаться мне чем-то зловещим.
Идеальное место для детей. Почти при каждом доме имелся задний дворик для игр, сады были обнесены деревянными заборами, по которым так здорово лазить, а в лесах и на пляжах можно было гулять, где угодно.
Мои родители переехали туда из главных, по их мнению, городов Норвегии: отец из столицы, Осло, тогда еще Христиании, а мама из Тронхейма. В таком маленьком городке, как Ларвик, наша семья наверняка служила темой для пересудов. Развод в те годы считался чем-то, свойственным исключительно миру богемы. А моя свободомыслящая мама прошла через два развода, в то время как более консервативный отец развелся только один раз, чтобы жениться на ней.
Отец, способный бизнесмен, открыл собственную пивоварню. Когда он начал разливать по бутылкам местную минеральную воду, то получил разрешение короля Хокона назвать напиток его именем. Затем он объединил усилия с коллегой, и их общая пивоварня стала единственной в городе. Другая стояла заброшенная, и мы, мальчишки, замечательно играли в ее больших темных цехах, сводчатых погребах, опустевших конюшнях и на просторном дворе, обнесенном высоким деревянным забором. Тем более что она напрямую примыкала к заднему двору нашего дома.
Именно там я впервые почувствовал себя самостоятельной личностью, а не частью теплого материнского тела. Осень, вечер, начало Первой мировой войны. Кажется, я даже помню завывания осеннего ветра и хлопанье веревки на флагштоке во дворе. Я боялся темноты и вообще был трусоватым мальчиком.
— Ты, которого так все защищали?
— Возможно, именно поэтому. Мои родители были немолоды. Они так боялись, что с их единственным ребенком случится какая-нибудь беда, что у меня создалось впечатление, будто опасность скрывается повсюду. Другим детям разрешалось одним ходить в порт и играть на улице после темноты. Но не мне. Другие мальчики могли вытесать топором биту, вырезать острым ножом лук и стрелы. Но не я.
Если мои родители в чем-то и соглашались друг с другом — кроме подхода к моему воспитанию — так это в их вере в прогресс. Папа — потому что и его отец, и его дядя одними из первых в Норвегии использовали электроэнергию и сельскохозяйственную технику. Мама — поскольку была дарвинисткой и не сомневалась, что прогресс со временем принесет еще более замечательные плоды. Когда мы с отцом рассматривали его семейный альбом, он рассказывал, что его предки пришли из дремучих лесов на границе со Швецией и что среди них можно проследить двенадцать поколений землевладельцев, пока его отец и дядя не перебрались в столицу и не основали компанию «Хейердал и компания». Они провели первую в стране телефонную линию между офисом фирмы и складом. Отец хранил вырезки из столичных газет 1880 года с рассказом о том, как жители города впервые увидели электрическую лампочку:
«И по всей улице Карла Юхана, насколько можно видеть, стоя у пожарной части, горел свет, похожий на сияющую звезду и так же не похожий на желтые и тусклые газовые лампы, как свет газовой лампы не похож на свет лампы масляной».
Два года спустя их ждал главный триумф: мой дед, майор национальной гвардии, шел впереди королевской процессии, а два его брата зажгли два электрических фонаря перед входом во дворец. Газета «Афтенпостен» писала: «Словно по мановению волшебной палочки, возник из темноты дворец, сияя, будто под лучами солнца. Все собравшиеся восторженными криками отозвались на неожиданное возвращение из ночи в день».
— И вот, спустя два поколения, ты отказываешься от спичек, чтобы стать ближе к природе?
— Возможно, я унаследовал еще кое-что и от матери. Ее семья, наоборот, стремилась уйти подальше от городской жизни. Ее старший брат изучал теологию и мечтал стать деревенским священником. Его отличала большая рассеянность. Свою первую службу он проводил в годы объединения со Швецией. Он сложил руки и вместо «Наш Господь во облацех…» почему-то начал: «Наш Господь во Швеции…» Подобное заявление не могло встретить теплого приема среди норвежских фермеров того времени, и его отец увез сына назад в город. Двое других братьев моей матери изучали философию в Германии. Вернувшись в Норвегию ярыми последователями Руссо, оба купили по наделу земли в глуши Силенских гор. Один через какое-то время сдался, другой — нет. Мама получала от него письма, в которых он описывал себя сидящим на телеге, полной навоза, и с томиком Шопенгауэра в руках. Его дети построили автомобильную дорогу, чтобы приобщить долину Тидален к цивилизации.
Уже в раннем возрасте я начал сомневаться, правильно ли мы понимаем слово «прогресс»?
Сперва оно означало движение вперед к чему-то лучшему, но едва будучи произнесено, вырвалось из-под контроля и приобрело смысл решительного расставания с природой. Мы достигли того, что забыли свой долг перед породившей нас природой. Мы — часть природы, она в нас и вокруг нас, независимо от нашего мнения о собственном месте в мироздании.
Непросто объяснить, почему в таком раннем возрасте я начал подозревать, что, нанося вред окружающему миру, мы можем навредить себе. Возможно, дело в том, что с самого детства я привык воспринимать мир вокруг себя как нечто неустойчивое, постоянно меняющееся. Мать постоянно говорила о Дарвине, об эволюции. Ничто не казалось мне вечным.
Мама потеряла свою мать в детстве, и с тех пор у нее были сложные отношения с Иисусом. Ее мать, болезненная женщина, часто говорила, как ей не терпится снова встретиться с Христом. В юности маму отправили учиться в Англию, и вернулась она убежденной дарвинисткой: все, в том числе и люди, от поколения к поколению становятся лучше и умнее. Отец, в отличие от матери, был не столь вольнодумен. Из Германии, где он учился пивоваренному делу, он вывез убеждение Мартина Лютера, что Господь создал этот мир и не в людских силах изменить его. Он с радостью принимал жизнь такой, какая она есть, и не тратил времени на неразрешимые проблемы. Он никогда не произносил таких слов, как «Бог» или «Иисус», но возносил свои молитвы некоей силе на небесах и, похоже, в равной степени уважал и того, и другого.
«Вот они, плоды прогресса», — говаривала мама, указывая на пылесос или электроплиту. Человек ее поколения все-таки воспринимал как чудо воду, вскипевшую от каких-то проволочек, без помощи огня. Отец не был столь убежден, что человечество становится лучше. Газеты пестрили сообщениями о новых видах смертельного оружия, о политических бурях, о гонке вооружений, развернувшейся буквально на другой день после кошмарной мировой войны с ее ипритом, взрывчаткой, минами и подводными лодками. Норвегия держала нейтралитет, но немало невинных норвежских рыбаков пошло ко дну вместе со своими кораблями. Океан превратился в огромное кладбище и начал казаться мне чем-то зловещим.
 Он нарубил нам дров и заработал еще несколько шиллингов. Мама даже не протестовала, когда он показал мне, как правильно вырезать биту. А потом случилось чудо. Однажды, возвращаясь из города, он позволил мне помочь ему донести покупки до его хижины в долине среди гор. Я вернулся домой без рук, без ног, но настолько взбудораженный и восхищенный увиденным, что через несколько дней мама, к моему неописуемому счастью, отпустила меня пожить у него короткое время.
Долина, в которой поселился Уля, была почти полностью оторвана от остального мира, с которым ее связывала только одна узенькая тропинка.
«Хюнна» — так называлась заброшенная горная ферма, где он нашел себе пристанище. Новое волшебное слово вошло в мою жизнь, когда мы прыгали с камня на камень там, где река вытекала из озера и начинала свой стремительный бег под густой кровлей соснового леса. Уля жил в бывшей овчарне, маленьком строении с земляным полом и бревенчатыми стенами, немного не доходившими до земли. Еду он готовил на жаровне посреди единственной комнаты, а дым от костра уходил через отверстие в крыше. Мебелью служили камни, пни и сучья деревьев. Самое длинное бревно одним концом лежало в кострище под жаровней и с каждым днем становилось все короче и короче, так что я был избавлен от необходимости рубить дрова, разве что для растопки.
Там, в мире старого Уля, я впервые понял, насколько, в сущности, проста жизнь. Сложной ее делают люди, в силу привычки сами того не замечая. С первых шагов нас учат: чтобы спать, необходима кровать, чтобы есть, нужны стол и стулья. Однако после первого же дня, проведенного в доме Уля, я вдруг осознал, что можно прекрасно обходиться вовсе без мебели.
Уля любил поговорить, но никогда не рассказывал о себе. Окольными путями мама выяснила, что он, как говорится, знавал лучшие дни. Сын некогда богатого, но спившегося и разорившегося землевладельца, Уля был слишком горд, чтобы просить подачек под видом помощи, и вместо этого в один прекрасный день просто взял да ушел в горы, захватив с собой только отцовскую охотничью и рыболовную снасть. Когда он нашел хижину в Хюннае, то решил остаться там навсегда.
Уля жил тем, что давал ему лес, и еще немножко браконьерствовал, но никогда не заступал слишком далеко за грань закона. Его любили все в округе, в том числе и егеря, и длинная рука правоохранительных органов редко дотягивалась до долины Аста. Таким образом, Бьёрнебю добывал себе пропитание на свой манер и ни от кого не зависел, подобно Робинзону Крузо наших дней. Как-то раз он принес на продажу в деревню горную форель таких невиданных размеров, что «доброжелатели» донесли на него лесникам. Страж закона, повинуясь приказу, отправился в долгий путь к озеру Лунг, расположенному высоко в горах Остердали. Он спрятался с биноклем за кустами и вскоре увидел, как мы с Уля, ничуть не таясь и ничего не подозревая, вышли на озеро на маленькой лодке. Уля решил научить меня ловить на наживку, которую в здешних местах называли «выдрой», и представлявшую собой ку-сок дерева с добрым десятком прикрепленных к нему крючков. Деревяшку цепляют на длинную леску и тянут вслед за лодкой. Таким образом, за один заход удается поймать сразу несколько рыб. Этот метод рыбалки считался допустимым для местного населения, но строго запрещенным для горожан и других посторонних.
Уля греб, внимательно глядя по сторонам, и вдруг заметил блеск стекол бинокля. Он тут же отнял у меня леску, а меня самого посадил на весла. Грести я имел полное законное право, а вот Уля, хотя и считался местным жителем, непременно угодил бы за решетку за то, что позволил мне держать «выдру». Я греб так, словно от этого зависела вся моя жизнь, и ни за что не признавался, что устал, даже когда совсем выбился из сил. Хорошо было этому типу лежать себе с биноклем! Мои руки покрылись волдырями, а скамейка казалась такой жесткой, что пришлось подложить подушку из свернутой несколько раз оленьей шкуры. С каждой минутой у меня на руках оставалось все меньше и меньше кожи, а на заднице — все больше и больше обнаженных нервов. Только вечером, когда мы пристали к берегу, бдительный стражник собрался в обратный путь. Мы же двинулись в противоположном направлении. Лесник торопился дотемна добраться до цивилизации, а мы спешили в хижину в Хюнне.
Победа на озере была одержана, но мой путь домой никак не напоминал триумфальное шествие победителя. Каждый шаг отдавался в задней части моего тела, словно удар хлыстом, и я никак не мог угнаться за моим наставником, хотя именно он нес большую часть нашего пятидесятикилограммового улова. «Не беда. Мы переночуем здесь и пойдем дальше рано поутру», — сказал Уля, улегся на оленью шкуру и моментально уснул. Обычно, если ночь застигала нас в лесу, мы забирались под шатер из еловых Веток. Что может быть лучше, чем лежать на спине под открытым, усеянным звездами небом! На сей раз, однако, я упустил возможность насладиться любимым зрелищем. Плюхнувшись животом на гранитный валун, я уснул как убитый.
Летние каникулы, проведенные в обществе Уля, многому научили меня, и эти уроки остались со мной на всю оставшуюся жизнь. Но главное — я понял, что являюсь частью природы, независимо от того, какая на мне одежда. Стоит один раз испытать это чувство, и вы везде будете как дома, даже если до ближайшего жилья много дней пути, а вокруг — лес, горы, пустыня или океан. В лесу мы с Уля не только видели диких зверей, но стали свидетелями их повседневной жизни. Мы все замечали — где спал лось, где проходила лосиха с лосятами, где заяц обгрыз ствол дерева, где лиса охотилась за птенцами. Когда я вернулся в школу и засел за учебники, я знал уже почти все про живую природу.
Налившаяся красным цветом рябина предвещала скорый приход осени. С тяжелым сердцем я променял свободные горы на цивилизованный Ларвик.
Он нарубил нам дров и заработал еще несколько шиллингов. Мама даже не протестовала, когда он показал мне, как правильно вырезать биту. А потом случилось чудо. Однажды, возвращаясь из города, он позволил мне помочь ему донести покупки до его хижины в долине среди гор. Я вернулся домой без рук, без ног, но настолько взбудораженный и восхищенный увиденным, что через несколько дней мама, к моему неописуемому счастью, отпустила меня пожить у него короткое время.
Долина, в которой поселился Уля, была почти полностью оторвана от остального мира, с которым ее связывала только одна узенькая тропинка.
«Хюнна» — так называлась заброшенная горная ферма, где он нашел себе пристанище. Новое волшебное слово вошло в мою жизнь, когда мы прыгали с камня на камень там, где река вытекала из озера и начинала свой стремительный бег под густой кровлей соснового леса. Уля жил в бывшей овчарне, маленьком строении с земляным полом и бревенчатыми стенами, немного не доходившими до земли. Еду он готовил на жаровне посреди единственной комнаты, а дым от костра уходил через отверстие в крыше. Мебелью служили камни, пни и сучья деревьев. Самое длинное бревно одним концом лежало в кострище под жаровней и с каждым днем становилось все короче и короче, так что я был избавлен от необходимости рубить дрова, разве что для растопки.
Там, в мире старого Уля, я впервые понял, насколько, в сущности, проста жизнь. Сложной ее делают люди, в силу привычки сами того не замечая. С первых шагов нас учат: чтобы спать, необходима кровать, чтобы есть, нужны стол и стулья. Однако после первого же дня, проведенного в доме Уля, я вдруг осознал, что можно прекрасно обходиться вовсе без мебели.
Уля любил поговорить, но никогда не рассказывал о себе. Окольными путями мама выяснила, что он, как говорится, знавал лучшие дни. Сын некогда богатого, но спившегося и разорившегося землевладельца, Уля был слишком горд, чтобы просить подачек под видом помощи, и вместо этого в один прекрасный день просто взял да ушел в горы, захватив с собой только отцовскую охотничью и рыболовную снасть. Когда он нашел хижину в Хюннае, то решил остаться там навсегда.
Уля жил тем, что давал ему лес, и еще немножко браконьерствовал, но никогда не заступал слишком далеко за грань закона. Его любили все в округе, в том числе и егеря, и длинная рука правоохранительных органов редко дотягивалась до долины Аста. Таким образом, Бьёрнебю добывал себе пропитание на свой манер и ни от кого не зависел, подобно Робинзону Крузо наших дней. Как-то раз он принес на продажу в деревню горную форель таких невиданных размеров, что «доброжелатели» донесли на него лесникам. Страж закона, повинуясь приказу, отправился в долгий путь к озеру Лунг, расположенному высоко в горах Остердали. Он спрятался с биноклем за кустами и вскоре увидел, как мы с Уля, ничуть не таясь и ничего не подозревая, вышли на озеро на маленькой лодке. Уля решил научить меня ловить на наживку, которую в здешних местах называли «выдрой», и представлявшую собой ку-сок дерева с добрым десятком прикрепленных к нему крючков. Деревяшку цепляют на длинную леску и тянут вслед за лодкой. Таким образом, за один заход удается поймать сразу несколько рыб. Этот метод рыбалки считался допустимым для местного населения, но строго запрещенным для горожан и других посторонних.
Уля греб, внимательно глядя по сторонам, и вдруг заметил блеск стекол бинокля. Он тут же отнял у меня леску, а меня самого посадил на весла. Грести я имел полное законное право, а вот Уля, хотя и считался местным жителем, непременно угодил бы за решетку за то, что позволил мне держать «выдру». Я греб так, словно от этого зависела вся моя жизнь, и ни за что не признавался, что устал, даже когда совсем выбился из сил. Хорошо было этому типу лежать себе с биноклем! Мои руки покрылись волдырями, а скамейка казалась такой жесткой, что пришлось подложить подушку из свернутой несколько раз оленьей шкуры. С каждой минутой у меня на руках оставалось все меньше и меньше кожи, а на заднице — все больше и больше обнаженных нервов. Только вечером, когда мы пристали к берегу, бдительный стражник собрался в обратный путь. Мы же двинулись в противоположном направлении. Лесник торопился дотемна добраться до цивилизации, а мы спешили в хижину в Хюнне.
Победа на озере была одержана, но мой путь домой никак не напоминал триумфальное шествие победителя. Каждый шаг отдавался в задней части моего тела, словно удар хлыстом, и я никак не мог угнаться за моим наставником, хотя именно он нес большую часть нашего пятидесятикилограммового улова. «Не беда. Мы переночуем здесь и пойдем дальше рано поутру», — сказал Уля, улегся на оленью шкуру и моментально уснул. Обычно, если ночь застигала нас в лесу, мы забирались под шатер из еловых Веток. Что может быть лучше, чем лежать на спине под открытым, усеянным звездами небом! На сей раз, однако, я упустил возможность насладиться любимым зрелищем. Плюхнувшись животом на гранитный валун, я уснул как убитый.
Летние каникулы, проведенные в обществе Уля, многому научили меня, и эти уроки остались со мной на всю оставшуюся жизнь. Но главное — я понял, что являюсь частью природы, независимо от того, какая на мне одежда. Стоит один раз испытать это чувство, и вы везде будете как дома, даже если до ближайшего жилья много дней пути, а вокруг — лес, горы, пустыня или океан. В лесу мы с Уля не только видели диких зверей, но стали свидетелями их повседневной жизни. Мы все замечали — где спал лось, где проходила лосиха с лосятами, где заяц обгрыз ствол дерева, где лиса охотилась за птенцами. Когда я вернулся в школу и засел за учебники, я знал уже почти все про живую природу.
Налившаяся красным цветом рябина предвещала скорый приход осени. С тяжелым сердцем я променял свободные горы на цивилизованный Ларвик.


 Мне исполнилось всего восемь лет, когда Нансен получил Нобелевскую премию за помощь беженцам — жертвам Первой мировой войны. Больше всего мы восхищались им за то, что он сознательно позволил своему судну «Фрам» вмерзнуть в дрейфующие льды и вместе с ними подошел к Северному полюсу ближе, чем кто-либо в истории (за исключением его спутника Йохансона). Все мы слышали, что в 1888 году он пересек на лыжах Гренландию. Тогда, в годы моего детства, никто другой не забирался так далеко во льды Гренландии, чтобы сообщить географам, что же на самом деле представляет собой этот огромный полярный остров — нагромождение диких горных хребтов или плоскую ледяную равнину. Затем произошло событие, сыгравшее важную роль в моей собственной судьбе. В 1931 году два отважных студента из Норвегии пересекли на собачьих упряжках самую неизведанную часть Гренландии и написали книгу о своем путешествии. Один из них, Мартин Мерен, привез в Осло несколько собак из той упряжки.
Моя мать обожала собак и в годы первого замужества держала двадцать белых лаек — близких, хотя и несколько более изнеженных родичей могучих псов гренландских эскимосов. Начиная с того времени, когда я пил молоко нашей козы в Ларвике, я привык к спокойным животным, помогавшим скрасить одиночество единственного ребенка стареющих родителей. Затем школьные годы закончились, и мы с мамой переехали в Осло. Одиночество продолжалось в стенах большой квартиры на верхнем этаже дома на улице Камиллы Коле. Для маминой обширной коллекции антиквариата требовалась именно такая — с просторной гостиной во всю ширину здания и с узкими балконами по обеим сторонам. Сюда, в приобретенную для нас отцом квартиру в центре города, она и принесла с победоносным видом щенка гренландской лайки, которого купила у самого Мартина Мерена. Трудно описать охвативший меня восторг. Но едва она закрыла за собой дверь и опустила щенка на пол, как наш новый жилец стрелой бросился в гостиную и принялся прыгать, словно леопард, по столам и диванам. Затем он заметался с одного балкона на другой, вскочил на перила и опомнился, только увидев под собой многометровую пропасть.
Мне исполнилось всего восемь лет, когда Нансен получил Нобелевскую премию за помощь беженцам — жертвам Первой мировой войны. Больше всего мы восхищались им за то, что он сознательно позволил своему судну «Фрам» вмерзнуть в дрейфующие льды и вместе с ними подошел к Северному полюсу ближе, чем кто-либо в истории (за исключением его спутника Йохансона). Все мы слышали, что в 1888 году он пересек на лыжах Гренландию. Тогда, в годы моего детства, никто другой не забирался так далеко во льды Гренландии, чтобы сообщить географам, что же на самом деле представляет собой этот огромный полярный остров — нагромождение диких горных хребтов или плоскую ледяную равнину. Затем произошло событие, сыгравшее важную роль в моей собственной судьбе. В 1931 году два отважных студента из Норвегии пересекли на собачьих упряжках самую неизведанную часть Гренландии и написали книгу о своем путешествии. Один из них, Мартин Мерен, привез в Осло несколько собак из той упряжки.
Моя мать обожала собак и в годы первого замужества держала двадцать белых лаек — близких, хотя и несколько более изнеженных родичей могучих псов гренландских эскимосов. Начиная с того времени, когда я пил молоко нашей козы в Ларвике, я привык к спокойным животным, помогавшим скрасить одиночество единственного ребенка стареющих родителей. Затем школьные годы закончились, и мы с мамой переехали в Осло. Одиночество продолжалось в стенах большой квартиры на верхнем этаже дома на улице Камиллы Коле. Для маминой обширной коллекции антиквариата требовалась именно такая — с просторной гостиной во всю ширину здания и с узкими балконами по обеим сторонам. Сюда, в приобретенную для нас отцом квартиру в центре города, она и принесла с победоносным видом щенка гренландской лайки, которого купила у самого Мартина Мерена. Трудно описать охвативший меня восторг. Но едва она закрыла за собой дверь и опустила щенка на пол, как наш новый жилец стрелой бросился в гостиную и принялся прыгать, словно леопард, по столам и диванам. Затем он заметался с одного балкона на другой, вскочил на перила и опомнился, только увидев под собой многометровую пропасть.
 С появлением Казана — так назвали собаку — моя жизнь совершенно изменилась. Три следующих дня я никуда не выходил из дома, даже в университет, а занимался воспитанием щенка. По команде «лежать» я силой укладывал его на коврик и удерживал его в таком положении, пока не следовала команда «встать». В оправдание пса мама говорила, что в нем, по словам Мерена, половина волчьей крови. Однако случилось чудо — Казан со временем превратился в послушную и умную собаку. Я даже брал его с собой в университет, а когда я изредка выбирался куда-нибудь в ресторан, он молча лежал под столом, не привлекая ничьего внимания. Зимой он без труда тащил груженые сани весом в пятьдесят килограммов, а летом Мог нести такой же вес на спине. Мы не расставались ни миг ни в городе, ни во время загородных прогулок.
Ничто не доставляло нам обоим больше радости, чем забраться как можно дальше от Осло и как можно выше в горы. Пес так далеко зашел в своей привязанности ко мне, что не позволял больше никому дотрагиваться до моего рюкзака и горных ботинок. А если рычание не помогало, в ход шли клыки.
Эрик чаще других сопровождал меня в моих вылазках в горы; старые друзья всегда были мне особенно дороги. В те времена ночевки под открытым зимним небом еще не пользовались большой популярностью, но мы с Эриком находились под влиянием Нансена и Мерена и никогда не заботились о том, чтобы найти на ночь крышу над головой. Мы научились отыскивать хорошие, плотные сугробы и выкапывали в них нечто вроде берлоги.
Мои товарищи по походам считали, что я готовлюсь к полярным экспедициям. Никого, кроме Эрика и Арнольда, я не посвящал в свои крепнущие с каждым днем планы отправиться в дальние страны. Репортажи в газетах о моих предыдущих путешествиях, снабженные фотографиями и рисунками, позволяли мне скопить деньги на следующие поездки. В тридцатые годы ночевки под открытым небом, да еще в снегу, были в новинку в Норвегии. Людям нравилось читать о том, как построить ледяной дом-иглу из блоков льда.
Ничто не может сравниться с чувством, которое испытываешь, проснувшись зимним утром на самой вершине горы Стор-Рунден и глядя на раскинувшуюся внизу родную страну. Пусть снаружи завывает вьюга — в иглу или даже в простой яме в снегу тепло и безопасно, главное, чтобы небольшое отверстие в потолке обеспечивало нормальную циркуляцию воздуха, а вход располагался ниже уровня пола. Обычной свечи достаточно, чтобы поддерживать внутри плюсовую температуру, если за стеной столбик термометра упал ниже нуля — дело в том, что внутренняя часть иглу быстро превращается в лед, это прекрасный термоизолятор, созданный самой природой.
Я всегда предпочитал заранее готовить пути отхода на случай непредвиденных обстоятельств. Только один раз я отступил от этого правила. Когда мы путешествовали на плотах, то всегда припасали бревно или связку тростника, чтобы было на чем плыть, если плот развалится. Но однажды мы с Эриком пошли на риск, о чем я очень пожалел, хотя все и обошлось. Мы решили взойти на гору Глиттертинн, покрытую никогда не тающей шапкой снега и потому ставшей на какое-то время выше соседнего Галькепиггена, самой высокой точки Норвегии. Итак, Эрик и я отправились в путь на лыжах, а Казан следом за нами тащил груженые сани. Мы рассчитывали, дойдя до вершины, построить иглу, но вскоре началась такая пурга, что не удавалось разглядеть даже кончиков лыж. Справа и слева зияли глубокие пропасти, но их тоже скрывала снежная пелена, и поэтому нам ничего не оставалось, как продолжать восхождение.
Когда мы наконец достигли каменного столба, установленного на вершине Глиттертинна, ветер превратился в настоящий ураган и буквально валил с ног. Пришлось снять лыжи. Кроме каменного столба, мы ничего вокруг не видели, а снег бил в лицо так сильно, что невозможно было открыть глаза, и дышать было трудно. Все вокруг покрывала ледяная корка такой прочности, что ни построить иглу, ни вырыть яму не представлялось возможным. Мы изо всех сил цеплялись за лыжи, чтобы их не унесло ветром, и у нас не было ни секунды, чтобы спокойно обдумать сложившееся положение. Мы выпрягли Казана из упряжки, по компасу определили ту сторону, откуда только что пришли, сели на сани и помчались вниз. Сперва нам удавалось тормозить сани и даже иногда останавливаться, чтобы Казан мог нас догнать, но затем мы не сладили со скоростью и больше не могли контролировать полет саней. Вот это была поездочка! Мы неслись все быстрее и быстрее и в конце концов перевернулись, но уже на ровной поверхности и в глубоком снегу. Мы понятия не имели, где именно находимся, и мысленно уже попрощались с бедным Казаном. Казалось, прошла вечность, и тут наконец собака вынырнула из-за снежной пелены, по брюхо увязая в сугробах и напрягая все силы в попытке догнать нас. Мы догадывались, что вокруг нас на многие километры тянется дикая равнина без признаков жилья, но видели только друг друга, сани да собаку. Весь мир исчез за белой плотной завесой, и невозможно было различить, где право, где лево, где верх, где низ.
В незнакомой местности, да еще когда не видно ни зги, компас и карта — плохие помощники, но мы примерно представляли, где находимся, и направились туда, где, по нашему разумению, лежала ближайшая долина. Ничего удивительного, что вскоре дорога пошла на подъем и с каждым шагом становилась все круче и круче. Мы уже не катились, а карабкались вверх. Все мысли были только о следующем шаге, а единственная надежда — на то, что нас не погребет под собой лавина. Бедному Казану досталась самая тяжелая задача — тащить сани, и когда мы взобрались на перевал, сил у собаки уже совсем не оставалось. На смену метели пришел густой туман, за которым по-прежнему ничего не удавалось разглядеть. Поэтому, когда вдалеке показался большой дом, мы оба приняли его за галлюцинацию. Но он оказался реальным — правда, не большим, а маленьким, зато всего в двух шагах от нас. Когда туман рассеялся, мы поняли, что добрались до приюта путников под названием Спитерстулен. Через много лет нам рассказали, что до нас никто не переходил через этот перевал на лыжах.
— С тех пор ты стал осторожным?
— Скажем так: более осторожным. Спустя какое-то время я отправился в другое путешествие на лыжах; на сей раз один, если не считать Казана. Но тут мною руководили особые соображения.
Дело было в середине тридцатых годов. В начале Пасхи в горах дали штормовое предупреждение. Я провожал своего двоюродного брата на поезд. Мы с ним прожили некоторое время в снежном доме в Троллхеймене и вместе с Казаном дошли до Снохетта. Оттуда кузен возвращался в Тронхейм, а я собирался пересечь плато у горного хребта Довр и добраться до Гудбрансдаля. Но на полпути меня застигла метель. Я укрылся от нее в горном домике и вовсю наслаждался огнем в камине, какао и печеньем. Снег бился в стены дома, а Казан терпеливо ждал под столом. Хороший пес должен знать, что о нем непременно позаботятся, и никогда ничего не выпрашивать. Вот и Казан отлично понимал, что я сам испытываю удовольствие, когда сытно и обильно кормлю свою любимую собаку. А сегодня его ждало нечто лучшее, чем привычная сушеная рыба. Когда мы оба насытились, шторм достиг невиданной силы. Ураганный ветер завывал и бился в окна, и на улицу можно было выйти, только не выпуская из рук привязанную к двери веревку.
И тут я решил принять вызов. На плато Довр нет ни обрывов, ни скал. Здесь не растут деревья, а все кусты, камни, озера и заборы лежали под толстым слоем снега. Все в доме пытались удержать меня, но безрезультатно. Я запряг Казана в сани, встал на лыжи и через несколько мгновений исчез за пеленой снега.
Каждый шаг давался с трудом. Чтобы противостоять порывам ветра, мне приходилось сильно нагибаться вперед. Даже Казан, с его волчьей силой, двигался еле-еле. В идеальных условиях, по ровной поверхности, для него не составляло труда тащить груженые сани, даже если я сам садился сверху. Сегодня же ему приходилось пробираться по глубоким рыхлым сугробам, а то, что сыпалось с неба, не шло ни в какое сравнение с теми зарядами снега, которые ветер поднимал с земли и швырял нам в глаза. Время от времени пес пропадал из вида, и тогда мне приходилось останавливаться и ждать его — часто с перевернутыми санями за спиной.
— Но в чем суть этого бессмысленного поединка с природой?
— Я все время твердил про себя: «Только так мальчик становится мужчиной! Только так мальчик становится мужчиной!»
Я знал, что уже нашел себя здесь, посреди гор. Но мне еще оставалось определить свое место в городе. Всякий раз, возвращаясь из похода, я гордо шел вдоль городских улиц — чего мне бояться здесь после того, что я испытал там? Но уже на следующий день дома начинали давить на меня. Я казался себе крошечным и ничтожным. Мне не оставалось другого выхода, как сдаться и принять чужие правила игры. Возможно, Казан, трусивший рядом со мной и задиравший лапу на каждом углу, испытывал то же самое.
Пришла пора преодолеть это чувство неуверенности, почти страха, которое охватывало меня на асфальте или в городской гостиной. Мне предстояло закалить свой дух и осознать, что я остаюсь самим собой, где бы я ни находился — среди деревьев и скал или среди оклеенных обоями стен.
Возможно, я тогда еще просто не до конца повзрослел. В любом случае, давало о себе знать неправильное воспитание.
«Только так мальчик становится мужчиной!» Идти дальше не имело смысла. То, что мы находимся здесь, посреди диких гор, что мы одержали победу над силами природы, что мы можем в любой момент просто лечь и заснуть во время бури — уже триумф человеческого духа! Легкий снег не позволял вырыть яму или построить иглу. Мне удалось разыскать палатку в поклаже саней, но ветер не давал ее установить. «Ничего страшного», — подумал я, просто расстелил ее на снегу, забрался внутрь и затащил за собой Казана. Так мы и лежали, постепенно превращаясь в один большой сугроб, — я в своем спальнике из оленьей шерсти и Казан в шубе из гренландского меха.
Вдруг сердце замерло у меня в груди. Неподалеку раздался паровозный гудок. Где-то здесь проходила железнодорожная ветка между Осло и Тронхеймом. Еще гудок — все ближе и ближе. Интересно, не под нами ли лежат скрытые под снегом рельсы? До моих ушей уже доносился звук паровозного двигателя. Поезд на всех парах несся прямо на нас!
Казан испугался не меньше моего. Надо было побыстрее выбираться и из спальника, и из палатки. Поскольку рельсы лежали под снегом, я совершенно не представлял, откудаждать опасности. В подобных ситуациях даже закоренелый атеист вспоминает о Боге и обещает больше никогда не грешить. Ни жив, ни мертв от страха, я ждал неизбежного. Грохот паровоза достиг высшей точки, и тут в нас швырнуло густой снежной массой от пролетевшего в двух шагах состава. А затем все стихло. Никто в поезде так никогда и не узнал, что в ту вьюжную ночь рядом с рельсами лежал мальчик в обнимку с собакой. Мальчик, который хотел стать мужчиной.
С появлением Казана — так назвали собаку — моя жизнь совершенно изменилась. Три следующих дня я никуда не выходил из дома, даже в университет, а занимался воспитанием щенка. По команде «лежать» я силой укладывал его на коврик и удерживал его в таком положении, пока не следовала команда «встать». В оправдание пса мама говорила, что в нем, по словам Мерена, половина волчьей крови. Однако случилось чудо — Казан со временем превратился в послушную и умную собаку. Я даже брал его с собой в университет, а когда я изредка выбирался куда-нибудь в ресторан, он молча лежал под столом, не привлекая ничьего внимания. Зимой он без труда тащил груженые сани весом в пятьдесят килограммов, а летом Мог нести такой же вес на спине. Мы не расставались ни миг ни в городе, ни во время загородных прогулок.
Ничто не доставляло нам обоим больше радости, чем забраться как можно дальше от Осло и как можно выше в горы. Пес так далеко зашел в своей привязанности ко мне, что не позволял больше никому дотрагиваться до моего рюкзака и горных ботинок. А если рычание не помогало, в ход шли клыки.
Эрик чаще других сопровождал меня в моих вылазках в горы; старые друзья всегда были мне особенно дороги. В те времена ночевки под открытым зимним небом еще не пользовались большой популярностью, но мы с Эриком находились под влиянием Нансена и Мерена и никогда не заботились о том, чтобы найти на ночь крышу над головой. Мы научились отыскивать хорошие, плотные сугробы и выкапывали в них нечто вроде берлоги.
Мои товарищи по походам считали, что я готовлюсь к полярным экспедициям. Никого, кроме Эрика и Арнольда, я не посвящал в свои крепнущие с каждым днем планы отправиться в дальние страны. Репортажи в газетах о моих предыдущих путешествиях, снабженные фотографиями и рисунками, позволяли мне скопить деньги на следующие поездки. В тридцатые годы ночевки под открытым небом, да еще в снегу, были в новинку в Норвегии. Людям нравилось читать о том, как построить ледяной дом-иглу из блоков льда.
Ничто не может сравниться с чувством, которое испытываешь, проснувшись зимним утром на самой вершине горы Стор-Рунден и глядя на раскинувшуюся внизу родную страну. Пусть снаружи завывает вьюга — в иглу или даже в простой яме в снегу тепло и безопасно, главное, чтобы небольшое отверстие в потолке обеспечивало нормальную циркуляцию воздуха, а вход располагался ниже уровня пола. Обычной свечи достаточно, чтобы поддерживать внутри плюсовую температуру, если за стеной столбик термометра упал ниже нуля — дело в том, что внутренняя часть иглу быстро превращается в лед, это прекрасный термоизолятор, созданный самой природой.
Я всегда предпочитал заранее готовить пути отхода на случай непредвиденных обстоятельств. Только один раз я отступил от этого правила. Когда мы путешествовали на плотах, то всегда припасали бревно или связку тростника, чтобы было на чем плыть, если плот развалится. Но однажды мы с Эриком пошли на риск, о чем я очень пожалел, хотя все и обошлось. Мы решили взойти на гору Глиттертинн, покрытую никогда не тающей шапкой снега и потому ставшей на какое-то время выше соседнего Галькепиггена, самой высокой точки Норвегии. Итак, Эрик и я отправились в путь на лыжах, а Казан следом за нами тащил груженые сани. Мы рассчитывали, дойдя до вершины, построить иглу, но вскоре началась такая пурга, что не удавалось разглядеть даже кончиков лыж. Справа и слева зияли глубокие пропасти, но их тоже скрывала снежная пелена, и поэтому нам ничего не оставалось, как продолжать восхождение.
Когда мы наконец достигли каменного столба, установленного на вершине Глиттертинна, ветер превратился в настоящий ураган и буквально валил с ног. Пришлось снять лыжи. Кроме каменного столба, мы ничего вокруг не видели, а снег бил в лицо так сильно, что невозможно было открыть глаза, и дышать было трудно. Все вокруг покрывала ледяная корка такой прочности, что ни построить иглу, ни вырыть яму не представлялось возможным. Мы изо всех сил цеплялись за лыжи, чтобы их не унесло ветром, и у нас не было ни секунды, чтобы спокойно обдумать сложившееся положение. Мы выпрягли Казана из упряжки, по компасу определили ту сторону, откуда только что пришли, сели на сани и помчались вниз. Сперва нам удавалось тормозить сани и даже иногда останавливаться, чтобы Казан мог нас догнать, но затем мы не сладили со скоростью и больше не могли контролировать полет саней. Вот это была поездочка! Мы неслись все быстрее и быстрее и в конце концов перевернулись, но уже на ровной поверхности и в глубоком снегу. Мы понятия не имели, где именно находимся, и мысленно уже попрощались с бедным Казаном. Казалось, прошла вечность, и тут наконец собака вынырнула из-за снежной пелены, по брюхо увязая в сугробах и напрягая все силы в попытке догнать нас. Мы догадывались, что вокруг нас на многие километры тянется дикая равнина без признаков жилья, но видели только друг друга, сани да собаку. Весь мир исчез за белой плотной завесой, и невозможно было различить, где право, где лево, где верх, где низ.
В незнакомой местности, да еще когда не видно ни зги, компас и карта — плохие помощники, но мы примерно представляли, где находимся, и направились туда, где, по нашему разумению, лежала ближайшая долина. Ничего удивительного, что вскоре дорога пошла на подъем и с каждым шагом становилась все круче и круче. Мы уже не катились, а карабкались вверх. Все мысли были только о следующем шаге, а единственная надежда — на то, что нас не погребет под собой лавина. Бедному Казану досталась самая тяжелая задача — тащить сани, и когда мы взобрались на перевал, сил у собаки уже совсем не оставалось. На смену метели пришел густой туман, за которым по-прежнему ничего не удавалось разглядеть. Поэтому, когда вдалеке показался большой дом, мы оба приняли его за галлюцинацию. Но он оказался реальным — правда, не большим, а маленьким, зато всего в двух шагах от нас. Когда туман рассеялся, мы поняли, что добрались до приюта путников под названием Спитерстулен. Через много лет нам рассказали, что до нас никто не переходил через этот перевал на лыжах.
— С тех пор ты стал осторожным?
— Скажем так: более осторожным. Спустя какое-то время я отправился в другое путешествие на лыжах; на сей раз один, если не считать Казана. Но тут мною руководили особые соображения.
Дело было в середине тридцатых годов. В начале Пасхи в горах дали штормовое предупреждение. Я провожал своего двоюродного брата на поезд. Мы с ним прожили некоторое время в снежном доме в Троллхеймене и вместе с Казаном дошли до Снохетта. Оттуда кузен возвращался в Тронхейм, а я собирался пересечь плато у горного хребта Довр и добраться до Гудбрансдаля. Но на полпути меня застигла метель. Я укрылся от нее в горном домике и вовсю наслаждался огнем в камине, какао и печеньем. Снег бился в стены дома, а Казан терпеливо ждал под столом. Хороший пес должен знать, что о нем непременно позаботятся, и никогда ничего не выпрашивать. Вот и Казан отлично понимал, что я сам испытываю удовольствие, когда сытно и обильно кормлю свою любимую собаку. А сегодня его ждало нечто лучшее, чем привычная сушеная рыба. Когда мы оба насытились, шторм достиг невиданной силы. Ураганный ветер завывал и бился в окна, и на улицу можно было выйти, только не выпуская из рук привязанную к двери веревку.
И тут я решил принять вызов. На плато Довр нет ни обрывов, ни скал. Здесь не растут деревья, а все кусты, камни, озера и заборы лежали под толстым слоем снега. Все в доме пытались удержать меня, но безрезультатно. Я запряг Казана в сани, встал на лыжи и через несколько мгновений исчез за пеленой снега.
Каждый шаг давался с трудом. Чтобы противостоять порывам ветра, мне приходилось сильно нагибаться вперед. Даже Казан, с его волчьей силой, двигался еле-еле. В идеальных условиях, по ровной поверхности, для него не составляло труда тащить груженые сани, даже если я сам садился сверху. Сегодня же ему приходилось пробираться по глубоким рыхлым сугробам, а то, что сыпалось с неба, не шло ни в какое сравнение с теми зарядами снега, которые ветер поднимал с земли и швырял нам в глаза. Время от времени пес пропадал из вида, и тогда мне приходилось останавливаться и ждать его — часто с перевернутыми санями за спиной.
— Но в чем суть этого бессмысленного поединка с природой?
— Я все время твердил про себя: «Только так мальчик становится мужчиной! Только так мальчик становится мужчиной!»
Я знал, что уже нашел себя здесь, посреди гор. Но мне еще оставалось определить свое место в городе. Всякий раз, возвращаясь из похода, я гордо шел вдоль городских улиц — чего мне бояться здесь после того, что я испытал там? Но уже на следующий день дома начинали давить на меня. Я казался себе крошечным и ничтожным. Мне не оставалось другого выхода, как сдаться и принять чужие правила игры. Возможно, Казан, трусивший рядом со мной и задиравший лапу на каждом углу, испытывал то же самое.
Пришла пора преодолеть это чувство неуверенности, почти страха, которое охватывало меня на асфальте или в городской гостиной. Мне предстояло закалить свой дух и осознать, что я остаюсь самим собой, где бы я ни находился — среди деревьев и скал или среди оклеенных обоями стен.
Возможно, я тогда еще просто не до конца повзрослел. В любом случае, давало о себе знать неправильное воспитание.
«Только так мальчик становится мужчиной!» Идти дальше не имело смысла. То, что мы находимся здесь, посреди диких гор, что мы одержали победу над силами природы, что мы можем в любой момент просто лечь и заснуть во время бури — уже триумф человеческого духа! Легкий снег не позволял вырыть яму или построить иглу. Мне удалось разыскать палатку в поклаже саней, но ветер не давал ее установить. «Ничего страшного», — подумал я, просто расстелил ее на снегу, забрался внутрь и затащил за собой Казана. Так мы и лежали, постепенно превращаясь в один большой сугроб, — я в своем спальнике из оленьей шерсти и Казан в шубе из гренландского меха.
Вдруг сердце замерло у меня в груди. Неподалеку раздался паровозный гудок. Где-то здесь проходила железнодорожная ветка между Осло и Тронхеймом. Еще гудок — все ближе и ближе. Интересно, не под нами ли лежат скрытые под снегом рельсы? До моих ушей уже доносился звук паровозного двигателя. Поезд на всех парах несся прямо на нас!
Казан испугался не меньше моего. Надо было побыстрее выбираться и из спальника, и из палатки. Поскольку рельсы лежали под снегом, я совершенно не представлял, откудаждать опасности. В подобных ситуациях даже закоренелый атеист вспоминает о Боге и обещает больше никогда не грешить. Ни жив, ни мертв от страха, я ждал неизбежного. Грохот паровоза достиг высшей точки, и тут в нас швырнуло густой снежной массой от пролетевшего в двух шагах состава. А затем все стихло. Никто в поезде так никогда и не узнал, что в ту вьюжную ночь рядом с рельсами лежал мальчик в обнимку с собакой. Мальчик, который хотел стать мужчиной.
 Однако больше всего пригодились мне в дальнейшей жизни университетские вводные курсы по логике и философии, которые я прослушал в университете. Особенно мне нравилась философия древних греков. Мне по душе были Диоген с его бочкой и Сократ, любивший бродить по базару и радоваться, что на свете есть такое множество вещей, без которых он отлично обходится.
Однако больше всего пригодились мне в дальнейшей жизни университетские вводные курсы по логике и философии, которые я прослушал в университете. Особенно мне нравилась философия древних греков. Мне по душе были Диоген с его бочкой и Сократ, любивший бродить по базару и радоваться, что на свете есть такое множество вещей, без которых он отлично обходится.
 По билетам, купленным отцом в Норвегии, мы могли добраться только до Таити (Французская Океания). В тридцатых годах Таити оставался точно таким же, как тогда, когда Крёпелин отдал свое сердце прекрасной Туимате. По узким улочкам столичного города Папеэте, ни разу не видевшим автомобиля, сновали торговцы — китайцы со своими ручными тележками. Среди деревянных домов один носил гордое имя отеля — если сесть на кровати, можно было поверх стенки заглянуть в соседний номер. Регулярного сообщения с далекими Маркизскими островами не было и в помине, и приходилось ждать долгие недели, пока не подвернется попутная шхуна с грузом копры. На всем острове не было проложено ни одного шоссе, но зато до долины Палено ходил живописный автобус с местными девушками — «вахинес», словно сошедшими с полотен Гогена. Девушки перевозили живых кур и свиней, — на коленях хозяек или на крыше автобуса.
Мы втиснулись в автобус и доехали до Папено, где до сих пор жил Терииероо, отец прекрасной Туиматы и самый могущественный из семнадцати вождей острова. Этот колоритный персонаж, которого природа не обделила ни плотью, ни духом, происходил из знатного и древнего полинезийского рода. Мы привезли подарки от Бьярне Крёпелина, и нас приняли с распростертыми объятиями как членов семьи. В доме Терииероо нам предстояло провести четыре недели, пока автобус не привез известие о том, что на Маркизы наконец-то отправляется шхуна. За этот месяц мы многое узнали. Целыми, днями мы оба расхаживали босиком, завернувшись в цветастые «парео». Лив почти всегда можно было найти в обществе Фауфау и других женщин вокруг кухонного очага, а я вместе с вождем и его сыновьями бродил по окрестным лесам и полям.
Главное, что со мной произошло на Таити, — я научился плавать. И это умение пришло ко мне помимо моей воли.
Я поскользнулся, упал в речку Папено, и меня подхватило течением. В какой-то момент я оказался в тихой заводи, но меня неудержимо несло к ревущей стремнине. Отчаянно сражаясь за свою жизнь, я как-то умудрился проплыть несколько метров и выбраться на берег. Мне так понравилось плавать, и это оказалось так легко, что я тут же нырнул в заводь еще раз.
Лазить на кокосовые пальмы оказалось гораздо труднее. Когда же одна из них мне все-таки покорилась, на вершине ее я обнаружил гнездо шершней. Поскольку быстро спускаться я еще не умел, пришлось просто съехать вниз по шершавому стволу. Когда я, наконец, достигнул земли, почти вся моя кожа осталась на пальме, к тому же я был весь в огромных занозах, и Терииероо, вооружившись щипцами, долго и мучительно их из меня извлекал.
Но вот, наконец, мы оказались на борту шхуны, отправлявшейся на Маркизы. Через несколько дней спасательная шлюпка доставила нас на остров, на котором не было ни белых людей, ни радио, ни вообще какой-либо связи с окружающим миром.
— Ты помнишь, о чем ты тогда думал?
— О том, что наша планета невероятно велика. Только путешествие на корабле заняло более двух месяцев. А на Таити мне рассказывали, что Маркизские острова настолько оторваны от цивилизации, что о начале Первой мировой войны 1914 года там узнали только после ее окончания в 1918-м — и это при том, что германские суда бомбардировали Папеэте.
Прощание всегда несет в себе привкус горечи, и если бы мне не надо было подавать Лив пример мужества, я, возможно, не смог бы побороть слезы, глядя вслед удаляющейся шлюпке. Шхуна подняла паруса и вскоре скрылась за горизонтом, а мы остались на берегу совсем одни. «Может быть, я вернусь через год», — пообещал капитан Барндер. Наконец, мы отвели взгляд от океанской глади и обнаружили, что из-под сени кокосовых пальм на нас с любопытством смотрят несколько дюжин коричневых физиономий. И у них, и у нас было множество вопросов друг к другу, но мы не знали, на каком языке их задавать. Хорошо помню, что я подумал, глядя на усеянные плодами верхушки пальм: «Уж голодать-то нам здесь не придется».
По билетам, купленным отцом в Норвегии, мы могли добраться только до Таити (Французская Океания). В тридцатых годах Таити оставался точно таким же, как тогда, когда Крёпелин отдал свое сердце прекрасной Туимате. По узким улочкам столичного города Папеэте, ни разу не видевшим автомобиля, сновали торговцы — китайцы со своими ручными тележками. Среди деревянных домов один носил гордое имя отеля — если сесть на кровати, можно было поверх стенки заглянуть в соседний номер. Регулярного сообщения с далекими Маркизскими островами не было и в помине, и приходилось ждать долгие недели, пока не подвернется попутная шхуна с грузом копры. На всем острове не было проложено ни одного шоссе, но зато до долины Палено ходил живописный автобус с местными девушками — «вахинес», словно сошедшими с полотен Гогена. Девушки перевозили живых кур и свиней, — на коленях хозяек или на крыше автобуса.
Мы втиснулись в автобус и доехали до Папено, где до сих пор жил Терииероо, отец прекрасной Туиматы и самый могущественный из семнадцати вождей острова. Этот колоритный персонаж, которого природа не обделила ни плотью, ни духом, происходил из знатного и древнего полинезийского рода. Мы привезли подарки от Бьярне Крёпелина, и нас приняли с распростертыми объятиями как членов семьи. В доме Терииероо нам предстояло провести четыре недели, пока автобус не привез известие о том, что на Маркизы наконец-то отправляется шхуна. За этот месяц мы многое узнали. Целыми, днями мы оба расхаживали босиком, завернувшись в цветастые «парео». Лив почти всегда можно было найти в обществе Фауфау и других женщин вокруг кухонного очага, а я вместе с вождем и его сыновьями бродил по окрестным лесам и полям.
Главное, что со мной произошло на Таити, — я научился плавать. И это умение пришло ко мне помимо моей воли.
Я поскользнулся, упал в речку Папено, и меня подхватило течением. В какой-то момент я оказался в тихой заводи, но меня неудержимо несло к ревущей стремнине. Отчаянно сражаясь за свою жизнь, я как-то умудрился проплыть несколько метров и выбраться на берег. Мне так понравилось плавать, и это оказалось так легко, что я тут же нырнул в заводь еще раз.
Лазить на кокосовые пальмы оказалось гораздо труднее. Когда же одна из них мне все-таки покорилась, на вершине ее я обнаружил гнездо шершней. Поскольку быстро спускаться я еще не умел, пришлось просто съехать вниз по шершавому стволу. Когда я, наконец, достигнул земли, почти вся моя кожа осталась на пальме, к тому же я был весь в огромных занозах, и Терииероо, вооружившись щипцами, долго и мучительно их из меня извлекал.
Но вот, наконец, мы оказались на борту шхуны, отправлявшейся на Маркизы. Через несколько дней спасательная шлюпка доставила нас на остров, на котором не было ни белых людей, ни радио, ни вообще какой-либо связи с окружающим миром.
— Ты помнишь, о чем ты тогда думал?
— О том, что наша планета невероятно велика. Только путешествие на корабле заняло более двух месяцев. А на Таити мне рассказывали, что Маркизские острова настолько оторваны от цивилизации, что о начале Первой мировой войны 1914 года там узнали только после ее окончания в 1918-м — и это при том, что германские суда бомбардировали Папеэте.
Прощание всегда несет в себе привкус горечи, и если бы мне не надо было подавать Лив пример мужества, я, возможно, не смог бы побороть слезы, глядя вслед удаляющейся шлюпке. Шхуна подняла паруса и вскоре скрылась за горизонтом, а мы остались на берегу совсем одни. «Может быть, я вернусь через год», — пообещал капитан Барндер. Наконец, мы отвели взгляд от океанской глади и обнаружили, что из-под сени кокосовых пальм на нас с любопытством смотрят несколько дюжин коричневых физиономий. И у них, и у нас было множество вопросов друг к другу, но мы не знали, на каком языке их задавать. Хорошо помню, что я подумал, глядя на усеянные плодами верхушки пальм: «Уж голодать-то нам здесь не придется».
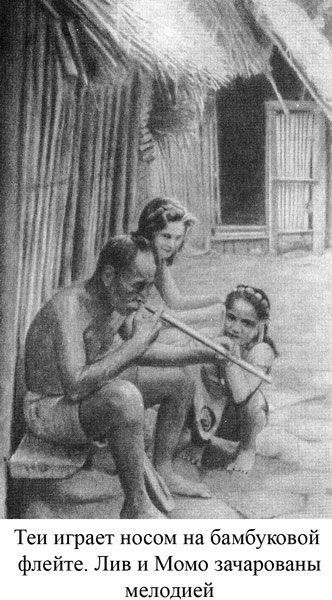 То, что отец Лив прочитал о каннибализме на Маркизских островах, вовсе не являлось досужим вымыслом. Официально считалось, что каннибализм закончился в 1887 году, когда в долине Пуамао на острове Хива-Оа состоялось последнее кровавое пиршество. Последним человеком, про которого точно известно, что он был съеден, являлся некий шведский плотник, погибший в 1879 году. Теи Тетуа скромно поведал нам, что он попробовал человечинки всего-то однажды в жизни, да и то в раннем детстве, когда в соседней долине кого-то забили до смерти. А вот его отец, Ута, был настоящим каннибалом. Он не только соблюдал ритуал обрядного поедания павшего противника, но и вообще предпочитал человеческое мясо свинине.
Волосатые свинки вольготно хрюкали и копались в земле долины, где Теи Тетуа со своими собаками и веревочным лассо был единственным охотником. Трудно себе вообразить свинину лучше той, которой угощал нас старик, — с гарниром из плодов хлебного дерева, запеченных в банановых листьях. Он помог нам построить хижину в форме птичьего гнезда из трех стен. Чтобы избежать ночного нашествия диких свиней, хижина возвышалась над землей на высоких шестах.
С тех пор нам больше не пришлось готовить еду. Все, что нам было нужно, ежедневно приносила прелестная маленькая полинезийская девушка Тахиа Момо на подносе из огромных листьев таро. Ей не приходилось далеко ходить — ДОМ Теи находился в двух шагах от нашего жилища. Еды было в изобилии, и гораздо более разнообразной, чем в джунглях, откуда все перебрались на побережье еще в прошлом веке. Еще Теи Тетуа держал цыплят, а на окружавших долину холмах росли замечательные помидоры и ананасы. Ботаник Ф. Б. М. Браун пришел к заключению, что их занесли на острова пришельцы из Южной Америки во времена, когда европейцы не подозревали о существовании островов в Тихом океане.
Океан. Восемь тысяч километров гнал он свои могучие волны от берегов Южной Америки, чтобы наконец с грохотом обрушить их на наш остров. Круглые отполированные водой камни безостановочно крутились и стучались друг о друга в струях, набегавших и скатывавшихся с берега волн, сливаясь в удивительную симфонию звуков. В углублениях окружавших долину скал скапливались небольшие озерца соленой морской воды, и в них ни на миг не затихала жизнь. Крабы и рыбки ползали и плавали посреди моллюсков, анемон и водорослей. После джунглей океан показался нам гораздо более добрым приемным родителем.
К счастью, на земле немало хороших и дружелюбных людей, и со многими из них я знаком. Но мне не встречался никто добрее и щедрее, чем этот бывший людоед. Порой, сидя на корточках и вгрызаясь в сочную кость, мы чувствовали, как у нас мороз пробегал по коже от его рассказов о другой жизни и о другом мире. Он вспоминал, как его папаша Ута брал в руки богато украшенную резьбой дубинку — ныне ценный музейный экспонат — и отправлялся отомстить врагам из Ханативы или шел пешком в далекую долину Омоа, единственное место, где у Теи оставались родственники.
Теи Тетуа не был еретиком. В один прекрасный день священник из католической миссии в Хива-Оа спустился с гор и обратил всех островитян в христианство. С тех пор Теи знал, что Тики по-французски будет «Дьё», «Бог», а когда он выкопал себе могилу рядом с хижиной, то на всякий случай положил рядом с ней крест. Если в смертный час ему не хватит сил, чтобы самому спуститься в могилу, ему поможет маленькая Тахиа Момо.
Он твердо помнил рассказы предков о первых людях, явившихся из-за океана. Их возглавлял Тики, и пришли они с востока, из Те-Фити, где встает солнце. Из книг Крёпелина я уже знал, что немецкий этнограф Карл фон ден Штейнен много лет назад записал предание туземцев с Маркизских островов о большой стране Фити-Нуи в краю, где восходит солнце. Американский этнолог Ханди, посетивший Хива-Оа годы спустя, слышал от стариков, что их предки пришли из огромной страны на востоке под названием Те-Фити. Ханди так удивился, что островитяне помещали свою прародину в район Южной Америки, что даже переспросил еще раз. И ему снова подтвердили, что до земли предков можно доплыть, если держать курс на «те тихена оумати» — «туда, где встает солнце».
То, что отец Лив прочитал о каннибализме на Маркизских островах, вовсе не являлось досужим вымыслом. Официально считалось, что каннибализм закончился в 1887 году, когда в долине Пуамао на острове Хива-Оа состоялось последнее кровавое пиршество. Последним человеком, про которого точно известно, что он был съеден, являлся некий шведский плотник, погибший в 1879 году. Теи Тетуа скромно поведал нам, что он попробовал человечинки всего-то однажды в жизни, да и то в раннем детстве, когда в соседней долине кого-то забили до смерти. А вот его отец, Ута, был настоящим каннибалом. Он не только соблюдал ритуал обрядного поедания павшего противника, но и вообще предпочитал человеческое мясо свинине.
Волосатые свинки вольготно хрюкали и копались в земле долины, где Теи Тетуа со своими собаками и веревочным лассо был единственным охотником. Трудно себе вообразить свинину лучше той, которой угощал нас старик, — с гарниром из плодов хлебного дерева, запеченных в банановых листьях. Он помог нам построить хижину в форме птичьего гнезда из трех стен. Чтобы избежать ночного нашествия диких свиней, хижина возвышалась над землей на высоких шестах.
С тех пор нам больше не пришлось готовить еду. Все, что нам было нужно, ежедневно приносила прелестная маленькая полинезийская девушка Тахиа Момо на подносе из огромных листьев таро. Ей не приходилось далеко ходить — ДОМ Теи находился в двух шагах от нашего жилища. Еды было в изобилии, и гораздо более разнообразной, чем в джунглях, откуда все перебрались на побережье еще в прошлом веке. Еще Теи Тетуа держал цыплят, а на окружавших долину холмах росли замечательные помидоры и ананасы. Ботаник Ф. Б. М. Браун пришел к заключению, что их занесли на острова пришельцы из Южной Америки во времена, когда европейцы не подозревали о существовании островов в Тихом океане.
Океан. Восемь тысяч километров гнал он свои могучие волны от берегов Южной Америки, чтобы наконец с грохотом обрушить их на наш остров. Круглые отполированные водой камни безостановочно крутились и стучались друг о друга в струях, набегавших и скатывавшихся с берега волн, сливаясь в удивительную симфонию звуков. В углублениях окружавших долину скал скапливались небольшие озерца соленой морской воды, и в них ни на миг не затихала жизнь. Крабы и рыбки ползали и плавали посреди моллюсков, анемон и водорослей. После джунглей океан показался нам гораздо более добрым приемным родителем.
К счастью, на земле немало хороших и дружелюбных людей, и со многими из них я знаком. Но мне не встречался никто добрее и щедрее, чем этот бывший людоед. Порой, сидя на корточках и вгрызаясь в сочную кость, мы чувствовали, как у нас мороз пробегал по коже от его рассказов о другой жизни и о другом мире. Он вспоминал, как его папаша Ута брал в руки богато украшенную резьбой дубинку — ныне ценный музейный экспонат — и отправлялся отомстить врагам из Ханативы или шел пешком в далекую долину Омоа, единственное место, где у Теи оставались родственники.
Теи Тетуа не был еретиком. В один прекрасный день священник из католической миссии в Хива-Оа спустился с гор и обратил всех островитян в христианство. С тех пор Теи знал, что Тики по-французски будет «Дьё», «Бог», а когда он выкопал себе могилу рядом с хижиной, то на всякий случай положил рядом с ней крест. Если в смертный час ему не хватит сил, чтобы самому спуститься в могилу, ему поможет маленькая Тахиа Момо.
Он твердо помнил рассказы предков о первых людях, явившихся из-за океана. Их возглавлял Тики, и пришли они с востока, из Те-Фити, где встает солнце. Из книг Крёпелина я уже знал, что немецкий этнограф Карл фон ден Штейнен много лет назад записал предание туземцев с Маркизских островов о большой стране Фити-Нуи в краю, где восходит солнце. Американский этнолог Ханди, посетивший Хива-Оа годы спустя, слышал от стариков, что их предки пришли из огромной страны на востоке под названием Те-Фити. Ханди так удивился, что островитяне помещали свою прародину в район Южной Америки, что даже переспросил еще раз. И ему снова подтвердили, что до земли предков можно доплыть, если держать курс на «те тихена оумати» — «туда, где встает солнце».
 То же утверждал и Теи Тетуа. Мы сидели на краю леса, наслаждаясь отсутствием москитов, и смотрели туда, где по утрам над океаном поднималось солнце. Ночной ветер гнал по небу маленькие белые облачка. Теи пересказывал нам легенды, заученные в юности, и было ясно, что он хорошо выучил свои уроки, хотя не написал в жизни ни слова. Он не читал трудов по ботанике, но рассказывал то, о чем я знал из ученых книг. Он прекрасно знал, что дикий ананас и маленькиепомидоры были завезены на остров его предками — он звал их «эната», «люди», в отличие от чужеземцев. Даже молодежь из долины Омоа знала о происхождении этих вкусных плодов. Сейчас на острове росло два вида ананасов («фаа хока»), но только один звался «эната» и считался настоящим. Другой, «оаху», сравнительно недавно посадили миссионеры с Гавайских островов.
Еще на острове было два вида американской папайи. Та, что крупнее, звалась «ви оаху», более мелкая — «ви эната». Вообще слово «эната» неизменно входило в название тех растений, которые были завезены из Южной Америки до прихода европейцев.
Именно благодаря Теи Тетуа я понял, что устная традиция является богатейшим источником бесценной информации, которую часто сбрасывают со счетов, как «сказки», «легенды» и «мифы». В Полинезии легенды заслуживают не меньшего доверия, чем записанные на бумаге повествования средневековых историков.
— Что нового ты понял о своем мире, увидев его глазами Теи Тетуа?
— Я понял, что мы обманываем сами себя, считая себя более сложными, чем так называемые «примитивные народы». Мы отказываемся признать, что изменился лишь антураж, а мы сами не стали ни лучше, ни хуже, чем столетия назад. Поколения за поколениями рождаются на свет точно такими же, как Адам и Ева. Хромосомы Каина и брата его Авеля до сих пор живут в каждом из нас.
Мы убеждаем себя и окружающих, что в искусстве убивать себе подобных мы достигли невиданного прогресса. В прошлом веке на всех островах Полинезии миссионеры без устали твердили, что нельзя бить человека дубинкой по голове только за то, что он тебе не нравится. Но прошло всего несколько десятков лет, и мы вернулись в военной форме и сказали, что, надев ее, убивать можно сколько угодно — лишь бы на убитых была униформа другого образца.
Нам было непросто объяснить, что дальнобойные орудия позволяют убивать, не видя своих жертв, и что так гораздо лучше. Великий воин и вождь, отец Теи Тетуа, всегда знал, с кем он сходился в смертельной схватке.
Антропологи утверждали, что причиной межплеменных войн на Маркизских островах являлось их перенаселенность, и рассказы Теи Тетуа только подтверждали этот вывод. Он нисколько не удивился, когда я сказал, что опасаюсь новой мировой войны, поскольку после первой выросло уже целое поколение. Наш друг из долины Оуиа Считал такое положение вещей совершенно естественным. Он также делал свои, совершенно оригинальные выводы из моих рассказов о жизни в больших городах, вроде Лондона и Нью-Йорка.
Мы размножаемся так быстро, что наши леса исчезают; нас так много, что мы строим дома стена к стене, а потом начинаем громоздить их один на другой.
Я рассказывал, что, хотя мы не едим людей, мы питаемся коровами, курами и животными, которых находим вкусными. Впрочем, мы предпочитаем, чтобы животных и рыб убивал кто-нибудь другой. Это очень удивило Теи. По его мнению, глупо отказывать себе в удовольствии самому порыбачить, и еще глупее потом менять полезные вещи на рыбу, пойманную другими. Наш друг ничего не знал о таких понятиях, как деньги и цена, а я не стал усложнять наш разговор рассказами о магазинах и посредниках.
Теи Тетуа согласился с тем, что каннибализм — плохо. Но затем и я, в свою очередь, неприятно поразил его. Теи спросил, что мы делаем с телами погибших на войне.
— Хороним, — ответил я.
— Как, просто зарываете в землю?!
По лицу старика было видно, что я его очень сильно разочаровал.
То же утверждал и Теи Тетуа. Мы сидели на краю леса, наслаждаясь отсутствием москитов, и смотрели туда, где по утрам над океаном поднималось солнце. Ночной ветер гнал по небу маленькие белые облачка. Теи пересказывал нам легенды, заученные в юности, и было ясно, что он хорошо выучил свои уроки, хотя не написал в жизни ни слова. Он не читал трудов по ботанике, но рассказывал то, о чем я знал из ученых книг. Он прекрасно знал, что дикий ананас и маленькиепомидоры были завезены на остров его предками — он звал их «эната», «люди», в отличие от чужеземцев. Даже молодежь из долины Омоа знала о происхождении этих вкусных плодов. Сейчас на острове росло два вида ананасов («фаа хока»), но только один звался «эната» и считался настоящим. Другой, «оаху», сравнительно недавно посадили миссионеры с Гавайских островов.
Еще на острове было два вида американской папайи. Та, что крупнее, звалась «ви оаху», более мелкая — «ви эната». Вообще слово «эната» неизменно входило в название тех растений, которые были завезены из Южной Америки до прихода европейцев.
Именно благодаря Теи Тетуа я понял, что устная традиция является богатейшим источником бесценной информации, которую часто сбрасывают со счетов, как «сказки», «легенды» и «мифы». В Полинезии легенды заслуживают не меньшего доверия, чем записанные на бумаге повествования средневековых историков.
— Что нового ты понял о своем мире, увидев его глазами Теи Тетуа?
— Я понял, что мы обманываем сами себя, считая себя более сложными, чем так называемые «примитивные народы». Мы отказываемся признать, что изменился лишь антураж, а мы сами не стали ни лучше, ни хуже, чем столетия назад. Поколения за поколениями рождаются на свет точно такими же, как Адам и Ева. Хромосомы Каина и брата его Авеля до сих пор живут в каждом из нас.
Мы убеждаем себя и окружающих, что в искусстве убивать себе подобных мы достигли невиданного прогресса. В прошлом веке на всех островах Полинезии миссионеры без устали твердили, что нельзя бить человека дубинкой по голове только за то, что он тебе не нравится. Но прошло всего несколько десятков лет, и мы вернулись в военной форме и сказали, что, надев ее, убивать можно сколько угодно — лишь бы на убитых была униформа другого образца.
Нам было непросто объяснить, что дальнобойные орудия позволяют убивать, не видя своих жертв, и что так гораздо лучше. Великий воин и вождь, отец Теи Тетуа, всегда знал, с кем он сходился в смертельной схватке.
Антропологи утверждали, что причиной межплеменных войн на Маркизских островах являлось их перенаселенность, и рассказы Теи Тетуа только подтверждали этот вывод. Он нисколько не удивился, когда я сказал, что опасаюсь новой мировой войны, поскольку после первой выросло уже целое поколение. Наш друг из долины Оуиа Считал такое положение вещей совершенно естественным. Он также делал свои, совершенно оригинальные выводы из моих рассказов о жизни в больших городах, вроде Лондона и Нью-Йорка.
Мы размножаемся так быстро, что наши леса исчезают; нас так много, что мы строим дома стена к стене, а потом начинаем громоздить их один на другой.
Я рассказывал, что, хотя мы не едим людей, мы питаемся коровами, курами и животными, которых находим вкусными. Впрочем, мы предпочитаем, чтобы животных и рыб убивал кто-нибудь другой. Это очень удивило Теи. По его мнению, глупо отказывать себе в удовольствии самому порыбачить, и еще глупее потом менять полезные вещи на рыбу, пойманную другими. Наш друг ничего не знал о таких понятиях, как деньги и цена, а я не стал усложнять наш разговор рассказами о магазинах и посредниках.
Теи Тетуа согласился с тем, что каннибализм — плохо. Но затем и я, в свою очередь, неприятно поразил его. Теи спросил, что мы делаем с телами погибших на войне.
— Хороним, — ответил я.
— Как, просто зарываете в землю?!
По лицу старика было видно, что я его очень сильно разочаровал.
 Мы еще находились в Норвегии, когда пришло известие о начале войны между Англией и Германией. Из-за этого нашему кораблю пришлось огибать Шотландию с севера, чтобы избежать возможной встречи с немецкими подлодками в проливе Ла-Манш. Ужасы межплеменных стычек в Полинезии померкли по сравнению с тем, что происходило в Европе.
Мы еще находились в Норвегии, когда пришло известие о начале войны между Англией и Германией. Из-за этого нашему кораблю пришлось огибать Шотландию с севера, чтобы избежать возможной встречи с немецкими подлодками в проливе Ла-Манш. Ужасы межплеменных стычек в Полинезии померкли по сравнению с тем, что происходило в Европе.
 Вообще-то в консульстве меня ждал довольно холодный прием.
Консул по фамилии фон Штальшмидт сообщил мне, с явным немецким акцентом, что Германия и Норвегия остаются добрыми друзьями и что мне лучше вернуться к моим индейцам и спокойно ждать окончания войны.
Я приехал в Канаду по студенческой визе и с обратным билетом в кармане, но сейчас и то, и другое превратились в бесполезные бумажки. К тому же денег у нас оставалось всего на несколько дней, а Лив ждала второго ребенка. Положение складывалось хуже некуда.
Вдобавок некий американский журналист, которого интервенция застала в Осло, написал абсолютно лживую статью, будто бы норвежцы приветствовали завоевателей. Статью опубликовали как в Америке, так и в Канаде. И уж разумеется, немцы ни словом не обмолвились о том, что норвежцы пустили ко дну крупнейший корабль германского ВМФ, «Блюхер», с тысячью человек на борту, а также о сражениях, которые продолжались на севере Норвегии еще много недель после капитуляции.
Насколько доброжелательно нас встречали по приезде из Норвегии, настолько все от нас отвернулись теперь. Мы даже боялись разговаривать на родном языке в общественных местах. Понадобилось больше года, чтобы неприязнь к моей стране постепенно уступила место уважению. Когда США, наконец, вступили в войну, президент Рузвельт произнес речь, в которой отметил, что Германия могла бы выиграть Битву за Европу, если бы норвежцы не увели от нее и не передали союзникам свой торговый флот, третий по численности в мире.
Вообще, жизнь открылась нам своей мрачной стороной. Нам пришлось выехать из отеля и перебраться в дешевую комнатушку с видом на задворки портовых зданий. Вся обстановка состояла из газовой лампы, колченогой кровати, стола, стула да видавшей виды колыбельки для маленького Гора. Окно без занавески выходило на большой угольный склад, освещенный одним-единственным фонарем. Хозяйка нам досталась не лучше комнаты — вредная, подозрительная и крикливая, и ее характер отнюдь не улучшился, когда она узнала, что мы из Норвегии.
Никто не мог сказать, сколько продлится война. Мне предстояло найти какую-нибудь временную работу. Каждый день у дверей бюро по трудоустройству выстраивалась длинная очередь. Я долго присматривался к ее завсегдатаям, а затем отпустил щетину, надел потрепанную кепку и встал в самый хвост. Сотрудники бюро интересовались у каждого его специальностью, и почти все называли себя плотниками или сантехниками — независимо от того, держали ли они хоть раз в жизни в руках пилу или гаечный ключ. Когда подошел мой черед, я отрекомендовался зоологом. Никто не знал, что это такое. Тогда я добавил: и этнолог. Тоже не помогло. В конце концов, меня спросили, умею ли я возить тачку. Я гордо отрекомендовался мастером этого дела, но работу все равно не получил. Дело в том, что я приехал в Америку по студенческой визе и не имел права на трудоустройство.
Дни шли и складывались в недели. Наши финансы таяли с угрожающей быстротой — мы уже получили наличные по последнему чеку, а Лив к тому же ждала второго ребенка. Нам приходилось экономить каждый кусок хлеба. Только тогда я осознал, как мне повезло родиться в той среде, где ежедневные завтрак, обед и ужин считались чем-то само собой разумеющимся.
На Фату-Хива во время сезона дождей нам доводилось оставаться без продуктов, но тем не менее в ручье всегда копошились раки, а с пальм время от времени падали кокосовые орехи. Здесь нас окружали только асфальт, закрытые окна да запертые двери. Только тот, кто испытал подобное, может понять чувства голодного человека, у которого дома сидят не менее голодные жена и ребенок, когда он смотрит на витрину ресторана и видит медленно вращающегося на вертеле золотистого цыпленка и вдыхает восхитительный аромат пищи всякий раз, когда открывается дверь, выпуская сытых посетителей и впуская новую порцию счастливцев.
Когда такой человек становится революционером, в основе его решения лежит вовсе не политика. Сытые люди не бунтуют.
И я тоже не мог отогнать от себя мысли о социальном несовершенстве мира. Почему я должен стоять здесь, без копейки, чтобы заплатить за жилье, смотреть на роскошные витрины магазинов и знать, что не смогу побаловать чем-нибудь вкусненьким моих дорогих Лив и Тора. И я был не одинок. Тысячи и миллионы людей, фактически половина обитателей Земли, страдали так же, как я, если не больше. Благополучные счастливцы любят порассуждать об истощении ресурсов и перенаселении планеты и предрекают грядущую катастрофу. Но для многих и многих катастрофа уже давно наступила, только они не могут читать и писать и никто не слышит их стоны.
Однажды, остановившись перед хлебной лавкой, я вдруг понял, что само существование моей маленькой семьи находится под угрозой.
Лив вела себя исключительно мужественно, точно так же, как на Фату-Хива. Ни одной жалобы, ни одного резкого слова. Я же часами расхаживал взад и вперед по комнате, то кипя от ярости, то впадая в пучину отчаяния. А затем наступил самый тяжелый день. Это было воскресенье. Завтра предстояло платить за жилье. Из денег оставалось всего несколько жалких грошей. Тридцать центов. Я мерил комнату шагами, как тигр в клетке. Лив встала, ничего не говоря, вышла на улицу и на последние деньги купила три сладкие булочки. Вместе с маленьким Тором мы отправились погреться на солнышке и сели на скамейку в парке Стэнли, глядя на каноэ, которое проделало путь отсюда и до самой Новой Зеландии. К черту мою замечательную теорию! Старый тотем, установленный рядом с каноэ, гораздо больше соответствовал нашему настроению. Гротескные фигуры карабкались вверх по шесту, а венчал его победитель, обладатель длинных когтей и хищных клыков. Я был готов упасть перед ним ниц и просить о помощи все силы рая и ада, где бы они ни находились, в небесной вышине, в подземных глубинах или в самых дальних тайниках моей собственной души.
Возможно, то, что произошло потом, было просто случайностью. Но и в последующие годы, в самые критические моменты, со мной происходили подобные случайности, поэтому я считаю, что на них всегда стоит надеяться и рассчитывать.
Когда на следующее утро хозяйка постучала в нашу дверь, у нас не осталось ни цента. Не было ни выхода, ни времени, ни надежды. Мы проиграли.
Помимо счета за жилье, у нее в руках было письмо. Письмо от судоходной компании Фреда Ольсена, доставленное нам стараниями представителя компании в Ванкувере.
Судовладелец Фред Ольсен с семьей сумел вырваться из оккупированной Норвегии. Все его суда теперь были приписаны к конвоям союзников. Из своего нового офиса в Лондоне Ольсен послал телеграмму, что его агент должен найти всех пассажиров компании, застрявших в Ванкувере без малейших шансов вырваться оттуда. К тому же, мне полагался заем на сумму, необходимую, чтобы дожить до окончания войны.
Мне казалось, что я вижу чудесный сон. Жизнь продолжалась! Радость и благодарность переполняли меня, но я не хотел быть неблагодарным и попросил всего пятьдесят долларов в месяц. Даже в те времена это была весьма скромная сумма, но мы уже убедились на собственном опыте, что доллар состоит из ста центов. А три сладкие булочки мы купили на последние тридцать.
С новыми силами я сел за работу и вскоре закончил две статьи на английском языке. Одну, строго научную, я послал в «Интернэшнл Сайенс», вторую, научно-популярную, — в «Нэшнл Джиографик». Обе были приняты, а из «Нэшнл Джиографик» мне пришел чек на двести долларов. Вскоре после этого Лив положили в родильный дом, и деньги очень пригодились для нее и для новорожденного Бьёрна. Между собой мы прозвали его Бамсе в честь медвежонка, которого мы как-то видели в долине Белла Кула, когда он карабкался на дерево с маргариткой в зубах.
Вообще-то в консульстве меня ждал довольно холодный прием.
Консул по фамилии фон Штальшмидт сообщил мне, с явным немецким акцентом, что Германия и Норвегия остаются добрыми друзьями и что мне лучше вернуться к моим индейцам и спокойно ждать окончания войны.
Я приехал в Канаду по студенческой визе и с обратным билетом в кармане, но сейчас и то, и другое превратились в бесполезные бумажки. К тому же денег у нас оставалось всего на несколько дней, а Лив ждала второго ребенка. Положение складывалось хуже некуда.
Вдобавок некий американский журналист, которого интервенция застала в Осло, написал абсолютно лживую статью, будто бы норвежцы приветствовали завоевателей. Статью опубликовали как в Америке, так и в Канаде. И уж разумеется, немцы ни словом не обмолвились о том, что норвежцы пустили ко дну крупнейший корабль германского ВМФ, «Блюхер», с тысячью человек на борту, а также о сражениях, которые продолжались на севере Норвегии еще много недель после капитуляции.
Насколько доброжелательно нас встречали по приезде из Норвегии, настолько все от нас отвернулись теперь. Мы даже боялись разговаривать на родном языке в общественных местах. Понадобилось больше года, чтобы неприязнь к моей стране постепенно уступила место уважению. Когда США, наконец, вступили в войну, президент Рузвельт произнес речь, в которой отметил, что Германия могла бы выиграть Битву за Европу, если бы норвежцы не увели от нее и не передали союзникам свой торговый флот, третий по численности в мире.
Вообще, жизнь открылась нам своей мрачной стороной. Нам пришлось выехать из отеля и перебраться в дешевую комнатушку с видом на задворки портовых зданий. Вся обстановка состояла из газовой лампы, колченогой кровати, стола, стула да видавшей виды колыбельки для маленького Гора. Окно без занавески выходило на большой угольный склад, освещенный одним-единственным фонарем. Хозяйка нам досталась не лучше комнаты — вредная, подозрительная и крикливая, и ее характер отнюдь не улучшился, когда она узнала, что мы из Норвегии.
Никто не мог сказать, сколько продлится война. Мне предстояло найти какую-нибудь временную работу. Каждый день у дверей бюро по трудоустройству выстраивалась длинная очередь. Я долго присматривался к ее завсегдатаям, а затем отпустил щетину, надел потрепанную кепку и встал в самый хвост. Сотрудники бюро интересовались у каждого его специальностью, и почти все называли себя плотниками или сантехниками — независимо от того, держали ли они хоть раз в жизни в руках пилу или гаечный ключ. Когда подошел мой черед, я отрекомендовался зоологом. Никто не знал, что это такое. Тогда я добавил: и этнолог. Тоже не помогло. В конце концов, меня спросили, умею ли я возить тачку. Я гордо отрекомендовался мастером этого дела, но работу все равно не получил. Дело в том, что я приехал в Америку по студенческой визе и не имел права на трудоустройство.
Дни шли и складывались в недели. Наши финансы таяли с угрожающей быстротой — мы уже получили наличные по последнему чеку, а Лив к тому же ждала второго ребенка. Нам приходилось экономить каждый кусок хлеба. Только тогда я осознал, как мне повезло родиться в той среде, где ежедневные завтрак, обед и ужин считались чем-то само собой разумеющимся.
На Фату-Хива во время сезона дождей нам доводилось оставаться без продуктов, но тем не менее в ручье всегда копошились раки, а с пальм время от времени падали кокосовые орехи. Здесь нас окружали только асфальт, закрытые окна да запертые двери. Только тот, кто испытал подобное, может понять чувства голодного человека, у которого дома сидят не менее голодные жена и ребенок, когда он смотрит на витрину ресторана и видит медленно вращающегося на вертеле золотистого цыпленка и вдыхает восхитительный аромат пищи всякий раз, когда открывается дверь, выпуская сытых посетителей и впуская новую порцию счастливцев.
Когда такой человек становится революционером, в основе его решения лежит вовсе не политика. Сытые люди не бунтуют.
И я тоже не мог отогнать от себя мысли о социальном несовершенстве мира. Почему я должен стоять здесь, без копейки, чтобы заплатить за жилье, смотреть на роскошные витрины магазинов и знать, что не смогу побаловать чем-нибудь вкусненьким моих дорогих Лив и Тора. И я был не одинок. Тысячи и миллионы людей, фактически половина обитателей Земли, страдали так же, как я, если не больше. Благополучные счастливцы любят порассуждать об истощении ресурсов и перенаселении планеты и предрекают грядущую катастрофу. Но для многих и многих катастрофа уже давно наступила, только они не могут читать и писать и никто не слышит их стоны.
Однажды, остановившись перед хлебной лавкой, я вдруг понял, что само существование моей маленькой семьи находится под угрозой.
Лив вела себя исключительно мужественно, точно так же, как на Фату-Хива. Ни одной жалобы, ни одного резкого слова. Я же часами расхаживал взад и вперед по комнате, то кипя от ярости, то впадая в пучину отчаяния. А затем наступил самый тяжелый день. Это было воскресенье. Завтра предстояло платить за жилье. Из денег оставалось всего несколько жалких грошей. Тридцать центов. Я мерил комнату шагами, как тигр в клетке. Лив встала, ничего не говоря, вышла на улицу и на последние деньги купила три сладкие булочки. Вместе с маленьким Тором мы отправились погреться на солнышке и сели на скамейку в парке Стэнли, глядя на каноэ, которое проделало путь отсюда и до самой Новой Зеландии. К черту мою замечательную теорию! Старый тотем, установленный рядом с каноэ, гораздо больше соответствовал нашему настроению. Гротескные фигуры карабкались вверх по шесту, а венчал его победитель, обладатель длинных когтей и хищных клыков. Я был готов упасть перед ним ниц и просить о помощи все силы рая и ада, где бы они ни находились, в небесной вышине, в подземных глубинах или в самых дальних тайниках моей собственной души.
Возможно, то, что произошло потом, было просто случайностью. Но и в последующие годы, в самые критические моменты, со мной происходили подобные случайности, поэтому я считаю, что на них всегда стоит надеяться и рассчитывать.
Когда на следующее утро хозяйка постучала в нашу дверь, у нас не осталось ни цента. Не было ни выхода, ни времени, ни надежды. Мы проиграли.
Помимо счета за жилье, у нее в руках было письмо. Письмо от судоходной компании Фреда Ольсена, доставленное нам стараниями представителя компании в Ванкувере.
Судовладелец Фред Ольсен с семьей сумел вырваться из оккупированной Норвегии. Все его суда теперь были приписаны к конвоям союзников. Из своего нового офиса в Лондоне Ольсен послал телеграмму, что его агент должен найти всех пассажиров компании, застрявших в Ванкувере без малейших шансов вырваться оттуда. К тому же, мне полагался заем на сумму, необходимую, чтобы дожить до окончания войны.
Мне казалось, что я вижу чудесный сон. Жизнь продолжалась! Радость и благодарность переполняли меня, но я не хотел быть неблагодарным и попросил всего пятьдесят долларов в месяц. Даже в те времена это была весьма скромная сумма, но мы уже убедились на собственном опыте, что доллар состоит из ста центов. А три сладкие булочки мы купили на последние тридцать.
С новыми силами я сел за работу и вскоре закончил две статьи на английском языке. Одну, строго научную, я послал в «Интернэшнл Сайенс», вторую, научно-популярную, — в «Нэшнл Джиографик». Обе были приняты, а из «Нэшнл Джиографик» мне пришел чек на двести долларов. Вскоре после этого Лив положили в родильный дом, и деньги очень пригодились для нее и для новорожденного Бьёрна. Между собой мы прозвали его Бамсе в честь медвежонка, которого мы как-то видели в долине Белла Кула, когда он карабкался на дерево с маргариткой в зубах.
 Впрочем, беззаботная жизнь в долине Белла Кула осталась в прошлом. Начиналась другая, совсем непохожая. Из Оттавы мне пришло разрешение на работу, и благодаря отцу одного знакомого студента из Норвегии у меня появились и работа, и гарант. Господин Роберт Лепсо занимал должность инженера на крупной фабрике в Скалистых горах. До него уродливые заводские корпуса отравляли дымом всю округу, погубив леса и поля до самой американской границы.
Лепсо установил на фабрике систему очистки, и теперь большая часть серы не улетала в небеса, а оказывалась в железнодорожных вагонах и превратилась в солидный источник дохода. Благодаря его протекции меня взяли на фабрику разнорабочим — вот тогда-то я действительно научился катать тачку. В бригаде нас собралось семнадцать человек, и, кажется, мы говорили на семнадцати разных языках. Мы работали ежедневно, и скучать нам не приходилось, потому что каждый день нас ждало новое задание, в то время как все остальные монотонно трудились на конвейере. В первый день меня послали на погрузку мешков с цементом. Я поискал взглядом тележку, но оказалось, что их надо таскать на себе. Когда гигант-поляк взвалил мне на плечи первый мешок, я чуть не упал. Хуже всего было ковылять по узкой доске, ведущей в вагон, в то время как все остальные гоготали и издевались над зеленым новичком. К концу дня я едва мог стоять на ногах, а все тело болело так, что я едва сумел раздеться.
Назавтра мне не пришлось таскать мешки. Для цемента нашлись большие емкости.
— Иди-ка сюда, Мак, — крикнул бригадир. — Для тебя есть работенка получше.
Я вежливо объяснил, что меня зовут не Мак, а Тур.
— Мне наплевать, как тебя зовут, — ответил он. — Для меня ты Мак.
«Работенка получше» заключалась в том, чтобы забрасывать цемент в огромный вращающийся барабан. Мы выстроились вереницей, и каждому в тележку высыпали по мешку цемента. Весь фокус заключался в том, чтобы, не отставая от предыдущего и не мешая последующему, подняться по узкой доске к жерлу барабана, высыпать туда содержимое тачки и налегке вернуться за новой порцией. Двигаться надо было в едином ритме и с такой скоростью, что пот заливал глаза, а напряжение хотелось сорвать на ком-нибудь. Несколько раз я делал шаг назад, чтобы разогнать тачку и подняться наверх по доске, и каждый раз сзади неслась ругань, что я сбиваю всех с ритма. После полудюжины кругов я так устал, что оступился и высыпал на землю все, что было в тачке. Бригадир с воплями бросился ко мне, но тут как раз объявили перекур — на этой работе он полагался каждые пятнадцать минут. Пока остальные затягивались вонючими сигаретами, я быстро убрал следы своей оплошности и растянулся во весь рост, наслаждаясь мгновениями отдыха.
Но зато я никогда не ел с таким аппетитом, как в те дни.
Всем известно, что голод — лучший повар. Но услуги этого повара невозможно купить.
Как любой обеспеченный человек, я люблю устроиться поудобнее и наслаждаться какими-нибудь деликатесами, вроде устриц или икры, запивая их бокалом шампанского или просто сухого мартини. Но ничто не сотрет в моей памяти восхитительные обеды в «Консолидированной рудодобывающей и рудоплавильной компании», когда мы падали на кирпичи и доставали бутерброды с маслом и сыром и бутылку холодного шоколадного молока.
Физическая работа тяжело дается тем, кто использует свою мускульную силу от случая к случаю. На третий день я почувствовал себя значительно лучше. У меня появилась уверенность в себе, и я стал меньше уставать. Но это приятное состояние длилось недолго. Бригадир направил меня и еще одного парня на менее тяжелую работу. Какой-то всезнайка шепнул, что нас, скорее всего, пошлют чистить какие-то огромные баки — адская процедура, которую делают раз в пять лет.
Нам выдали скребки на длинных ручках и высокие резиновые сапоги, доходившие до паха. Прежде чем спуститься внутрь, нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае не потеряли равновесие. На дне бака скопилась серная кислота. Стоило нам поскользнуться и упасть, как кислота в мановение ока проела бы и одежду, и кожу, и плоть.
Когда я спустился в темное чрево бака, то прежде чем отпустить лестницу, я потрогал дно ногой. Его покрывал толстый слой слизи, скользкой, как мыло. Со всей осторожностью мы сделали первые шаги, в то время как бригадир, свесившись в горловину бака, выкрикивал команды. Впрочем, из-за эха мы не могли разобрать ни слова. Однако мы поняли, что кислотные отложения надо выгребать через отверстие в дальнем углу бака. То была жуткая работа. Широко расставив ноги, мы медленно скользили по направлению к отверстию, скребками гоня перед собой отвратительную субстанцию и одновременно опираясь на них для равновесия. Стоило нажать на ручку чуть сильнее, как нас тут же отбрасывало назад, а потеря равновесия означала падение в смертельную жижу. Порой мне начинало казаться, что я по недоразумению попал в котелок к гигантским людоедам.
Потом меня ждали и более сложные задания. Например, я чистил топку плавильной печи. Наша фабрика в основном специализировалась на выплавке металлов и выполняла некоторые экспериментальные задания. На внутренней стороне некоторых печей образовался нагар, и я, вооружившись отбойным молотком и зубилом, полез его отчищать. Внутри было пыльно и темно, поэтому мне дали респиратор и фонарь. Как только я начал колотить по стенам топки, мне сразу же вспомнилось мое собственное описание современной цивилизации — грязь, шум и нездоровая атмосфера. Все это в самой что ни на есть концентрированной форме окружало меня сейчас. Отбойный молоток грохотал, как сотня пушек, я задыхался от пыли и духоты, пот заливал мне глаза — было от Чего сойти с ума. Я не мог расслышать даже собственного голоса, но я отчетливо помню, как при каждом оглушительном ударе по железной стене я выкрикивал одни и те же слова:
— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Когда мои мучения, наконец, закончились и я выполз на свет божий, я поразился: почему тысячи и тысячи фермеров добровольно оставляют свои поля и приезжают в города, где их ждет работа, подобная этой? Как можно променять чистый сельский воздух и здоровую жизнь на безумное поклонение золотому тельцу современности — бездушным машинам? Но некоторое время спустя, смыв под душем грязь с тела и ожесточение с души, я все же пришел к выводу, что возвращение назад к природе тоже не дает ответа на все вопросы.
Бывали на фабрике занятия и полегче. Каждое утро после развода — на работу оставалась небольшая группа не-востребованных счастливцев. Их посылали чистить бывшие старые кирпичи. Мы рассаживались, клали по кирпичу на колени и принимались сбивать с них остатки засохшего раствора. Потом очищенные кирпичи складывались в аккуратные стопки, а мусор и обломки выносились на помойку. С каждым днем мы все глубже вгрызались в огромную гору необработанных кирпичей, а чистые научились складывать таким образом, чтобы они скрывали нас от бдительного ока начальства.
Мои коллеги относились к тому социальному слою, с которым я раньше практически никогда не общался. Вопреки ожиданиям, они не так уж и отличались от бизнесменов и ученых. Большинство из них на своем опыте познакомились с безработицей, и только война, породившая новые вакансии, позволила им, наконец, найти работу. Больше всего мне нравились так называемые «бродяги» — их отличала столь понятная мне тяга к путешествиям и замечательное чувство юмора. Каждому из них довелось объездить на поезде всю Канаду и большую часть США, причем подчас в товарных вагонах, а то и под вагонами.
Со временем даже с нашим суровым бригадиром у нас установилось взаимопонимание. Более того, он стал мне симпатичен. Что с того, что ему было наплевать, как меня звали на самом деле? Ведь его настоящего имени тоже никто не знал, только прозвище — «Секретный». «Почему „Секретный“? Потому что никто никогда не видел его отца», — объяснили мне. В гневе он переходил на итальянский. Насколько он умен от природы, я понял, когда выяснил, что он не умеет читать. Дело было так. На моих глазах кто-то дал ему записку. «Секретный» не глядя сунул ее в нагрудный карман рубашки. Когда он думал, что его никто не видит, он засунул обе руки в бочку с чем-то липким, а потом подошел ко мне и попросил достать у него из кармана и прочитать записку, потому что, дескать, у него все руки грязные. Больше всего он любил управлять маленьким паровозиком, который ходил по территории завода. Знаки и надписи вроде «Стоп», «Тихий ход» он запомнил по их внешнему виду и никогда не путал.
Наверное, ради моего же собственного блага он послал меня работать на крыше нового заводского цеха. Он видел, как я ненавижу едкий вонючий дым, обволакивавший нашу фабрику. Ежедневно тяжелое облако пыли, дыма и ядовитого пара сползало в долину, где в маленьком городке Трайл жили наши рабочие. Только заводская аристократия имела возможность поселиться на близлежащем плато, находившемся вровень с корпусами. Там был чистый воздух, красивые дома и зеленые лужайки. Я же решил, что лучше подольше добираться до работы, чем рисковать здоровьем своих близких, и снял комнату в местечке Росланд, куда не доходил насыщенный серой дым фабричных труб. Этот опасный для здоровья дым долетал даже до американской территории. В конце концов, американцы обратились в суд и выиграли дело. На фабрике поставили фильтры, но полностью искоренить угрозу не удалось. Все рабочие со стажем болели силикозом из-за отложений, годами накапливавшихся у них в легких. Помню, как-то после работы один из них, худой как тростинка, повернул ко мне свое бледное лицо и печально пошутил: «День прошел. Мы стали на доллар богаче и на шаг ближе к могиле».
Свежий воздух — это прекрасно, но я был отнюдь не счастлив, когда «Секретный» послал меня карабкаться по шатким лестницам и ненадежным доскам на крыше строящегося здания. Не помню сейчас, сколько там было этажей, шесть или восемь, но отчетливо помню свежесть воздуха в разгар канадской зимы на высоте 1400 метров над уровнем моря посреди Скалистых гор. К тому же, я побаивался высоты. В годы учебы я едва не свалился в километровую пропасть в районе долины Ромсдаль. И теперь мне предстояло лежать на животе на краю крутой крыши, головой вниз, и прибивать гвоздями рубероид. Крыша была необъятная, а гвоздей — просто видимо-невидимо. Меня определили в подручные к опытному кровельщику. Он спокойно ходил по крыше во весь рост и мазал расплавленным асфальтом края листов рубероида, чтобы следующий слой намертво прилипал к предыдущему. Постепенно мы отходили все дальше и дальше от опасного карниза, и я мог уже обращать внимание на что-то еще — в частности, я обратил внимание на жуткий холод и пронизывающий ветер. К счастью, мой тезка Мак, варивший для нас асфальт на земле, оказался парнем опытным. Каждый раз, когда я спускался с пустым ведром за новой порцией асфальта, он давал мне по нескольку горячих кирпичей, завернутых в тряпку. Я совал один такой кирпич себе под спецовку, а когда он остывал, менял его на новый.
Но потом «Секретный» вспомнил, что я умею писать, и моей верхолазной эпопее пришел конец. Мне вручили карандаш и толстую амбарную книгу и поставили рядом с плавильной печью, одной из тех, которые я так хорошо знал как снаружи, так и изнутри. Кому-то из инженеров понадобился письменный отчет. Он потребовал, чтобы наш бригадир фиксировал показания термометра, когда начинала плавиться руда, отмечал движение магмы и цветовую структуру плавящейся массы. Естественно, «Секретный» перепоручил это дело мне, а в конце каждого рабочего дня забирал мои записи и передавал их далее по команде. Причем всякий раз он внимательно смотрел на заполненную страницу и глубокомысленно изрекал. «Неплохо. Очень неплохо».
Как-то раз я решил убедиться, что он действительно не умеет читать. Я дал ему книгу вверх ногами. Он не стал ее переворачивать.
— Неплохо. Очень неплохо.
Но однажды инженер явился лично и изъявил желание посмотреть, кто пишет отчеты. «Секретный» вынужден был представить ему своего помощника. «Хорошо пишешь», — сказал инженер, и я получил повышение. Бригадиру пришлось искать мне замену. К счастью, в бригаде нашлись другие грамотеи.
А я стал контролером на недавно построенной фабрике по производству магния. Я понятия не имел, в чем суть происходившего на ней процесса, знал только, что мы делаем магниевый порошок, очень нужный для победы над нацистами.
Моя новая работа длилась недолго. В один прекрасный день, когда наш автобус подъехал к проходной, фабрики на месте не оказалось. На ее месте громоздилась груда бесформенного железа. Оказалось, что фабрику уничтожило взрывом во время ночной смены. Никогда не забуду рассказ одного из рабочих дневной смены, раньше других оказавшегося на месте катастрофы. Первое, что бросилось ему в глаза, была металлическая балка, на которой висела чья-то оторванная рука.
Так прекратила свое существование фабрика по производству магниевого порошка. Но я получил другую работу.
К тому времени мы уже перебрались в принадлежавший Лепсо летний домик возле озера Эрроу. Цивилизация была далека, под полом у нас жили скунсы, и мне приходилось вставать затемно, под вой койотов, и добираться до работы сначала на велосипеде, потом на лодке, а уж затем на автобусе. Я так и не пробился в число заводской аристократии, но зарабатывал достаточно, чтобы полностью расплатиться за кредит с пароходным агентом в Ванкувере. Затем я купил билет на автобус и отправился через границу, в Нью-Йорк, чтобы в Генеральном консульстве Норвегии предложить свои услуги родной стране.
Королевская семья Норвегии и все правительство нашли убежище в Англии. Там же разместилось и армейское начальство, которое собирало моряков и беженцев из Норвегии, готовых сражаться в одних рядах с союзниками. В ожидании ответа я устроился на временную работу табельщиком в доках Балтимора. Это была непыльная сидячая работенка, которая заключалась в проверке нарядов кто из докеров работал над пропеллером, кто — над корпусом, а кто возводил надстройку строящегося корабля. В то время как другие готовили корабли к спуску на воду, я с чистой совестью мог целыми днями читать книги по американской антропологии. Я посетил двух профессоров в университете Джона Хопкинса и получил от них подробный список литературы по интересовавшему меня вопросу. Оба ученых мужа нашли время, чтобы терпеливо выслушать табельщика из доков, который почему-то прочитал много научных книг. Профессор Рут Бенедикт первой дала мне очень важную подсказку. Очевидно, полинезийцы пришли из региона, где господствовало иерархическое общество, возглавляемое обожествляемым королем-первосвященником. Это было очень существенное наблюдение, связывавшее племена Полинезии с их соседями из Мексики и Перу.
Тем временем я перевез в Штаты Лив с малышами. Бьёрна давно уже следовало окрестить. Вдень, когда мы понесли его в Норвежскую морскую церковь в Балтиморе японцы разбомбили американский флот в гавайской бухте Пирл Харбор. Соединенные Штаты объявили воину Германии и Японии. Я много думал о Терииероо и Теи Тетуа — возможно, на их дома тоже начали сыпаться бомбы.
Конечно, нет ничего хорошего в молчаливых рейдах полинезийских дикарей, когда они убивают дубинками и съедают своих врагов.
Но что бы они сказали, если бы им довелось пережить Пирл Харбор?
Впрочем, беззаботная жизнь в долине Белла Кула осталась в прошлом. Начиналась другая, совсем непохожая. Из Оттавы мне пришло разрешение на работу, и благодаря отцу одного знакомого студента из Норвегии у меня появились и работа, и гарант. Господин Роберт Лепсо занимал должность инженера на крупной фабрике в Скалистых горах. До него уродливые заводские корпуса отравляли дымом всю округу, погубив леса и поля до самой американской границы.
Лепсо установил на фабрике систему очистки, и теперь большая часть серы не улетала в небеса, а оказывалась в железнодорожных вагонах и превратилась в солидный источник дохода. Благодаря его протекции меня взяли на фабрику разнорабочим — вот тогда-то я действительно научился катать тачку. В бригаде нас собралось семнадцать человек, и, кажется, мы говорили на семнадцати разных языках. Мы работали ежедневно, и скучать нам не приходилось, потому что каждый день нас ждало новое задание, в то время как все остальные монотонно трудились на конвейере. В первый день меня послали на погрузку мешков с цементом. Я поискал взглядом тележку, но оказалось, что их надо таскать на себе. Когда гигант-поляк взвалил мне на плечи первый мешок, я чуть не упал. Хуже всего было ковылять по узкой доске, ведущей в вагон, в то время как все остальные гоготали и издевались над зеленым новичком. К концу дня я едва мог стоять на ногах, а все тело болело так, что я едва сумел раздеться.
Назавтра мне не пришлось таскать мешки. Для цемента нашлись большие емкости.
— Иди-ка сюда, Мак, — крикнул бригадир. — Для тебя есть работенка получше.
Я вежливо объяснил, что меня зовут не Мак, а Тур.
— Мне наплевать, как тебя зовут, — ответил он. — Для меня ты Мак.
«Работенка получше» заключалась в том, чтобы забрасывать цемент в огромный вращающийся барабан. Мы выстроились вереницей, и каждому в тележку высыпали по мешку цемента. Весь фокус заключался в том, чтобы, не отставая от предыдущего и не мешая последующему, подняться по узкой доске к жерлу барабана, высыпать туда содержимое тачки и налегке вернуться за новой порцией. Двигаться надо было в едином ритме и с такой скоростью, что пот заливал глаза, а напряжение хотелось сорвать на ком-нибудь. Несколько раз я делал шаг назад, чтобы разогнать тачку и подняться наверх по доске, и каждый раз сзади неслась ругань, что я сбиваю всех с ритма. После полудюжины кругов я так устал, что оступился и высыпал на землю все, что было в тачке. Бригадир с воплями бросился ко мне, но тут как раз объявили перекур — на этой работе он полагался каждые пятнадцать минут. Пока остальные затягивались вонючими сигаретами, я быстро убрал следы своей оплошности и растянулся во весь рост, наслаждаясь мгновениями отдыха.
Но зато я никогда не ел с таким аппетитом, как в те дни.
Всем известно, что голод — лучший повар. Но услуги этого повара невозможно купить.
Как любой обеспеченный человек, я люблю устроиться поудобнее и наслаждаться какими-нибудь деликатесами, вроде устриц или икры, запивая их бокалом шампанского или просто сухого мартини. Но ничто не сотрет в моей памяти восхитительные обеды в «Консолидированной рудодобывающей и рудоплавильной компании», когда мы падали на кирпичи и доставали бутерброды с маслом и сыром и бутылку холодного шоколадного молока.
Физическая работа тяжело дается тем, кто использует свою мускульную силу от случая к случаю. На третий день я почувствовал себя значительно лучше. У меня появилась уверенность в себе, и я стал меньше уставать. Но это приятное состояние длилось недолго. Бригадир направил меня и еще одного парня на менее тяжелую работу. Какой-то всезнайка шепнул, что нас, скорее всего, пошлют чистить какие-то огромные баки — адская процедура, которую делают раз в пять лет.
Нам выдали скребки на длинных ручках и высокие резиновые сапоги, доходившие до паха. Прежде чем спуститься внутрь, нас предупредили, чтобы мы ни в коем случае не потеряли равновесие. На дне бака скопилась серная кислота. Стоило нам поскользнуться и упасть, как кислота в мановение ока проела бы и одежду, и кожу, и плоть.
Когда я спустился в темное чрево бака, то прежде чем отпустить лестницу, я потрогал дно ногой. Его покрывал толстый слой слизи, скользкой, как мыло. Со всей осторожностью мы сделали первые шаги, в то время как бригадир, свесившись в горловину бака, выкрикивал команды. Впрочем, из-за эха мы не могли разобрать ни слова. Однако мы поняли, что кислотные отложения надо выгребать через отверстие в дальнем углу бака. То была жуткая работа. Широко расставив ноги, мы медленно скользили по направлению к отверстию, скребками гоня перед собой отвратительную субстанцию и одновременно опираясь на них для равновесия. Стоило нажать на ручку чуть сильнее, как нас тут же отбрасывало назад, а потеря равновесия означала падение в смертельную жижу. Порой мне начинало казаться, что я по недоразумению попал в котелок к гигантским людоедам.
Потом меня ждали и более сложные задания. Например, я чистил топку плавильной печи. Наша фабрика в основном специализировалась на выплавке металлов и выполняла некоторые экспериментальные задания. На внутренней стороне некоторых печей образовался нагар, и я, вооружившись отбойным молотком и зубилом, полез его отчищать. Внутри было пыльно и темно, поэтому мне дали респиратор и фонарь. Как только я начал колотить по стенам топки, мне сразу же вспомнилось мое собственное описание современной цивилизации — грязь, шум и нездоровая атмосфера. Все это в самой что ни на есть концентрированной форме окружало меня сейчас. Отбойный молоток грохотал, как сотня пушек, я задыхался от пыли и духоты, пот заливал мне глаза — было от Чего сойти с ума. Я не мог расслышать даже собственного голоса, но я отчетливо помню, как при каждом оглушительном ударе по железной стене я выкрикивал одни и те же слова:
— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Когда мои мучения, наконец, закончились и я выполз на свет божий, я поразился: почему тысячи и тысячи фермеров добровольно оставляют свои поля и приезжают в города, где их ждет работа, подобная этой? Как можно променять чистый сельский воздух и здоровую жизнь на безумное поклонение золотому тельцу современности — бездушным машинам? Но некоторое время спустя, смыв под душем грязь с тела и ожесточение с души, я все же пришел к выводу, что возвращение назад к природе тоже не дает ответа на все вопросы.
Бывали на фабрике занятия и полегче. Каждое утро после развода — на работу оставалась небольшая группа не-востребованных счастливцев. Их посылали чистить бывшие старые кирпичи. Мы рассаживались, клали по кирпичу на колени и принимались сбивать с них остатки засохшего раствора. Потом очищенные кирпичи складывались в аккуратные стопки, а мусор и обломки выносились на помойку. С каждым днем мы все глубже вгрызались в огромную гору необработанных кирпичей, а чистые научились складывать таким образом, чтобы они скрывали нас от бдительного ока начальства.
Мои коллеги относились к тому социальному слою, с которым я раньше практически никогда не общался. Вопреки ожиданиям, они не так уж и отличались от бизнесменов и ученых. Большинство из них на своем опыте познакомились с безработицей, и только война, породившая новые вакансии, позволила им, наконец, найти работу. Больше всего мне нравились так называемые «бродяги» — их отличала столь понятная мне тяга к путешествиям и замечательное чувство юмора. Каждому из них довелось объездить на поезде всю Канаду и большую часть США, причем подчас в товарных вагонах, а то и под вагонами.
Со временем даже с нашим суровым бригадиром у нас установилось взаимопонимание. Более того, он стал мне симпатичен. Что с того, что ему было наплевать, как меня звали на самом деле? Ведь его настоящего имени тоже никто не знал, только прозвище — «Секретный». «Почему „Секретный“? Потому что никто никогда не видел его отца», — объяснили мне. В гневе он переходил на итальянский. Насколько он умен от природы, я понял, когда выяснил, что он не умеет читать. Дело было так. На моих глазах кто-то дал ему записку. «Секретный» не глядя сунул ее в нагрудный карман рубашки. Когда он думал, что его никто не видит, он засунул обе руки в бочку с чем-то липким, а потом подошел ко мне и попросил достать у него из кармана и прочитать записку, потому что, дескать, у него все руки грязные. Больше всего он любил управлять маленьким паровозиком, который ходил по территории завода. Знаки и надписи вроде «Стоп», «Тихий ход» он запомнил по их внешнему виду и никогда не путал.
Наверное, ради моего же собственного блага он послал меня работать на крыше нового заводского цеха. Он видел, как я ненавижу едкий вонючий дым, обволакивавший нашу фабрику. Ежедневно тяжелое облако пыли, дыма и ядовитого пара сползало в долину, где в маленьком городке Трайл жили наши рабочие. Только заводская аристократия имела возможность поселиться на близлежащем плато, находившемся вровень с корпусами. Там был чистый воздух, красивые дома и зеленые лужайки. Я же решил, что лучше подольше добираться до работы, чем рисковать здоровьем своих близких, и снял комнату в местечке Росланд, куда не доходил насыщенный серой дым фабричных труб. Этот опасный для здоровья дым долетал даже до американской территории. В конце концов, американцы обратились в суд и выиграли дело. На фабрике поставили фильтры, но полностью искоренить угрозу не удалось. Все рабочие со стажем болели силикозом из-за отложений, годами накапливавшихся у них в легких. Помню, как-то после работы один из них, худой как тростинка, повернул ко мне свое бледное лицо и печально пошутил: «День прошел. Мы стали на доллар богаче и на шаг ближе к могиле».
Свежий воздух — это прекрасно, но я был отнюдь не счастлив, когда «Секретный» послал меня карабкаться по шатким лестницам и ненадежным доскам на крыше строящегося здания. Не помню сейчас, сколько там было этажей, шесть или восемь, но отчетливо помню свежесть воздуха в разгар канадской зимы на высоте 1400 метров над уровнем моря посреди Скалистых гор. К тому же, я побаивался высоты. В годы учебы я едва не свалился в километровую пропасть в районе долины Ромсдаль. И теперь мне предстояло лежать на животе на краю крутой крыши, головой вниз, и прибивать гвоздями рубероид. Крыша была необъятная, а гвоздей — просто видимо-невидимо. Меня определили в подручные к опытному кровельщику. Он спокойно ходил по крыше во весь рост и мазал расплавленным асфальтом края листов рубероида, чтобы следующий слой намертво прилипал к предыдущему. Постепенно мы отходили все дальше и дальше от опасного карниза, и я мог уже обращать внимание на что-то еще — в частности, я обратил внимание на жуткий холод и пронизывающий ветер. К счастью, мой тезка Мак, варивший для нас асфальт на земле, оказался парнем опытным. Каждый раз, когда я спускался с пустым ведром за новой порцией асфальта, он давал мне по нескольку горячих кирпичей, завернутых в тряпку. Я совал один такой кирпич себе под спецовку, а когда он остывал, менял его на новый.
Но потом «Секретный» вспомнил, что я умею писать, и моей верхолазной эпопее пришел конец. Мне вручили карандаш и толстую амбарную книгу и поставили рядом с плавильной печью, одной из тех, которые я так хорошо знал как снаружи, так и изнутри. Кому-то из инженеров понадобился письменный отчет. Он потребовал, чтобы наш бригадир фиксировал показания термометра, когда начинала плавиться руда, отмечал движение магмы и цветовую структуру плавящейся массы. Естественно, «Секретный» перепоручил это дело мне, а в конце каждого рабочего дня забирал мои записи и передавал их далее по команде. Причем всякий раз он внимательно смотрел на заполненную страницу и глубокомысленно изрекал. «Неплохо. Очень неплохо».
Как-то раз я решил убедиться, что он действительно не умеет читать. Я дал ему книгу вверх ногами. Он не стал ее переворачивать.
— Неплохо. Очень неплохо.
Но однажды инженер явился лично и изъявил желание посмотреть, кто пишет отчеты. «Секретный» вынужден был представить ему своего помощника. «Хорошо пишешь», — сказал инженер, и я получил повышение. Бригадиру пришлось искать мне замену. К счастью, в бригаде нашлись другие грамотеи.
А я стал контролером на недавно построенной фабрике по производству магния. Я понятия не имел, в чем суть происходившего на ней процесса, знал только, что мы делаем магниевый порошок, очень нужный для победы над нацистами.
Моя новая работа длилась недолго. В один прекрасный день, когда наш автобус подъехал к проходной, фабрики на месте не оказалось. На ее месте громоздилась груда бесформенного железа. Оказалось, что фабрику уничтожило взрывом во время ночной смены. Никогда не забуду рассказ одного из рабочих дневной смены, раньше других оказавшегося на месте катастрофы. Первое, что бросилось ему в глаза, была металлическая балка, на которой висела чья-то оторванная рука.
Так прекратила свое существование фабрика по производству магниевого порошка. Но я получил другую работу.
К тому времени мы уже перебрались в принадлежавший Лепсо летний домик возле озера Эрроу. Цивилизация была далека, под полом у нас жили скунсы, и мне приходилось вставать затемно, под вой койотов, и добираться до работы сначала на велосипеде, потом на лодке, а уж затем на автобусе. Я так и не пробился в число заводской аристократии, но зарабатывал достаточно, чтобы полностью расплатиться за кредит с пароходным агентом в Ванкувере. Затем я купил билет на автобус и отправился через границу, в Нью-Йорк, чтобы в Генеральном консульстве Норвегии предложить свои услуги родной стране.
Королевская семья Норвегии и все правительство нашли убежище в Англии. Там же разместилось и армейское начальство, которое собирало моряков и беженцев из Норвегии, готовых сражаться в одних рядах с союзниками. В ожидании ответа я устроился на временную работу табельщиком в доках Балтимора. Это была непыльная сидячая работенка, которая заключалась в проверке нарядов кто из докеров работал над пропеллером, кто — над корпусом, а кто возводил надстройку строящегося корабля. В то время как другие готовили корабли к спуску на воду, я с чистой совестью мог целыми днями читать книги по американской антропологии. Я посетил двух профессоров в университете Джона Хопкинса и получил от них подробный список литературы по интересовавшему меня вопросу. Оба ученых мужа нашли время, чтобы терпеливо выслушать табельщика из доков, который почему-то прочитал много научных книг. Профессор Рут Бенедикт первой дала мне очень важную подсказку. Очевидно, полинезийцы пришли из региона, где господствовало иерархическое общество, возглавляемое обожествляемым королем-первосвященником. Это было очень существенное наблюдение, связывавшее племена Полинезии с их соседями из Мексики и Перу.
Тем временем я перевез в Штаты Лив с малышами. Бьёрна давно уже следовало окрестить. Вдень, когда мы понесли его в Норвежскую морскую церковь в Балтиморе японцы разбомбили американский флот в гавайской бухте Пирл Харбор. Соединенные Штаты объявили воину Германии и Японии. Я много думал о Терииероо и Теи Тетуа — возможно, на их дома тоже начали сыпаться бомбы.
Конечно, нет ничего хорошего в молчаливых рейдах полинезийских дикарей, когда они убивают дубинками и съедают своих врагов.
Но что бы они сказали, если бы им довелось пережить Пирл Харбор?



 Если уж искать воплощение воинственного духа, надо обратиться к полинезийцам или индейцам с северо-запада Америки. Они даже избегали пользоваться луком и стрелами, чтобы не отказывать себе в удовольствии заглянуть противнику в глаза, прежде чем хрястнуть его поголове дубинкой такого же образца, что и у него. Мы же предпочитали сбрасывать бомбы на мирные дома в час семейного обеда или запускать от своего порога ракеты, несущие смерть тысячам женщин и детей. Но с другой стороны, мы компенсируем рецидивы собственного варварства тем, что постепенно становимся более гуманными, претворяем в жизнь социальные программы и даже улучшаем условия труда. Лучший пример — мой плавильный заводик в Трайле. Некогда настоящее преддверие ада, царство отравленного дыма и вопиющего неравенства, за последние пятьдесят лет он превратился в образцовое предприятие, на котором работают счастливые люди и даже лес потихоньку возвращается на склоны окружающих холмов.
После наступления мира я так же не хотел становиться профессиональным военным, как не хотел быть профессиональным политиком после того, что я увидел на фабрике в Трайле. Однако, несмотря на то, что я видел, как живут солдаты разных видов войск в разных странах, я пошел по военной стезе. Как и в гражданской жизни, я не сделал захватывающей дух карьеры, но успел побывать в шкуре рядового и офицера. Если бы сейчас мне довелось вновь стоять перед таким же выбором, я предпочел бы трудиться на благо родной страны самостоятельно и независимо от других, нежели влиться в ряды тех, кто носит форму и отдает или получает приказы. По собственному опыту я знаю, что не очень-то мудро поступает тот, кто высказывает свое мнение людям в погонах и начищенных сапогах.
Я попросил направить меня на такой участок, где я мог бы сражаться в тылу врага, среди лесов и гор. К тому же я умею общаться с собаками. В то же время я абсолютно безнадежен в технических областях и даже не умею водить машину, да что машину, я и батарейку в радиоприемнике меняю с трудом.
Меня внимательно выслушали и направили в школу радистов.
В Лондоне было изготовлено специальное телекоммуникационное оборудование, и сейчас оно направлялось в Канаду. Там оно найдет себе применение, когда начнется битва за освобождение Норвегии. В обстановке строжайшей секретности отобрали десять человек, которым предстояло это оборудование использовать. Я оказался в числе этой десятки. По каким-то неясным мне причинам нашей группе присвоили кодовое название «Группа И». В ожидании прибытия оборудования мы изучали волшебные слова «На-аправо, на-алево, кру-угом!» в норвежском тренировочном лагере в Луненберге, в Новой Шотландии. Когда мы научились маршировать, нам выдали авиационное обмундирование и принялись нас учить на воздушных телеграфистов в лагере «Маленькая Норвегия» недалеко от Торонто. Получив удостоверения, что мы еще и корабельные телеграфисты, мы отправились в затерянный в лесах лагерь для летчиков, расположенный на берегу маленького идиллического озера. Там четыре инструктора в армейской форме принялись обучать восемь человек, оставшихся в нашей группе (одетых в форму военно-воздушных сил) всем новейшим премудростям радиодела — от устройства передатчиков со скрытыми антеннами до основ только зарождавшейся телевизионной технологии. Мы бегали по Мускокским лесам со специальными мегафонами и орали «Раз-раз-раз, ты меня слышишь?» — так громко что жители Хантсвилла писали нам записки: «Конечно слышим, и в Гравенхерсте вас слышат тоже».
Если уж искать воплощение воинственного духа, надо обратиться к полинезийцам или индейцам с северо-запада Америки. Они даже избегали пользоваться луком и стрелами, чтобы не отказывать себе в удовольствии заглянуть противнику в глаза, прежде чем хрястнуть его поголове дубинкой такого же образца, что и у него. Мы же предпочитали сбрасывать бомбы на мирные дома в час семейного обеда или запускать от своего порога ракеты, несущие смерть тысячам женщин и детей. Но с другой стороны, мы компенсируем рецидивы собственного варварства тем, что постепенно становимся более гуманными, претворяем в жизнь социальные программы и даже улучшаем условия труда. Лучший пример — мой плавильный заводик в Трайле. Некогда настоящее преддверие ада, царство отравленного дыма и вопиющего неравенства, за последние пятьдесят лет он превратился в образцовое предприятие, на котором работают счастливые люди и даже лес потихоньку возвращается на склоны окружающих холмов.
После наступления мира я так же не хотел становиться профессиональным военным, как не хотел быть профессиональным политиком после того, что я увидел на фабрике в Трайле. Однако, несмотря на то, что я видел, как живут солдаты разных видов войск в разных странах, я пошел по военной стезе. Как и в гражданской жизни, я не сделал захватывающей дух карьеры, но успел побывать в шкуре рядового и офицера. Если бы сейчас мне довелось вновь стоять перед таким же выбором, я предпочел бы трудиться на благо родной страны самостоятельно и независимо от других, нежели влиться в ряды тех, кто носит форму и отдает или получает приказы. По собственному опыту я знаю, что не очень-то мудро поступает тот, кто высказывает свое мнение людям в погонах и начищенных сапогах.
Я попросил направить меня на такой участок, где я мог бы сражаться в тылу врага, среди лесов и гор. К тому же я умею общаться с собаками. В то же время я абсолютно безнадежен в технических областях и даже не умею водить машину, да что машину, я и батарейку в радиоприемнике меняю с трудом.
Меня внимательно выслушали и направили в школу радистов.
В Лондоне было изготовлено специальное телекоммуникационное оборудование, и сейчас оно направлялось в Канаду. Там оно найдет себе применение, когда начнется битва за освобождение Норвегии. В обстановке строжайшей секретности отобрали десять человек, которым предстояло это оборудование использовать. Я оказался в числе этой десятки. По каким-то неясным мне причинам нашей группе присвоили кодовое название «Группа И». В ожидании прибытия оборудования мы изучали волшебные слова «На-аправо, на-алево, кру-угом!» в норвежском тренировочном лагере в Луненберге, в Новой Шотландии. Когда мы научились маршировать, нам выдали авиационное обмундирование и принялись нас учить на воздушных телеграфистов в лагере «Маленькая Норвегия» недалеко от Торонто. Получив удостоверения, что мы еще и корабельные телеграфисты, мы отправились в затерянный в лесах лагерь для летчиков, расположенный на берегу маленького идиллического озера. Там четыре инструктора в армейской форме принялись обучать восемь человек, оставшихся в нашей группе (одетых в форму военно-воздушных сил) всем новейшим премудростям радиодела — от устройства передатчиков со скрытыми антеннами до основ только зарождавшейся телевизионной технологии. Мы бегали по Мускокским лесам со специальными мегафонами и орали «Раз-раз-раз, ты меня слышишь?» — так громко что жители Хантсвилла писали нам записки: «Конечно слышим, и в Гравенхерсте вас слышат тоже».
 Никогда опасность утонуть не была так близка ко мне, как во время поездки на байдарках в Алгонкинском национальном парке. Мы с несколькими другими солдатами внимательно изучили карту обширного лесного массива и наметили места, где можно волоком перетащить лодки из одного озера или реки в другое. Помимо возможности увидеть лосей и медведей, больше всего нас привлекал Большой водопад — место, где потоки воды с ревом устремлялись вниз с огромной высоты и где на наших глазах огромные бревна разлетались на части, словно стеклянные. Согласно карте, нам следовало пройти пятьдесят метров по тропе вдоль русла реки выше водопада и там спустить байдарки на воду. Тропа заканчивалась, упираясь в крутую гору, и поскольку дальше идти было некуда, карта, очевидно, не врала. Мы все считали, что риск слишком велик, поскольку после весеннего половодья течение набрало очень большую силу. Я предложил не искушать судьбу и закончить путешествие, однако Пер и Рулле настаивали, что надо пройти намеченный маршрут до конца. Чтобы не испортить друзьям удовольствие, я подчинился.
У нас хватило ума не выплывать на середину потока. Цепляясь за ветки и сучья руками, мы проводили лодку вдоль берега. Но через несколько сотен метров нашу байдарку подхватило боковое течение, и наших сил не хватило, чтобы удержать ее. Рулле моментально оценил опасность и, не теряя времени, бросился в воду, пока оставался шанс доплыть до берега. Но, прыгая, он сильно качнул байдарку, и я очутился в холодной воде. Я и так был плохим пловцом, а сейчас мне еще мешали зимняя армейская форма и тяжелые ботинки. Ледяной ужас охватил все мое существо. Водопад! Его рев доносился все ближе и ближе. Спасение казалось невозможным. Рулле мчался вдоль берега, как сумасшедший, но течение неумолимо тащило меня к утесу, после падения с которого от меня мало что осталось бы.
Я отчаянно работал руками и ногами, но в глубине души понимал, что у меня не оставалось ни единого шанса добраться до твердой земли. Еще несколько секунд — и я узнаю, что такое смерть и что случается после нее.
Этой мысли оказалось достаточно, чтобы я начал искать в себе — не на небесах, не в других, а именно в себе — ту всемогущую созидательную силу, которую принято называть Богом. Рулле ничем не мог мне помочь — он бежал вдоль берега, безнадежно протягивая ко мне руки, но не приближался ко мне ни на сантиметр.
Внезапно чувство решимости преисполнило все мое существо. С новыми силами я начал медленно, но верно выгребать к берегу под углом к потоку.
Вода неслась все быстрее, водопад грохотал все оглушительнее, но берег перестал удаляться от меня. Рука Рулле почти дотягивалась до меня. Еще немного… Еще… Наконец-то! Наши пальцы переплелись, и через несколько секунд я уже лежал на берегу, абсолютно обессиленный.
Но где же Пер?!
Перевернутая байдарка плясала на волнах у самого края водопада. Огромный камень, к которому ее прибило течением, не давал ей соскользнуть в пучину. Нам удалось ухватиться за нос лодки. Она оказалось на удивление тяжелой. Когда мы, наконец, подтащили ее к берегу, то увидели Пера. Висевший у него на спине рюкзак встал враспор поперек узкой лодки и не дал течению утащить нашего товарища.
Мы освободили его и заметили на противоположном берегу трех великолепных оленей. Величественные животные неподвижно стояли на гребне горы, похожие на каменные изваяния.
— Я думаю, это знак, что мы все втроем выживем в войне, — пробормотал Пер.
Через пару месяцев самолет, в котором он летел, был сбит над Норвегией.
Никогда опасность утонуть не была так близка ко мне, как во время поездки на байдарках в Алгонкинском национальном парке. Мы с несколькими другими солдатами внимательно изучили карту обширного лесного массива и наметили места, где можно волоком перетащить лодки из одного озера или реки в другое. Помимо возможности увидеть лосей и медведей, больше всего нас привлекал Большой водопад — место, где потоки воды с ревом устремлялись вниз с огромной высоты и где на наших глазах огромные бревна разлетались на части, словно стеклянные. Согласно карте, нам следовало пройти пятьдесят метров по тропе вдоль русла реки выше водопада и там спустить байдарки на воду. Тропа заканчивалась, упираясь в крутую гору, и поскольку дальше идти было некуда, карта, очевидно, не врала. Мы все считали, что риск слишком велик, поскольку после весеннего половодья течение набрало очень большую силу. Я предложил не искушать судьбу и закончить путешествие, однако Пер и Рулле настаивали, что надо пройти намеченный маршрут до конца. Чтобы не испортить друзьям удовольствие, я подчинился.
У нас хватило ума не выплывать на середину потока. Цепляясь за ветки и сучья руками, мы проводили лодку вдоль берега. Но через несколько сотен метров нашу байдарку подхватило боковое течение, и наших сил не хватило, чтобы удержать ее. Рулле моментально оценил опасность и, не теряя времени, бросился в воду, пока оставался шанс доплыть до берега. Но, прыгая, он сильно качнул байдарку, и я очутился в холодной воде. Я и так был плохим пловцом, а сейчас мне еще мешали зимняя армейская форма и тяжелые ботинки. Ледяной ужас охватил все мое существо. Водопад! Его рев доносился все ближе и ближе. Спасение казалось невозможным. Рулле мчался вдоль берега, как сумасшедший, но течение неумолимо тащило меня к утесу, после падения с которого от меня мало что осталось бы.
Я отчаянно работал руками и ногами, но в глубине души понимал, что у меня не оставалось ни единого шанса добраться до твердой земли. Еще несколько секунд — и я узнаю, что такое смерть и что случается после нее.
Этой мысли оказалось достаточно, чтобы я начал искать в себе — не на небесах, не в других, а именно в себе — ту всемогущую созидательную силу, которую принято называть Богом. Рулле ничем не мог мне помочь — он бежал вдоль берега, безнадежно протягивая ко мне руки, но не приближался ко мне ни на сантиметр.
Внезапно чувство решимости преисполнило все мое существо. С новыми силами я начал медленно, но верно выгребать к берегу под углом к потоку.
Вода неслась все быстрее, водопад грохотал все оглушительнее, но берег перестал удаляться от меня. Рука Рулле почти дотягивалась до меня. Еще немного… Еще… Наконец-то! Наши пальцы переплелись, и через несколько секунд я уже лежал на берегу, абсолютно обессиленный.
Но где же Пер?!
Перевернутая байдарка плясала на волнах у самого края водопада. Огромный камень, к которому ее прибило течением, не давал ей соскользнуть в пучину. Нам удалось ухватиться за нос лодки. Она оказалось на удивление тяжелой. Когда мы, наконец, подтащили ее к берегу, то увидели Пера. Висевший у него на спине рюкзак встал враспор поперек узкой лодки и не дал течению утащить нашего товарища.
Мы освободили его и заметили на противоположном берегу трех великолепных оленей. Величественные животные неподвижно стояли на гребне горы, похожие на каменные изваяния.
— Я думаю, это знак, что мы все втроем выживем в войне, — пробормотал Пер.
Через пару месяцев самолет, в котором он летел, был сбит над Норвегией.
 Мне дали увольнительную на день, чтобы я показал принцу и принцессе трюки, которые научился делать наш любимец. Принцесса умоляла разрешить ей прокатиться на байдарке. Они видели, как я катался на лодке с медвежонком и как он прыгал в воду и вытягивал байдарку за веревку на берег. Итак, медвежонок Пейк устроился на носу, принцессы Рангильда и Астрид заняли места пассажиров, и я бережно провел свое суденышко мимо причала, на котором сидела с вязанием на коленях их венценосная мать принцесса Марта, а юный принц Харальд возился с кинокамерой. Больше всего на свете Пейк любил мед. Именно намазав палец медом, я завоевал его дружеское расположение при первой встрече. По мере приближения к пристани стрекот королевской камеры все больше напоминал гудение пчелиного улья. Медведь встал в байдарке на задние лапы, и мы, естественно, перевернулись. Я-то часто переплывал через озеро, но я понятия не имел, умеют ли плавать принцессы. Впрочем, все закончилось очень весело — там было так мелко, что мы просто встали на ноги и вышли на берег пешком.
Но самое страшное еще не произошло. Вода стекала с Пейка ручьями, но он направился прямиком к принцессе Марте, встряхнулся, забрызгав все кругом, а потом запустил свои длинные кривые когти прямо в ее почти законченное вязание. Принцесса не уступала, и между ними разгорелось настоящее сражение. К счастью, положение спасла Лив, достав откуда-то кусок медового пирога.
Мне дали увольнительную на день, чтобы я показал принцу и принцессе трюки, которые научился делать наш любимец. Принцесса умоляла разрешить ей прокатиться на байдарке. Они видели, как я катался на лодке с медвежонком и как он прыгал в воду и вытягивал байдарку за веревку на берег. Итак, медвежонок Пейк устроился на носу, принцессы Рангильда и Астрид заняли места пассажиров, и я бережно провел свое суденышко мимо причала, на котором сидела с вязанием на коленях их венценосная мать принцесса Марта, а юный принц Харальд возился с кинокамерой. Больше всего на свете Пейк любил мед. Именно намазав палец медом, я завоевал его дружеское расположение при первой встрече. По мере приближения к пристани стрекот королевской камеры все больше напоминал гудение пчелиного улья. Медведь встал в байдарке на задние лапы, и мы, естественно, перевернулись. Я-то часто переплывал через озеро, но я понятия не имел, умеют ли плавать принцессы. Впрочем, все закончилось очень весело — там было так мелко, что мы просто встали на ноги и вышли на берег пешком.
Но самое страшное еще не произошло. Вода стекала с Пейка ручьями, но он направился прямиком к принцессе Марте, встряхнулся, забрызгав все кругом, а потом запустил свои длинные кривые когти прямо в ее почти законченное вязание. Принцесса не уступала, и между ними разгорелось настоящее сражение. К счастью, положение спасла Лив, достав откуда-то кусок медового пирога.
 Высадившись на норвежской территории, я организовал лагерь ускоренной подготовки для финских добровольцев и одновременно, по заданию Рорхольта, создал цепочку маленьких радиостанций слежения. Однажды Рорхольт получил сообщение от одной из этих станций, что со стороны Нарвика навстречу наступающим норвежским войскам выдвинулась группа норвежских нацистов. Если они обнаружат, сколь малочисленны на самом деле наши силы на этом участке, немцы могут предпринять еще одну атаку в северном направлении, и тогда они сотрут наших с лица земли прежде, чем русские успеют прийти к нам на помощь через заминированную нейтральную полосу.
С благословения русского командования и полковника Даля, я снова отправился за линию фронта. Как раз вовремя под рукой оказался одинокий волк, прапорщик «Петерсен», и вместе с лейтенантом Стабелем, успевшим к тому времени переодеться в норвежскую форму, он присоединился к моей маленькой группе. Снег еще сковывал горные перевалы, и чтобы в третий раз не пробираться через минные поля нейтральной полосы, мы взяли две рыбацкие лодки и отправились морем.
В Батсфьорде мы высадили патруль, который должен был предупредить нас в случае возможного появления вражеских разведчиков. Ни одно судно антигитлеровской коалиции не заходило в эти кишащие минами воды. Здесь по-прежнему курсировали немецкие субмарины. Каждый час я выходил на связь со второй нашей лодкой — она кралась за нами следом вне пределов прямой видимости. Перед отплытием мы договорились встретиться в Хопсейдете, но на подходе к нему у меня появилось дурное предчувствие, будто мы сами идем врагу прямо в руки, и я послал Стабелю, старшему на второй лодке, зашифрованное указание продолжать движение мимо Нордкина и далее в устье длинного фьорда Порсангер. Со стороны этот шаг казался чистым безумием — на западном берегу фьорда располагались немецкие позиции. В том-то и заключался мой расчет — им и в голову не могло прийти, что мы войдем во фьорд прямо у них под носом.
Перед тем, как мы сменили курс, немецкие наблюдатели нас засекли. Ночью три вражеские подлодки высадили в Хопсейдете десант. Пьяные десантники разоружили немногочисленную норвежскую охрану и, как рассказывали позднее очевидцы, арестовали шестерых гражданских, долго допрашивали их и, ничего не добившись, расстреляли. К тому времени мы уже давно шли вдоль восточного берега фьорда Порсангер.
Если в январе, когда я впервые попал на фронт, круглые сутки царила непроглядная полярная ночь, то теперь и ночью было светло как днем. Перед тем, как войти в бесконечно длинный фьорд прямо на виду у немецких позиций, мы, разумеется, погасили бортовые огни, но это был скорее символический жест. В мае ночью на суше и на море отлично видно на многие километры вокруг.
В девять утра мы высадились на берег и обнаружили там невероятные нагромождения колючей проволоки. Кроме того, земля была буквально нашпигована противопехотными минами. Двое несчастных подорвались на мине всего лишь за день до нашего появления. Еще мы нашли два нераскрытых парашюта и разбившийся при падении генератор — их сбросил для нас Рорхольт с одного из самолетов Бальхена. Мы вернулись на лодки и поплыли дальше до Хамнбукта, располагавшегося в самой дальней точке фьорда. Там мы со всеми мерами предосторожности разбили лагерь неподалеку от поселения лапландцев. Когда вечером мы вышли на связь с Рорхольтом, нам сообщили, что немецкие войска в Дании капитулировали.
Мы отметили радостную новость вместе с лапландцами, которые угостили нас своим национальным напитком «клонк». Правда, мы все равно старались не шуметь, поскольку орудия на противоположном берегу фьорда оставались заряженными и никто не мог поручиться, что соседи разделяют наше веселье.
Высадившись на норвежской территории, я организовал лагерь ускоренной подготовки для финских добровольцев и одновременно, по заданию Рорхольта, создал цепочку маленьких радиостанций слежения. Однажды Рорхольт получил сообщение от одной из этих станций, что со стороны Нарвика навстречу наступающим норвежским войскам выдвинулась группа норвежских нацистов. Если они обнаружат, сколь малочисленны на самом деле наши силы на этом участке, немцы могут предпринять еще одну атаку в северном направлении, и тогда они сотрут наших с лица земли прежде, чем русские успеют прийти к нам на помощь через заминированную нейтральную полосу.
С благословения русского командования и полковника Даля, я снова отправился за линию фронта. Как раз вовремя под рукой оказался одинокий волк, прапорщик «Петерсен», и вместе с лейтенантом Стабелем, успевшим к тому времени переодеться в норвежскую форму, он присоединился к моей маленькой группе. Снег еще сковывал горные перевалы, и чтобы в третий раз не пробираться через минные поля нейтральной полосы, мы взяли две рыбацкие лодки и отправились морем.
В Батсфьорде мы высадили патруль, который должен был предупредить нас в случае возможного появления вражеских разведчиков. Ни одно судно антигитлеровской коалиции не заходило в эти кишащие минами воды. Здесь по-прежнему курсировали немецкие субмарины. Каждый час я выходил на связь со второй нашей лодкой — она кралась за нами следом вне пределов прямой видимости. Перед отплытием мы договорились встретиться в Хопсейдете, но на подходе к нему у меня появилось дурное предчувствие, будто мы сами идем врагу прямо в руки, и я послал Стабелю, старшему на второй лодке, зашифрованное указание продолжать движение мимо Нордкина и далее в устье длинного фьорда Порсангер. Со стороны этот шаг казался чистым безумием — на западном берегу фьорда располагались немецкие позиции. В том-то и заключался мой расчет — им и в голову не могло прийти, что мы войдем во фьорд прямо у них под носом.
Перед тем, как мы сменили курс, немецкие наблюдатели нас засекли. Ночью три вражеские подлодки высадили в Хопсейдете десант. Пьяные десантники разоружили немногочисленную норвежскую охрану и, как рассказывали позднее очевидцы, арестовали шестерых гражданских, долго допрашивали их и, ничего не добившись, расстреляли. К тому времени мы уже давно шли вдоль восточного берега фьорда Порсангер.
Если в январе, когда я впервые попал на фронт, круглые сутки царила непроглядная полярная ночь, то теперь и ночью было светло как днем. Перед тем, как войти в бесконечно длинный фьорд прямо на виду у немецких позиций, мы, разумеется, погасили бортовые огни, но это был скорее символический жест. В мае ночью на суше и на море отлично видно на многие километры вокруг.
В девять утра мы высадились на берег и обнаружили там невероятные нагромождения колючей проволоки. Кроме того, земля была буквально нашпигована противопехотными минами. Двое несчастных подорвались на мине всего лишь за день до нашего появления. Еще мы нашли два нераскрытых парашюта и разбившийся при падении генератор — их сбросил для нас Рорхольт с одного из самолетов Бальхена. Мы вернулись на лодки и поплыли дальше до Хамнбукта, располагавшегося в самой дальней точке фьорда. Там мы со всеми мерами предосторожности разбили лагерь неподалеку от поселения лапландцев. Когда вечером мы вышли на связь с Рорхольтом, нам сообщили, что немецкие войска в Дании капитулировали.
Мы отметили радостную новость вместе с лапландцами, которые угостили нас своим национальным напитком «клонк». Правда, мы все равно старались не шуметь, поскольку орудия на противоположном берегу фьорда оставались заряженными и никто не мог поручиться, что соседи разделяют наше веселье.
 Все это очень заинтересовало молодого любознательного президента, и вскоре и он, и его свита стали частыми гостями в простом, но просторном доме, который я построил рядом с пирамидами из глиняных кирпичей, обожженных на солнце.
Ни в Тукумане, ни во всей долине Ламбаене никогда до сих пор не видели столько полицейских и военных в пышных разноцветных мундирах. Ночью они спали вповалку вокруг забора, на крыше, под кустами, в стойле и даже в курятнике. Между Тукумане и президентской спальней протянули шесть километров телефонного кабеля. Когда пришла пора обеда, в промежутке между стеной и нашим длинным столом едва хватило места для всех слуг и музыкантов. Наша скромная местная повариха совсем потерялась в окружении мастеров, которые готовили такие блюда, о каких она никогда и не слышала.
На следующий день рано поутру наш местный шофер Писарро отправился в ближайший город, чтобы к завтраку на столе у президента был его любимый сорт хлеба.
Когда все были наконец готовы к утреннему визиту на пирамиды, Писарро сел за руль большого экспедиционного грузовика и приготовился возглавить колонну. Мы вышли из дома, и президент тут же поинтересовался, на какой машине я поеду. Я указал на свой четырехдверный пикап. Не говоря ни слова, президент подошел к машине и выгнал из-за руля насмерть перепуганного Писарро. Президент указал мне место рядом с собой, завел мотор и тронулся с места. Писарро, который знал — что бы ни случилось, отвечать ему, — набрался смелости и вскочил на заднее сиденье, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Высокопоставленный автолюбитель сорвался с места в тучах песка и пыли, и мотоциклисты его эскорта бросились следом в тщетной попытке нагнать своего патрона. Охранник на воротах успел распахнуть их настежь. К тому времени за воротами собралось все население Тукумане в надежде хоть глазком взглянуть на лидера нации. Каково же было их удивление, когда из ворот выскочил автомобиль, за рулем которого сидел сам президент, а на заднем сиденье, скромно помахивая односельчанам рукой, — их сосед Писарро.
Буквально через несколько недель после визита горячо любимого президента в Перу состоялись перевыборы. Партия АПРА потерпела поражение, и Алану Гарсия пришлось бежать из страны, спасаясь от тюрьмы. Победу же одержал никому не известный человек с ярко выраженными японскими чертами лица. Как и везде в мире, перуанцы перестали доверять обещаниям хорошо известных политиков.
Таким образом, спустя пятьдесят лет после начала экспедиции «Кон-Тики» мне предстояло встретиться в президентском дворце с главой государства, Альберто Фухимори. Всего несколько дней назад он взял штурмом японское посольство, захваченное террористами. Дипломатов продержали в заложниках целых сто двадцать шесть дней. За время, прошедшее после окончания операции, он еще ни разу не показывался на публике. Как и следовало ожидать, нас с послом Норвегии принял политик, находящийся отнюдь не в самом лучшем расположении духа. Президент Фухимори, человек с военной выправкой и каменным выражением лица, предложил нам сесть и указал на стойку с напитками. Обычно официальная обстановка таких визитов довольно быстро уступает место дружескому общению, но на сей раз все держались скованно очень долго. Первая улыбка озарила лицо нашего хозяина только тогда, когда я напомнил ему, что мы уже встречались, и при каких забавных обстоятельствах.
Это случилось несколько лет назад. Я еще не был знаком с Жаклин. В Перу свирепствовала эпидемия холеры, и ходили слухи, что всему виной рыба, которую ловили вдоль побережья. В Тукумане тоже царила мрачная атмосфера. Помощник повара свалился с тифом, а Писарро только-только оправился от приступа холеры. Деревенский священник пригласил меня на прощальный обед. Террористы из банды, называющей себя «Сияющий путь», вывесили свой флаг на одной из пирамид. Священник, отец Педро, начал получать письма, что в его доме заложена бомба, и епископ приказал ему уехать на год из деревни.
Я плотно пообедал козленком и пивом у священника и уже собирался распрощаться, когда зазвучала музыка. Оказывается, от меня ждали, чтобы я открыл танцы. Мне удалось отговориться, поскольку из прибрежной деревни Санта-Роса пришло письмо с обещанием какого-то «сюрприза». Письмо подписал некто Николас, «президент профсоюза рыбаков».
Писарро уже ждал меня в машине. Я пригласил поехать со мной соседку по обеденному столу, местного архитектора. Она проводила все время на наших раскопках и тщательно зарисовывала то, что мы находили. Как и я, она думала, что «сюрприз» будет заключаться в гребле наперегонки. У меня установились замечательные отношения с рыбаками, потому что во многом благодаря моему заступничеству государство стало платить им за их усилия сохранить заросли редкого камыша «тотора». Из него они испокон веков сплетали свои рыбацкие лодочки.
Однако дорога на Санта-Роса оказалась перекрытой полицией, и как ни объяснял Писарро, что я — почетный гость сельчан, нас так и не пропустили. Писарро нашел объездную дорогу, и мы оставили полицейский кордон позади. Все население деревни высыпало на улицы. По главной улице маршировал духовой оркестр, но мы опоздали и не могли присоединиться к шествию. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, я проталкивался сквозь толпу, таща за собой даму-архитектора. Наконец нам удалось протиснуться к самому оркестру, и мы влились в строй марширующих. Оркестр шел сразу за нами, а впереди — только небольшая группа людей. И тут я увидел, что один из них — президент Фухимори собственной персоной. Рядом с ним вышагивал мэр деревни.
Все это очень заинтересовало молодого любознательного президента, и вскоре и он, и его свита стали частыми гостями в простом, но просторном доме, который я построил рядом с пирамидами из глиняных кирпичей, обожженных на солнце.
Ни в Тукумане, ни во всей долине Ламбаене никогда до сих пор не видели столько полицейских и военных в пышных разноцветных мундирах. Ночью они спали вповалку вокруг забора, на крыше, под кустами, в стойле и даже в курятнике. Между Тукумане и президентской спальней протянули шесть километров телефонного кабеля. Когда пришла пора обеда, в промежутке между стеной и нашим длинным столом едва хватило места для всех слуг и музыкантов. Наша скромная местная повариха совсем потерялась в окружении мастеров, которые готовили такие блюда, о каких она никогда и не слышала.
На следующий день рано поутру наш местный шофер Писарро отправился в ближайший город, чтобы к завтраку на столе у президента был его любимый сорт хлеба.
Когда все были наконец готовы к утреннему визиту на пирамиды, Писарро сел за руль большого экспедиционного грузовика и приготовился возглавить колонну. Мы вышли из дома, и президент тут же поинтересовался, на какой машине я поеду. Я указал на свой четырехдверный пикап. Не говоря ни слова, президент подошел к машине и выгнал из-за руля насмерть перепуганного Писарро. Президент указал мне место рядом с собой, завел мотор и тронулся с места. Писарро, который знал — что бы ни случилось, отвечать ему, — набрался смелости и вскочил на заднее сиденье, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Высокопоставленный автолюбитель сорвался с места в тучах песка и пыли, и мотоциклисты его эскорта бросились следом в тщетной попытке нагнать своего патрона. Охранник на воротах успел распахнуть их настежь. К тому времени за воротами собралось все население Тукумане в надежде хоть глазком взглянуть на лидера нации. Каково же было их удивление, когда из ворот выскочил автомобиль, за рулем которого сидел сам президент, а на заднем сиденье, скромно помахивая односельчанам рукой, — их сосед Писарро.
Буквально через несколько недель после визита горячо любимого президента в Перу состоялись перевыборы. Партия АПРА потерпела поражение, и Алану Гарсия пришлось бежать из страны, спасаясь от тюрьмы. Победу же одержал никому не известный человек с ярко выраженными японскими чертами лица. Как и везде в мире, перуанцы перестали доверять обещаниям хорошо известных политиков.
Таким образом, спустя пятьдесят лет после начала экспедиции «Кон-Тики» мне предстояло встретиться в президентском дворце с главой государства, Альберто Фухимори. Всего несколько дней назад он взял штурмом японское посольство, захваченное террористами. Дипломатов продержали в заложниках целых сто двадцать шесть дней. За время, прошедшее после окончания операции, он еще ни разу не показывался на публике. Как и следовало ожидать, нас с послом Норвегии принял политик, находящийся отнюдь не в самом лучшем расположении духа. Президент Фухимори, человек с военной выправкой и каменным выражением лица, предложил нам сесть и указал на стойку с напитками. Обычно официальная обстановка таких визитов довольно быстро уступает место дружескому общению, но на сей раз все держались скованно очень долго. Первая улыбка озарила лицо нашего хозяина только тогда, когда я напомнил ему, что мы уже встречались, и при каких забавных обстоятельствах.
Это случилось несколько лет назад. Я еще не был знаком с Жаклин. В Перу свирепствовала эпидемия холеры, и ходили слухи, что всему виной рыба, которую ловили вдоль побережья. В Тукумане тоже царила мрачная атмосфера. Помощник повара свалился с тифом, а Писарро только-только оправился от приступа холеры. Деревенский священник пригласил меня на прощальный обед. Террористы из банды, называющей себя «Сияющий путь», вывесили свой флаг на одной из пирамид. Священник, отец Педро, начал получать письма, что в его доме заложена бомба, и епископ приказал ему уехать на год из деревни.
Я плотно пообедал козленком и пивом у священника и уже собирался распрощаться, когда зазвучала музыка. Оказывается, от меня ждали, чтобы я открыл танцы. Мне удалось отговориться, поскольку из прибрежной деревни Санта-Роса пришло письмо с обещанием какого-то «сюрприза». Письмо подписал некто Николас, «президент профсоюза рыбаков».
Писарро уже ждал меня в машине. Я пригласил поехать со мной соседку по обеденному столу, местного архитектора. Она проводила все время на наших раскопках и тщательно зарисовывала то, что мы находили. Как и я, она думала, что «сюрприз» будет заключаться в гребле наперегонки. У меня установились замечательные отношения с рыбаками, потому что во многом благодаря моему заступничеству государство стало платить им за их усилия сохранить заросли редкого камыша «тотора». Из него они испокон веков сплетали свои рыбацкие лодочки.
Однако дорога на Санта-Роса оказалась перекрытой полицией, и как ни объяснял Писарро, что я — почетный гость сельчан, нас так и не пропустили. Писарро нашел объездную дорогу, и мы оставили полицейский кордон позади. Все население деревни высыпало на улицы. По главной улице маршировал духовой оркестр, но мы опоздали и не могли присоединиться к шествию. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, я проталкивался сквозь толпу, таща за собой даму-архитектора. Наконец нам удалось протиснуться к самому оркестру, и мы влились в строй марширующих. Оркестр шел сразу за нами, а впереди — только небольшая группа людей. И тут я увидел, что один из них — президент Фухимори собственной персоной. Рядом с ним вышагивал мэр деревни.
 К концу беседы Фухимори несколько расслабился и позволил себе кое-какие человеческие реакции. Мы с послом горячо поблагодарили его за аудиенцию и откланялись. Теперь нам надо было спешить в Национальный музей на открытие выставки фотографий, сделанных во время экспедиции «Кон-Тики» и «Ра». На прощание я из чистого озорства поинтересовался, не почтит ли господин президент мероприятие своим присутствием, и, как и ожидал, получил в ответ кривую ухмылку.
Выставка развернулась в просторном холле музея. Народу собралось очень много, и людям пришлось потесниться, чтобы дать нам пройти. Жаклин ждала нас на подиуме вместе с директором музея и нашим добрым другом генеральным консулом Стимманом. Они уже начали волноваться, что мы опоздаем. Едва толпа успела сомкнуться за нашими спинами, как раздались крики полицейских и рев мотоциклов. Собравшимся опять пришлось расступиться перед прибывшим гостем. Им оказался сам президент Фухимори. Он прямиком направился навстречу директору музея, а тот почтительно проводил его на подиум. Директор был поражен и растерян не меньше остальных.
Таким вот образом президент Фухимори, долгое время державшийся затворником, появился на публике на открытии выставки. Сперва он произнес короткую речь о целях и достижениях нашей экспедиции, а затем торжественно разрезал шелковую ленточку.
Не дожидаясь окончания мероприятия, президент вернулся в свою резиденцию. На самом деле «Кон-Тики» отправился в путешествие от причала военного порта в городке Кальяо. Туда мы все и поехали. В честь годовщины военный исторический институт издал мою небольшую книжку о мореплавании в Перу в доколумбову эпоху. Адмиралтейство организовало торжественную церемонию как раз на том самом месте, где плот был спущен на воду.
Машина генерального консула неслась так быстро, что мы начали опасаться за свою жизнь. Наконец мы миновали ворота порта. Рядом с теми самыми стапелями, по которым спускали на воду «Кон-Тики», выстроился военно-морской оркестр.
Ради такого случая организаторы водрузили небольшую трибуну около стапелей. Ее заполнили офицеры в ослепительно белых мундирах с золотыми погонами и блестящими медалями. Нам с Жаклин отвели места в первом ряду, рядом с адмиралами.
Открывая церемонию, президент Института военной истории адмирал Арроспайд отметил, что именно из этой бухты отправились европейские мореплаватели, которым было суждено открыть острова Тихого океана. После покорения империи инков испанцы узнали от местных ученых, что в океане, в нескольких месяцах пути, лежат острова, о которых европейцам ничего не известно. Историк Сармьенто де Гамбоа собрал настолько полную информацию о местоположении островов, что убедил вице-короля снарядить две экспедиции под командой Альваро де Менданьи и сам принял в них участие. Первая экспедиция добралась до Меланезии в 1567 году. Вторая открыла Полинезию в 1595 году.
Адмирал эффектным жестом указал на памятную табличку, посвященную путешествию Менданьи. Затем он попросил меня сдернуть занавеску с соседней таблички. Она оказалась посвящена экспедиции «Кон-Тики», покинувшего порт Кальяо в 1947 году и достигшим острова ароиа в Полинезии. Оркестр сыграл норвежский и перуанский гимны.
Мой аку-аку, ничем не дававший о себе знать ни во дворце, ни в музее, этого уже вынести не мог.
— Что тебе еще остается желать?
— У меня тоже комок подступил к горлу.
К концу беседы Фухимори несколько расслабился и позволил себе кое-какие человеческие реакции. Мы с послом горячо поблагодарили его за аудиенцию и откланялись. Теперь нам надо было спешить в Национальный музей на открытие выставки фотографий, сделанных во время экспедиции «Кон-Тики» и «Ра». На прощание я из чистого озорства поинтересовался, не почтит ли господин президент мероприятие своим присутствием, и, как и ожидал, получил в ответ кривую ухмылку.
Выставка развернулась в просторном холле музея. Народу собралось очень много, и людям пришлось потесниться, чтобы дать нам пройти. Жаклин ждала нас на подиуме вместе с директором музея и нашим добрым другом генеральным консулом Стимманом. Они уже начали волноваться, что мы опоздаем. Едва толпа успела сомкнуться за нашими спинами, как раздались крики полицейских и рев мотоциклов. Собравшимся опять пришлось расступиться перед прибывшим гостем. Им оказался сам президент Фухимори. Он прямиком направился навстречу директору музея, а тот почтительно проводил его на подиум. Директор был поражен и растерян не меньше остальных.
Таким вот образом президент Фухимори, долгое время державшийся затворником, появился на публике на открытии выставки. Сперва он произнес короткую речь о целях и достижениях нашей экспедиции, а затем торжественно разрезал шелковую ленточку.
Не дожидаясь окончания мероприятия, президент вернулся в свою резиденцию. На самом деле «Кон-Тики» отправился в путешествие от причала военного порта в городке Кальяо. Туда мы все и поехали. В честь годовщины военный исторический институт издал мою небольшую книжку о мореплавании в Перу в доколумбову эпоху. Адмиралтейство организовало торжественную церемонию как раз на том самом месте, где плот был спущен на воду.
Машина генерального консула неслась так быстро, что мы начали опасаться за свою жизнь. Наконец мы миновали ворота порта. Рядом с теми самыми стапелями, по которым спускали на воду «Кон-Тики», выстроился военно-морской оркестр.
Ради такого случая организаторы водрузили небольшую трибуну около стапелей. Ее заполнили офицеры в ослепительно белых мундирах с золотыми погонами и блестящими медалями. Нам с Жаклин отвели места в первом ряду, рядом с адмиралами.
Открывая церемонию, президент Института военной истории адмирал Арроспайд отметил, что именно из этой бухты отправились европейские мореплаватели, которым было суждено открыть острова Тихого океана. После покорения империи инков испанцы узнали от местных ученых, что в океане, в нескольких месяцах пути, лежат острова, о которых европейцам ничего не известно. Историк Сармьенто де Гамбоа собрал настолько полную информацию о местоположении островов, что убедил вице-короля снарядить две экспедиции под командой Альваро де Менданьи и сам принял в них участие. Первая экспедиция добралась до Меланезии в 1567 году. Вторая открыла Полинезию в 1595 году.
Адмирал эффектным жестом указал на памятную табличку, посвященную путешествию Менданьи. Затем он попросил меня сдернуть занавеску с соседней таблички. Она оказалась посвящена экспедиции «Кон-Тики», покинувшего порт Кальяо в 1947 году и достигшим острова ароиа в Полинезии. Оркестр сыграл норвежский и перуанский гимны.
Мой аку-аку, ничем не дававший о себе знать ни во дворце, ни в музее, этого уже вынести не мог.
— Что тебе еще остается желать?
— У меня тоже комок подступил к горлу.






 Моя последняя ночь на острове Пасхи была такая же звездная. Все звезды южного полушария смотрели на меня. Странная все-таки штука — время. Можно одним взглядом охватить все звезды, а ведь между ними тысячи световых лет. Когда мы глядим на самые удаленные звезды, мы погружаемся в самые глубины времени, а когда переводим взгляд на те небесные светила, что находятся ближе к Земле, то становимся на миллионы лет ближе к нашему веку. На своей планете мы видим то, что происходит в данный момент, но частями, фрагментами. И неизвестно, где находится начальная точка времени. Может быть, совсем рядом, но она недоступна нашим взорам. Возможно, будущее хранится в хромосомах, а время вырабатывают некие гены, отвечающие за процесс развития, будь то превращение семени в дерево или планктона в человеческое существо.
Наука выяснила, что давным-давно солнечные лучи вдохнули жизнь в дотоле безжизненные частицы, плававшие в просторах мирового океана. Отсюда начался процесс развития от простейшей клетки к сложным генам и хромосомам и далее, ко всему разнообразию земной природы. Но разве не могло солнце точно так же создать еще и время?
— Ты меня спрашиваешь?
Мне следовало бы догадаться, что аку-аку не упустит появиться в момент, когда у меня на душе царят спокойствие и мир. Кроме всего прочего, именно здесь его родина. На острове Пасхи, когда мы достали из-под земли невиданную прежде коленопреклоненную статуэтку, покойный мэр острова Педро Аттейн и Лазарус сказали мне, что это — мой аку-аку.
Нет, конечно, я и сам знал ответ. Вовсе не современные ученые открыли, что вся жизнь на земле своим существованием обязана солнцу. В древние времена, когда предки христиан поклонялись Ваалу, а предки норвежцев — моему суровому тезке с молотом в руке, другие строили пирамиды в честь бога Солнца. Они-то и знали истину.
Шумеры, хетты и создатели древнейших культур в Египте, в долине Инда поклонялись Солнцу как символу невидимого творца. Когда европейские конкистадоры убивали инков, то была величайшая несправедливость — ведь инки считали себя детьми Солнца, в то время как пришельцы из-за океана привезли с собой крест, предшественник электрического стула, в качестве символа бога любви. Я думаю, если бы сам Христос выбирал символ своей жизни и смерти, а также людского терпения и всепрощения, он остановил бы свой выбор на Солнце, а не на кресте, к которому его приковали палачи.
Во время нашей первой экспедиции на остров Пасхи Эд Фердон обнаружил древнее святилище, Оронго, на вершине вулкана Рано-Као. Он открыл солнечную обсерваторию и каменные барельефы трехмачтовых серповидных лодок из камыша. Рядом с лодками древние художники изобразили свое верховное божество, Маке-маке, с огромными круглыми глазами, олицетворявшими солнечный диск. На Фату-Хива старый Теи Тетуа открыл мне, что Тики — это бог-человек, а создал его Атеа, что значит «свет». Точно такая же связь была между богами древнего Перу Тики, Коном и Виракоча.
Мои размышления о том, что между быстротекущим временем и Солнцем, стоящим у истоков всего, имеется некая связь, столь же не новы, как и самопоклонение Солнцу. В мифологии Полинезии и Перу часто повторяются рассказы о предках, которые пытались захватить солнце, чтобы остановить время. Но эта задача оказалась слишком тяжелой даже для строителей пирамид, и им пришлось ограничиться созданием календаря. Этот календарь, с его годами, месяцами и днями, мы используем до сих пор.
— Быстротечность времени — величайшее благо. Если бы оно остановилось в дни горя и беды, твои мучения никогда бы не кончились. А если бы оно остановилось в момент полного счастья, радость быстро превратилась бы в скуку и тоску.
Аку-аку сказал абсолютную истину. Память так устроена, что она искажает картины прошлого в нашем мозгу. Дар помнить и дар забывать. Искусство пользоваться этими дарами во благо себе и остальным. Способность вычеркнуть из памяти дурное и хранить воспоминания о добром — вот залог счастливой жизни. Я не смог сдержать улыбку при мысли о том, какими беззаботными казались сейчас мне и моим друзьям прошедшие пятьдесят лет. Пятьдесят лет известности, путешествий, приключений, встреч с интересными людьми, пятьдесят лет дружбы, солнечного света, радости, вкусной еды. Все действительно так. Но было и другое. Стоит мне подальше углубиться в закоулки моей памяти, и я буду только рад, что эти годы остались позади.
Помню, какая буря разразилась, когда мы добрались, наконец, до берегов Полинезии, живые и здоровые. И она только усиливалась в последующие годы, по мере того, как я собирал все новые и новые доказательства того, что полинезийцы говорили правду. Они утверждали, что их острова открыли пришельцы с востока, в то время как европейцы, сами, кстати, добравшиеся туда тем же путем, настаивали, что этого не может быть, что освоение Полинезии шло только с запада.
Я всегда рассматривал местные легенды как наиболее надежный источник информации и с опаской относился к общепризнанным научным догмам. Однако я никогда и ничему не верил безоговорочно. Поэтому, когда меня охватывали сомнения, я брался либо за лопату археолога, либо за весло древнего корабля и проверял, правду ли говорят древние сказания.
Еще когда я готовился в библиотеке Крёпелина к поездке на Маркизские острова, я впервые прочитал, что все полинезийцы помещают родину своих праотцов на востоке, а все современные ученые утверждают совершенно обратное. Где бы ни записывали миссионеры прошлого века легенды и сказки полинезийцев, на всем пространстве от Таити до Новой Зеландии, от Самоа до острова Пасхи, везде повторялось одно и то же. В 1827 году миссионер Эллис написал:
Моя последняя ночь на острове Пасхи была такая же звездная. Все звезды южного полушария смотрели на меня. Странная все-таки штука — время. Можно одним взглядом охватить все звезды, а ведь между ними тысячи световых лет. Когда мы глядим на самые удаленные звезды, мы погружаемся в самые глубины времени, а когда переводим взгляд на те небесные светила, что находятся ближе к Земле, то становимся на миллионы лет ближе к нашему веку. На своей планете мы видим то, что происходит в данный момент, но частями, фрагментами. И неизвестно, где находится начальная точка времени. Может быть, совсем рядом, но она недоступна нашим взорам. Возможно, будущее хранится в хромосомах, а время вырабатывают некие гены, отвечающие за процесс развития, будь то превращение семени в дерево или планктона в человеческое существо.
Наука выяснила, что давным-давно солнечные лучи вдохнули жизнь в дотоле безжизненные частицы, плававшие в просторах мирового океана. Отсюда начался процесс развития от простейшей клетки к сложным генам и хромосомам и далее, ко всему разнообразию земной природы. Но разве не могло солнце точно так же создать еще и время?
— Ты меня спрашиваешь?
Мне следовало бы догадаться, что аку-аку не упустит появиться в момент, когда у меня на душе царят спокойствие и мир. Кроме всего прочего, именно здесь его родина. На острове Пасхи, когда мы достали из-под земли невиданную прежде коленопреклоненную статуэтку, покойный мэр острова Педро Аттейн и Лазарус сказали мне, что это — мой аку-аку.
Нет, конечно, я и сам знал ответ. Вовсе не современные ученые открыли, что вся жизнь на земле своим существованием обязана солнцу. В древние времена, когда предки христиан поклонялись Ваалу, а предки норвежцев — моему суровому тезке с молотом в руке, другие строили пирамиды в честь бога Солнца. Они-то и знали истину.
Шумеры, хетты и создатели древнейших культур в Египте, в долине Инда поклонялись Солнцу как символу невидимого творца. Когда европейские конкистадоры убивали инков, то была величайшая несправедливость — ведь инки считали себя детьми Солнца, в то время как пришельцы из-за океана привезли с собой крест, предшественник электрического стула, в качестве символа бога любви. Я думаю, если бы сам Христос выбирал символ своей жизни и смерти, а также людского терпения и всепрощения, он остановил бы свой выбор на Солнце, а не на кресте, к которому его приковали палачи.
Во время нашей первой экспедиции на остров Пасхи Эд Фердон обнаружил древнее святилище, Оронго, на вершине вулкана Рано-Као. Он открыл солнечную обсерваторию и каменные барельефы трехмачтовых серповидных лодок из камыша. Рядом с лодками древние художники изобразили свое верховное божество, Маке-маке, с огромными круглыми глазами, олицетворявшими солнечный диск. На Фату-Хива старый Теи Тетуа открыл мне, что Тики — это бог-человек, а создал его Атеа, что значит «свет». Точно такая же связь была между богами древнего Перу Тики, Коном и Виракоча.
Мои размышления о том, что между быстротекущим временем и Солнцем, стоящим у истоков всего, имеется некая связь, столь же не новы, как и самопоклонение Солнцу. В мифологии Полинезии и Перу часто повторяются рассказы о предках, которые пытались захватить солнце, чтобы остановить время. Но эта задача оказалась слишком тяжелой даже для строителей пирамид, и им пришлось ограничиться созданием календаря. Этот календарь, с его годами, месяцами и днями, мы используем до сих пор.
— Быстротечность времени — величайшее благо. Если бы оно остановилось в дни горя и беды, твои мучения никогда бы не кончились. А если бы оно остановилось в момент полного счастья, радость быстро превратилась бы в скуку и тоску.
Аку-аку сказал абсолютную истину. Память так устроена, что она искажает картины прошлого в нашем мозгу. Дар помнить и дар забывать. Искусство пользоваться этими дарами во благо себе и остальным. Способность вычеркнуть из памяти дурное и хранить воспоминания о добром — вот залог счастливой жизни. Я не смог сдержать улыбку при мысли о том, какими беззаботными казались сейчас мне и моим друзьям прошедшие пятьдесят лет. Пятьдесят лет известности, путешествий, приключений, встреч с интересными людьми, пятьдесят лет дружбы, солнечного света, радости, вкусной еды. Все действительно так. Но было и другое. Стоит мне подальше углубиться в закоулки моей памяти, и я буду только рад, что эти годы остались позади.
Помню, какая буря разразилась, когда мы добрались, наконец, до берегов Полинезии, живые и здоровые. И она только усиливалась в последующие годы, по мере того, как я собирал все новые и новые доказательства того, что полинезийцы говорили правду. Они утверждали, что их острова открыли пришельцы с востока, в то время как европейцы, сами, кстати, добравшиеся туда тем же путем, настаивали, что этого не может быть, что освоение Полинезии шло только с запада.
Я всегда рассматривал местные легенды как наиболее надежный источник информации и с опаской относился к общепризнанным научным догмам. Однако я никогда и ничему не верил безоговорочно. Поэтому, когда меня охватывали сомнения, я брался либо за лопату археолога, либо за весло древнего корабля и проверял, правду ли говорят древние сказания.
Еще когда я готовился в библиотеке Крёпелина к поездке на Маркизские острова, я впервые прочитал, что все полинезийцы помещают родину своих праотцов на востоке, а все современные ученые утверждают совершенно обратное. Где бы ни записывали миссионеры прошлого века легенды и сказки полинезийцев, на всем пространстве от Таити до Новой Зеландии, от Самоа до острова Пасхи, везде повторялось одно и то же. В 1827 году миссионер Эллис написал:
 Но битва с постоянно прибывающими силами противника была еще отнюдь не закончена. Все последующие месяцы я не имел ни единой свободной минуты. Улаф не только обладал отличной коллекцией литературы о Тихом океане, у него еще были самые современные архивы по любой теме, которая могла иметь отношение к моим изысканиям, связанным с Полинезией.
Мы сняли летний домик под Стокгольмом. Ивонна наносила ежедневные визиты в Королевскую библиотеку с карточками из архивов Улафа и возвращалась нагруженная немыслимым количеством книг. Вместе с сестрой она день-деньской барабанила на пишущей машинке, а я резал и склеивал листы моей нескончаемой рукописи. Некоторые из них уже достигали нескольких метров в длину.
Но битва с постоянно прибывающими силами противника была еще отнюдь не закончена. Все последующие месяцы я не имел ни единой свободной минуты. Улаф не только обладал отличной коллекцией литературы о Тихом океане, у него еще были самые современные архивы по любой теме, которая могла иметь отношение к моим изысканиям, связанным с Полинезией.
Мы сняли летний домик под Стокгольмом. Ивонна наносила ежедневные визиты в Королевскую библиотеку с карточками из архивов Улафа и возвращалась нагруженная немыслимым количеством книг. Вместе с сестрой она день-деньской барабанила на пишущей машинке, а я резал и склеивал листы моей нескончаемой рукописи. Некоторые из них уже достигали нескольких метров в длину.



 Михаил Горбачев в детстве искренне верил в необходимость защиты природы. Он рассказывал мне, что он понял это, когда мальчишкой играл в саду возле родительского дома. Однажды в Гааге во время конференции Зеленого Креста мы с ним зашли в синагогу посмотреть на обряды верующих. Потом мы вышли наружу и остановились под раскидистым деревом. Я очень люблю большие деревья. Я указал на крону над нашими головами и признался:
— Вот мой храм.
Он взял меня за руку и прошептал:
— И мой тоже.
Тут я заметил, что рядом стоит раввин, и быстро добавил:
— Но все же следует признать, что существует некая сила, которая воздвигла этот храм.
И мы втроем обменялись рукопожатиями.
Михаил Горбачев в детстве искренне верил в необходимость защиты природы. Он рассказывал мне, что он понял это, когда мальчишкой играл в саду возле родительского дома. Однажды в Гааге во время конференции Зеленого Креста мы с ним зашли в синагогу посмотреть на обряды верующих. Потом мы вышли наружу и остановились под раскидистым деревом. Я очень люблю большие деревья. Я указал на крону над нашими головами и признался:
— Вот мой храм.
Он взял меня за руку и прошептал:
— И мой тоже.
Тут я заметил, что рядом стоит раввин, и быстро добавил:
— Но все же следует признать, что существует некая сила, которая воздвигла этот храм.
И мы втроем обменялись рукопожатиями.







 Бандиты отказались снизить сумму выкупа. Они явно согласовали ее заранее. У нас не было кувейтских денег, но они согласились на иракские, ходившие в этих краях как твердая валюта. Они потребовали, чтобы Рашид перешел на их «дхоу» в качестве заложника. К нам подошла лодка, и я отсчитал купюры в руку одного из них, а тот передал деньги толстому вожаку. Не вставая с подушек, толстяк махнул рукой, и Рашид перепрыгнул на борт «Тигриса».
Моряки бросили фал на «дхоу», и она, совместными усилиями с советской шлюпкой, медленно отбуксировала нас поближе к «Славску». Попрощаться мы не успели — едва мы вышли на глубину, как «дхоу» на полной скорости ушла в сторону мелководья.
Не дожидаясь приказа из Москвы, Игорь взял курс на Бахрейн и не покидал нас до самых территориальных вод этого острова. Дальше путь русской команде был заказан, несмотря на то, что они спасли нам жизнь.
Бандиты отказались снизить сумму выкупа. Они явно согласовали ее заранее. У нас не было кувейтских денег, но они согласились на иракские, ходившие в этих краях как твердая валюта. Они потребовали, чтобы Рашид перешел на их «дхоу» в качестве заложника. К нам подошла лодка, и я отсчитал купюры в руку одного из них, а тот передал деньги толстому вожаку. Не вставая с подушек, толстяк махнул рукой, и Рашид перепрыгнул на борт «Тигриса».
Моряки бросили фал на «дхоу», и она, совместными усилиями с советской шлюпкой, медленно отбуксировала нас поближе к «Славску». Попрощаться мы не успели — едва мы вышли на глубину, как «дхоу» на полной скорости ушла в сторону мелководья.
Не дожидаясь приказа из Москвы, Игорь взял курс на Бахрейн и не покидал нас до самых территориальных вод этого острова. Дальше путь русской команде был заказан, несмотря на то, что они спасли нам жизнь.
 Позже мы отправились на остров Ванкувер, в самое сердце страны индейцев квакиютль. Нас сопровождали два крупнейших в Канаде специалиста по культуре прибрежных индейцев, антрополог Джером Кибульски и археолог Бьёрн Симонсен. Кроме них, с нами ехал индеец племени квакиютль по имени Стэн Уоллес. Джером работал в Национальном музее в Квебеке и был настолько дружен с индейцами — в наши дни они называют себя «Первый народ», что те даже разрешили ему исследовать скелеты своих предков. Археолог Бьёрн представлял в этом районе и власти, и музей, потому что никто лучше него не знал все местные племена, острова, бухты и бухточки. Стэн был восторженный археолог-любитель и незаменимый помощник Джерома.
Мы с Жаклин так устали во время долгой автомобильной поездки на остров Ванкувер, что нас не интересовали ни вышедший на дорогу медведь, ни высеченные на скалах индейские рисунки, ни восхитительные пейзажи. Позади осталась совершенно сумасшедшая неделя, за которую я сразу после приезда из Европы ухитрился побывать в четырех американских университетах. Сперва, облачившись в мантию и академическую шапочку почетного доктора наук, я выступал перед шестью тысячами первокурсников университета штата Мэн. Затем, уже в другой мантии и шапочке, под проливным дождем, я принял еще один почетный диплом от Хартфордского университета. А на следующий день читал лекцию о роли океана в развитии цивилизаций в аудитории музея Пибоди при Йельском университете.
Менее чем через двадцать четыре часа Дон Райан поджидал нас в аэропорту Сиэтла, чтобы отвезти к индейцам квакиютль. Он работал в Лютеранском университете Тихого океана, что в городе Такома. На обратном пути мне предстояло выступать там тоже. Нам хотелось только одного — поскорее добраться до индейцев, которые и были истинной целью нашего путешествия.
Дремучий лес окружал со всех сторон крошечную гостиницу «Приют пионера» на северной оконечности острова Ванкувер, где мы остановились на ночлег. Здесь начинались исконные земли квакиютль, и отныне роль провожатого переходила к Стэну. Сам он поселился неподалеку, у своих родственников в новой индейской резервации Кватсино. Наутро, еще до восхода солнца, он заехал за нами, и мы отправились в Старый Кватсино, где он родился. Мы все сели в просторный и быстрый катер и отправились в путь.
Трудно представить, но даже в Норвегии меньше фьордов и островов, чем в Британской Колумбии. На карте пролив Кватсино напоминает вырезанного из камня человека с длинными распростертыми руками. Головой исполин прижимается к возвышенности на побережье, а длинное узкое тело тянется на запад до самого Тихого океана. Сперва мы причалили в районе головы и позавтракали в Угольном заливе, небольшом городке при заброшенной угольной шахте. После этого на протяжении всего плавания мы больше не встретили никаких признаков присутствия человека, кроме кучек раковин моллюсков возле заброшенных стоянок да нескольких покинутых домов.
Одно из таких зданий оказалось бывшей школой — единственное,что напоминало о старом индейском поселении Кватсино, в котором вырос сын вождя Стэн. От других домов не осталось ни следа. У меня комок встал в горле, когда, пробравшись через кусты, мы оказались на кладбище у кромки леса. Все вокруг было усеяно полусгнившими кусками дерева и испещрено следами медведей. Но посреди этого запустения возвышались хорошо сохранившиеся могильные памятники в форме огромных рыб и плывущих китов. Вырезанные из дерева и раскрашенные, как индейские тотемы, они были закреплены на воткнутых в землю шестах. Только один изображал волка с задранной головой, словно бы воющего на луну. На материке тотемы обычно изображали лесных зверей и птиц — медведей, бобров, а также орлов. Тут преобладали морские твари. На каждом шесте висели гирлянды из почти свежих цветов.
Я не стал задавать никаких вопросов. Здесь нашли покой родные люди, память о которых еще жила.
— Это не идолы, — тихо произнес Стэн. — Чужаки думают, что тотемы предназначались для поклонения или для того, чтобы отпугивать врагов. Но мы, подобно вам, верим в незримого бога. Животные — символы наших родов. По высокому тотему можно узнать историю целого рода.
Мы перекусили на берегу и отправились дальше. Под навесом из сгнивших досок мы обнаружили хорошо сохранившийся череп. Мы не стали ничего трогать — прежде чем взять образец для анализа на ДНК Джером должен был получить разрешение от совета старейшин племени. Позже мы добрались до очаровательного маленького островка. Вдалеке Бьёрн заметил, как что-то белое блестело под солнцем в груде раковин моллюсков, оставшейся после древнего стойбища. Даже Стэн никогда не бывал здесь раньше. Островок покрывала густая растительность, и когда мы пробирались сквозь кустарник, Бьёрн вдруг криком подозвал нас к себе. Под уступом на склоне небольшого холма он обнаружил открытую могилу, в которой под сгнившими бревнами лежало три скелета. Один из черепов, ослепительно белый и прекрасно сохранившийся, отличался очень странной формой. Прибрежные индейцы владели многими видами искусства и обладали совершенным вкусом, вполне в духе современности. Они часто искусственно удлиняли черепа своих новорожденных детей, как это делали представители многих древних цивилизаций. Но ни в одном музее я не видел такого длинного и узкого черепа. Я решил, что нельзя оставлять подобную редкость в заброшенном месте, где за ней не следят ни родственники усопшей красавицы, ни смотрители музея.
Позже Стэн привел нас к себе в гости, в просторный дом на территории новой резервации. При виде красавиц-индианок мои мысли перенеслись от суровых здешних лесов к поросшим пальмами южным островам, омываемым водами этого же океана. На стенах висели фотографии представителей старших поколений. Дедушка Джимми Джамбо и его жена были индейцами из Кватсино, а двоюродный дед в меховой шапке по виду ничем не отличался от вождя племени маори.
Маленький частный самолет доставил нас в северную часть архипелага, и при расставании Стэн достал из кармана небольшую книжку, расписался на ней и протянул ее мне. Подарок назывался «Легенды индейцев квакиютль». В свое время автор книги П. Уитакер записал их со слов отца Стэна, вождя Джеймса Уоллеса. А я-то думал, что мне больше не придется возвращаться к рассказу о Всемирном потопе.
Здесь, вдали от империи шумеров, о приближающемся наводнении узнал не один-единственный правитель, а целый народ. Индейцы соединили шестами все свои каноэ и загрузили их сушеным мясом, рыбой, моллюсками, ягодами и деревянными бочонками с водой. Когда дозорный увидел гигантскую волну и криком оповестил соплеменников об опасности, они в спешке уселись в лодки. Поток поднял их выше уровня гор, и в наступившем хаосе им долго пришлось уворачиваться от стволов вырванных с корнем деревьев и от обломков их собственных домов. Когда вода отступила, индейцы обошли все горы в поисках случайно уцелевших. Некоторые каноэ унесло в открытый океан на верную смерть. Но несколько лодок выбросило на незнакомые берега, и индейцы поселились там и дали начало новым племенам.
Возможно, я потому неизменно внимательно слушаю рассказы так называемых «примитивных народов», что никогда за всю свою жизнь не встретил никого, кто был бы значительно «примитивнее» нас самих. После того, как старец на Фату-Хива поведал мне историю о появлении божественного Кон-Тики, и я сопоставил этот рассказ с легендами индейцев аймара с берегов озера Титикака, я без малейших предубеждений отношусь к преданиям народов, никогда не знавших письменности.
С того самого дня, как я впервые предположил, что архипелаг у берегов Британской Колумбии служил перевалочным пунктом на миграционном пути из Азии в Полинезию, я допускал, что индейцы со здешнего побережья могли помнить нечто важное. Поэтому, как только Стэн передал мне сборник легенд его предков, я сразу почувствовал, что мне в руки попало сокровище.
Я предполагал, что бог-путешественник, сыгравший столь важную роль в культурах Мексики, Перу и всего тихоокеанского бассейна, мог посетить и индейцев квакиютль. Оказывается, они помнили его как «Кане-акелу» или «Кане-аквеа». Стэн произносил его имя: «Кане-келак». Книга содержала множество историй о нем и его деяниях, о том, как удивились индейцы, когда он и его брат пристали к берегу в бухте Сэнд Нек около двух тысяч лет назад. Он совершал удивительные чудеса с помощью двухглавого змея которого он носил вместо пояса и иногда использовал в качестве пращи.
Сказки? Мифы? Разумеется. Но праща применялась только в некоторых уголках Земного шара, а перуанские и мексиканские легенды всегда рисуют прародителя своих культур с пращой в руках. На изображениях доинкского периода, распространенных на побережье Перу, Кон-Тики всегда предстает опоясанным двухглавой змеей.
К тому же, Кане-аквеа индейцев квакиютль, чьим знаком было солнце, слишком уж походил на полинезийского бога света Кане-акеа. Слова «акеа» и «атеа» во всей Полинезии обозначали и свет, и высшее божество. К тому же, полинезийцы чтили могущественного богочеловека по имени Кане. Особенно развит был его культ на Таити, где даже солнце называли «Место, где отдыхает Кане». А солнце, обозначаемое во всей Полинезии словом «ра», на Таити называлось «ла» — сравните с «нала» индейцев квакиютль.
Все эти мысли не давали мне покоя, когда мы с Жаклин, Доном и двумя канадскими археологами попрощались со Стэном и забрались в крохотный самолет.
Мы летели, едва не задевая верхушки деревьев. Внизу проплывали необитаемые берега пролива Хакай, долина Белла Кула, где я жил, когда в Европе разразилась война, затем холодные волны океана. Наконец мы приземлились в Белла Белла, главном поселке индейцев квакиютль.
Нас ждали. Старейшины проводили нас в длинный дом посреди деревни, где за угощением состоялась долгая беседа с патриархами племени. Стены дома украшали тотемы и рисунки животных — покровителей племени, но посреди комнаты стояли компьютеры и факсы.
То была незабываемая встреча. Седая древность и дух современности слились воедино. По крайней мере, половина внимательно изучавших меня лиц живо напоминала мне о Полинезии. Они тоже знали то, что я впервые заметил в 1940 году и на что сразу же обратили внимание капитаны Кук и Ванкувер, очутившись здесь после плавания среди полинезийских островов: здешний «Первый народ» удивительно напоминал чертами лица тех, кто приветствовал европейцев в южной части Тихого океана. Теперь все отмечали это сходство. Представители местного населения уже побывали на Гавайях и не раз принимали гостей с Гавайских островов, Самоа и Новой Зеландии. Индейцы с севера и туземцы с юга общались между собой, как родственники, и чувствовали себя частью одного народа.
Выяснилось, что индейцы квакиютль по-прежнему обладали высоким ораторским мастерством. Их предки не знали письменности, но умели говорить поэтичными образами, далеко превосходившими лучшие образцы красноречия многих других народов. Умение красиво выразить свои мысли высоко ценилось в их обществе. Участники встречи со вниманием и достоинством выслушали мой рассказ о причинах, приведших меня к ним. Время от времени то один, то другой делали абсолютно уместные и продуманные замечания, причем в разговоре участвовали в равной степени как мужчины, так и женщины. Готовясь к нашей встрече, каждый из них расспросил своих старых родственников и теперь мог сообщить нечто интересное. Я не мог не обратить внимание на то, что прибрежные индейцы, после долгих лет прозябания, вступили в новую стадию развития. Когда в 1940 году я жил среди индейцев долины Белла Кула, только один охотник на медведей Клейтон Мак имел свое собственное каноэ, купленное в магазине. Теперь во всех поселках старики учили молодежь, как сделать лодку из ствола кедра и как украсить ее резьбой в традиционном стиле их предков.
Фрэнк, молоденький парнишка, которого на год изгнали из племени на маленький необитаемый островок за то, что он воровал и принимал наркотики, превратился в замечательного мужчину. Именно он возродил традиционные гонки на каноэ вдоль всего побережья, в которых с незапамятных времен участвовали все молодые представители «Первого народа». Позже мы познакомились с кинопродюсером с Полинезии по имени Карен Уильямс, приехавшим снимать гонки. Его отец был маори, а мать родилась на острове Тонга, и она настолько прониклась уверенностью, что именно здесь находится земля ее предков, что после окончания соревнований осталась, чтобы снять другой фильм о сходстве культур.
Много лет назад я вместе со своим двухлетним первенцем Туром сидел на пристани в долине Белла Кула и мечтал когда-нибудь добраться до берегов залива Хакай. С тех пор минуло шестьдесят лет, и я, наконец, оказался близок к осуществлению давнишней мечты, правда, средством передвижения должна была послужить не лодка, а самолет-амфибия. Когда встреча подошла к концу, трое из старейшин так просились присоединиться к экспедиции, что нам пришлось оставить в поселке Дона и Джерома, а вместо них два пожилых индейца и одна их соплеменница столь же почтенных лет заняли места в креслах и пристегнули ремни.
Под серым небом, шарахаясь из стороны в сторону под порывами ветра, мы летели над макушками холмов к долине Белла Кула. Наконец между большими островами заблестела вода пролива Хакай. Мы снизились, на уровне поросших лесом берегов пролетели вдоль всего пролива и, наконец, оказались в открытом океане. Я подумал про себя, что, если кто задумал бы бежать из зажатой меж гор Белла Кула, он не нашел бы лучшего пути в море, нежели через пролив.
Именно в этом я и хотел убедиться. Долина Белла Кула тянулась вдоль длинного узкого залива, окруженного крутыми горами, и уходила далеко в глубь континента. Это была самая большая и цветущая долина на всем побережье. Некогда индейцы племени салиш пришли с юга и захватили ее, тем самым расколов земли квакиютль надвое. Этнологи терялись в догадках, как такое могло произойти. Скорее всего, они незамеченными прокрались со стороны материка. Но я задавался другим вопросом: что случилось с теми, кто вынужден был бежать из долины?
Я надеялся найти остатки старинных поселений на необитаемых берегах пролива. Мы летели над самой водой. Справа возвышался остров Калверт, слева — острова Налау и Хекате.
Пилот посадил самолет в тихом заливчике, защищенном от ветра высоким мысом неподалеку от того места, где залив переходил в открытый океан.
Нас ждал забавный сюрприз. После Белла Белла мы не видели с высоты ни единого дома. Позади остались разбросанные, как в причудливой мозаике, поросшие сплошным лесом бесчисленные острова и островки. Но здесь, где я надеялся найти остатки старинного поселения, стоял недавно построенный дом! Живший в нем в одиночестве человек был удивлен не меньше нашего. Сам он оказался с острова Питкерн в Полинезии, все жители которого являются потомками мятежников с «Баунти». После завершения экспедиции на остров Пасхи я заходил туда на своем исследовательском судне. В тот раз я собрал все мужское население острова и отвез их на поросший лесом необитаемый островок под названием Хендерсон. Им срочно требовалось дерево для поделок, которые они продавали туристам, и только тем и жили. Наш же новый знакомец, оказывается, охранял дом, построенный для туристов, но временно пустовавший до начала летнего сезона.
Я не мог избавиться от чувства разочарования. И тут мой взгляд упал на огромное дерево, рухнувшее неподалеку от стены дома. Между вырванными из земли корнями что-то белело: гора ракушек, отбросы, оставшиеся после древней стоянки! Новый дом оказался построен поверх фундаментов старинного поселения, не замеченного археологами. Вместе с нашими тремя пожилыми спутниками мы отправились в гущу леса и, пробравшись мимо гигантских деревьев, через кусты и беспорядочно разбросанные валуны, наконец, увидели просвет, открывающийся к океану. Еще миг — и мы стояли на широком песчаном пляже, самом красивом пляже, который мне доводилось видеть в Америке. Это была внешняя сторона пролива Хакай.
Мы сели на огромное бревно, выброшенное волнами на берег. Мы наслаждались красотой вида и величием момента. Именно здесь, согласно древним преданиям, в давно ушедшие времена ежегодно устраивали ритуальные собрания индейцы племени квакиютль со всего побережья. Старики рассказали нам, что сюда приплывало на каноэ столько людей, что грохот барабанов разносился далеко над океаном. Они знали такие подробности, будто сами некогда принимали участие в древних таинствах. Еще они рассказали, что в устье пролива ветер и течение достигали порой такой силы, что даже современные рыболовецкие суда сбивались с курса, и им на помощь приходилось высылать спасательные корабли из Виктории.
Мы слушали, как завороженные. Затем, чтобы продемонстрировать бесконечное богатство океана, старые рыбаки подвели нас к отполированному ветром вертикальному камню, стоявшему на краю пляжа, словно гигантская ширма. В испещрявших его поверхность вертикальных трещинах прятались живые морские звезды, разноцветные анемоны и прочая морская живность. Их всех выбросило сюда приливом, и теперь они ждали начала следующего прилива, чтобы вернуться в свои родные океанские глубины. Я чувствовал себя, словно в огромном театре, где лес играл роль задника, песчаный пляж — освещенной огнями рампы сцены, а колышущиеся грохочущие волны были зрителями. Но потом что-то изменилось. Волны снова стали просто волнами, а мы — не более чем маленькой группой людей, сидящих на бревне и думающих, что представление играется для нас. Но мы, дети цивилизации, пришли слишком поздно. Спектакль уже закончился.
И тут я услышал шепот суфлера.
— Тебе больше нравится сидеть здесь и слушать рассказы индейцев, чем самому стоять на кафедре в профессорской мантии и четырехугольной шапочке с кисточкой…
«Слушающий узнает больше, чем говорящий», — ответил я про себя. А ветер и люди, живущие одной жизнью с природой, знают еще много такого, чего не услышишь в университетских аудиториях.
Ученый должен уметь отличать легенды от мифов и использовать и те, и другие. До самого недавнего времени все на здешнем побережье знали легенду об учителе Кане Акеа. Когда же он под тем же самым именем появляется в качестве основателя королевских домов на островах Полинезии, эта легенда наполняет жизнью побелевшие от времени находки археологов и этнологов. И она не становится мифом от того, что современники наделяли настоящего Кане божественными свойствами. То же самое происходило с фараонами, с правителями инков, с японскими императорами и странствующим богом викингов, Одиным.
Настоящий Кане умер, а его мифический образ слился с образом солнца. Но когда и индейцы квакиютль и туземцы на Таити передают из поколения в поколение один и тот же миф, науке стоит призадуматься и признать этот миф культурной параллелью и частью великой головоломки, связанной с миграциями тихоокеанских народов.
Позже мы отправились на остров Ванкувер, в самое сердце страны индейцев квакиютль. Нас сопровождали два крупнейших в Канаде специалиста по культуре прибрежных индейцев, антрополог Джером Кибульски и археолог Бьёрн Симонсен. Кроме них, с нами ехал индеец племени квакиютль по имени Стэн Уоллес. Джером работал в Национальном музее в Квебеке и был настолько дружен с индейцами — в наши дни они называют себя «Первый народ», что те даже разрешили ему исследовать скелеты своих предков. Археолог Бьёрн представлял в этом районе и власти, и музей, потому что никто лучше него не знал все местные племена, острова, бухты и бухточки. Стэн был восторженный археолог-любитель и незаменимый помощник Джерома.
Мы с Жаклин так устали во время долгой автомобильной поездки на остров Ванкувер, что нас не интересовали ни вышедший на дорогу медведь, ни высеченные на скалах индейские рисунки, ни восхитительные пейзажи. Позади осталась совершенно сумасшедшая неделя, за которую я сразу после приезда из Европы ухитрился побывать в четырех американских университетах. Сперва, облачившись в мантию и академическую шапочку почетного доктора наук, я выступал перед шестью тысячами первокурсников университета штата Мэн. Затем, уже в другой мантии и шапочке, под проливным дождем, я принял еще один почетный диплом от Хартфордского университета. А на следующий день читал лекцию о роли океана в развитии цивилизаций в аудитории музея Пибоди при Йельском университете.
Менее чем через двадцать четыре часа Дон Райан поджидал нас в аэропорту Сиэтла, чтобы отвезти к индейцам квакиютль. Он работал в Лютеранском университете Тихого океана, что в городе Такома. На обратном пути мне предстояло выступать там тоже. Нам хотелось только одного — поскорее добраться до индейцев, которые и были истинной целью нашего путешествия.
Дремучий лес окружал со всех сторон крошечную гостиницу «Приют пионера» на северной оконечности острова Ванкувер, где мы остановились на ночлег. Здесь начинались исконные земли квакиютль, и отныне роль провожатого переходила к Стэну. Сам он поселился неподалеку, у своих родственников в новой индейской резервации Кватсино. Наутро, еще до восхода солнца, он заехал за нами, и мы отправились в Старый Кватсино, где он родился. Мы все сели в просторный и быстрый катер и отправились в путь.
Трудно представить, но даже в Норвегии меньше фьордов и островов, чем в Британской Колумбии. На карте пролив Кватсино напоминает вырезанного из камня человека с длинными распростертыми руками. Головой исполин прижимается к возвышенности на побережье, а длинное узкое тело тянется на запад до самого Тихого океана. Сперва мы причалили в районе головы и позавтракали в Угольном заливе, небольшом городке при заброшенной угольной шахте. После этого на протяжении всего плавания мы больше не встретили никаких признаков присутствия человека, кроме кучек раковин моллюсков возле заброшенных стоянок да нескольких покинутых домов.
Одно из таких зданий оказалось бывшей школой — единственное,что напоминало о старом индейском поселении Кватсино, в котором вырос сын вождя Стэн. От других домов не осталось ни следа. У меня комок встал в горле, когда, пробравшись через кусты, мы оказались на кладбище у кромки леса. Все вокруг было усеяно полусгнившими кусками дерева и испещрено следами медведей. Но посреди этого запустения возвышались хорошо сохранившиеся могильные памятники в форме огромных рыб и плывущих китов. Вырезанные из дерева и раскрашенные, как индейские тотемы, они были закреплены на воткнутых в землю шестах. Только один изображал волка с задранной головой, словно бы воющего на луну. На материке тотемы обычно изображали лесных зверей и птиц — медведей, бобров, а также орлов. Тут преобладали морские твари. На каждом шесте висели гирлянды из почти свежих цветов.
Я не стал задавать никаких вопросов. Здесь нашли покой родные люди, память о которых еще жила.
— Это не идолы, — тихо произнес Стэн. — Чужаки думают, что тотемы предназначались для поклонения или для того, чтобы отпугивать врагов. Но мы, подобно вам, верим в незримого бога. Животные — символы наших родов. По высокому тотему можно узнать историю целого рода.
Мы перекусили на берегу и отправились дальше. Под навесом из сгнивших досок мы обнаружили хорошо сохранившийся череп. Мы не стали ничего трогать — прежде чем взять образец для анализа на ДНК Джером должен был получить разрешение от совета старейшин племени. Позже мы добрались до очаровательного маленького островка. Вдалеке Бьёрн заметил, как что-то белое блестело под солнцем в груде раковин моллюсков, оставшейся после древнего стойбища. Даже Стэн никогда не бывал здесь раньше. Островок покрывала густая растительность, и когда мы пробирались сквозь кустарник, Бьёрн вдруг криком подозвал нас к себе. Под уступом на склоне небольшого холма он обнаружил открытую могилу, в которой под сгнившими бревнами лежало три скелета. Один из черепов, ослепительно белый и прекрасно сохранившийся, отличался очень странной формой. Прибрежные индейцы владели многими видами искусства и обладали совершенным вкусом, вполне в духе современности. Они часто искусственно удлиняли черепа своих новорожденных детей, как это делали представители многих древних цивилизаций. Но ни в одном музее я не видел такого длинного и узкого черепа. Я решил, что нельзя оставлять подобную редкость в заброшенном месте, где за ней не следят ни родственники усопшей красавицы, ни смотрители музея.
Позже Стэн привел нас к себе в гости, в просторный дом на территории новой резервации. При виде красавиц-индианок мои мысли перенеслись от суровых здешних лесов к поросшим пальмами южным островам, омываемым водами этого же океана. На стенах висели фотографии представителей старших поколений. Дедушка Джимми Джамбо и его жена были индейцами из Кватсино, а двоюродный дед в меховой шапке по виду ничем не отличался от вождя племени маори.
Маленький частный самолет доставил нас в северную часть архипелага, и при расставании Стэн достал из кармана небольшую книжку, расписался на ней и протянул ее мне. Подарок назывался «Легенды индейцев квакиютль». В свое время автор книги П. Уитакер записал их со слов отца Стэна, вождя Джеймса Уоллеса. А я-то думал, что мне больше не придется возвращаться к рассказу о Всемирном потопе.
Здесь, вдали от империи шумеров, о приближающемся наводнении узнал не один-единственный правитель, а целый народ. Индейцы соединили шестами все свои каноэ и загрузили их сушеным мясом, рыбой, моллюсками, ягодами и деревянными бочонками с водой. Когда дозорный увидел гигантскую волну и криком оповестил соплеменников об опасности, они в спешке уселись в лодки. Поток поднял их выше уровня гор, и в наступившем хаосе им долго пришлось уворачиваться от стволов вырванных с корнем деревьев и от обломков их собственных домов. Когда вода отступила, индейцы обошли все горы в поисках случайно уцелевших. Некоторые каноэ унесло в открытый океан на верную смерть. Но несколько лодок выбросило на незнакомые берега, и индейцы поселились там и дали начало новым племенам.
Возможно, я потому неизменно внимательно слушаю рассказы так называемых «примитивных народов», что никогда за всю свою жизнь не встретил никого, кто был бы значительно «примитивнее» нас самих. После того, как старец на Фату-Хива поведал мне историю о появлении божественного Кон-Тики, и я сопоставил этот рассказ с легендами индейцев аймара с берегов озера Титикака, я без малейших предубеждений отношусь к преданиям народов, никогда не знавших письменности.
С того самого дня, как я впервые предположил, что архипелаг у берегов Британской Колумбии служил перевалочным пунктом на миграционном пути из Азии в Полинезию, я допускал, что индейцы со здешнего побережья могли помнить нечто важное. Поэтому, как только Стэн передал мне сборник легенд его предков, я сразу почувствовал, что мне в руки попало сокровище.
Я предполагал, что бог-путешественник, сыгравший столь важную роль в культурах Мексики, Перу и всего тихоокеанского бассейна, мог посетить и индейцев квакиютль. Оказывается, они помнили его как «Кане-акелу» или «Кане-аквеа». Стэн произносил его имя: «Кане-келак». Книга содержала множество историй о нем и его деяниях, о том, как удивились индейцы, когда он и его брат пристали к берегу в бухте Сэнд Нек около двух тысяч лет назад. Он совершал удивительные чудеса с помощью двухглавого змея которого он носил вместо пояса и иногда использовал в качестве пращи.
Сказки? Мифы? Разумеется. Но праща применялась только в некоторых уголках Земного шара, а перуанские и мексиканские легенды всегда рисуют прародителя своих культур с пращой в руках. На изображениях доинкского периода, распространенных на побережье Перу, Кон-Тики всегда предстает опоясанным двухглавой змеей.
К тому же, Кане-аквеа индейцев квакиютль, чьим знаком было солнце, слишком уж походил на полинезийского бога света Кане-акеа. Слова «акеа» и «атеа» во всей Полинезии обозначали и свет, и высшее божество. К тому же, полинезийцы чтили могущественного богочеловека по имени Кане. Особенно развит был его культ на Таити, где даже солнце называли «Место, где отдыхает Кане». А солнце, обозначаемое во всей Полинезии словом «ра», на Таити называлось «ла» — сравните с «нала» индейцев квакиютль.
Все эти мысли не давали мне покоя, когда мы с Жаклин, Доном и двумя канадскими археологами попрощались со Стэном и забрались в крохотный самолет.
Мы летели, едва не задевая верхушки деревьев. Внизу проплывали необитаемые берега пролива Хакай, долина Белла Кула, где я жил, когда в Европе разразилась война, затем холодные волны океана. Наконец мы приземлились в Белла Белла, главном поселке индейцев квакиютль.
Нас ждали. Старейшины проводили нас в длинный дом посреди деревни, где за угощением состоялась долгая беседа с патриархами племени. Стены дома украшали тотемы и рисунки животных — покровителей племени, но посреди комнаты стояли компьютеры и факсы.
То была незабываемая встреча. Седая древность и дух современности слились воедино. По крайней мере, половина внимательно изучавших меня лиц живо напоминала мне о Полинезии. Они тоже знали то, что я впервые заметил в 1940 году и на что сразу же обратили внимание капитаны Кук и Ванкувер, очутившись здесь после плавания среди полинезийских островов: здешний «Первый народ» удивительно напоминал чертами лица тех, кто приветствовал европейцев в южной части Тихого океана. Теперь все отмечали это сходство. Представители местного населения уже побывали на Гавайях и не раз принимали гостей с Гавайских островов, Самоа и Новой Зеландии. Индейцы с севера и туземцы с юга общались между собой, как родственники, и чувствовали себя частью одного народа.
Выяснилось, что индейцы квакиютль по-прежнему обладали высоким ораторским мастерством. Их предки не знали письменности, но умели говорить поэтичными образами, далеко превосходившими лучшие образцы красноречия многих других народов. Умение красиво выразить свои мысли высоко ценилось в их обществе. Участники встречи со вниманием и достоинством выслушали мой рассказ о причинах, приведших меня к ним. Время от времени то один, то другой делали абсолютно уместные и продуманные замечания, причем в разговоре участвовали в равной степени как мужчины, так и женщины. Готовясь к нашей встрече, каждый из них расспросил своих старых родственников и теперь мог сообщить нечто интересное. Я не мог не обратить внимание на то, что прибрежные индейцы, после долгих лет прозябания, вступили в новую стадию развития. Когда в 1940 году я жил среди индейцев долины Белла Кула, только один охотник на медведей Клейтон Мак имел свое собственное каноэ, купленное в магазине. Теперь во всех поселках старики учили молодежь, как сделать лодку из ствола кедра и как украсить ее резьбой в традиционном стиле их предков.
Фрэнк, молоденький парнишка, которого на год изгнали из племени на маленький необитаемый островок за то, что он воровал и принимал наркотики, превратился в замечательного мужчину. Именно он возродил традиционные гонки на каноэ вдоль всего побережья, в которых с незапамятных времен участвовали все молодые представители «Первого народа». Позже мы познакомились с кинопродюсером с Полинезии по имени Карен Уильямс, приехавшим снимать гонки. Его отец был маори, а мать родилась на острове Тонга, и она настолько прониклась уверенностью, что именно здесь находится земля ее предков, что после окончания соревнований осталась, чтобы снять другой фильм о сходстве культур.
Много лет назад я вместе со своим двухлетним первенцем Туром сидел на пристани в долине Белла Кула и мечтал когда-нибудь добраться до берегов залива Хакай. С тех пор минуло шестьдесят лет, и я, наконец, оказался близок к осуществлению давнишней мечты, правда, средством передвижения должна была послужить не лодка, а самолет-амфибия. Когда встреча подошла к концу, трое из старейшин так просились присоединиться к экспедиции, что нам пришлось оставить в поселке Дона и Джерома, а вместо них два пожилых индейца и одна их соплеменница столь же почтенных лет заняли места в креслах и пристегнули ремни.
Под серым небом, шарахаясь из стороны в сторону под порывами ветра, мы летели над макушками холмов к долине Белла Кула. Наконец между большими островами заблестела вода пролива Хакай. Мы снизились, на уровне поросших лесом берегов пролетели вдоль всего пролива и, наконец, оказались в открытом океане. Я подумал про себя, что, если кто задумал бы бежать из зажатой меж гор Белла Кула, он не нашел бы лучшего пути в море, нежели через пролив.
Именно в этом я и хотел убедиться. Долина Белла Кула тянулась вдоль длинного узкого залива, окруженного крутыми горами, и уходила далеко в глубь континента. Это была самая большая и цветущая долина на всем побережье. Некогда индейцы племени салиш пришли с юга и захватили ее, тем самым расколов земли квакиютль надвое. Этнологи терялись в догадках, как такое могло произойти. Скорее всего, они незамеченными прокрались со стороны материка. Но я задавался другим вопросом: что случилось с теми, кто вынужден был бежать из долины?
Я надеялся найти остатки старинных поселений на необитаемых берегах пролива. Мы летели над самой водой. Справа возвышался остров Калверт, слева — острова Налау и Хекате.
Пилот посадил самолет в тихом заливчике, защищенном от ветра высоким мысом неподалеку от того места, где залив переходил в открытый океан.
Нас ждал забавный сюрприз. После Белла Белла мы не видели с высоты ни единого дома. Позади остались разбросанные, как в причудливой мозаике, поросшие сплошным лесом бесчисленные острова и островки. Но здесь, где я надеялся найти остатки старинного поселения, стоял недавно построенный дом! Живший в нем в одиночестве человек был удивлен не меньше нашего. Сам он оказался с острова Питкерн в Полинезии, все жители которого являются потомками мятежников с «Баунти». После завершения экспедиции на остров Пасхи я заходил туда на своем исследовательском судне. В тот раз я собрал все мужское население острова и отвез их на поросший лесом необитаемый островок под названием Хендерсон. Им срочно требовалось дерево для поделок, которые они продавали туристам, и только тем и жили. Наш же новый знакомец, оказывается, охранял дом, построенный для туристов, но временно пустовавший до начала летнего сезона.
Я не мог избавиться от чувства разочарования. И тут мой взгляд упал на огромное дерево, рухнувшее неподалеку от стены дома. Между вырванными из земли корнями что-то белело: гора ракушек, отбросы, оставшиеся после древней стоянки! Новый дом оказался построен поверх фундаментов старинного поселения, не замеченного археологами. Вместе с нашими тремя пожилыми спутниками мы отправились в гущу леса и, пробравшись мимо гигантских деревьев, через кусты и беспорядочно разбросанные валуны, наконец, увидели просвет, открывающийся к океану. Еще миг — и мы стояли на широком песчаном пляже, самом красивом пляже, который мне доводилось видеть в Америке. Это была внешняя сторона пролива Хакай.
Мы сели на огромное бревно, выброшенное волнами на берег. Мы наслаждались красотой вида и величием момента. Именно здесь, согласно древним преданиям, в давно ушедшие времена ежегодно устраивали ритуальные собрания индейцы племени квакиютль со всего побережья. Старики рассказали нам, что сюда приплывало на каноэ столько людей, что грохот барабанов разносился далеко над океаном. Они знали такие подробности, будто сами некогда принимали участие в древних таинствах. Еще они рассказали, что в устье пролива ветер и течение достигали порой такой силы, что даже современные рыболовецкие суда сбивались с курса, и им на помощь приходилось высылать спасательные корабли из Виктории.
Мы слушали, как завороженные. Затем, чтобы продемонстрировать бесконечное богатство океана, старые рыбаки подвели нас к отполированному ветром вертикальному камню, стоявшему на краю пляжа, словно гигантская ширма. В испещрявших его поверхность вертикальных трещинах прятались живые морские звезды, разноцветные анемоны и прочая морская живность. Их всех выбросило сюда приливом, и теперь они ждали начала следующего прилива, чтобы вернуться в свои родные океанские глубины. Я чувствовал себя, словно в огромном театре, где лес играл роль задника, песчаный пляж — освещенной огнями рампы сцены, а колышущиеся грохочущие волны были зрителями. Но потом что-то изменилось. Волны снова стали просто волнами, а мы — не более чем маленькой группой людей, сидящих на бревне и думающих, что представление играется для нас. Но мы, дети цивилизации, пришли слишком поздно. Спектакль уже закончился.
И тут я услышал шепот суфлера.
— Тебе больше нравится сидеть здесь и слушать рассказы индейцев, чем самому стоять на кафедре в профессорской мантии и четырехугольной шапочке с кисточкой…
«Слушающий узнает больше, чем говорящий», — ответил я про себя. А ветер и люди, живущие одной жизнью с природой, знают еще много такого, чего не услышишь в университетских аудиториях.
Ученый должен уметь отличать легенды от мифов и использовать и те, и другие. До самого недавнего времени все на здешнем побережье знали легенду об учителе Кане Акеа. Когда же он под тем же самым именем появляется в качестве основателя королевских домов на островах Полинезии, эта легенда наполняет жизнью побелевшие от времени находки археологов и этнологов. И она не становится мифом от того, что современники наделяли настоящего Кане божественными свойствами. То же самое происходило с фараонами, с правителями инков, с японскими императорами и странствующим богом викингов, Одиным.
Настоящий Кане умер, а его мифический образ слился с образом солнца. Но когда и индейцы квакиютль и туземцы на Таити передают из поколения в поколение один и тот же миф, науке стоит призадуматься и признать этот миф культурной параллелью и частью великой головоломки, связанной с миграциями тихоокеанских народов.




 В 1986, 1987 и 1988 годах мы предприняли экспедиции на остров Пасхи, чтобы продолжить раскопки и поэкспериментировать с перемещением статуй, установленных в вертикальное положение — ведь недаром местные жители утверждали, будто бы каменные великаны «ходили», переваливаясь с боку на бок. Раскопки под фундаментом храма, построенного легендарным правителем в заливе Анакена, показали, что элегантные стены были сложены в первые годы островной цивилизации и, следовательно, строительная техника была завезена сюда извне. Опыты чехословацкого инженера Павела Павела подтвердили, что если привязать канаты к голове и основанию статуи, то даже небольшое число местных жителей могло передвигать исполина, наклоняя его из стороны в сторону и подталкивая вперед основание.
В 1986, 1987 и 1988 годах мы предприняли экспедиции на остров Пасхи, чтобы продолжить раскопки и поэкспериментировать с перемещением статуй, установленных в вертикальное положение — ведь недаром местные жители утверждали, будто бы каменные великаны «ходили», переваливаясь с боку на бок. Раскопки под фундаментом храма, построенного легендарным правителем в заливе Анакена, показали, что элегантные стены были сложены в первые годы островной цивилизации и, следовательно, строительная техника была завезена сюда извне. Опыты чехословацкого инженера Павела Павела подтвердили, что если привязать канаты к голове и основанию статуи, то даже небольшое число местных жителей могло передвигать исполина, наклоняя его из стороны в сторону и подталкивая вперед основание.

 Кроме показанных здесь двух основных экспедиций, Хейердал побывал в 1937 году на Маркизских островах, в 1953 году на островах Галапагос, много путешествовал вдоль побережья Центральной и Южной Америки.
Кроме показанных здесь двух основных экспедиций, Хейердал побывал в 1937 году на Маркизских островах, в 1953 году на островах Галапагос, много путешествовал вдоль побережья Центральной и Южной Америки.
 К – маршрут Колумба от Африки до Мексиканского залива; Э – маршрут Лейва Эйрикссона из Северо-Западной Европы до северо-восточной части Северной Америки; У – маршрут Урданеты из Индонезии в Северо-Западную Америку и Мексику; С – маршрут Сааведры из Мексики в Микронезию и Индонезию; М – маршрут Менданьц от Андского побережья в Полинезию и Папуа-Меланезию.
К – маршрут Колумба от Африки до Мексиканского залива; Э – маршрут Лейва Эйрикссона из Северо-Западной Европы до северо-восточной части Северной Америки; У – маршрут Урданеты из Индонезии в Северо-Западную Америку и Мексику; С – маршрут Сааведры из Мексики в Микронезию и Индонезию; М – маршрут Менданьц от Андского побережья в Полинезию и Папуа-Меланезию.
 Курс на ближайший тихоокеанский остров, по данным инков. Когда испанцы впервые одолели этот путь, они определили, что его протяженность примерно 600 лиг.
Курс на ближайший тихоокеанский остров, по данным инков. Когда испанцы впервые одолели этот путь, они определили, что его протяженность примерно 600 лиг.
 Изображения судов на сосуде (культура чиму). Суда камышовые, с двойной палубой, на которой стоят мифические рыбаки и герои. Под палубой видна команда и груз. Ноги внизу символизируют движение судов.
Изображения судов на сосуде (культура чиму). Суда камышовые, с двойной палубой, на которой стоят мифические рыбаки и герои. Под палубой видна команда и груз. Ноги внизу символизируют движение судов.
 Чертеж бальсового плота аборигенов северо-западного побережья Южной Америки.
a – 9 бревен основы, бальса; b – 7 поперечин из бальсы. c – палубный настил, d – бамбуковая хижина с камышовой крышей; e – 9 гуар; g, g' – двуногая мачта из мангровой древесины, на мачте рея с прямоугольным хлопчатобумажным парусом. Длина плота до 24-27 метров, ширина до 7,5 – 9 метров. Грузоподъемность 20-25 тонн.
Чертеж бальсового плота аборигенов северо-западного побережья Южной Америки.
a – 9 бревен основы, бальса; b – 7 поперечин из бальсы. c – палубный настил, d – бамбуковая хижина с камышовой крышей; e – 9 гуар; g, g' – двуногая мачта из мангровой древесины, на мачте рея с прямоугольным хлопчатобумажным парусом. Длина плота до 24-27 метров, ширина до 7,5 – 9 метров. Грузоподъемность 20-25 тонн.
 Острова Галапагоские.
Острова Галапагоские.

 История одной аху (аху Э 2 в Винапу), по материалам раскопок в 1955-1956 годах.
1 – аху до начала раскопок (разрез), 2 – в конце раннего периода, реконструкция, 3 – в конце среднего периода, реконструкция, 4 – в конце позднего периода. Появляются погребальные камеры, четкие контуры смазываются.
История одной аху (аху Э 2 в Винапу), по материалам раскопок в 1955-1956 годах.
1 – аху до начала раскопок (разрез), 2 – в конце раннего периода, реконструкция, 3 – в конце среднего периода, реконструкция, 4 – в конце позднего периода. Появляются погребальные камеры, четкие контуры смазываются.
 План пасхальского селения со смежными домами.
План пасхальского селения со смежными домами.
 Положение острова Пасхи по отношению к ближайшим островам Полинезии и побережью Южной Америки. Наглядно видно сколь мала разница в расстоянии до соседей на западе и на востоке.
Положение острова Пасхи по отношению к ближайшим островам Полинезии и побережью Южной Америки. Наглядно видно сколь мала разница в расстоянии до соседей на западе и на востоке.
 Знаки на печатях Индской культуры, смысл неизвестен.
Знаки на печатях Индской культуры, смысл неизвестен.












 Мы подвели его к большой карте, висевшей на стене, и рассказали о нашем плане переплыть Тихий океан на индейском плоту. Он широко раскрыл свои мальчишеские голубые глаза, отчего они стали совершенно круглыми, и все время дергал себя за бороду, слушая наш рассказ. Потом он топнул своей деревянной ногой об пол и потуже затянул ремень.
— Проклятие! Я хотел бы, ребята, отправиться с вами!
Старый путешественник по Гренландии наполнил наши кружки пивом и принялся рассказывать о своей вере в суда первобытных народов, в способность этих людей передвигаться по суше и по морю, применяясь к природным условиям. Ему самому приходилось спускаться на плоту по большим сибирским рекам и, плавая на корабле вдоль арктических берегов, тащить на буксире плоты местных жителей. Рассказывая, он дергал себя за бороду и в заключение выразил уверенность, что мы получим от нашего путешествия большое удовольствие.
Благодаря горячей поддержке Фрейхена дело завертелось с устрашающей скоростью, и вскоре о нем заговорила скандинавская печать. Уже на следующее утро раздался сильный стук в дверь моей комнаты в Доме моряков. Меня звали к телефону в нижний коридор. В результате разговора в тот же вечер Герман и я позвонили у подъезда одного из домов в фешенебельном квартале Нью-Йорка. Нас принял прекрасно одетый молодой человек в лакированных домашних туфлях и шелковом халате поверх синего костюма. Он производил впечатление чуть ли не неженки, когда, прижимая к носу надушенный платок, просил извинения за свою простуду. Однако мы знали, что этот парень прославился в Америке своими подвигами в качестве летчика во время войны. Кроме невозмутимого на вид хозяина, там были еще два энергичных молодых журналиста, обуреваемых жаждой деятельности и идеями. Одного из них мы знали как талантливого корреспондента.
За бутылкой хорошего виски наш хозяин объяснил, что заинтересовался нашей экспедицией. Он предложил раздобыть необходимые средства при условии, что мы примем на себя обязательство писать о путешествии в газеты, а по возвращении совершить поездку по разным городам с лекциями. К концу свидания мы договорились и выпили за успешное сотрудничество между теми, кто финансирует экспедицию и кто участвует в ней. Теперь все экономические проблемы должны были быть разрешены; ими займутся наши компаньоны, и мы можем больше не беспокоиться. Герман и я должны сейчас же приступить к подбору экипажа и снаряжения, построить плот и отправиться в путь до наступления периода штормов.
На следующий день Герман уволился с работы, и мы всерьез взялись за дело. При посредстве Клуба путешественников я уже успел заручиться согласием исследовательской лаборатории материальной части военно-воздушных сил снабдить нас всем, что я попрошу; руководители лаборатории считали, что такая экспедиция, как наша, прекрасно подходит для испытания их снаряжения. Это было хорошее начало.
Теперь наши важнейшие задачи состояли в том, чтобы найти четырех подходящих людей, готовых отправиться с нами на плоту, и раздобыть продовольствие для путешествия.
Подбирать людей, которым предстояло вместе плавать по океану на плоту, нужно было очень тщательно. Иначе после месячного пребывания в открытом море могли бы возникнуть всякие неприятности и ссоры. Я не хотел комплектоватькоманду плота из моряков: они вряд ли знали больше нас о том, как надо управлять плотом, а впоследствии, если бы нам удалось довести дело до конца, могли бы начаться разговоры, что мы достигли успеха, возможно, лишь потому, что были лучшими моряками, чем древние строители плотов в Перу. Все же на плоту следовало иметь одного человека, который умел бы, во всяком случае, пользоваться секстантом и отмечать наш курс на карте; это было необходимо для научных отчетов.
— Я знаю художника, — сказал я Герману. — Это высокий, здоровенный парень, который умеет играть на гитаре и брызжет весельем. Он окончил мореходное училище и несколько раз плавал вокруг света до того, как засел дома с кистью и палитрой. Я знаю его с детства, и мы часто совершали с ним туристские походы по горам на родине. Я напишу ему; я уверен, что он приедет.
— Он вполне подойдет, — согласился Герман, — а затем нам нужен человек, знакомый с радио.
— С радио! — в ужасе воскликнул я, — на черта оно нам сдалось? Ему не место на доисторическом плоту.
— Неверно, это мера предосторожности, которая не повредит вашей теории, если нам не придется посылать сигналы бедствия и просить о помощи. А радио нам понадобится для передачи метеорологических наблюдений и других сведений. К тому же мы не сможем использовать радио для приема предупреждений о штормах, так как для этой части океана таких предупреждений не бывает, а если бы и были, какую пользу смогут они принести нам на плоту?
Его доводы постепенно сломили все мои возражения, которые были основаны главным образом на моей нелюбви ко всяким кнопкам и крутящимся ручкам.
— Как это ни странно, — признался я, — но у меня большие знакомства с людьми, имеющими отношение к радиосвязи на большие расстояния. Во время войны я был зачислен в подразделение радиосвязи — «по специальности», должно быть. Я обязательно напишу Кнуту Хаугланду и Торстейну Робю.
— Вы с ними знакомы?
— Да. С Кнутом я впервые встретился в Англии в 1944 году. Англичане наградили его орденом за участие в парашютном десанте, который предотвратил попытки немцев создать атомную бомбу: он был радистом в группе участников Сопротивления, совершившей диверсионный акт по уничтожению в Рьюкан запасов тяжелой воды[123]. Когда я встретился с ним, он только что вернулся с другой операции в Норвегии; гестапо накрыло его с тайным передатчиком, спрятанным в дымоходе родильного дома в Осло. Нацисты его запеленговали, и все здание было окружено немецкими солдатами с пулеметами против каждой двери. Фемер, начальник гестапо, сам находился во дворе, ожидая, когда приволокут Кнута. Но приволокли его собственных людей. Кнут с помощью револьвера пробился от чердака до подвала, а оттуда — на задний двор и исчез за больничной стеной, преследуемый градом пуль. Я встретился с ним на секретной станции в старинном английском замке, он вернулся для организации подпольной связи между сотней передающих станций в оккупированной Норвегии.
Сам я только что закончил парашютную практику, и мы собирались вместе спрыгнуть в Нордмарке, около Осло. Но как раз в это время русские вступили в район Киркенеса, и небольшой норвежский отряд был направлен из Шотландии в Финмаркен на смену, если можно так выразиться, целой русской армии. И я был послан туда. Там я встретился с Торстейном.
В тех местах была еще настоящая арктическая зима, и северное сияние мерцало на звездном небе над нами. День и ночь стояла кромешная тьма. Когда мы проходили по пепелищам сожженного района Финмаркена, посиневшие от холода и закутанные в меховую одежду, из маленькой хижины, расположенной в горах, вылез веселый парень с голубыми глазами и жесткими светлыми волосами. То был Торстейн Робю. В начале войны он убежал в Англию и прошел там курс обучения; потом его тайно перебросили в Норвегию, куда-то под Тромсё. Он скрывался с маленьким передатчиком где-то вблизи от линкора «Тирпиц» и в течение десяти месяцев ежедневно сообщал в Англию обо всем, что происходило на борту корабля. Он отправлял донесения ночью, присоединяя свой тайный передатчик к приемной антенне, установленной немецким офицером. Его регулярными донесениями и руководствовались английские бомбардировщики, которые в конце концов покончили с «Тирпицем».
Торстейн убежал в Швецию, оттуда опять перебрался в Англию, а затем с новым радиопередатчиком спрыгнул на парашюте в тылу у немцев в пустынном районе Финмаркена. Когда немцы отступили, он оказался у нас в тылу и вышел из своего убежища, чтобы помочь нам своей маленькой радиоустановкой, так как наша мощная радиостанция была выведена из строя миной. Готов держать пари, что и Кнуту и Торстейну надоело сейчас болтаться дома, и оба они будут рады отправиться в небольшую прогулку на деревянном плоту.
— Напишите и предложите им, — посоветовал Герман.
Итак, я написал короткие письма, без всяких прикрас, Эрику, Кнуту и Торстейну:
«Собираюсь переплыть Тихий океан на деревянном плоту в подтверждение теории о том, что острова Южного моря были заселены из Перу. Не хотите ли принять участие? Я гарантирую только бесплатный проезд до Перу и до островов Южного моря и обратно: во время путешествия вы найдете хорошее применение своим техническим талантам. Отвечайте немедленно».
На следующий день от Торстейна пришла такая телеграмма:
«Еду. Торстейн».
Двое других также сообщили о своем согласии.
В качестве шестого участника мы намечали то одного, то другого, но всякий раз возникали какие-нибудь препятствия. Тем временем Герману и мне надо было заняться вопросом о продовольствии. Мы не собирались во время путешествия питаться вяленым мясом лам или сушеными клубнями кумара[124], так как не имели в виду доказать, что когда-то мы сами были индейцами. Мы намеревались испытать возможности и свойства плота инков, его пригодность к плаванию в море и грузоподъемность и выяснить, удастся ли ему — с нами на борту — благополучно переплыть по воле стихий океан и добраться до Полинезии. Наши предшественники индейцы могли, конечно, прожить на плоту на сушеном мясе и рыбе и сушеных клубнях кумара, так как этими продуктами они питались и на берегу. Но мы предполагали выяснить, повторив их путешествие, удавалось ли им во время плавания по океану добывать для себя свежую рыбу и пользоваться дождевой водой. Что касается нашего собственного питания, то я рассчитывал на простой полевой рацион, знакомый нам по войне.
Как раз в это время в Вашингтон приехал новый помощник норвежского военного атташе. Я исполнял обязанности его заместителя, когда он командовал ротой в Финмаркене, и знал, что это был «огненный смерч», который с бешеной энергией брался за решение любой задачи, поставленной перед ним. Бьёрн Рёрхолт принадлежал к тому типу людей, которые чувствуют себя совершенно растерянными, если, покончив с одним трудным делом, они не принимаются сразу за новое.
Я обрисовал ему в письме наше положение и попросил его пустить в ход свой тонкий нюх и разузнать, не найдется ли в управлении снабжения американской армии какого-нибудь человека, с которым можно было бы установить связь. Шансы на успех заключались в том, что военная лаборатория разрабатывала новые полевые рационы, которые мы могли бы испытать, как мы собирались испытать снаряжение для лаборатории военно-воздушных сил.
Два дня спустя Бьёрн позвонил нам по телефону из Вашингтона. Он переговорил в отделе внешних связей американского военного министерства, и там были не прочь узнать, в чем дело. С ближайшим поездом Герман и я выехали в Вашингтон.
Мы застали Бьёрна в его кабинете в военной миссии.
— Думаю, все будет в порядке, — сказал он. — Нас примут в отделе внешних связей завтра, как только мы получим соответствующее письмо от полковника.
«Полковник» — это был Отто Мунте-Кос, норвежский военный атташе. Узнав, в чем дело, он отнесся к нам очень доброжелательно и охотно согласился дать соответствующее рекомендательное письмо.
Когда на следующее утро мы пришли за письмом, он неожиданно встал и заявил, что лучше будет поехать ему с нами. В автомобиле полковника мы покатили к Пентагону, самому большому зданию в мире, где находятся управления военного министерства. Полковник и Бьёрн в полной парадной форме сидели спереди, а Герман и я устроились сзади и смотрели сквозь переднее стекло на огромное здание Пентагона, возвышавшееся на площади перед нами. Это грандиозное здание с тридцатью тысячами чиновников и с двадцатью шестью километрами коридоров должно было стать местом предстоящего «совещания по вопросу о плоте» с высокопоставленными представителями военного министерства. Никогда ни раньше, ни впоследствии не казался Герману и мне наш плот таким безнадежно маленьким.
После бесконечных странствий по лестницам и коридорам мы добрались до дверей отдела внешних связей и вскоре, окруженные офицерами в новой, с иголочки, форме, сидели за большим столом красного дерева; председательское место занимал сам начальник отдела внешних связей.
Суровый, широкий в кости офицер со значком Уэст-Пойнтской академии[125], важно восседавший у конца стола, долго не мог сообразить, какое отношение может иметь американское военное министерство к нашему деревянному плоту. Но хорошо продуманная речь полковника и благоприятное впечатление, произведенное нашими ответами на град вопросов, заданных сидевшими вокруг стола офицерами, постепенно склонили его на нашу сторону, и он с интересом прочел письмо из лаборатории снаряжения материальной части военно-воздушных сил. Потом он встал, отдал своему штабу лаконичное распоряжение оказать нам помощь в соответствующих инстанциях и, пожелав нам пока что удачи, покинул комнату, где происходило совещание. Когда дверь за ним закрылась, молодой штабной капитан прошептал мне на ухо:
— Готов держать пари, вы получите все, что вам нужно. Это очень напоминает небольшую военную операцию и вносит какое-то разнообразие в нашу ежедневную канцелярскую рутину мирного времени; к тому же это даст возможность как следует, методически испытать снаряжение.
Отдел связей немедленно договорился о встрече с полковником Льюисом из экспериментальной лаборатории главного интендантского управления, и меня с Германом отвезли туда на автомобиле.
Полковник Льюис оказался приветливым великаном с фигурой спортсмена. Он тотчас вызвал к себе сотрудников, руководивших опытами в различных областях. Все они отнеслись к нам очень дружелюбно и немедленно предложили кучу всякого снаряжения, которое было бы желательно подвергнуть тщательному испытанию. Они превзошли все наши самые смелые ожидания, когда начали перечислять почти все, что только могло нам понадобиться, — от полевых рационов до мази от загара и не боящихся сырости спальных мешков. Затем они повели нас осматривать все эти предметы. Мы пробовали особые рационы в прекрасной упаковке; мы видели спички, которые зажигались и после того, как их опускали в воду, новые образцы примусов и бидоны для воды, резиновые мешки, специальную обувь, кухонную утварь и плававшие ножи и множество других вещей, необходимых для экспедиции.
Я взглянул на Германа. У него был вид примерного мальчика, который ходит с богатой тетей по магазину кондитерских изделий. Высокий полковник шел впереди, демонстрируя все эти восхитительные вещи, а когда обход был закончен, сотрудники лаборатории записали, что нам необходимо и сколько. Я думал, что сражение уже выиграно, и мечтал только о том, чтобы поскорее очутиться у себя в гостинице и, приняв горизонтальное положение, спокойно и мирно все обдумать. Тут высокий приветливый полковник неожиданно произнес:
— Ну, теперь надо пойти потолковать с шефом; он должен решить, можем ли мы дать вам все это.
Я почувствовал, что у меня оборвалось сердце. Итак, мы должны опять начать все сначала и снова пустить в ход свое красноречие, а одно небо знает, что за тип этот «шеф».
Оказалось, что шеф был офицер небольшого роста, державшийся чрезвычайно серьезно. Когда мы вошли к нему, он, сидя за письменным столом, окинул нас проницательным взглядом своих голубых глаз. Он предложил нам сесть.
— Ну, что хотят эти господа? — резко спросил он полковника Льюиса, не сводя с меня глаз.
— О, кое-какую мелочь, — поспешно ответил Льюис. Он в общих чертах объяснил суть нашей просьбы, а начальник терпеливо слушал, не шевельнув пальцем.
— А что они могут дать нам взамен? — спросил он, не проявляя никаких признаков удивления.
— Ну, — примирительно сказал Льюис, — мы надеемся, что участники экспедиции, вероятно, смогут дать отзыв о пригодности новых видов продовольствия и некоторых предметов снаряжения в тех тяжелых условиях, в каких они будут ими пользоваться.
Чрезвычайно серьезный офицер за письменным столом с лишенной всякой аффектации медлительностью откинулся в кресле, все еще не спуская с меня взгляда; я почувствовал, что проваливаюсь сквозь глубокое кожаное кресло, когда он холодно сказал:
— Я совершенно не понимаю, как могут они дать нам что-нибудь взамен.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Полковник Льюис поправлял свой воротничок, никто из нас не произнес ни слова.
— Впрочем, — неожиданно снова заговорил начальник, и теперь в уголках его глаз промелькнула легкая усмешка, — смелость и предприимчивость также идут в счет. Полковник Льюис, пусть они получат все!
Чуть не задыхаясь от восторга, я сидел в автомобиле, который вез нас домой в гостиницу, как вдруг на Германа напал припадок судорожного смеха.
— Вам нехорошо? — с беспокойством спросил я.
— Нет, — ответил он, беззастенчиво смеясь, — но я подсчитал, что в продовольственных рационах, которые мы получим, будет шестьсот восемьдесят четыре банки ананасов, а это мое любимое блюдо.
Нужно сделать тысячу дел, и почти все — одновременно, чтобы шесть человек, деревянный плот и его груз своевременно очутились в определенном месте на перуанском побережье. А в нашем распоряжении три месяца и у нас нет лампы Аладдина.
Мы полетели в Нью-Йорк с рекомендательным письмом от отдела связей и встретились с профессором Бэре из Колумбийского университета. Он был председателем Комитета географических исследований военного министерства, и он нажал те кнопки, с помощью которых Герман, наконец, получил все ценные инструменты и аппараты, необходимые для научных измерений.
Затем мы полетели в Вашингтон, чтобы повидать адмирала Гловера из Гидрографического института морского министерства. Добродушный старый морской волк созвал всех своих офицеров и, познакомив их с Германом и мною, указал на висевшую на стене карту Тихого океана:
— Эти молодые люди интересуются нашими новейшими картами. Помогите им!
Колеса завертелись дальше, и английский полковник Ламсден созвал совещание британской военной миссии в Вашингтоне, чтобы обсудить наши дальнейшие задачи и шансы на благоприятный исход предприятия. Мы получили кучу хороших советов и набор английского снаряжения, которое было доставлено на самолете из Англия, чтобы мы испытали его во время путешествия на плоту. Английский военный врач оказался рьяным поборником таинственного «акульего порошка». Нам достаточно будет высыпать в воду несколько щепоток порошка, если акула станет слишком нахальной, и она тотчас же исчезнет.
— Сэр, — вежливо спросил я, — мы можем положиться на этот порошок?
— Ну, — улыбаясь, произнес англичанин, — это именно то, что мы хотим выяснить!
Когда времени в обрез и приходится заменять поезд самолетом, а ноги автомобилем, тогда бумажник быстро становится тонким, как засушенный лист. После того как мы истратили деньги, полученные от продажи моего обратного билета в Норвегию, нам пришлось отправиться к нью-йоркским друзьям-компаньонам, чтобы привести в порядок финансовые дела. Там нас ждало неожиданное разочарование. Финансовый директор лежал в постели с температурой, а двое его товарищей были бессильны, пока он не поправится. Они не отказывались от нашего финансового соглашения, но в данное время они ничем не могли помочь. Они попросили нас на некоторое время отложить все дело — напрасная просьба, так как мы были не в состоянии остановить бесчисленные колесики, которые уже завертелись на полную скорость. Теперь мы могли думать только о том, как бы не свалиться; останавливаться или тормозить было слишком поздно. Наши приятели-компаньоны согласились ликвидировать синдикат, чтобы дать нам возможность действовать быстро и независимо от них.
И вот мы идем по улице, а в карманах у нас по-прежнему пусто.
— Декабрь, январь, февраль, — считал Герман.
— На худой конец, март, — добавил я, — но в марте мы обязательно должны отплыть!
Все представлялось нам неопределенным, но одно было нам ясно. Наше путешествие имело серьезную цель, и мы не желали, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках или высиживают 17 дней на верхушке флагштока.
— Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или кока-кола, — заявил Герман.
В этом вопросе мы были совершенно согласны.
Мы могли раздобыть норвежские кроны, но по эту сторону Атлантического океана они не решали проблемы. Мы могли обратиться с просьбой о субсидии, но вряд ли нам дали бы ее на доказательство спорной теории; в конце концов именно поэтому мы затеяли путешествие на плоту. Вскоре мы убедились, что ни газетные тресты, ни отдельные меценаты не решаются вложить деньги в предприятие, которое сами они и все страховые общества считали самоубийственным; но если мы вернемся живыми и невредимыми, тогда все будет по-иному.
Положение было довольно мрачным, и в течение многих дней мы не видели никакого выхода. Тогда на сцене снова появился полковник Мунте-Кос.
— Вы на мели, ребята, — сказал он. — Вот для начала чек. Я могу подождать, пока вы вернетесь с островов Южного моря.
Еще несколько человек последовали его примеру, и вскоре полученных нами взаймы сумм оказалось достаточно, чтобы мы могли снова взяться за дело без помощи посредников и других коммерсантов. Пора было лететь в Южную Америку и приступить к постройке плота.
Древние перуанские плоты строились из бальсового дерева, которое в сухом состоянии легче пробки. Бальсовые деревья растут в Перу, но только далеко от побережья, за Андами; поэтому во времена инков мореплаватели добирались вдоль берега до Эквадора и там рубили огромные бальсовые деревья у самого Тихого океана. Мы собирались поступить так же.
В наше время путешественник сталкивается с coвершенно иными проблемами, чем во времена инков. В нашем распоряжении автомобили, и самолеты, и бюро путешествий; но чтобы дело не оказалось слишком легким, у нас зато имеются препятствия, называемые границами, на которых не в меру ретивые стражи с медными пуговицами проверяют вашу личность, перерывают ваш багаж и мучают вас бесконечными анкетами, если вы благополучно пройдете все предварительные испытания. Страх перед этими людьми с медными пуговицами заставил нас прийти к выводу, что мы не можем высадиться в Южной Америке с ящиками и чемоданами, полными странных вещей, и, вежливо раскланявшись, попросить на ломаном испанском языке разрешения построить плот и отплыть на нем. Нас, наверно, упрятали бы в тюрьму.
— Нет, — сказал Герман, — мы должны иметь официальное разрешение.
Один из наших приятелей из ликвидированного триумвирата был корреспондентом при Организации Объединенных Наций; он отвез нас туда на автомобиле. Когда мы вошли в большой зал заседаний, где представители всех народов сидели рядом на скамьях, все молча слушали горячую речь черноволосого русского, который стоял перед огромной картой мира, висевшей на стене. Эта сцена произвела на нас сильное впечатление.
Нашему приятелю-корреспонденту удалось во время перерыва завладеть одним из делегатов Перу, а затем одним из представителей Эквадора. Сидя в вестибюле на мягком кожаном диване, они внимательно выслушали наш проект переплыть океан с целью подтвердить теорию о том, что создатели древней цивилизации на их родине были первыми людьми, достигшими островов Тихого океана. Оба обещали информировать о нашем плане свои правительства и гарантировали нам содействие, когда мы прибудем в Перу и Эквадор. Проходивший через приемную Трюгве Ли, услышав, что мы его соотечественники, подошел к нам, и кто-то предложил ему отправиться с нами на плоту. Но для него было достаточно бурь и на суше. Помощник секретаря Организации Объединенных Наций, доктор Бенхамин Коен из Чили, известный археолог-любитель, дал мне письмо к президенту республики Перу, который был его личным другом. В вестибюле мы встретили также норвежского посла Вильгельма фон Мюнте-Моргенстьерне, который с этого времени оказывал экспедиции неоценимую помощь.
Итак, мы купили два билета и полетели в Южную Америку. Когда четыре мощных мотора заревели один за другим, мы, совершенно обессиленные, откинулись в глубоких креслах. Трудно выразить словами то чувство облегчения, какое мы испытывали при мысли о том, что с первой частью программы покончено и что теперь мы движемся прямо навстречу приключениям.
Мы подвели его к большой карте, висевшей на стене, и рассказали о нашем плане переплыть Тихий океан на индейском плоту. Он широко раскрыл свои мальчишеские голубые глаза, отчего они стали совершенно круглыми, и все время дергал себя за бороду, слушая наш рассказ. Потом он топнул своей деревянной ногой об пол и потуже затянул ремень.
— Проклятие! Я хотел бы, ребята, отправиться с вами!
Старый путешественник по Гренландии наполнил наши кружки пивом и принялся рассказывать о своей вере в суда первобытных народов, в способность этих людей передвигаться по суше и по морю, применяясь к природным условиям. Ему самому приходилось спускаться на плоту по большим сибирским рекам и, плавая на корабле вдоль арктических берегов, тащить на буксире плоты местных жителей. Рассказывая, он дергал себя за бороду и в заключение выразил уверенность, что мы получим от нашего путешествия большое удовольствие.
Благодаря горячей поддержке Фрейхена дело завертелось с устрашающей скоростью, и вскоре о нем заговорила скандинавская печать. Уже на следующее утро раздался сильный стук в дверь моей комнаты в Доме моряков. Меня звали к телефону в нижний коридор. В результате разговора в тот же вечер Герман и я позвонили у подъезда одного из домов в фешенебельном квартале Нью-Йорка. Нас принял прекрасно одетый молодой человек в лакированных домашних туфлях и шелковом халате поверх синего костюма. Он производил впечатление чуть ли не неженки, когда, прижимая к носу надушенный платок, просил извинения за свою простуду. Однако мы знали, что этот парень прославился в Америке своими подвигами в качестве летчика во время войны. Кроме невозмутимого на вид хозяина, там были еще два энергичных молодых журналиста, обуреваемых жаждой деятельности и идеями. Одного из них мы знали как талантливого корреспондента.
За бутылкой хорошего виски наш хозяин объяснил, что заинтересовался нашей экспедицией. Он предложил раздобыть необходимые средства при условии, что мы примем на себя обязательство писать о путешествии в газеты, а по возвращении совершить поездку по разным городам с лекциями. К концу свидания мы договорились и выпили за успешное сотрудничество между теми, кто финансирует экспедицию и кто участвует в ней. Теперь все экономические проблемы должны были быть разрешены; ими займутся наши компаньоны, и мы можем больше не беспокоиться. Герман и я должны сейчас же приступить к подбору экипажа и снаряжения, построить плот и отправиться в путь до наступления периода штормов.
На следующий день Герман уволился с работы, и мы всерьез взялись за дело. При посредстве Клуба путешественников я уже успел заручиться согласием исследовательской лаборатории материальной части военно-воздушных сил снабдить нас всем, что я попрошу; руководители лаборатории считали, что такая экспедиция, как наша, прекрасно подходит для испытания их снаряжения. Это было хорошее начало.
Теперь наши важнейшие задачи состояли в том, чтобы найти четырех подходящих людей, готовых отправиться с нами на плоту, и раздобыть продовольствие для путешествия.
Подбирать людей, которым предстояло вместе плавать по океану на плоту, нужно было очень тщательно. Иначе после месячного пребывания в открытом море могли бы возникнуть всякие неприятности и ссоры. Я не хотел комплектоватькоманду плота из моряков: они вряд ли знали больше нас о том, как надо управлять плотом, а впоследствии, если бы нам удалось довести дело до конца, могли бы начаться разговоры, что мы достигли успеха, возможно, лишь потому, что были лучшими моряками, чем древние строители плотов в Перу. Все же на плоту следовало иметь одного человека, который умел бы, во всяком случае, пользоваться секстантом и отмечать наш курс на карте; это было необходимо для научных отчетов.
— Я знаю художника, — сказал я Герману. — Это высокий, здоровенный парень, который умеет играть на гитаре и брызжет весельем. Он окончил мореходное училище и несколько раз плавал вокруг света до того, как засел дома с кистью и палитрой. Я знаю его с детства, и мы часто совершали с ним туристские походы по горам на родине. Я напишу ему; я уверен, что он приедет.
— Он вполне подойдет, — согласился Герман, — а затем нам нужен человек, знакомый с радио.
— С радио! — в ужасе воскликнул я, — на черта оно нам сдалось? Ему не место на доисторическом плоту.
— Неверно, это мера предосторожности, которая не повредит вашей теории, если нам не придется посылать сигналы бедствия и просить о помощи. А радио нам понадобится для передачи метеорологических наблюдений и других сведений. К тому же мы не сможем использовать радио для приема предупреждений о штормах, так как для этой части океана таких предупреждений не бывает, а если бы и были, какую пользу смогут они принести нам на плоту?
Его доводы постепенно сломили все мои возражения, которые были основаны главным образом на моей нелюбви ко всяким кнопкам и крутящимся ручкам.
— Как это ни странно, — признался я, — но у меня большие знакомства с людьми, имеющими отношение к радиосвязи на большие расстояния. Во время войны я был зачислен в подразделение радиосвязи — «по специальности», должно быть. Я обязательно напишу Кнуту Хаугланду и Торстейну Робю.
— Вы с ними знакомы?
— Да. С Кнутом я впервые встретился в Англии в 1944 году. Англичане наградили его орденом за участие в парашютном десанте, который предотвратил попытки немцев создать атомную бомбу: он был радистом в группе участников Сопротивления, совершившей диверсионный акт по уничтожению в Рьюкан запасов тяжелой воды[123]. Когда я встретился с ним, он только что вернулся с другой операции в Норвегии; гестапо накрыло его с тайным передатчиком, спрятанным в дымоходе родильного дома в Осло. Нацисты его запеленговали, и все здание было окружено немецкими солдатами с пулеметами против каждой двери. Фемер, начальник гестапо, сам находился во дворе, ожидая, когда приволокут Кнута. Но приволокли его собственных людей. Кнут с помощью револьвера пробился от чердака до подвала, а оттуда — на задний двор и исчез за больничной стеной, преследуемый градом пуль. Я встретился с ним на секретной станции в старинном английском замке, он вернулся для организации подпольной связи между сотней передающих станций в оккупированной Норвегии.
Сам я только что закончил парашютную практику, и мы собирались вместе спрыгнуть в Нордмарке, около Осло. Но как раз в это время русские вступили в район Киркенеса, и небольшой норвежский отряд был направлен из Шотландии в Финмаркен на смену, если можно так выразиться, целой русской армии. И я был послан туда. Там я встретился с Торстейном.
В тех местах была еще настоящая арктическая зима, и северное сияние мерцало на звездном небе над нами. День и ночь стояла кромешная тьма. Когда мы проходили по пепелищам сожженного района Финмаркена, посиневшие от холода и закутанные в меховую одежду, из маленькой хижины, расположенной в горах, вылез веселый парень с голубыми глазами и жесткими светлыми волосами. То был Торстейн Робю. В начале войны он убежал в Англию и прошел там курс обучения; потом его тайно перебросили в Норвегию, куда-то под Тромсё. Он скрывался с маленьким передатчиком где-то вблизи от линкора «Тирпиц» и в течение десяти месяцев ежедневно сообщал в Англию обо всем, что происходило на борту корабля. Он отправлял донесения ночью, присоединяя свой тайный передатчик к приемной антенне, установленной немецким офицером. Его регулярными донесениями и руководствовались английские бомбардировщики, которые в конце концов покончили с «Тирпицем».
Торстейн убежал в Швецию, оттуда опять перебрался в Англию, а затем с новым радиопередатчиком спрыгнул на парашюте в тылу у немцев в пустынном районе Финмаркена. Когда немцы отступили, он оказался у нас в тылу и вышел из своего убежища, чтобы помочь нам своей маленькой радиоустановкой, так как наша мощная радиостанция была выведена из строя миной. Готов держать пари, что и Кнуту и Торстейну надоело сейчас болтаться дома, и оба они будут рады отправиться в небольшую прогулку на деревянном плоту.
— Напишите и предложите им, — посоветовал Герман.
Итак, я написал короткие письма, без всяких прикрас, Эрику, Кнуту и Торстейну:
«Собираюсь переплыть Тихий океан на деревянном плоту в подтверждение теории о том, что острова Южного моря были заселены из Перу. Не хотите ли принять участие? Я гарантирую только бесплатный проезд до Перу и до островов Южного моря и обратно: во время путешествия вы найдете хорошее применение своим техническим талантам. Отвечайте немедленно».
На следующий день от Торстейна пришла такая телеграмма:
«Еду. Торстейн».
Двое других также сообщили о своем согласии.
В качестве шестого участника мы намечали то одного, то другого, но всякий раз возникали какие-нибудь препятствия. Тем временем Герману и мне надо было заняться вопросом о продовольствии. Мы не собирались во время путешествия питаться вяленым мясом лам или сушеными клубнями кумара[124], так как не имели в виду доказать, что когда-то мы сами были индейцами. Мы намеревались испытать возможности и свойства плота инков, его пригодность к плаванию в море и грузоподъемность и выяснить, удастся ли ему — с нами на борту — благополучно переплыть по воле стихий океан и добраться до Полинезии. Наши предшественники индейцы могли, конечно, прожить на плоту на сушеном мясе и рыбе и сушеных клубнях кумара, так как этими продуктами они питались и на берегу. Но мы предполагали выяснить, повторив их путешествие, удавалось ли им во время плавания по океану добывать для себя свежую рыбу и пользоваться дождевой водой. Что касается нашего собственного питания, то я рассчитывал на простой полевой рацион, знакомый нам по войне.
Как раз в это время в Вашингтон приехал новый помощник норвежского военного атташе. Я исполнял обязанности его заместителя, когда он командовал ротой в Финмаркене, и знал, что это был «огненный смерч», который с бешеной энергией брался за решение любой задачи, поставленной перед ним. Бьёрн Рёрхолт принадлежал к тому типу людей, которые чувствуют себя совершенно растерянными, если, покончив с одним трудным делом, они не принимаются сразу за новое.
Я обрисовал ему в письме наше положение и попросил его пустить в ход свой тонкий нюх и разузнать, не найдется ли в управлении снабжения американской армии какого-нибудь человека, с которым можно было бы установить связь. Шансы на успех заключались в том, что военная лаборатория разрабатывала новые полевые рационы, которые мы могли бы испытать, как мы собирались испытать снаряжение для лаборатории военно-воздушных сил.
Два дня спустя Бьёрн позвонил нам по телефону из Вашингтона. Он переговорил в отделе внешних связей американского военного министерства, и там были не прочь узнать, в чем дело. С ближайшим поездом Герман и я выехали в Вашингтон.
Мы застали Бьёрна в его кабинете в военной миссии.
— Думаю, все будет в порядке, — сказал он. — Нас примут в отделе внешних связей завтра, как только мы получим соответствующее письмо от полковника.
«Полковник» — это был Отто Мунте-Кос, норвежский военный атташе. Узнав, в чем дело, он отнесся к нам очень доброжелательно и охотно согласился дать соответствующее рекомендательное письмо.
Когда на следующее утро мы пришли за письмом, он неожиданно встал и заявил, что лучше будет поехать ему с нами. В автомобиле полковника мы покатили к Пентагону, самому большому зданию в мире, где находятся управления военного министерства. Полковник и Бьёрн в полной парадной форме сидели спереди, а Герман и я устроились сзади и смотрели сквозь переднее стекло на огромное здание Пентагона, возвышавшееся на площади перед нами. Это грандиозное здание с тридцатью тысячами чиновников и с двадцатью шестью километрами коридоров должно было стать местом предстоящего «совещания по вопросу о плоте» с высокопоставленными представителями военного министерства. Никогда ни раньше, ни впоследствии не казался Герману и мне наш плот таким безнадежно маленьким.
После бесконечных странствий по лестницам и коридорам мы добрались до дверей отдела внешних связей и вскоре, окруженные офицерами в новой, с иголочки, форме, сидели за большим столом красного дерева; председательское место занимал сам начальник отдела внешних связей.
Суровый, широкий в кости офицер со значком Уэст-Пойнтской академии[125], важно восседавший у конца стола, долго не мог сообразить, какое отношение может иметь американское военное министерство к нашему деревянному плоту. Но хорошо продуманная речь полковника и благоприятное впечатление, произведенное нашими ответами на град вопросов, заданных сидевшими вокруг стола офицерами, постепенно склонили его на нашу сторону, и он с интересом прочел письмо из лаборатории снаряжения материальной части военно-воздушных сил. Потом он встал, отдал своему штабу лаконичное распоряжение оказать нам помощь в соответствующих инстанциях и, пожелав нам пока что удачи, покинул комнату, где происходило совещание. Когда дверь за ним закрылась, молодой штабной капитан прошептал мне на ухо:
— Готов держать пари, вы получите все, что вам нужно. Это очень напоминает небольшую военную операцию и вносит какое-то разнообразие в нашу ежедневную канцелярскую рутину мирного времени; к тому же это даст возможность как следует, методически испытать снаряжение.
Отдел связей немедленно договорился о встрече с полковником Льюисом из экспериментальной лаборатории главного интендантского управления, и меня с Германом отвезли туда на автомобиле.
Полковник Льюис оказался приветливым великаном с фигурой спортсмена. Он тотчас вызвал к себе сотрудников, руководивших опытами в различных областях. Все они отнеслись к нам очень дружелюбно и немедленно предложили кучу всякого снаряжения, которое было бы желательно подвергнуть тщательному испытанию. Они превзошли все наши самые смелые ожидания, когда начали перечислять почти все, что только могло нам понадобиться, — от полевых рационов до мази от загара и не боящихся сырости спальных мешков. Затем они повели нас осматривать все эти предметы. Мы пробовали особые рационы в прекрасной упаковке; мы видели спички, которые зажигались и после того, как их опускали в воду, новые образцы примусов и бидоны для воды, резиновые мешки, специальную обувь, кухонную утварь и плававшие ножи и множество других вещей, необходимых для экспедиции.
Я взглянул на Германа. У него был вид примерного мальчика, который ходит с богатой тетей по магазину кондитерских изделий. Высокий полковник шел впереди, демонстрируя все эти восхитительные вещи, а когда обход был закончен, сотрудники лаборатории записали, что нам необходимо и сколько. Я думал, что сражение уже выиграно, и мечтал только о том, чтобы поскорее очутиться у себя в гостинице и, приняв горизонтальное положение, спокойно и мирно все обдумать. Тут высокий приветливый полковник неожиданно произнес:
— Ну, теперь надо пойти потолковать с шефом; он должен решить, можем ли мы дать вам все это.
Я почувствовал, что у меня оборвалось сердце. Итак, мы должны опять начать все сначала и снова пустить в ход свое красноречие, а одно небо знает, что за тип этот «шеф».
Оказалось, что шеф был офицер небольшого роста, державшийся чрезвычайно серьезно. Когда мы вошли к нему, он, сидя за письменным столом, окинул нас проницательным взглядом своих голубых глаз. Он предложил нам сесть.
— Ну, что хотят эти господа? — резко спросил он полковника Льюиса, не сводя с меня глаз.
— О, кое-какую мелочь, — поспешно ответил Льюис. Он в общих чертах объяснил суть нашей просьбы, а начальник терпеливо слушал, не шевельнув пальцем.
— А что они могут дать нам взамен? — спросил он, не проявляя никаких признаков удивления.
— Ну, — примирительно сказал Льюис, — мы надеемся, что участники экспедиции, вероятно, смогут дать отзыв о пригодности новых видов продовольствия и некоторых предметов снаряжения в тех тяжелых условиях, в каких они будут ими пользоваться.
Чрезвычайно серьезный офицер за письменным столом с лишенной всякой аффектации медлительностью откинулся в кресле, все еще не спуская с меня взгляда; я почувствовал, что проваливаюсь сквозь глубокое кожаное кресло, когда он холодно сказал:
— Я совершенно не понимаю, как могут они дать нам что-нибудь взамен.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Полковник Льюис поправлял свой воротничок, никто из нас не произнес ни слова.
— Впрочем, — неожиданно снова заговорил начальник, и теперь в уголках его глаз промелькнула легкая усмешка, — смелость и предприимчивость также идут в счет. Полковник Льюис, пусть они получат все!
Чуть не задыхаясь от восторга, я сидел в автомобиле, который вез нас домой в гостиницу, как вдруг на Германа напал припадок судорожного смеха.
— Вам нехорошо? — с беспокойством спросил я.
— Нет, — ответил он, беззастенчиво смеясь, — но я подсчитал, что в продовольственных рационах, которые мы получим, будет шестьсот восемьдесят четыре банки ананасов, а это мое любимое блюдо.
Нужно сделать тысячу дел, и почти все — одновременно, чтобы шесть человек, деревянный плот и его груз своевременно очутились в определенном месте на перуанском побережье. А в нашем распоряжении три месяца и у нас нет лампы Аладдина.
Мы полетели в Нью-Йорк с рекомендательным письмом от отдела связей и встретились с профессором Бэре из Колумбийского университета. Он был председателем Комитета географических исследований военного министерства, и он нажал те кнопки, с помощью которых Герман, наконец, получил все ценные инструменты и аппараты, необходимые для научных измерений.
Затем мы полетели в Вашингтон, чтобы повидать адмирала Гловера из Гидрографического института морского министерства. Добродушный старый морской волк созвал всех своих офицеров и, познакомив их с Германом и мною, указал на висевшую на стене карту Тихого океана:
— Эти молодые люди интересуются нашими новейшими картами. Помогите им!
Колеса завертелись дальше, и английский полковник Ламсден созвал совещание британской военной миссии в Вашингтоне, чтобы обсудить наши дальнейшие задачи и шансы на благоприятный исход предприятия. Мы получили кучу хороших советов и набор английского снаряжения, которое было доставлено на самолете из Англия, чтобы мы испытали его во время путешествия на плоту. Английский военный врач оказался рьяным поборником таинственного «акульего порошка». Нам достаточно будет высыпать в воду несколько щепоток порошка, если акула станет слишком нахальной, и она тотчас же исчезнет.
— Сэр, — вежливо спросил я, — мы можем положиться на этот порошок?
— Ну, — улыбаясь, произнес англичанин, — это именно то, что мы хотим выяснить!
Когда времени в обрез и приходится заменять поезд самолетом, а ноги автомобилем, тогда бумажник быстро становится тонким, как засушенный лист. После того как мы истратили деньги, полученные от продажи моего обратного билета в Норвегию, нам пришлось отправиться к нью-йоркским друзьям-компаньонам, чтобы привести в порядок финансовые дела. Там нас ждало неожиданное разочарование. Финансовый директор лежал в постели с температурой, а двое его товарищей были бессильны, пока он не поправится. Они не отказывались от нашего финансового соглашения, но в данное время они ничем не могли помочь. Они попросили нас на некоторое время отложить все дело — напрасная просьба, так как мы были не в состоянии остановить бесчисленные колесики, которые уже завертелись на полную скорость. Теперь мы могли думать только о том, как бы не свалиться; останавливаться или тормозить было слишком поздно. Наши приятели-компаньоны согласились ликвидировать синдикат, чтобы дать нам возможность действовать быстро и независимо от них.
И вот мы идем по улице, а в карманах у нас по-прежнему пусто.
— Декабрь, январь, февраль, — считал Герман.
— На худой конец, март, — добавил я, — но в марте мы обязательно должны отплыть!
Все представлялось нам неопределенным, но одно было нам ясно. Наше путешествие имело серьезную цель, и мы не желали, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках или высиживают 17 дней на верхушке флагштока.
— Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или кока-кола, — заявил Герман.
В этом вопросе мы были совершенно согласны.
Мы могли раздобыть норвежские кроны, но по эту сторону Атлантического океана они не решали проблемы. Мы могли обратиться с просьбой о субсидии, но вряд ли нам дали бы ее на доказательство спорной теории; в конце концов именно поэтому мы затеяли путешествие на плоту. Вскоре мы убедились, что ни газетные тресты, ни отдельные меценаты не решаются вложить деньги в предприятие, которое сами они и все страховые общества считали самоубийственным; но если мы вернемся живыми и невредимыми, тогда все будет по-иному.
Положение было довольно мрачным, и в течение многих дней мы не видели никакого выхода. Тогда на сцене снова появился полковник Мунте-Кос.
— Вы на мели, ребята, — сказал он. — Вот для начала чек. Я могу подождать, пока вы вернетесь с островов Южного моря.
Еще несколько человек последовали его примеру, и вскоре полученных нами взаймы сумм оказалось достаточно, чтобы мы могли снова взяться за дело без помощи посредников и других коммерсантов. Пора было лететь в Южную Америку и приступить к постройке плота.
Древние перуанские плоты строились из бальсового дерева, которое в сухом состоянии легче пробки. Бальсовые деревья растут в Перу, но только далеко от побережья, за Андами; поэтому во времена инков мореплаватели добирались вдоль берега до Эквадора и там рубили огромные бальсовые деревья у самого Тихого океана. Мы собирались поступить так же.
В наше время путешественник сталкивается с coвершенно иными проблемами, чем во времена инков. В нашем распоряжении автомобили, и самолеты, и бюро путешествий; но чтобы дело не оказалось слишком легким, у нас зато имеются препятствия, называемые границами, на которых не в меру ретивые стражи с медными пуговицами проверяют вашу личность, перерывают ваш багаж и мучают вас бесконечными анкетами, если вы благополучно пройдете все предварительные испытания. Страх перед этими людьми с медными пуговицами заставил нас прийти к выводу, что мы не можем высадиться в Южной Америке с ящиками и чемоданами, полными странных вещей, и, вежливо раскланявшись, попросить на ломаном испанском языке разрешения построить плот и отплыть на нем. Нас, наверно, упрятали бы в тюрьму.
— Нет, — сказал Герман, — мы должны иметь официальное разрешение.
Один из наших приятелей из ликвидированного триумвирата был корреспондентом при Организации Объединенных Наций; он отвез нас туда на автомобиле. Когда мы вошли в большой зал заседаний, где представители всех народов сидели рядом на скамьях, все молча слушали горячую речь черноволосого русского, который стоял перед огромной картой мира, висевшей на стене. Эта сцена произвела на нас сильное впечатление.
Нашему приятелю-корреспонденту удалось во время перерыва завладеть одним из делегатов Перу, а затем одним из представителей Эквадора. Сидя в вестибюле на мягком кожаном диване, они внимательно выслушали наш проект переплыть океан с целью подтвердить теорию о том, что создатели древней цивилизации на их родине были первыми людьми, достигшими островов Тихого океана. Оба обещали информировать о нашем плане свои правительства и гарантировали нам содействие, когда мы прибудем в Перу и Эквадор. Проходивший через приемную Трюгве Ли, услышав, что мы его соотечественники, подошел к нам, и кто-то предложил ему отправиться с нами на плоту. Но для него было достаточно бурь и на суше. Помощник секретаря Организации Объединенных Наций, доктор Бенхамин Коен из Чили, известный археолог-любитель, дал мне письмо к президенту республики Перу, который был его личным другом. В вестибюле мы встретили также норвежского посла Вильгельма фон Мюнте-Моргенстьерне, который с этого времени оказывал экспедиции неоценимую помощь.
Итак, мы купили два билета и полетели в Южную Америку. Когда четыре мощных мотора заревели один за другим, мы, совершенно обессиленные, откинулись в глубоких креслах. Трудно выразить словами то чувство облегчения, какое мы испытывали при мысли о том, что с первой частью программы покончено и что теперь мы движемся прямо навстречу приключениям.

 Плывя дальше, мы почуяли запах дыма и увидели на прогалинах вдоль берега несколько хижин с соломенными крышами. Наш плот привлек пристальное внимание стоявших на берегу людей зловещего вида, которые представляли собой уродливую помесь индейцев, негров и испанцев. Их лодки, большие выдолбленные челноки, лежали на берегу, перевернутые вверх дном.
Когда наступило время обеда, мы заменили наших приятелей у рулевых весел, пока те жарили рыбу и плоды хлебного дерева на небольшом костре, разведенном на слое мокрой глины. Жареные цыплята, яйца и тропические фрукты также входили в состав нашей трапезы. А плот тем временем продолжал быстро плыть и уносил нас сквозь джунгли к океану. Какое нам теперь дело до того, что дожди затопили всю страну? Чем сильнее дожди, тем быстрее течение в реке.
Когда темнота окутала реку, на берегу начался оглушительный концерт. Жабы и лягушки, сверчки и москиты, квакая, треща и жужжа, составляли мощный многоголосый хор. Время от времени в темноте раздавался пронзительный визг дикой кошки то тут, то там слышался тревожный писк птиц, спугнутых с места ночными мародерами джунглей. Несколько раз мы видели тусклый свет огня в хижине лесных жителей и слышали крики людей и лай собак, когда мы проплывали во мраке мимо. Но большей частью тишина ночи нарушалась только лесным концертом, и мы молча сидели, любуясь звездным небом, пока сонливость и дождь не загнали нас в каюту из листьев, где мы улеглись спать, предварительно спустив предохранители револьверов.
Чем дальше плыли мы вниз по течению, тем чаще попадались нам хижины и туземные плантации, и вскоре по берегам появились настоящие деревни. Движение по реке поддерживалось здесь с помощью долбленых челноков, на которых плыли, отталкиваясь длинными шестами; тут и там мы видели маленькие бальсовые плоты, нагруженные кучами зеленых бананов.
У слияния Паленке с Рио Гуаяс вода стояла настолько высоко, что между городом Винсес и прибрежным портом Гуаякиль деловито курсировал колесный пароход. Для экономии времени Герман и я перебрались на борт парохода и поплыли на нем мимо густонаселенных плоских берегов к океану. Наши коричневые приятели должны были последовать за нами, оставаясь вдвоем на плоту.
В Гуаякиле Герман и я расстались. Он остался у устья реки Гуаяс, чтобы принять бальсовые бревна, когда они прибудут туда. Он должен был погрузить их на пароход каботажного плавания и доставить в Перу, а там приступить к постройке плота и проследить за тем, чтобы он был точной копией старинных индейских плотов. Я же на рейсовом самолете вылетел на юг, в столицу Перу, Лиму, чтобы подыскать подходящее место для постройки плота.
Самолет летел на большой высоте вдоль берега Тихого океана; с одной стороны тянулись пустынные горы Перу, а с другой далеко внизу расстилался сверкающий океан. Там предстояло нам начать свое плавание на плоту. Когда я смотрел с высоты на океан, он казался мне безграничным. Небо и море сливались на неуловимой черте горизонта далеко-далеко на западе, и я не мог отделаться от мысли, что и за горизонтом простираются многие сотни таких морских равнин, которые огибают одну пятую земного шара, прежде чем снова достигают земли — островов Полинезии. Я пытался сосредоточить свои мысли на том, что ожидает нас через несколько недель, когда мы поплывем на крошечном плоту по этому голубому беспредельному простору, но поспешно отогнал и эту мысль, так как она вызывала во мне неприятное ощущение, какое испытываешь, готовясь к прыжку с парашютом.
По прибытии в Лиму я поехал на трамвае в порт Кальяо на поиски места, где мы могли бы заняться постройкой плота. Я сразу же увидел, что все причалы были забиты судами и вдоль всего берега стояли краны и пакгаузы, таможенные склады, здания портового управления и прочие постройки. Немного дальше от гавани берег не был застроен, но был усеян таким количеством купальщиков, что эта любопытная публика в один миг растащила бы плот со всем снаряжением, как только мы отвернулись бы от него. Кальяо в настоящее время является самым крупным портом страны с семимиллионным белым и коричневым населением. Для строителей плотов времена в Перу изменились еще сильнее, чем в Эквадоре, и я видел один выход — проникнуть за высокий забор, окружавший военный порт, у железных ворот которого стояли часовые с оружием в руках, окидывавшие угрожающими и подозрительными взглядами меня и других посторонних людей, слонявшихся вдоль забора. Тот, кто сумеет попасть туда, будет находиться в полной безопасности.
В Вашингтоне я встретился с перуанским морским атташе и имел от него рекомендательное письмо. На следующий день я отправился с этим письмом в морское министерство и попросил, чтобы меня принял морской министр Мануэль Нието. Он принимал по утрам в красивом зале министерства, сверкающем зеркалами и позолотой и обставленном в стиле ампир. Я немного подождал, а затем вошел министр в парадной форме, низкий коренастый офицер, непреклонный, как Наполеон, говоривший лаконично и точно. Он спросил, что мне надо, и я ответил, что прошу, чтобы меня допустили в военный порт для постройки деревянного плота.
— Молодой человек, — сказал министр, раздраженно барабаня пальцами по столу. — Вы толкаетесь не в те двери. Я с удовольствием помогу вам, но мне нужно разрешение министра иностранных дел; само собой разумеется, что я не могу допустить иностранцев на военную территорию и разрешить им пользоваться военными мастерскими. Обратитесь письменно к министру иностранных дел. Желаю удачи.
Я с ужасом подумал о бумажках, пересылаемых с места на место и исчезающих в канцелярских дебрях. Какое счастье было жить в грубую эпоху Кон-Тики, когда не существовало таких препятствий, как письменное заявление. Попасть лично к министру иностранных дел было значительно труднее. Норвегия не имела дипломатического представительства в Перу, и наш генеральный консул Бар, всегда готовый услужить, мог устроить мне свидание только с советником министерства иностранных дел. Я боялся, что дальше этого дело не пойдет. Теперь могло пригодиться письмо доктора Коена президенту республики. И я обратился к адъютанту президента Перу с просьбой об аудиенции у его превосходительства дона Хосе Бустаменте Ривера. Через несколько дней мне сообщили, что я должен быть во дворце к двенадцати часам.
Лима представляет собой современный город с полумиллионным населением; он раскинулся на зеленой равнине у подножия пустынных гор. По своей архитектуре, а также в не меньшей степени благодаря садам и бульварам он, без сомнения, является одной из самых красивых столиц в мире — уголком современной Ривьеры или Калифорнии, оживленным красочными постройками в старинном испанском стиле. Дворец президента находится в центре города и усиленно охраняется вооруженными часовыми в яркой форме. Получить аудиенцию в Перу — дело серьезное, и подавляющее большинство жителей видело президента только на экране кино. Солдаты с блестящими патронташами провели меня вверх по лестнице, а затем по длинному коридору; в конце его трое штатских проверили мои документы и записали меня в книгу; передо мной открыли массивную дубовую дверь, и я очутился в комнате, где стоял длинный стол и несколько рядов стульев. Там меня встретил какой-то мужчина в белом костюме, попросил меня сесть, а сам исчез. Через несколько секунд распахнулась широкая дверь, и меня пригласили войти в следующую комнату, обставленную с гораздо большей роскошью. Какая-то важная фигура в безупречном мундире двинулась навстречу мне.
«Президент», — подумал я и вытянулся в струнку. Но нет. Человек в роскошном золотом мундире предложил мне сесть в старинное кресло с прямой спинкой и исчез. Я не просидел на краешке кресла и минуты, как растворилась еще одна дверь и слуга с поклоном пригласил меня в большую великолепно украшенную, позолоченную комнату с позолоченной мебелью. Слуга исчез так же внезапно, как и появился, и я в одиночестве остался сидеть на старинном диване, рассматривая анфиладу пустых комнат с открытыми настежь дверями. Было так тихо, что я слышал, как кто-то приглушенно кашлял за несколько комнат от меня. Затем послышались приближающиеся твердые шаги, я вскочил и нерешительно поклонился важному господину в форме. Но нет, это тоже был не он. Из сказанного этим господином я понял, что президент шлет мне приветствия и что он скоро освободится, как только закончится заседание совета министров. Спустя десять минут твердые шаги снова нарушили тишину, и на этот раз в комнату вошел человек с золотыми аксельбантами и эполетами. Я стремительно вскочил с дивана и низко поклонился. Человек поклонился еще ниже и повел меня через несколько комнат и вверх по лестнице, устланной толстыми коврами. Он покинул меня в крохотной комнате, в которой стояли диван и кожаное кресло. Вошел мужчина небольшого роста, в белом костюме; я покорно стоял, ожидая, что он опять меня куда-нибудь поведет. Но он никуда меня не повел, только любезно поздоровался и остался на месте. Это был президент Бустаменте Риверо.
Президент знал по-английски вдвое больше, чем я по-испански; после того как мы обменялись приветствиями и он жестом пригласил меня сесть, наш совместный запас слов был исчерпан. Знаками и жестами можно сказать многое, но нельзя с их помощью получить разрешение на постройку плота в перуанском военном порту. Мне было ясно, что президент меня не понимает, а ему самому это было еще яснее, так как через некоторое время он вышел, а затем вернулся в сопровождении министра авиации. Министр авиации, генерал Ревередо был энергичный, атлетически сложенный мужчина в форме военно-воздушных сил с крылышками на груди. Он великолепно говорил по- английски с американским акцентом.
Я попросил извинить меня за недоразумение и сказал, что хотел бы получить разрешение допустить меня не на аэродром, а в военный порт. Генерал рассмеялся и объяснил, что его пригласили сюда лишь в качестве переводчика. Шаг за шагом моя теория была изложена президенту, который внимательно слушал и задавал при посредстве генерала Ревередо дельные вопросы. Под конец он сказал:
— Если есть вероятность, что острова Тихого океана были впервые открыты людьми из Перу, то Перу заинтересовано в этой экспедиции. Скажите, чем мы можем помочь вам.
Я попросил отвести нам место на территории военного порта для постройки плота, дать нам возможность пользоваться флотскими мастерскими, предоставить помещение, где мы могли был хранить снаряжение, и дать разрешение на ввоз его в страну, разрешить пользоваться сухим доком и услугами рабочих порта для помощи нам в работе, а также дать судно, которое отбуксировало бы нас от берега, когда мы пустимся в путь.
— Что он просил? — нетерпеливо спросил президент таким тоном, что даже я понял.
— Ничего особенного, — не вдаваясь в подробности, ответил Ревередо. И президент, удовлетворившись таким ответом, кивнул в знак согласия.
Прежде чем аудиенция была окончена, Ревередо обещал, что министр иностранных дел получит личное указание от президента, а морскому министру Нието будет предоставлена полная свобода действий для оказания нам необходимой помощи.
— Да хранит вас всех бог! — произнес на прощание генерал, смеясь и покачивая головой. Вошел адъютант и проводил меня до дежурного.
В этот же день в газетах Лимы была опубликована статья о норвежской экспедиции, которая должна отплыть на плоту от берегов Перу; одновременно в них сообщалось, что шведско-финская научная экспедиция закончила свои работы по изучению жизни индейцев в джунглях на берегах Амазонки. Двое шведов, участников этой экспедиции на Амазонку, поднялись в челноке вверх по реке Перу и только что прибыли в Лиму. Одним из них был Бенгт Даниельссон из Упсальского университета, собиравшийся теперь заняться изучением горных индейцев в Перу.
Я вырезал статью. Сидя у себя в номере, я писал письмо Герману относительно места для постройки плота, как вдруг меня прервал стук в дверь. Вошел высокий загорелый парень в тропическом костюме; когда он снял белый шлем, мне бросилась в глаза ярко-рыжая борода, которая, казалось, опалила его лицо и выжгла часть волос на голове. Этот парень явился из дебрей, но было ясно, что место ему в университетской аудитории.
«Бенгт Даниельссон», — подумал я.
— Бенгт Даниельссон, — представился посетитель.
«Он узнал про плот», — подумал я и предложил ему сесть.
— Я только что узнал о ваших планах насчет плота, — произнес швед.
«И вот он пришел, чтобы разгромить мою теорию, так как он этнограф», — подумал я.
— И вот я пришел, чтобы выяснить, не могу ли я отправиться с вами на плоту, — миролюбиво сказал швед. — Я интересуюсь теорией миграции.
Мне ничего не было известно об этом человеке; я знал только, что он ученый и что он явился прямо из чащи джунглей. Но если швед решается отправиться на плоту один с пятью норвежцами, он не должен быть отвергнут. К тому же даже роскошная борода не могла скрыть его уравновешенный и веселый характер.
Бенгт стал шестым участником экспедиции, так как место было еще не занято. И он оказался единственным из нас, говорившим по-испански.
Когда через несколько дней пассажирский самолет, ровно гудя своими моторами, летел вдоль побережья на север, я снова почтительно смотрел на безграничный синий океан, расстилавшийся под нами. Казалось, что он повис и плывет в самой небесной тверди. Скоро мы вшестером собьемся в кучу, как микробы в пылинке, где-то внизу, где столько воды, что весь западный горизонт кажется переполненным ею. Мы окажемся одни в океане, не имея возможности отойти друг от друга больше чем на несколько шагов. Впрочем, пока что между нами было достаточное расстояние, Герман находился в Эквадоре в ожидании бревен. Кнут Хаугланд и Торстейн Робю только что прилетели в Нью-Йорк. Эрик Хессельберг был на борту корабля, направлявшегося из Осло в Панаму. Сам я летел в Вашингтон, а Бенгт остался в гостинице в Лиме, готовый пуститься в путь, и ждал прибытия остальных.
Все мои спутники не знали раньше друг друга, и все они были совершенно различными людьми. Поэтому в течение нескольких недель на плоту мы будем гарантированы от того, что наскучим друг другу своими рассказами. Грозовые тучи, низкое давление и ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность, чем угроза столкновения характеров шести человек, которым придется месяцами находиться вместе на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка часто бывает столь же полезна, как спасательный пояс.
В Вашингтоне все еще стояла суровая зима, холодная и снежная. Я вернулся туда в феврале. Бьёрн энергично взялся за проблему радио, и ему удалось заинтересовать американское общество радиолюбителей и договориться, что его члены будут принимать сообщения с плота. Кнут и Торстейн занимались организацией связи, которая должна была осуществляться с помощью коротковолновых передатчиков, специально сконструированных для этой цели, а частично с помощью портативных радиостанций, применявшихся во время войны участниками Сопротивления. Следовало разрешить тысячу вопросов, больших и мелких, если мы хотели выполнить во время путешествия все, что было задумано. А горы бумажек в папках все росли и росли. Военные и гражданские документы, белые, желтые и синие, на английском, испанском, французском и норвежском языках. В наш практический век даже путешествие на плоту должно было обойтись бумажной промышленности чуть ли не в целую пихту. Законы и ограничения связывали нас по рукам и по ногам; мы должны были распутывать один узел за другим.
— Готов поклясться, что вся эта переписка весит десять килограммов, — сказал как-то с отчаянием Кнут, склонившись над пишущей машинкой.
— Двенадцать, — бесстрастно уточнил Торстейн. — Я взвесил.
Моя мать, по-видимому, хорошо понимала положение, когда писала в эти драматические дни последних приготовлений: «Мне хочется одного — знать, что вы все шестеро уже благополучно находитесь на плоту!»
Затем однажды пришла срочная телеграмма из Лимы о том, что Герман был опрокинут во время купания мощной волной и выброшен на берег с серьезными ушибами и вывихнутой шеей. Он находился на излечении в одной из больниц Лимы.
К нему немедленно вылетели Торстейн Робю и Герд Волд, которая во время войны была представительницей в Лондоне одной из групп норвежского движения Сопротивления, а теперь помогала нам в Вашингтоне. Они застали Германа поправляющимся. Его полчаса продержали подвешенным на ремнях, стянутых вокруг головы, пока врачи вправляли ему первый шейный позвонок. Рентгеновский снимок показал, что позвонок имел трещину и перевернулся задом наперед. Германа спасло от смерти его великолепное здоровье; вскоре он выписался из больницы и, весь в синяках, с неповорачивавшейся шеей и ревматическими болями, снова появился в военном порту, куда были привезены бальсовые бревна, и принялся за работу. Он должен был в течение нескольких недель находиться под наблюдением врачей, и мы не были уверены, окажется ли он в состоянии отправиться с нами. Но сам он не сомневался в этом ни секунды, несмотря на первое горькое испытание в объятиях Тихого океана.
Через некоторое время прилетел из Панамы Эрик, а Кнут и я — из Вашингтона, и теперь мы все собрались в нашем отправном пункте — Лиме.
На берегу на территории военного порта лежали большие бальсовые бревна из лесов Киведо. Это была поистине трогательная встреча. Свежесрубленные круглые бревна, желтые стволы бамбука, тростник и зеленые банановые листья — весь наш строительный материал — лежали сваленные в кучи среди грозных подводных лодок и эсминцев. Шесть светлокожих северян и двадцать коричневых «матросов», в венах которых текла кровь инков, махали топорами и длинными ножами-мачете[130], тянули за канаты и вязали узлы. Подтянутые морские офицеры в синей с золотом форме ходили мимо и с изумлением смотрели на этих бледных иностранцев и на эти растительные материалы, которые внезапно появились у них в порту.
В первый раз за столетия бальсовый плот строился в бухте Кальяо. Легенды инков утверждают, что в этих береговых водах их предки впервые научились плавать на таких плотах от исчезнувшего племени Кон-Тики, а исторические данные сообщают о том, что в более поздние времена европейцы запретили индейцам пользоваться плотами. Плавание на открытом плоту может стоить людям жизни. Потомки инков шли в ногу со временем; как и мы, они носят брюки со складкой и матроски. Бамбук и бальса принадлежат первобытному прошлому; здесь тоже все движется вперед — к броне и стали.
Ультрасовременный порт оказывал нам замечательные услуги. С Бенгтом в качестве переводчика и с Германом в качестве главного конструктора мы чувствовали себя в многочисленных плотничных и парусных мастерских как дома; для хранения нашего снаряжения мы имели в своем распоряжении половину пакгауза; нам отвели небольшой плавучий пирс, у которого мы спустили бревна в воду, когда началась постройка.
Плывя дальше, мы почуяли запах дыма и увидели на прогалинах вдоль берега несколько хижин с соломенными крышами. Наш плот привлек пристальное внимание стоявших на берегу людей зловещего вида, которые представляли собой уродливую помесь индейцев, негров и испанцев. Их лодки, большие выдолбленные челноки, лежали на берегу, перевернутые вверх дном.
Когда наступило время обеда, мы заменили наших приятелей у рулевых весел, пока те жарили рыбу и плоды хлебного дерева на небольшом костре, разведенном на слое мокрой глины. Жареные цыплята, яйца и тропические фрукты также входили в состав нашей трапезы. А плот тем временем продолжал быстро плыть и уносил нас сквозь джунгли к океану. Какое нам теперь дело до того, что дожди затопили всю страну? Чем сильнее дожди, тем быстрее течение в реке.
Когда темнота окутала реку, на берегу начался оглушительный концерт. Жабы и лягушки, сверчки и москиты, квакая, треща и жужжа, составляли мощный многоголосый хор. Время от времени в темноте раздавался пронзительный визг дикой кошки то тут, то там слышался тревожный писк птиц, спугнутых с места ночными мародерами джунглей. Несколько раз мы видели тусклый свет огня в хижине лесных жителей и слышали крики людей и лай собак, когда мы проплывали во мраке мимо. Но большей частью тишина ночи нарушалась только лесным концертом, и мы молча сидели, любуясь звездным небом, пока сонливость и дождь не загнали нас в каюту из листьев, где мы улеглись спать, предварительно спустив предохранители револьверов.
Чем дальше плыли мы вниз по течению, тем чаще попадались нам хижины и туземные плантации, и вскоре по берегам появились настоящие деревни. Движение по реке поддерживалось здесь с помощью долбленых челноков, на которых плыли, отталкиваясь длинными шестами; тут и там мы видели маленькие бальсовые плоты, нагруженные кучами зеленых бананов.
У слияния Паленке с Рио Гуаяс вода стояла настолько высоко, что между городом Винсес и прибрежным портом Гуаякиль деловито курсировал колесный пароход. Для экономии времени Герман и я перебрались на борт парохода и поплыли на нем мимо густонаселенных плоских берегов к океану. Наши коричневые приятели должны были последовать за нами, оставаясь вдвоем на плоту.
В Гуаякиле Герман и я расстались. Он остался у устья реки Гуаяс, чтобы принять бальсовые бревна, когда они прибудут туда. Он должен был погрузить их на пароход каботажного плавания и доставить в Перу, а там приступить к постройке плота и проследить за тем, чтобы он был точной копией старинных индейских плотов. Я же на рейсовом самолете вылетел на юг, в столицу Перу, Лиму, чтобы подыскать подходящее место для постройки плота.
Самолет летел на большой высоте вдоль берега Тихого океана; с одной стороны тянулись пустынные горы Перу, а с другой далеко внизу расстилался сверкающий океан. Там предстояло нам начать свое плавание на плоту. Когда я смотрел с высоты на океан, он казался мне безграничным. Небо и море сливались на неуловимой черте горизонта далеко-далеко на западе, и я не мог отделаться от мысли, что и за горизонтом простираются многие сотни таких морских равнин, которые огибают одну пятую земного шара, прежде чем снова достигают земли — островов Полинезии. Я пытался сосредоточить свои мысли на том, что ожидает нас через несколько недель, когда мы поплывем на крошечном плоту по этому голубому беспредельному простору, но поспешно отогнал и эту мысль, так как она вызывала во мне неприятное ощущение, какое испытываешь, готовясь к прыжку с парашютом.
По прибытии в Лиму я поехал на трамвае в порт Кальяо на поиски места, где мы могли бы заняться постройкой плота. Я сразу же увидел, что все причалы были забиты судами и вдоль всего берега стояли краны и пакгаузы, таможенные склады, здания портового управления и прочие постройки. Немного дальше от гавани берег не был застроен, но был усеян таким количеством купальщиков, что эта любопытная публика в один миг растащила бы плот со всем снаряжением, как только мы отвернулись бы от него. Кальяо в настоящее время является самым крупным портом страны с семимиллионным белым и коричневым населением. Для строителей плотов времена в Перу изменились еще сильнее, чем в Эквадоре, и я видел один выход — проникнуть за высокий забор, окружавший военный порт, у железных ворот которого стояли часовые с оружием в руках, окидывавшие угрожающими и подозрительными взглядами меня и других посторонних людей, слонявшихся вдоль забора. Тот, кто сумеет попасть туда, будет находиться в полной безопасности.
В Вашингтоне я встретился с перуанским морским атташе и имел от него рекомендательное письмо. На следующий день я отправился с этим письмом в морское министерство и попросил, чтобы меня принял морской министр Мануэль Нието. Он принимал по утрам в красивом зале министерства, сверкающем зеркалами и позолотой и обставленном в стиле ампир. Я немного подождал, а затем вошел министр в парадной форме, низкий коренастый офицер, непреклонный, как Наполеон, говоривший лаконично и точно. Он спросил, что мне надо, и я ответил, что прошу, чтобы меня допустили в военный порт для постройки деревянного плота.
— Молодой человек, — сказал министр, раздраженно барабаня пальцами по столу. — Вы толкаетесь не в те двери. Я с удовольствием помогу вам, но мне нужно разрешение министра иностранных дел; само собой разумеется, что я не могу допустить иностранцев на военную территорию и разрешить им пользоваться военными мастерскими. Обратитесь письменно к министру иностранных дел. Желаю удачи.
Я с ужасом подумал о бумажках, пересылаемых с места на место и исчезающих в канцелярских дебрях. Какое счастье было жить в грубую эпоху Кон-Тики, когда не существовало таких препятствий, как письменное заявление. Попасть лично к министру иностранных дел было значительно труднее. Норвегия не имела дипломатического представительства в Перу, и наш генеральный консул Бар, всегда готовый услужить, мог устроить мне свидание только с советником министерства иностранных дел. Я боялся, что дальше этого дело не пойдет. Теперь могло пригодиться письмо доктора Коена президенту республики. И я обратился к адъютанту президента Перу с просьбой об аудиенции у его превосходительства дона Хосе Бустаменте Ривера. Через несколько дней мне сообщили, что я должен быть во дворце к двенадцати часам.
Лима представляет собой современный город с полумиллионным населением; он раскинулся на зеленой равнине у подножия пустынных гор. По своей архитектуре, а также в не меньшей степени благодаря садам и бульварам он, без сомнения, является одной из самых красивых столиц в мире — уголком современной Ривьеры или Калифорнии, оживленным красочными постройками в старинном испанском стиле. Дворец президента находится в центре города и усиленно охраняется вооруженными часовыми в яркой форме. Получить аудиенцию в Перу — дело серьезное, и подавляющее большинство жителей видело президента только на экране кино. Солдаты с блестящими патронташами провели меня вверх по лестнице, а затем по длинному коридору; в конце его трое штатских проверили мои документы и записали меня в книгу; передо мной открыли массивную дубовую дверь, и я очутился в комнате, где стоял длинный стол и несколько рядов стульев. Там меня встретил какой-то мужчина в белом костюме, попросил меня сесть, а сам исчез. Через несколько секунд распахнулась широкая дверь, и меня пригласили войти в следующую комнату, обставленную с гораздо большей роскошью. Какая-то важная фигура в безупречном мундире двинулась навстречу мне.
«Президент», — подумал я и вытянулся в струнку. Но нет. Человек в роскошном золотом мундире предложил мне сесть в старинное кресло с прямой спинкой и исчез. Я не просидел на краешке кресла и минуты, как растворилась еще одна дверь и слуга с поклоном пригласил меня в большую великолепно украшенную, позолоченную комнату с позолоченной мебелью. Слуга исчез так же внезапно, как и появился, и я в одиночестве остался сидеть на старинном диване, рассматривая анфиладу пустых комнат с открытыми настежь дверями. Было так тихо, что я слышал, как кто-то приглушенно кашлял за несколько комнат от меня. Затем послышались приближающиеся твердые шаги, я вскочил и нерешительно поклонился важному господину в форме. Но нет, это тоже был не он. Из сказанного этим господином я понял, что президент шлет мне приветствия и что он скоро освободится, как только закончится заседание совета министров. Спустя десять минут твердые шаги снова нарушили тишину, и на этот раз в комнату вошел человек с золотыми аксельбантами и эполетами. Я стремительно вскочил с дивана и низко поклонился. Человек поклонился еще ниже и повел меня через несколько комнат и вверх по лестнице, устланной толстыми коврами. Он покинул меня в крохотной комнате, в которой стояли диван и кожаное кресло. Вошел мужчина небольшого роста, в белом костюме; я покорно стоял, ожидая, что он опять меня куда-нибудь поведет. Но он никуда меня не повел, только любезно поздоровался и остался на месте. Это был президент Бустаменте Риверо.
Президент знал по-английски вдвое больше, чем я по-испански; после того как мы обменялись приветствиями и он жестом пригласил меня сесть, наш совместный запас слов был исчерпан. Знаками и жестами можно сказать многое, но нельзя с их помощью получить разрешение на постройку плота в перуанском военном порту. Мне было ясно, что президент меня не понимает, а ему самому это было еще яснее, так как через некоторое время он вышел, а затем вернулся в сопровождении министра авиации. Министр авиации, генерал Ревередо был энергичный, атлетически сложенный мужчина в форме военно-воздушных сил с крылышками на груди. Он великолепно говорил по- английски с американским акцентом.
Я попросил извинить меня за недоразумение и сказал, что хотел бы получить разрешение допустить меня не на аэродром, а в военный порт. Генерал рассмеялся и объяснил, что его пригласили сюда лишь в качестве переводчика. Шаг за шагом моя теория была изложена президенту, который внимательно слушал и задавал при посредстве генерала Ревередо дельные вопросы. Под конец он сказал:
— Если есть вероятность, что острова Тихого океана были впервые открыты людьми из Перу, то Перу заинтересовано в этой экспедиции. Скажите, чем мы можем помочь вам.
Я попросил отвести нам место на территории военного порта для постройки плота, дать нам возможность пользоваться флотскими мастерскими, предоставить помещение, где мы могли был хранить снаряжение, и дать разрешение на ввоз его в страну, разрешить пользоваться сухим доком и услугами рабочих порта для помощи нам в работе, а также дать судно, которое отбуксировало бы нас от берега, когда мы пустимся в путь.
— Что он просил? — нетерпеливо спросил президент таким тоном, что даже я понял.
— Ничего особенного, — не вдаваясь в подробности, ответил Ревередо. И президент, удовлетворившись таким ответом, кивнул в знак согласия.
Прежде чем аудиенция была окончена, Ревередо обещал, что министр иностранных дел получит личное указание от президента, а морскому министру Нието будет предоставлена полная свобода действий для оказания нам необходимой помощи.
— Да хранит вас всех бог! — произнес на прощание генерал, смеясь и покачивая головой. Вошел адъютант и проводил меня до дежурного.
В этот же день в газетах Лимы была опубликована статья о норвежской экспедиции, которая должна отплыть на плоту от берегов Перу; одновременно в них сообщалось, что шведско-финская научная экспедиция закончила свои работы по изучению жизни индейцев в джунглях на берегах Амазонки. Двое шведов, участников этой экспедиции на Амазонку, поднялись в челноке вверх по реке Перу и только что прибыли в Лиму. Одним из них был Бенгт Даниельссон из Упсальского университета, собиравшийся теперь заняться изучением горных индейцев в Перу.
Я вырезал статью. Сидя у себя в номере, я писал письмо Герману относительно места для постройки плота, как вдруг меня прервал стук в дверь. Вошел высокий загорелый парень в тропическом костюме; когда он снял белый шлем, мне бросилась в глаза ярко-рыжая борода, которая, казалось, опалила его лицо и выжгла часть волос на голове. Этот парень явился из дебрей, но было ясно, что место ему в университетской аудитории.
«Бенгт Даниельссон», — подумал я.
— Бенгт Даниельссон, — представился посетитель.
«Он узнал про плот», — подумал я и предложил ему сесть.
— Я только что узнал о ваших планах насчет плота, — произнес швед.
«И вот он пришел, чтобы разгромить мою теорию, так как он этнограф», — подумал я.
— И вот я пришел, чтобы выяснить, не могу ли я отправиться с вами на плоту, — миролюбиво сказал швед. — Я интересуюсь теорией миграции.
Мне ничего не было известно об этом человеке; я знал только, что он ученый и что он явился прямо из чащи джунглей. Но если швед решается отправиться на плоту один с пятью норвежцами, он не должен быть отвергнут. К тому же даже роскошная борода не могла скрыть его уравновешенный и веселый характер.
Бенгт стал шестым участником экспедиции, так как место было еще не занято. И он оказался единственным из нас, говорившим по-испански.
Когда через несколько дней пассажирский самолет, ровно гудя своими моторами, летел вдоль побережья на север, я снова почтительно смотрел на безграничный синий океан, расстилавшийся под нами. Казалось, что он повис и плывет в самой небесной тверди. Скоро мы вшестером собьемся в кучу, как микробы в пылинке, где-то внизу, где столько воды, что весь западный горизонт кажется переполненным ею. Мы окажемся одни в океане, не имея возможности отойти друг от друга больше чем на несколько шагов. Впрочем, пока что между нами было достаточное расстояние, Герман находился в Эквадоре в ожидании бревен. Кнут Хаугланд и Торстейн Робю только что прилетели в Нью-Йорк. Эрик Хессельберг был на борту корабля, направлявшегося из Осло в Панаму. Сам я летел в Вашингтон, а Бенгт остался в гостинице в Лиме, готовый пуститься в путь, и ждал прибытия остальных.
Все мои спутники не знали раньше друг друга, и все они были совершенно различными людьми. Поэтому в течение нескольких недель на плоту мы будем гарантированы от того, что наскучим друг другу своими рассказами. Грозовые тучи, низкое давление и ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность, чем угроза столкновения характеров шести человек, которым придется месяцами находиться вместе на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка часто бывает столь же полезна, как спасательный пояс.
В Вашингтоне все еще стояла суровая зима, холодная и снежная. Я вернулся туда в феврале. Бьёрн энергично взялся за проблему радио, и ему удалось заинтересовать американское общество радиолюбителей и договориться, что его члены будут принимать сообщения с плота. Кнут и Торстейн занимались организацией связи, которая должна была осуществляться с помощью коротковолновых передатчиков, специально сконструированных для этой цели, а частично с помощью портативных радиостанций, применявшихся во время войны участниками Сопротивления. Следовало разрешить тысячу вопросов, больших и мелких, если мы хотели выполнить во время путешествия все, что было задумано. А горы бумажек в папках все росли и росли. Военные и гражданские документы, белые, желтые и синие, на английском, испанском, французском и норвежском языках. В наш практический век даже путешествие на плоту должно было обойтись бумажной промышленности чуть ли не в целую пихту. Законы и ограничения связывали нас по рукам и по ногам; мы должны были распутывать один узел за другим.
— Готов поклясться, что вся эта переписка весит десять килограммов, — сказал как-то с отчаянием Кнут, склонившись над пишущей машинкой.
— Двенадцать, — бесстрастно уточнил Торстейн. — Я взвесил.
Моя мать, по-видимому, хорошо понимала положение, когда писала в эти драматические дни последних приготовлений: «Мне хочется одного — знать, что вы все шестеро уже благополучно находитесь на плоту!»
Затем однажды пришла срочная телеграмма из Лимы о том, что Герман был опрокинут во время купания мощной волной и выброшен на берег с серьезными ушибами и вывихнутой шеей. Он находился на излечении в одной из больниц Лимы.
К нему немедленно вылетели Торстейн Робю и Герд Волд, которая во время войны была представительницей в Лондоне одной из групп норвежского движения Сопротивления, а теперь помогала нам в Вашингтоне. Они застали Германа поправляющимся. Его полчаса продержали подвешенным на ремнях, стянутых вокруг головы, пока врачи вправляли ему первый шейный позвонок. Рентгеновский снимок показал, что позвонок имел трещину и перевернулся задом наперед. Германа спасло от смерти его великолепное здоровье; вскоре он выписался из больницы и, весь в синяках, с неповорачивавшейся шеей и ревматическими болями, снова появился в военном порту, куда были привезены бальсовые бревна, и принялся за работу. Он должен был в течение нескольких недель находиться под наблюдением врачей, и мы не были уверены, окажется ли он в состоянии отправиться с нами. Но сам он не сомневался в этом ни секунды, несмотря на первое горькое испытание в объятиях Тихого океана.
Через некоторое время прилетел из Панамы Эрик, а Кнут и я — из Вашингтона, и теперь мы все собрались в нашем отправном пункте — Лиме.
На берегу на территории военного порта лежали большие бальсовые бревна из лесов Киведо. Это была поистине трогательная встреча. Свежесрубленные круглые бревна, желтые стволы бамбука, тростник и зеленые банановые листья — весь наш строительный материал — лежали сваленные в кучи среди грозных подводных лодок и эсминцев. Шесть светлокожих северян и двадцать коричневых «матросов», в венах которых текла кровь инков, махали топорами и длинными ножами-мачете[130], тянули за канаты и вязали узлы. Подтянутые морские офицеры в синей с золотом форме ходили мимо и с изумлением смотрели на этих бледных иностранцев и на эти растительные материалы, которые внезапно появились у них в порту.
В первый раз за столетия бальсовый плот строился в бухте Кальяо. Легенды инков утверждают, что в этих береговых водах их предки впервые научились плавать на таких плотах от исчезнувшего племени Кон-Тики, а исторические данные сообщают о том, что в более поздние времена европейцы запретили индейцам пользоваться плотами. Плавание на открытом плоту может стоить людям жизни. Потомки инков шли в ногу со временем; как и мы, они носят брюки со складкой и матроски. Бамбук и бальса принадлежат первобытному прошлому; здесь тоже все движется вперед — к броне и стали.
Ультрасовременный порт оказывал нам замечательные услуги. С Бенгтом в качестве переводчика и с Германом в качестве главного конструктора мы чувствовали себя в многочисленных плотничных и парусных мастерских как дома; для хранения нашего снаряжения мы имели в своем распоряжении половину пакгауза; нам отвели небольшой плавучий пирс, у которого мы спустили бревна в воду, когда началась постройка.
 Мы отобрали девять самых толстых бревен, считая, что их будет достаточно для плота. Для того чтобы веревки, которые должны были соединить между собой бревна и скрепить весь плот, не могли соскользнуть, в бревнах были вырезаны глубокие пазы. Во всем сооружении не было ни одного костыля или гвоздя, ни одного куска стального троса. Прежде всего мы спустили девять больших бревен в воду, одно возле другого, выждали достаточно времени, чтобы они приняли естественное плавучее положение, а затем надежно связали их между собой. Самое длинное бревно, четырнадцатиметровое, было положено в средину и сильно выступало с обоих концов. По обе стороны от него были симметрично уложены остальные бревна в порядке убывающей величины, так что по бокам плот имел в длину около десяти метров, а нос выступал подобно угольнику снегоочистителя. Корма плота была обрезана по прямой, за исключением трех средних бревен, которые несколько выдавались; на этом выступе была укреплена короткая толстая колода из бальсового дерева, которая лежала поперек плота и имела гнезда для уключины рулевого весла. Когда девять бальсовых бревен были прочно связаны отдельными кусками пеньковой веревки толщиной в тридцать миллиметров, поверх них в поперечном направлении с промежутками около метра мы укрепили тонкие бальсовые бревна — ронжины[131]. Сам плот был теперь готов, тщательно скрепленный тремя сотнями веревок различной длины, каждую из которых мы накрепко завязали прочным узлом. Сверху мы настлали палубу из расщепленных бамбуковых стволов, прикрепленных к ронжинам; палуба была покрыта циновками, сплетенными из молодых побегов бамбука. Посреди плота, несколько ближе к корме, мы построили небольшую открытую каюту из бамбуковых жердей; стены ее были сплетены из бамбуковых побегов, а крыша сделана из бамбуковых планок и глянцевитых банановых листьев, уложенных один на другой, подобно черепице. Перед каютой мы установили рядом две мачты. Они были вырублены из твердого, как железо, мангрового дерева; они стояли наклонно по отношению друг к другу, и верхушки их были связаны вместе крест-накрест. Большой четырехугольный парус был укреплен на рее, сделанной из двух бамбуковых стволов связанных вместе для прочности.
Девять больших бревен, которым предстояло нести нас по океану, были спереди заострены, как это делали индейцы, чтобы они могли легче скользить в воде, а на носу над самой поверхностью воды мы устроили очень низкий фальшборт для защиты от волн.
В нескольких местах, где между бревнами имелись большие щели, мы просунули толстые сосновые доски, всего пять штук, которые уходили в воду на полтора метра поперечной кромкой вниз под прямым углом к плоту. Они были расположены без всякой системы, имели в толщину двадцать пять миллиметров, а в ширину шестьдесят сантиметров. Они удерживались на месте с помощью клиньев и веревок и служили в качестве маленьких параллельных килей, или швертов. Такого рода кили существовали на всех бальсовых плотах во времена инков задолго до открытия Америки и предназначались для того, чтобы предохранить плоские деревянные плоты от сноса ветром и течением. Никаких поручней или ограждений вокруг плота мы не устроили, но вдоль каждого борта было положено длинное тонкое бальсовое бревно, которое обеспечивало твердую опору для ног.
Все сооружение представляло собой точную копию старинных перуанских и эквадорских судов, если не считать низкого фальшборта на носу, который, как впоследствии выяснилось, был совершенно не нужен. Что касается всяких деталей отделки, то мы, конечно, могли руководствоваться своим вкусом, если только это не отражалось на мореходных качествах нашего судна. Мы знали, что в недалеком будущем плот будет представлять собой весь наш мир и что поэтому любая мелочь нашего устройства с каждой неделей, проведенной на плоту, будет приобретать все большее значение.
Мы отобрали девять самых толстых бревен, считая, что их будет достаточно для плота. Для того чтобы веревки, которые должны были соединить между собой бревна и скрепить весь плот, не могли соскользнуть, в бревнах были вырезаны глубокие пазы. Во всем сооружении не было ни одного костыля или гвоздя, ни одного куска стального троса. Прежде всего мы спустили девять больших бревен в воду, одно возле другого, выждали достаточно времени, чтобы они приняли естественное плавучее положение, а затем надежно связали их между собой. Самое длинное бревно, четырнадцатиметровое, было положено в средину и сильно выступало с обоих концов. По обе стороны от него были симметрично уложены остальные бревна в порядке убывающей величины, так что по бокам плот имел в длину около десяти метров, а нос выступал подобно угольнику снегоочистителя. Корма плота была обрезана по прямой, за исключением трех средних бревен, которые несколько выдавались; на этом выступе была укреплена короткая толстая колода из бальсового дерева, которая лежала поперек плота и имела гнезда для уключины рулевого весла. Когда девять бальсовых бревен были прочно связаны отдельными кусками пеньковой веревки толщиной в тридцать миллиметров, поверх них в поперечном направлении с промежутками около метра мы укрепили тонкие бальсовые бревна — ронжины[131]. Сам плот был теперь готов, тщательно скрепленный тремя сотнями веревок различной длины, каждую из которых мы накрепко завязали прочным узлом. Сверху мы настлали палубу из расщепленных бамбуковых стволов, прикрепленных к ронжинам; палуба была покрыта циновками, сплетенными из молодых побегов бамбука. Посреди плота, несколько ближе к корме, мы построили небольшую открытую каюту из бамбуковых жердей; стены ее были сплетены из бамбуковых побегов, а крыша сделана из бамбуковых планок и глянцевитых банановых листьев, уложенных один на другой, подобно черепице. Перед каютой мы установили рядом две мачты. Они были вырублены из твердого, как железо, мангрового дерева; они стояли наклонно по отношению друг к другу, и верхушки их были связаны вместе крест-накрест. Большой четырехугольный парус был укреплен на рее, сделанной из двух бамбуковых стволов связанных вместе для прочности.
Девять больших бревен, которым предстояло нести нас по океану, были спереди заострены, как это делали индейцы, чтобы они могли легче скользить в воде, а на носу над самой поверхностью воды мы устроили очень низкий фальшборт для защиты от волн.
В нескольких местах, где между бревнами имелись большие щели, мы просунули толстые сосновые доски, всего пять штук, которые уходили в воду на полтора метра поперечной кромкой вниз под прямым углом к плоту. Они были расположены без всякой системы, имели в толщину двадцать пять миллиметров, а в ширину шестьдесят сантиметров. Они удерживались на месте с помощью клиньев и веревок и служили в качестве маленьких параллельных килей, или швертов. Такого рода кили существовали на всех бальсовых плотах во времена инков задолго до открытия Америки и предназначались для того, чтобы предохранить плоские деревянные плоты от сноса ветром и течением. Никаких поручней или ограждений вокруг плота мы не устроили, но вдоль каждого борта было положено длинное тонкое бальсовое бревно, которое обеспечивало твердую опору для ног.
Все сооружение представляло собой точную копию старинных перуанских и эквадорских судов, если не считать низкого фальшборта на носу, который, как впоследствии выяснилось, был совершенно не нужен. Что касается всяких деталей отделки, то мы, конечно, могли руководствоваться своим вкусом, если только это не отражалось на мореходных качествах нашего судна. Мы знали, что в недалеком будущем плот будет представлять собой весь наш мир и что поэтому любая мелочь нашего устройства с каждой неделей, проведенной на плоту, будет приобретать все большее значение.
 Поэтому мы постарались придать нашей маленькой палубе возможно более разнообразный вид. Бамбуковый настил покрывал не весь плот: он тянулся лишь перед бамбуковой каютой и вдоль правой открытой стороны ее. Слева от каюты было что-то вроде заднего двора, заставленного крепко привязанными ящиками и предметами снаряжения; между ними и краем плота оставался лишь узкий проход. Спереди на носу и на корме, вплоть до задней стены каюты, девять огромных бревен не имели никакого настила. Таким образом, когда мы хотели обойти вокруг бамбуковой каюты, мы должны были с желтого бамбукового настила и плетеных циновок перешагнуть на круглые серые бревна на корме, а затем снова подняться на кучи груза, лежавшие с другой стороны. Расстояние было небольшое, но психологический эффект от преодоления каких-то препятствий вносил разнообразие и компенсировал ограниченность пространства, в пределах которого мы могли двигаться. На верхушке мачты мы устроили деревянную площадку — не столько для того, чтобы иметь наблюдательный пункт, когда мы будем, наконец, приближаться к земле, сколько для того, чтобы влезть на нее во время пути и смотреть на океан под другим углом зрения.
Когда плот начал принимать более или менее законченный вид и покачивался среди военных кораблей, сверкая золотистыми стволами зрелого бамбука и зеленью листвы, сам морской министр приехал осмотреть нашу работу. Мы безмерно гордились своим судном — живым воспоминанием о временах инков, — стоявшим здесь, в окружении страшных военных кораблей. Но морской министр пришел в неописуемый ужас от того, что он увидел. Я был вызван в управление военного порта и должен был подписать документ, снимавший с морского министерства всякую ответственность за то, что мы построили в его порту. Меня вызвали также к начальнику порта Кальяо, и там я подписал другой документ, в котором говорилось, что в случае, если я с людьми и грузом покину порт на плоту, ответственность за это будет лежать всецело на мне. Через некоторое время военный порт было разрешено посетить группе иностранных морских специалистов и дипломатов. Их мнение было также малообнадеживающим, и через несколько дней меня вызвал к себе посол одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. И когда я ответил утвердительно, он взглянул мне прямо в глаза и произнес зловещим, замогильным голосом: — Ваши мать и отец будут очень опечалены, когда узнают о вашей смерти.
В качестве частного лица он просил меня отказаться от путешествия, пока еще не поздно. Один адмирал, который осматривал плот, сказал ему, что мы ни в коем случае не останемся в живых. Прежде всего размеры плота неправильны. Он настолько мал, что при сильном волнении перевернется; в то же время длина его такова, что нос и корма будут находиться на двух различных волнах, и хрупкие бальсовые бревна плота с людьми и грузом сломаются, не выдержав напряжения. И что еще хуже, крупнейший в стране экспортер бальсовых деревьев сказал ему, что пористые бальсовые бревна смогут проплыть по океану только четвертую часть нужного расстояния, а затем они совершенно пропитаются водой и затонут под нами.
Все это звучало невесело, но так как мы упорной настаивали на своем, то нам была подарена библия, чтобы мы захватили ее с собой в плавание. Вообще гoворя, специалисты, осматривавшие плот, мало обнадеживали нас. Штормы, а может быть и ураганы, смоют нас за борт и уничтожат низко сидящее открытое судно, которое окажется совершенно беспомощным и будет кружиться по океану по воле ветра и волн. Даже при обычном волнении нас постоянно будет заливать соленой водой, которая разъест кожу на ногах и испортит все, что будет находиться на плоту. Если суммировать все сказанное нам поочередно различными специалистами, то получалось, что во всем плоту не было ни одной веревки, ни одного узла, ни одного размера, ни одного куска дерева, которые не должны были бы послужить причиной нашей гибели в океане. Были заключены крупные пари относительно того, сколько дней продержится плот, а один легкомысленный морской атташе побился об заклад на все количество виски, которые смогут выпить участники экспедиции до конца своей жизни, если они благополучно достигнут какого-нибудь острова в Южном море.
Хуже всего было, когда в гавань зашло норвежское судно и мы привели капитана и нескольких из его самых опытных моряков в военный порт. Мы с нетерпением ждали их критических замечаний. И наше разочарование было очень велико, когда они все сошлись на том, что тупоносому неуклюжему плоту парус не принесет никакой пользы; капитан, кроме того, считал, что в том случае, если мы будем держаться на воде, понадобится год или два для того, чтобы наш плот, увлекаемый течением Гумбольдта, пересек океан. Боцман смотрел на наши крепления и качал головой. Мы можем не беспокоиться. Не пройдет и двух недель, как все веревки перетрутся и плот развалится, ибо в море большие бревна будут все время двигаться вверх и вниз и тереться друг о друга. Если мы не заменим наши веревки стальными тросами или цепями, мы можем спокойно укладывать чемоданы и ехать домой.
Эти доводы трудно было опровергнуть. Если хоть один из них окажется правильным, то у нас нет никаких шансов на успех. Боюсь, что я не раз спрашивал себя, знаем ли мы, что делаем. Сам я ничего не мог возразить против этих предостережений, так как не был моряком. Но у меня оставался единственный козырь на руках, на котором было основано все наше предприятие. В глубине души я все время был уверен, что доисторическая цивилизация распространилась из Перу на острова Тихого океана в ту эпоху, когда плоты, подобные нашему, были единственными судами на этом побережье. Отсюда я умозаключал, что если бальсовые деревья плавали и крепления держались у Кон-Тики в 500 году нашей эры, то они будут так же вести себя и теперь, коль скоро мы, не мудрствуя лукаво, построили свой плот точно по образцу его плота. Бенгт и Герман полностью восприняли мою теорию, и пока специалисты оплакивали нас, ребята относились ко всему совершенно спокойно и прекрасно проводили время в Лиме. Как-то вечером Торстейн с тревогой спросил, меня, уверен ли я, что океанское течение идет в нужном направлении. Мы находились в это время в кино и любовались Дороти Ламур, которая вместе с гавайскими девушками танцевала в соломенной юбочке среди пальм на живописном островке Южного моря.
— Сюда мы и должны направиться, — сказал Торстейн. — И мне жаль вас, если течение идет не так, как вы утверждаете!
Когда день отплытия стал приближаться, мы пошли в обычное паспортное бюро за получением разрешения на выезд из страны. Бенгт, как переводчик, стоял в очереди первым.
— Ваша фамилия? — спросил церемонный маленький чиновник, подозрительно глядя поверх очков на огромную бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — почтительно ответил Бенгт.
Чиновник заложил в пишущую машинку длинный бланк.
— Каким пароходом вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — принялся объяснять Бенгт, нагнувшись к перепуганному маленькому человечку, — я прибыл не на пароходе, я приехал в Перу на челноке.
Онемев от удивления, чиновник посмотрел на Бенгта и напечатал «челнок» в соответствующей графе бланка.
— А с каким пароходом вы покидаете Перу?
— Опять же, видите ли, — вежливо произнес Бенгт, — я покидаю Перу не на пароходе, а на плоту.
— Как бы не так! — сердито воскликнул чиновник и раздраженно вынул из машинки бланк. — Вы будете отвечать на мои вопросы как следует?
За несколько дней до отплытия продовольствие, вода и все наше снаряжение были погружены на плот. Мы взяли продовольствие на шесть человек на четыре месяца; оно состояло из армейских рационов, упакованных в небольшие прочные картонные коробки. Герману пришла в голову мысль разогреть асфальт и облить ровным слоем каждую коробку со всех сторон. После этого мы посыпали коробки песком, чтобы они не слиплись, и тесно сложили их под бамбуковой палубой, где они заняли все пространство между девятью тонкими ронжинами, которые поддерживали палубу.
Из кристально чистого источника, находившегося высоко в горах, мы наполнили пятьдесят шесть маленьких бидонов, в которые вошло около 1 100 литров питьевой воды. Бидоны мы также прочно пристроили между ронжинами так, чтобы вокруг них все время плескалась вода океана. На бамбуковой палубе мы привязали остальное снаряжение и большие плетеные корзины, наполненныефруктами и кокосовыми орехами.
Один угол бамбуковой каюты Кнут и Торстейн заняли под радиостанцию. В глубине каюты внизу между ронжинами мы поставили восемь ящиков, прочно прикрепив их к бревнам. Два ящика предназначались для научных инструментов и кинопленки, остальные шесть были предоставлены в наше распоряжение, по одному на каждого; это было намеком на то, что каждый может захватить с собой личных вещей столько, сколько поместится в его ящик. Эрик притащил несколько рулонов бумаги для рисования и гитару, и его ящик оказался так набит, что ему пришлось держать свои чулки в ящике Торстейна. Затем появились четыре матроса с ящиком Бенгта. Он не взял с собой ничего, кроме книг, но зато умудрился втиснуть в него 73 труда по социологии и этнографии. Поверх ящиков мы положили плетеные циновки и соломенные матрацы. Теперь мы были готовы к отплытию.
Прежде всего плот вывели на буксире за пределы военного порта и протащили на некоторое расстояние вокруг гавани, чтобы убедиться в правильном распределении груза; затем его отбуксировали через всю гавань к яхт-клубу. Там накануне нашего отплытия в присутствии приглашенных и других заинтересованных лиц должно было состояться «крещение» плота.
27 апреля был поднят норвежский флаг, а на рее развевались флаги иностранных государств, оказавших экспедиции практическую поддержку. Набережная была запружена людьми, которым хотелось посмотреть на церемонию «крещения» необыкновенного судна. Цвет кожи и черты лица многих из зрителей говорили о том, что их далекие предки плавали на бальсовых плотах вдоль этого берега. Но были здесь и потомки старинных испанских семейств во главе с представителями морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины и Кубы, бывший губернатор английских колоний в Тихом океане, шведский и бельгийский посланники и, наконец, наши друзья из маленькой норвежской колонии во главе с генеральным консулом Баром. Толпа журналистов суетилась, щелкали киноаппараты; не хватало только духового оркестра и большого барабана. Нам всем было ясно одно: если плот рассыплется на части по выходе из гавани, мы предпочтем поплыть в Полинезию каждый на отдельном бревне, но не решимся вернуться назад.
Герд Волд, секретарю экспедиции и связной между нами и материком, выпало на долю «окрестить» плот молоком кокосового ореха отчасти потому, что это гармонировало с каменным веком, а отчасти потому, что шампанское оказалось по недоразумению запрятанным на дне личного ящика Торстейна. После того как собравшимся было сообщено по-английски и по-испански, что плоту присваивается имя великого предшественника инков — солнце-короля, который полторы тысячи лет назад исчез из Перу, отправившись по океану к западу, и впоследствии появился в Полинезии, — Герд Волд приступила к церемоний «крещения» плота «Кон-Тики». Она с такой силой ударила кокосовым орехом (скорлупа которого имела трещину) о нос плота, что молоко и кусочки ядра очутились на волосах ближайших зрителей, почтительно стоявших вокруг.
Затем мы подтянули кверху бамбуковую рею и подняли парус, в центре которого наш художник Эрик нарисовал красной краской бородатое лицо Кон-Тики. Это была точная копия головы солнце-короля с высеченной из красного камня статуи, обнаруженной в разрушенном городе Тиахуанако.
— Ах, сеньор Даниельссон! — в восхищении воскликнул старший рабочий из портовой мастерской при виде бородатого лица на парусе.
Он называл Бенгта сеньором Кон-Тики в течение двух месяцев с тех пор, как мы ему показали бородатое лицо Кон-Тики на листе бумаги. И только теперь он, наконец, понял, что настоящая фамилия Бенгта была Даниельссон.
Перед отплытием мы все были приглашены к президенту на прощальную аудиенцию, а после нее совершили прогулку высоко в горы, чтобы вдосталь насмотреться на скалы и каменистые осыпи, прежде чем мы пустимся в путь по беспредельному океану. Пока шла работа по постройке плота на берегу, мы жили в пансионе среди пальмовой рощи в окрестностях Лимы; в порт Кальяо и обратно мы ездили на автомобиле министерства авиации с шофером, которого Герд удалось нанять на время подготовки экспедиции. Теперь мы попросили шофера отвезти нас прямо в горы как можно дальше, но с тем, чтобы обернуться за один день. И вот мы катили по пустынным дорогам вдоль древних оросительных каналов времен инков, пока не достигли головокружительной высоты в 4 ООО метров над мачтой нашего плота. Здесь мы просто пожирали глазами и скалы, и горные вершины, и зеленую траву, стараясь насытиться спокойной горной громадой Анд, расстилавшихся перед нами. Мы пытались убедить самих себя, что нам решительно надоели камни и твердая земля и что мы жаждем поднять свой парус и познакомиться с океаном.
Поэтому мы постарались придать нашей маленькой палубе возможно более разнообразный вид. Бамбуковый настил покрывал не весь плот: он тянулся лишь перед бамбуковой каютой и вдоль правой открытой стороны ее. Слева от каюты было что-то вроде заднего двора, заставленного крепко привязанными ящиками и предметами снаряжения; между ними и краем плота оставался лишь узкий проход. Спереди на носу и на корме, вплоть до задней стены каюты, девять огромных бревен не имели никакого настила. Таким образом, когда мы хотели обойти вокруг бамбуковой каюты, мы должны были с желтого бамбукового настила и плетеных циновок перешагнуть на круглые серые бревна на корме, а затем снова подняться на кучи груза, лежавшие с другой стороны. Расстояние было небольшое, но психологический эффект от преодоления каких-то препятствий вносил разнообразие и компенсировал ограниченность пространства, в пределах которого мы могли двигаться. На верхушке мачты мы устроили деревянную площадку — не столько для того, чтобы иметь наблюдательный пункт, когда мы будем, наконец, приближаться к земле, сколько для того, чтобы влезть на нее во время пути и смотреть на океан под другим углом зрения.
Когда плот начал принимать более или менее законченный вид и покачивался среди военных кораблей, сверкая золотистыми стволами зрелого бамбука и зеленью листвы, сам морской министр приехал осмотреть нашу работу. Мы безмерно гордились своим судном — живым воспоминанием о временах инков, — стоявшим здесь, в окружении страшных военных кораблей. Но морской министр пришел в неописуемый ужас от того, что он увидел. Я был вызван в управление военного порта и должен был подписать документ, снимавший с морского министерства всякую ответственность за то, что мы построили в его порту. Меня вызвали также к начальнику порта Кальяо, и там я подписал другой документ, в котором говорилось, что в случае, если я с людьми и грузом покину порт на плоту, ответственность за это будет лежать всецело на мне. Через некоторое время военный порт было разрешено посетить группе иностранных морских специалистов и дипломатов. Их мнение было также малообнадеживающим, и через несколько дней меня вызвал к себе посол одной из великих держав.
— Ваши родители живы? — спросил он. И когда я ответил утвердительно, он взглянул мне прямо в глаза и произнес зловещим, замогильным голосом: — Ваши мать и отец будут очень опечалены, когда узнают о вашей смерти.
В качестве частного лица он просил меня отказаться от путешествия, пока еще не поздно. Один адмирал, который осматривал плот, сказал ему, что мы ни в коем случае не останемся в живых. Прежде всего размеры плота неправильны. Он настолько мал, что при сильном волнении перевернется; в то же время длина его такова, что нос и корма будут находиться на двух различных волнах, и хрупкие бальсовые бревна плота с людьми и грузом сломаются, не выдержав напряжения. И что еще хуже, крупнейший в стране экспортер бальсовых деревьев сказал ему, что пористые бальсовые бревна смогут проплыть по океану только четвертую часть нужного расстояния, а затем они совершенно пропитаются водой и затонут под нами.
Все это звучало невесело, но так как мы упорной настаивали на своем, то нам была подарена библия, чтобы мы захватили ее с собой в плавание. Вообще гoворя, специалисты, осматривавшие плот, мало обнадеживали нас. Штормы, а может быть и ураганы, смоют нас за борт и уничтожат низко сидящее открытое судно, которое окажется совершенно беспомощным и будет кружиться по океану по воле ветра и волн. Даже при обычном волнении нас постоянно будет заливать соленой водой, которая разъест кожу на ногах и испортит все, что будет находиться на плоту. Если суммировать все сказанное нам поочередно различными специалистами, то получалось, что во всем плоту не было ни одной веревки, ни одного узла, ни одного размера, ни одного куска дерева, которые не должны были бы послужить причиной нашей гибели в океане. Были заключены крупные пари относительно того, сколько дней продержится плот, а один легкомысленный морской атташе побился об заклад на все количество виски, которые смогут выпить участники экспедиции до конца своей жизни, если они благополучно достигнут какого-нибудь острова в Южном море.
Хуже всего было, когда в гавань зашло норвежское судно и мы привели капитана и нескольких из его самых опытных моряков в военный порт. Мы с нетерпением ждали их критических замечаний. И наше разочарование было очень велико, когда они все сошлись на том, что тупоносому неуклюжему плоту парус не принесет никакой пользы; капитан, кроме того, считал, что в том случае, если мы будем держаться на воде, понадобится год или два для того, чтобы наш плот, увлекаемый течением Гумбольдта, пересек океан. Боцман смотрел на наши крепления и качал головой. Мы можем не беспокоиться. Не пройдет и двух недель, как все веревки перетрутся и плот развалится, ибо в море большие бревна будут все время двигаться вверх и вниз и тереться друг о друга. Если мы не заменим наши веревки стальными тросами или цепями, мы можем спокойно укладывать чемоданы и ехать домой.
Эти доводы трудно было опровергнуть. Если хоть один из них окажется правильным, то у нас нет никаких шансов на успех. Боюсь, что я не раз спрашивал себя, знаем ли мы, что делаем. Сам я ничего не мог возразить против этих предостережений, так как не был моряком. Но у меня оставался единственный козырь на руках, на котором было основано все наше предприятие. В глубине души я все время был уверен, что доисторическая цивилизация распространилась из Перу на острова Тихого океана в ту эпоху, когда плоты, подобные нашему, были единственными судами на этом побережье. Отсюда я умозаключал, что если бальсовые деревья плавали и крепления держались у Кон-Тики в 500 году нашей эры, то они будут так же вести себя и теперь, коль скоро мы, не мудрствуя лукаво, построили свой плот точно по образцу его плота. Бенгт и Герман полностью восприняли мою теорию, и пока специалисты оплакивали нас, ребята относились ко всему совершенно спокойно и прекрасно проводили время в Лиме. Как-то вечером Торстейн с тревогой спросил, меня, уверен ли я, что океанское течение идет в нужном направлении. Мы находились в это время в кино и любовались Дороти Ламур, которая вместе с гавайскими девушками танцевала в соломенной юбочке среди пальм на живописном островке Южного моря.
— Сюда мы и должны направиться, — сказал Торстейн. — И мне жаль вас, если течение идет не так, как вы утверждаете!
Когда день отплытия стал приближаться, мы пошли в обычное паспортное бюро за получением разрешения на выезд из страны. Бенгт, как переводчик, стоял в очереди первым.
— Ваша фамилия? — спросил церемонный маленький чиновник, подозрительно глядя поверх очков на огромную бороду Бенгта.
— Бенгт Эммерик Даниельссон, — почтительно ответил Бенгт.
Чиновник заложил в пишущую машинку длинный бланк.
— Каким пароходом вы прибыли в Перу?
— Видите ли, — принялся объяснять Бенгт, нагнувшись к перепуганному маленькому человечку, — я прибыл не на пароходе, я приехал в Перу на челноке.
Онемев от удивления, чиновник посмотрел на Бенгта и напечатал «челнок» в соответствующей графе бланка.
— А с каким пароходом вы покидаете Перу?
— Опять же, видите ли, — вежливо произнес Бенгт, — я покидаю Перу не на пароходе, а на плоту.
— Как бы не так! — сердито воскликнул чиновник и раздраженно вынул из машинки бланк. — Вы будете отвечать на мои вопросы как следует?
За несколько дней до отплытия продовольствие, вода и все наше снаряжение были погружены на плот. Мы взяли продовольствие на шесть человек на четыре месяца; оно состояло из армейских рационов, упакованных в небольшие прочные картонные коробки. Герману пришла в голову мысль разогреть асфальт и облить ровным слоем каждую коробку со всех сторон. После этого мы посыпали коробки песком, чтобы они не слиплись, и тесно сложили их под бамбуковой палубой, где они заняли все пространство между девятью тонкими ронжинами, которые поддерживали палубу.
Из кристально чистого источника, находившегося высоко в горах, мы наполнили пятьдесят шесть маленьких бидонов, в которые вошло около 1 100 литров питьевой воды. Бидоны мы также прочно пристроили между ронжинами так, чтобы вокруг них все время плескалась вода океана. На бамбуковой палубе мы привязали остальное снаряжение и большие плетеные корзины, наполненныефруктами и кокосовыми орехами.
Один угол бамбуковой каюты Кнут и Торстейн заняли под радиостанцию. В глубине каюты внизу между ронжинами мы поставили восемь ящиков, прочно прикрепив их к бревнам. Два ящика предназначались для научных инструментов и кинопленки, остальные шесть были предоставлены в наше распоряжение, по одному на каждого; это было намеком на то, что каждый может захватить с собой личных вещей столько, сколько поместится в его ящик. Эрик притащил несколько рулонов бумаги для рисования и гитару, и его ящик оказался так набит, что ему пришлось держать свои чулки в ящике Торстейна. Затем появились четыре матроса с ящиком Бенгта. Он не взял с собой ничего, кроме книг, но зато умудрился втиснуть в него 73 труда по социологии и этнографии. Поверх ящиков мы положили плетеные циновки и соломенные матрацы. Теперь мы были готовы к отплытию.
Прежде всего плот вывели на буксире за пределы военного порта и протащили на некоторое расстояние вокруг гавани, чтобы убедиться в правильном распределении груза; затем его отбуксировали через всю гавань к яхт-клубу. Там накануне нашего отплытия в присутствии приглашенных и других заинтересованных лиц должно было состояться «крещение» плота.
27 апреля был поднят норвежский флаг, а на рее развевались флаги иностранных государств, оказавших экспедиции практическую поддержку. Набережная была запружена людьми, которым хотелось посмотреть на церемонию «крещения» необыкновенного судна. Цвет кожи и черты лица многих из зрителей говорили о том, что их далекие предки плавали на бальсовых плотах вдоль этого берега. Но были здесь и потомки старинных испанских семейств во главе с представителями морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины и Кубы, бывший губернатор английских колоний в Тихом океане, шведский и бельгийский посланники и, наконец, наши друзья из маленькой норвежской колонии во главе с генеральным консулом Баром. Толпа журналистов суетилась, щелкали киноаппараты; не хватало только духового оркестра и большого барабана. Нам всем было ясно одно: если плот рассыплется на части по выходе из гавани, мы предпочтем поплыть в Полинезию каждый на отдельном бревне, но не решимся вернуться назад.
Герд Волд, секретарю экспедиции и связной между нами и материком, выпало на долю «окрестить» плот молоком кокосового ореха отчасти потому, что это гармонировало с каменным веком, а отчасти потому, что шампанское оказалось по недоразумению запрятанным на дне личного ящика Торстейна. После того как собравшимся было сообщено по-английски и по-испански, что плоту присваивается имя великого предшественника инков — солнце-короля, который полторы тысячи лет назад исчез из Перу, отправившись по океану к западу, и впоследствии появился в Полинезии, — Герд Волд приступила к церемоний «крещения» плота «Кон-Тики». Она с такой силой ударила кокосовым орехом (скорлупа которого имела трещину) о нос плота, что молоко и кусочки ядра очутились на волосах ближайших зрителей, почтительно стоявших вокруг.
Затем мы подтянули кверху бамбуковую рею и подняли парус, в центре которого наш художник Эрик нарисовал красной краской бородатое лицо Кон-Тики. Это была точная копия головы солнце-короля с высеченной из красного камня статуи, обнаруженной в разрушенном городе Тиахуанако.
— Ах, сеньор Даниельссон! — в восхищении воскликнул старший рабочий из портовой мастерской при виде бородатого лица на парусе.
Он называл Бенгта сеньором Кон-Тики в течение двух месяцев с тех пор, как мы ему показали бородатое лицо Кон-Тики на листе бумаги. И только теперь он, наконец, понял, что настоящая фамилия Бенгта была Даниельссон.
Перед отплытием мы все были приглашены к президенту на прощальную аудиенцию, а после нее совершили прогулку высоко в горы, чтобы вдосталь насмотреться на скалы и каменистые осыпи, прежде чем мы пустимся в путь по беспредельному океану. Пока шла работа по постройке плота на берегу, мы жили в пансионе среди пальмовой рощи в окрестностях Лимы; в порт Кальяо и обратно мы ездили на автомобиле министерства авиации с шофером, которого Герд удалось нанять на время подготовки экспедиции. Теперь мы попросили шофера отвезти нас прямо в горы как можно дальше, но с тем, чтобы обернуться за один день. И вот мы катили по пустынным дорогам вдоль древних оросительных каналов времен инков, пока не достигли головокружительной высоты в 4 ООО метров над мачтой нашего плота. Здесь мы просто пожирали глазами и скалы, и горные вершины, и зеленую траву, стараясь насытиться спокойной горной громадой Анд, расстилавшихся перед нами. Мы пытались убедить самих себя, что нам решительно надоели камни и твердая земля и что мы жаждем поднять свой парус и познакомиться с океаном.

 — А как на островах Галапагос, хорошо живется? — предусмотрительно спросил однажды Кнут и посмотрел на карту, где цепь кружков, обозначавших положение нашего плота в разное время, напоминала палец, который зловеще указывал в сторону проклятых островов Галапагос.
— Едва ли, — ответил я. — Говорят, что инка Тупак Юпанки незадолго до эпохи Колумба отплыл из Эквадора и достиг островов Галапагос, но ни он и ни один из его спутников не поселились там, так как там нет воды.
— О'кэй, — сказал Кнут. — В таком случае на черта нам идти туда. Надеюсь, мы туда и не попадем.
Теперь мы так привыкли к виду танцующих вокруг нас волн, что перестали обращать на них внимание. Стоит ли беспокоиться о том, что чуть-чуть потанцуем, имея под собой тысячи метров воды, если мы и плот все время держимся на поверхности? Нетрудно было заметить, что бальсовые бревна впитывали воду. Хуже всего обстояло дело с кормовыми ронжинами; засунув кончик пальца в их размокшую древесину, можно было услышать, как под ним хлюпала вода. Ничего не говоря спутникам, я отломал кусок намокшего дерева и бросил его за борт. Он спокойно погрузился в воду и медленно исчез в глубине. Позже я увидел, что некоторые из моих товарищей проделали то же самое, выбрав для этого время, когда им казалось, что на них никто не смотрит. Они стояли, сосредоточенно наблюдая за тем, как кусок пропитанной водой древесины постепенно погружался в зеленую воду. Перед отплытием мы отметили осадку плота, но при неспокойном море было невозможно установить, как глубоко он сидел теперь, так как бревна то на мгновение поднимались из воды, то снова глубоко опускались в нее. Но когда мы вонзали в бревно нож, то мы к нашей радости убеждались, что на глубине примерно в 25 миллиметров от поверхности дерево было сухим. Мы рассчитали, что в случае, если вода будет проникать в бревна тем же темпом, то к тому времени, когда, по нашим предположениям, мы будем приближаться к земле, плот уже не сможет держаться на поверхности воды. Но мы надеялись, что в более глубоких слоях древесный сок будет играть роль пропитывающего состава, который приостановит поглощение воды.
Была и еще одна угроза, которая тревожила наши умы на протяжении первых недель, — это веревки. Днем мы были так заняты, что мало думали о них; но когда наступала темнота и мы залезали в спальные мешки на полу каюты, у нас было больше времени на то, чтобы думать, чувствовать и прислушиваться. Лежа там, каждый на своем соломенном матраце, мы ощущали, как плетеные циновки под нами приподнимаются вместе с бревнами. Не только весь плот все время покачивался, но и все девять бревен изменяли свое положение по отношению друг к другу. Когда одно приподнималось, другое опускалось, и эти легкие колебательные движения не прекращались все время. Они были незначительными, но достаточными для того, чтобы человек чувствовал себя как бы лежащим на спине большого дышащего животного, и мы предпочитали укладываться вдоль бревен. Сильнее всего это покачивание ощущалось в течение первых двух ночей, но тогда мы были слишком усталыми, чтобы обращать на него внимание. Потом веревки слегка набухли в воде, и бревна стали вести себя спокойнее. Но все же бревна, составлявшие остов плота, никогда не представляли собой ровной поверхности, никогда не были совершенно неподвижными по отношению друг к другу. А так как эти бревна двигались вверх и вниз и поворачивались на каждом стыке, то и все двигалось вместе с ними. Бамбуковая палуба, двойная мачта, четыре плетеные стены каюты и крыша из планок и листьев были закреплены канатами и все-таки покачивались, в одном месте приподнимаясь и опускаясь в другом. Это было чуть заметное движение но все же мы ясно видели его. Если один угол каюты поднимался, другой опускался, если бамбуковые жерди на одной половине крыши изгибались в одну сторону, то на другой половине крыши они изгибались в противоположную сторону. А когда мы смотрели из каюты через открытую стену, все казалось нам еще более подвижным и неустойчивым, так как небесный свод описывал медленные крути над нами, а волны высоко подпрыгивали ему навстречу.
Веревки принимали на себя всю нагрузку. Целыми ночами мы слышали, как они скрипели, стонали, терлись о бревна и шуршали. В темноте все эти звуки сливались в единую жалобную симфонию, в которой каждая веревка тянула отдельную ноту в соответствии со своей толщиной и степенью натяжения. Каждое утро мы тщательно осматривали веревки. Кто-нибудь из нас ложился даже на край плота, свешивал голову в воду и, пока двое товарищей крепко держали его за ноги, старался разглядеть, в порядке ли веревки на подводной части плота.
Но веревки держались. Две недели, говорили нам моряки, потом все веревки перетрутся. И все же, вопреки этому единодушному мнению, мы пока не находили ни малейшего признака перетирания. И лишь тогда, когда мы были далеко в океане, нам стало ясно, в чем дело. Бальсовая древесина была так мягка, что веревки постепенно врезались в дерево, и бревна предохраняли их, вместо того чтобы перетирать.
По прошествии примерно недели океан стал спокойнее, и мы заметили, что он был синим, а не зеленым. Мы теперь плыли к запад-северо-западу, а не к северо-западу и сочли это за первый робкий признак того, что мы выбрались из берегового течения и отныне будем двигаться в сторону открытого океана.
В первый же день, как мы остались одни среди океана, мы заметили вокруг плота рыб, но тогда мы были слишком заняты рулевым веслом, чтобы думать о рыбной ловле. На второй день мы наткнулись на целый косяк сардин, а немного спустя появилась двухметровая голубая акула и, то и дело переворачиваясь своим белым брюхом вверх, поплыла за самой кормой плота, где Герман и Бенгт, стоя босиком в воде, орудовали с рулевым веслом. Некоторое время она играла вокруг нас, но скрылась, как только вооружились ручным гарпуном.
На следующий день нас навестили тунцы, бониты[137] и золотые макрели; а когда крупная летающая рыба шлепнулась на палубу плота, мы использовали ее в качестве наживки и тотчас же вытащили двух больших золотых макрелей весом в 10 и 15 килограммов. Это был провиант на несколько дней. Во время вахты у руля мы часто видели рыб, которые были нам совершенно неизвестны, а однажды нам попалась стая дельфинов, казавшаяся бесконечной. Черные спины, торчавшие из воды одна рядом с другой у самого плота, кувыркались и подпрыгивали тут и там; с верхушки мачты мы увидели, что весь океан, насколько хватал взор, был покрыт ими. Чем больше мы приближались к экватору и чем дальше уходили от берега, тем чаще стали появляться летающие рыбы. Когда мы, наконец, вошли в синюю воду, где величественно перекатывались освещенные солнцем спокойные волны, подернутые рябью от порывов ветра, летающие рыбы проносились перед нами, как град снарядов, выпрыгивая из воды и летя по прямой линии и снова исчезая под водой, когда энергия полета иссякала.
Если мы выставляли ночью маленький керосиновый фонарь, его свет привлекал летающих рыб, больших и маленьких, и они перелетали через плот. Нередко они ударялись о бамбуковую каюту или парус и беспомощно падали на палубу. Оттолкнуться от нее, как они отталкиваются на ходу от воды, они не могли и оставались лежать, беспомощно извиваясь, похожие на пучеглазых сельдей с большими грудными плавниками. Иногда нам приходилось слышать крепкое словцо, когда холодная летучая рыба, двигаясь с изрядной скоростью, ударяла по лицу стоявшего на палубе человека. Они всегда летели быстро, головой вперед, и если они ударяли прямо в лицо, то оно начинало гореть, как от хорошей пощечины. Но потерпевшая сторона быстро забывала эту неспровоцированную агрессию; при всех своих недостатках это была морская страна чудес, где тонкие рыбные блюда со свистом прилетали к нам по воздуху. Обычно мы жарили летучих рыб к завтраку, и — зависело ли это от рыбы, от повара или от нашего аппетита — они напоминали нам, если мы счищали с них чешую, жареную форель.
— А как на островах Галапагос, хорошо живется? — предусмотрительно спросил однажды Кнут и посмотрел на карту, где цепь кружков, обозначавших положение нашего плота в разное время, напоминала палец, который зловеще указывал в сторону проклятых островов Галапагос.
— Едва ли, — ответил я. — Говорят, что инка Тупак Юпанки незадолго до эпохи Колумба отплыл из Эквадора и достиг островов Галапагос, но ни он и ни один из его спутников не поселились там, так как там нет воды.
— О'кэй, — сказал Кнут. — В таком случае на черта нам идти туда. Надеюсь, мы туда и не попадем.
Теперь мы так привыкли к виду танцующих вокруг нас волн, что перестали обращать на них внимание. Стоит ли беспокоиться о том, что чуть-чуть потанцуем, имея под собой тысячи метров воды, если мы и плот все время держимся на поверхности? Нетрудно было заметить, что бальсовые бревна впитывали воду. Хуже всего обстояло дело с кормовыми ронжинами; засунув кончик пальца в их размокшую древесину, можно было услышать, как под ним хлюпала вода. Ничего не говоря спутникам, я отломал кусок намокшего дерева и бросил его за борт. Он спокойно погрузился в воду и медленно исчез в глубине. Позже я увидел, что некоторые из моих товарищей проделали то же самое, выбрав для этого время, когда им казалось, что на них никто не смотрит. Они стояли, сосредоточенно наблюдая за тем, как кусок пропитанной водой древесины постепенно погружался в зеленую воду. Перед отплытием мы отметили осадку плота, но при неспокойном море было невозможно установить, как глубоко он сидел теперь, так как бревна то на мгновение поднимались из воды, то снова глубоко опускались в нее. Но когда мы вонзали в бревно нож, то мы к нашей радости убеждались, что на глубине примерно в 25 миллиметров от поверхности дерево было сухим. Мы рассчитали, что в случае, если вода будет проникать в бревна тем же темпом, то к тому времени, когда, по нашим предположениям, мы будем приближаться к земле, плот уже не сможет держаться на поверхности воды. Но мы надеялись, что в более глубоких слоях древесный сок будет играть роль пропитывающего состава, который приостановит поглощение воды.
Была и еще одна угроза, которая тревожила наши умы на протяжении первых недель, — это веревки. Днем мы были так заняты, что мало думали о них; но когда наступала темнота и мы залезали в спальные мешки на полу каюты, у нас было больше времени на то, чтобы думать, чувствовать и прислушиваться. Лежа там, каждый на своем соломенном матраце, мы ощущали, как плетеные циновки под нами приподнимаются вместе с бревнами. Не только весь плот все время покачивался, но и все девять бревен изменяли свое положение по отношению друг к другу. Когда одно приподнималось, другое опускалось, и эти легкие колебательные движения не прекращались все время. Они были незначительными, но достаточными для того, чтобы человек чувствовал себя как бы лежащим на спине большого дышащего животного, и мы предпочитали укладываться вдоль бревен. Сильнее всего это покачивание ощущалось в течение первых двух ночей, но тогда мы были слишком усталыми, чтобы обращать на него внимание. Потом веревки слегка набухли в воде, и бревна стали вести себя спокойнее. Но все же бревна, составлявшие остов плота, никогда не представляли собой ровной поверхности, никогда не были совершенно неподвижными по отношению друг к другу. А так как эти бревна двигались вверх и вниз и поворачивались на каждом стыке, то и все двигалось вместе с ними. Бамбуковая палуба, двойная мачта, четыре плетеные стены каюты и крыша из планок и листьев были закреплены канатами и все-таки покачивались, в одном месте приподнимаясь и опускаясь в другом. Это было чуть заметное движение но все же мы ясно видели его. Если один угол каюты поднимался, другой опускался, если бамбуковые жерди на одной половине крыши изгибались в одну сторону, то на другой половине крыши они изгибались в противоположную сторону. А когда мы смотрели из каюты через открытую стену, все казалось нам еще более подвижным и неустойчивым, так как небесный свод описывал медленные крути над нами, а волны высоко подпрыгивали ему навстречу.
Веревки принимали на себя всю нагрузку. Целыми ночами мы слышали, как они скрипели, стонали, терлись о бревна и шуршали. В темноте все эти звуки сливались в единую жалобную симфонию, в которой каждая веревка тянула отдельную ноту в соответствии со своей толщиной и степенью натяжения. Каждое утро мы тщательно осматривали веревки. Кто-нибудь из нас ложился даже на край плота, свешивал голову в воду и, пока двое товарищей крепко держали его за ноги, старался разглядеть, в порядке ли веревки на подводной части плота.
Но веревки держались. Две недели, говорили нам моряки, потом все веревки перетрутся. И все же, вопреки этому единодушному мнению, мы пока не находили ни малейшего признака перетирания. И лишь тогда, когда мы были далеко в океане, нам стало ясно, в чем дело. Бальсовая древесина была так мягка, что веревки постепенно врезались в дерево, и бревна предохраняли их, вместо того чтобы перетирать.
По прошествии примерно недели океан стал спокойнее, и мы заметили, что он был синим, а не зеленым. Мы теперь плыли к запад-северо-западу, а не к северо-западу и сочли это за первый робкий признак того, что мы выбрались из берегового течения и отныне будем двигаться в сторону открытого океана.
В первый же день, как мы остались одни среди океана, мы заметили вокруг плота рыб, но тогда мы были слишком заняты рулевым веслом, чтобы думать о рыбной ловле. На второй день мы наткнулись на целый косяк сардин, а немного спустя появилась двухметровая голубая акула и, то и дело переворачиваясь своим белым брюхом вверх, поплыла за самой кормой плота, где Герман и Бенгт, стоя босиком в воде, орудовали с рулевым веслом. Некоторое время она играла вокруг нас, но скрылась, как только вооружились ручным гарпуном.
На следующий день нас навестили тунцы, бониты[137] и золотые макрели; а когда крупная летающая рыба шлепнулась на палубу плота, мы использовали ее в качестве наживки и тотчас же вытащили двух больших золотых макрелей весом в 10 и 15 килограммов. Это был провиант на несколько дней. Во время вахты у руля мы часто видели рыб, которые были нам совершенно неизвестны, а однажды нам попалась стая дельфинов, казавшаяся бесконечной. Черные спины, торчавшие из воды одна рядом с другой у самого плота, кувыркались и подпрыгивали тут и там; с верхушки мачты мы увидели, что весь океан, насколько хватал взор, был покрыт ими. Чем больше мы приближались к экватору и чем дальше уходили от берега, тем чаще стали появляться летающие рыбы. Когда мы, наконец, вошли в синюю воду, где величественно перекатывались освещенные солнцем спокойные волны, подернутые рябью от порывов ветра, летающие рыбы проносились перед нами, как град снарядов, выпрыгивая из воды и летя по прямой линии и снова исчезая под водой, когда энергия полета иссякала.
Если мы выставляли ночью маленький керосиновый фонарь, его свет привлекал летающих рыб, больших и маленьких, и они перелетали через плот. Нередко они ударялись о бамбуковую каюту или парус и беспомощно падали на палубу. Оттолкнуться от нее, как они отталкиваются на ходу от воды, они не могли и оставались лежать, беспомощно извиваясь, похожие на пучеглазых сельдей с большими грудными плавниками. Иногда нам приходилось слышать крепкое словцо, когда холодная летучая рыба, двигаясь с изрядной скоростью, ударяла по лицу стоявшего на палубе человека. Они всегда летели быстро, головой вперед, и если они ударяли прямо в лицо, то оно начинало гореть, как от хорошей пощечины. Но потерпевшая сторона быстро забывала эту неспровоцированную агрессию; при всех своих недостатках это была морская страна чудес, где тонкие рыбные блюда со свистом прилетали к нам по воздуху. Обычно мы жарили летучих рыб к завтраку, и — зависело ли это от рыбы, от повара или от нашего аппетита — они напоминали нам, если мы счищали с них чешую, жареную форель.
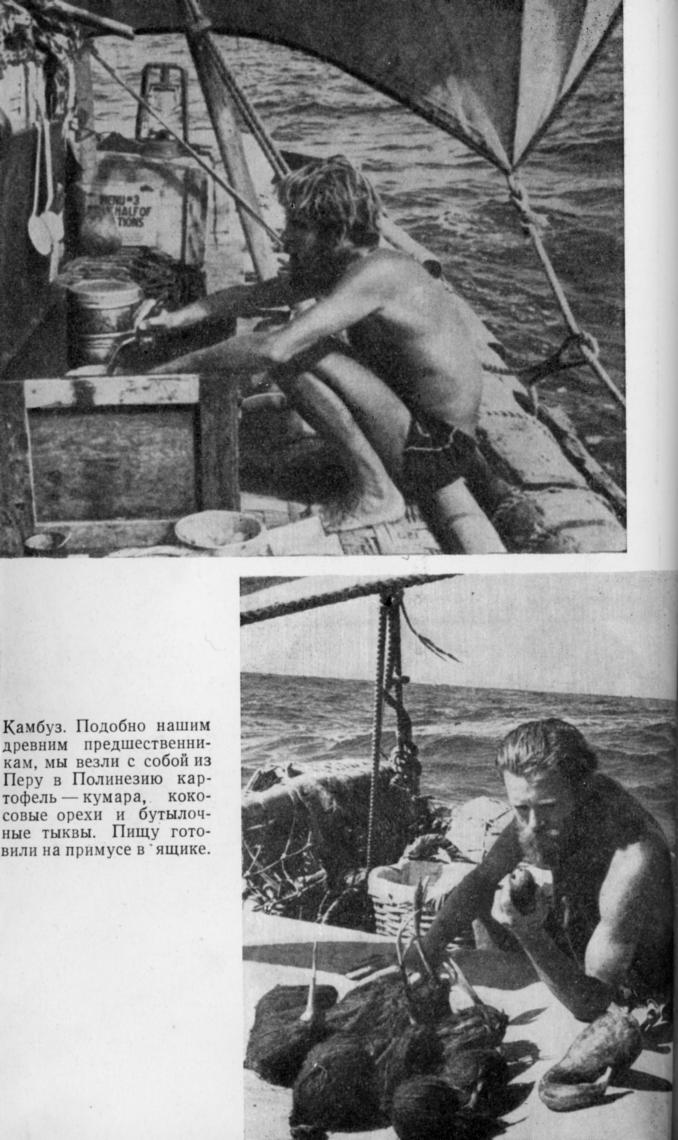 Первая обязанность кока, как только он просыпался утром, состояла в том, что он выходил на палубу и подбирал всех летучих рыб, совершивших в течение ночи посадку на плоту. Обычно их бывало не меньше полудюжины, а однажды утром мы обнаружили на плоту двадцать шесть жирных летучих рыб. Как-то раз, когда Кнут стоял и орудовал со сковородой, летучая рыба ударила его по руке; он сильно огорчился, что она не шлепнулась прямо в кипящий жир.
Торстейн только тогда полностью осознал, в каком тесном соседстве с океаном мы живем, когда, проснувшись, обнаружил на своей подушке сардину. В каюте было так тесно, что Торстейну приходилось лежать головой в дверях; и если кто-нибудь, выходя ночью, случайно задевал его по лицу, он кусал проходившего за ногу. Он схватил сардину за хвост и дал ей совершенно ясно понять, что питает искреннюю любовь ко всем сардинам. На следующую ночь мы предусмотрительно поджали под себя ноги, чтобы оставить Торстейну как можно больше места; но вскоре произошло событие, которое вынудило Торстейна перебраться спать на ящик с кухонной утварью, стоявший в радиорубке.
Это произошло через несколько ночей. Тучи заволокли все небо, и было очень темно; для того чтобы ночные вахтенные видели, куда они ступают, перелезая через него, Торстейн поставил керосиновый фонарь у самой своей головы… Около четырех часов Торстейн проснулся оттого, что фонарь перевернулся и что-то холодное и мокрое начало биться около его лица. «Летучая рыба», — подумал он и принялся шарить в темноте, чтобы выбросить ее. Он ухватился за что-то длинное и мокрое, извивавшееся, как змея, и сейчас же отдернул руку, словно ожегшись. Пока Торстейн пытался зажечь фонарь, невидимый посетитель переполз через него к Герману. Герман также вскочил, от этого проснулся и я с мыслью о кальмаре, который иногда появляется по ночам в этих водах. Когда нам удалось зажечь фонарь, мы увидели, что Герман сидит с видом победителя, крепко сжимая одной рукой шею длинной узкой рыбы, которая извивается, как угорь. Рыба имела в длину около метра и напоминала своим тонким туловищем змею; у нее были большие черные глаза и удлиненная голова с хищной пастью, полной длинных острых зубов. Зубы были остры, как ножи, и могли отгибаться назад к нёбу, чтобы пропустить в горло захваченную пищу. Герман продолжал сжимать в руках свою добычу, как вдруг изо рта хищника выскочила пучеглазая белая рыбка около двадцати сантиметров длиною. А следом за ней появилась и вторая такая же. Совершенно очевидно, это были две глубоководные рыбы, сильно пострадавшие от зубов змеиной рыбы. Тонкая кожа змеиной рыбы имела синевато-фиолетовый цвет на спине и голубовато- стальной снизу; она легко снималась целыми лоскутами под нашими пальцами.
От всего шума проснулся, наконец, и Бенгт, и мы подсунули ему под нос фонарь и длинную рыбу. Он впросонках приподнялся в своем спальном мешке и торжественно изрек:
— Нет, такой рыбы не существует.
Первая обязанность кока, как только он просыпался утром, состояла в том, что он выходил на палубу и подбирал всех летучих рыб, совершивших в течение ночи посадку на плоту. Обычно их бывало не меньше полудюжины, а однажды утром мы обнаружили на плоту двадцать шесть жирных летучих рыб. Как-то раз, когда Кнут стоял и орудовал со сковородой, летучая рыба ударила его по руке; он сильно огорчился, что она не шлепнулась прямо в кипящий жир.
Торстейн только тогда полностью осознал, в каком тесном соседстве с океаном мы живем, когда, проснувшись, обнаружил на своей подушке сардину. В каюте было так тесно, что Торстейну приходилось лежать головой в дверях; и если кто-нибудь, выходя ночью, случайно задевал его по лицу, он кусал проходившего за ногу. Он схватил сардину за хвост и дал ей совершенно ясно понять, что питает искреннюю любовь ко всем сардинам. На следующую ночь мы предусмотрительно поджали под себя ноги, чтобы оставить Торстейну как можно больше места; но вскоре произошло событие, которое вынудило Торстейна перебраться спать на ящик с кухонной утварью, стоявший в радиорубке.
Это произошло через несколько ночей. Тучи заволокли все небо, и было очень темно; для того чтобы ночные вахтенные видели, куда они ступают, перелезая через него, Торстейн поставил керосиновый фонарь у самой своей головы… Около четырех часов Торстейн проснулся оттого, что фонарь перевернулся и что-то холодное и мокрое начало биться около его лица. «Летучая рыба», — подумал он и принялся шарить в темноте, чтобы выбросить ее. Он ухватился за что-то длинное и мокрое, извивавшееся, как змея, и сейчас же отдернул руку, словно ожегшись. Пока Торстейн пытался зажечь фонарь, невидимый посетитель переполз через него к Герману. Герман также вскочил, от этого проснулся и я с мыслью о кальмаре, который иногда появляется по ночам в этих водах. Когда нам удалось зажечь фонарь, мы увидели, что Герман сидит с видом победителя, крепко сжимая одной рукой шею длинной узкой рыбы, которая извивается, как угорь. Рыба имела в длину около метра и напоминала своим тонким туловищем змею; у нее были большие черные глаза и удлиненная голова с хищной пастью, полной длинных острых зубов. Зубы были остры, как ножи, и могли отгибаться назад к нёбу, чтобы пропустить в горло захваченную пищу. Герман продолжал сжимать в руках свою добычу, как вдруг изо рта хищника выскочила пучеглазая белая рыбка около двадцати сантиметров длиною. А следом за ней появилась и вторая такая же. Совершенно очевидно, это были две глубоководные рыбы, сильно пострадавшие от зубов змеиной рыбы. Тонкая кожа змеиной рыбы имела синевато-фиолетовый цвет на спине и голубовато- стальной снизу; она легко снималась целыми лоскутами под нашими пальцами.
От всего шума проснулся, наконец, и Бенгт, и мы подсунули ему под нос фонарь и длинную рыбу. Он впросонках приподнялся в своем спальном мешке и торжественно изрек:
— Нет, такой рыбы не существует.
 И с этими словами спокойно повернулся и снова заснул.
Бенгт заблуждался не очень сильно. Впоследствии выяснилось, что мы шестеро, сидевшие вокруг фонаря в бамбуковой каюте, были первыми людьми, которые увидели эту рыбу в живом состоянии. На побережье Южной Америки и островов Галапагос несколько раз находили только скелеты подобной рыбы; ихтиологи назвали ее Gempylus, или змеиной макрелью, и думали, что она живет на дне океана на большой глубине, так как никто не видел ее живой. Но если она и держалась на большой глубине, то во всяком случае только днем, когда солнце слепило ее большие глаза. Ибо в темные ночи змеиная макрель разгуливала по волнам; находясь на плоту, мы имели случай в этом убедиться.
Неделю спустя после того, как эта редкая рыба угодила в спальный мешок Торстейна, к нам явился другой посетитель. Опять было четыре часа утра, И молодая луна уже зашла, так что кругом стоял мрак, но звезды сверкали. Плот легко слушался руля, и когда моя вахта окончилась, я решил пройтись вдоль борта к носу, чтобы, передав смену, посмотреть, все ли в порядке. Как всегда у вахтенных, у меня вокруг пояса была обвязана веревка; с керосиновым фонарем в руке я осторожно шел вдоль крайнего бревна, чтобы обогнуть мачту. Бревно было мокрое и скользкое, и я пришел в ярость, когда кто-то совершенно неожиданно ухватился сзади за мою веревку и стал так дергать, что я чуть не потерял равновесие. Я гневно обернулся и посветил фонарем, но никого не увидел. Затем снова дернули за веревку, и я заметил, что на палубе что-то блестит и извивается. Это оказалась еще одна змеиная макрель; на этот раз она так глубоко вонзила свои зубы в веревку, что несколько зубов сломалось, прежде чем мне удалось освободить ее. По-видимому, свет фонаря падал на извивавшуюся белую веревку, и наша гостья из глубины океана вцепилась в нее в надежде ухватить особенно длинный и изысканный лакомый кусок. Она окончила свои дни в банке с формалином.
Океан преподносит много сюрпризов тому, кто живет в квартире, расположенной на одном уровне с его поверхностью, и движется по нему медленно и бесшумно.
Случается, что охотник, который пробивался сквозь чащу леса, возвращается и говорит, что не видел никакой дичи. А другой охотник сидит на пне и ждет, и часто вокруг него начинают раздаваться шорохи и трески, и любопытные глаза выглядывают из зарослей. То же самое относится и к океану.
Обычно мы бороздим его, грохоча машинами и стуча поршнями, вспенивая воду вокруг носа корабля. Потом мы возвращаемся и говорим, что даже посреди океана не на что смотреть.
Когда мы плыли по океану, сидя у самой воды, не проходило дня, чтобы нас не навещали любознательные гости, которые сновали вокруг; некоторые из них, как, например, золотые макрели и лоцманы, так привыкли к нам, что сопровождали плот по океану, день и ночь крутясь возле него.
Когда наступала ночь и звезды мерцали в темном тропическом небе, вода вокруг нас начинала фосфоресцировать, соперничая своим сиянием со звездами. Каждый сверкающий планктонный организм так живо напоминал круглый раскаленный уголек, что мы невольно подбирали свои босые ноги, когда сверкающие шарики выбрасывало волнами на корму плота. Беря их в руки, мы могли различить, что это были ярко светящиеся гарнели[138]. В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совеем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим гипнотизирующим взглядом — быть может, это явился сам дух моря. Часто это были большие кальмары, которые появлялись из глубины и плавали на поверхности, сверкая в темноте дьявольскими зелеными глазами, напоминающими своим блеском фосфор. А иногда это были светящиеся глаза глубоководных рыб, которые подымались на поверхность только по ночам и неподвижно лежали, уставясь на нас, очарованные тусклым светом фонаря. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота вдруг появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60–90 сантиметров, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде светящиеся шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивавшие на одно мгновение электрические лампочки.
Постепенно мы привыкли к этим подземным, или, вернее, подводным, существам, которые жили под нами, и все-таки каждый раз удивлялись, когда появлялась новая разновидность. Однажды облачной ночью около двух часов, когда рулевой с трудом мог отличить черную воду от черного неба, он заметил слабый свет под водой, который постепенно принял форму большого животного. Невозможно было определить, светился ли планктон на его теле, или фосфоресцировало само животное, но это мерцание в черной воде придавало призрачному существу неясные колеблющиеся очертания. Оно казалось то круглым, то овальным или треугольным, а затем вдруг разделилось на две части, каждая из которых стала независимо плавать взад и вперед под плотом. В конце концов этих больших светящихся призраков стало три, и они описывали под нами медленные круги. Это были настоящие чудовища, так как только видимая часть их имела в длину 6–8 метров; мы все поспешно выбежали на палубу и следили за призрачным танцем. Чудовища плыли за плотом, и это зрелище продолжалось несколько часов. Таинственные и бесшумные, наши светящиеся спутники держались довольно глубоко под водой, большей частью со стороны правого борта, где горел фонарь, но иногда они плыли прямо под плотом или появлялись с левой стороны. Судя по мерцанию света на их спинах, можно было предположить, что животные размером превосходили слонов, но это не были киты, так как они ни разу не поднялись на поверхность, чтобы подышать. Может быть, мы встретились с гигантскими скатами, которые меняют свою форму, если поворачиваются набок? Они не обращали никакого внимания, когда мы приближали фонарь к самой поверхности воды, стараясь выманить их наверх, чтобы можно было как следует рассмотреть.
И подобно всем настоящим домовым и привидениям, они исчезли в глубине с первыми проблесками зари.
Нам никогда не удалось бы получить правильное объяснение этого ночного посещения трех светящихся чудовищ, если бы решение загадки не пришло само собой, когда через полтора дня при ярком солнце к нам явился еще один посетитель. Это произошло 24 мая, когда мы дрейфовали на легкой зыби, точно на 95° западной долготы и 7° южной широты. Было около полудня, и мы выбросили за борт внутренности двух больших золотых макрелей, которых поймали рано утром. Для того чтобы освежиться, я спрыгнул с носа плота в океан и лежал в воде, Держась все время начеку, привязанный к концу веревки, как вдруг я заметил толстую бурую рыбу, длиной около двух метров, которая подплывала в прозрачной воде с явным намерением поближе познакомиться со мной. Я поспешно взобрался на край плота и сидел под горячими лучами солнца, наблюдая за медленно проплывавшей рыбой; в это мгновение раздался дикий вопль Кнута, который сидел на корме позади бамбуковой каюты. Он орал изо всех сил «акула!», пока его голос не сорвался и не перешел в фальцет. Так как акулы появлялись у плота почти ежедневно, не вызывая такого волнения, мы все поняли, что произошло нечто совершенно исключительное, и бросились к корме на помощь Кнуту.
Кнут сидел там на корточках и стирал в волне свои штаны; когда он на мгновение поднял глаза, перед ним была огромная уродливая морда, какой ни один из нас не видел за всю свою жизнь, голова настоящего морского чудовища — такая большая и такая отвратительная, что появись перед нами сам дух моря, он не произвел бы на нас столь сильного впечатления. По бокам широкой и плоской, как у лягушки, головы сидели два маленьких глаза, а вокруг жабьей пасти, шириной чуть ли не в полтора метра, шли длинные складки, свисавшее у углов рта.
Голова переходила в огромное туловище, заканчивавшееся длинным тонким хвостом с остроконечным хвостовым плавником, который стоял совершенно прямо и показывал, что это морское чудовище не принадлежало к отряду китов. Туловище казалось в воде буроватым, но и голова и тело были густо усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно двигалось, лениво плывя за нашей кормой. Оно осклабилось, как бульдог, и слегка било хвостом. Большой круглый спинной плавник выступал из воды, иногда высовывался и хвостовой плавник; а когда чудовище оказывалось во впадине между волнами, вода перекатывалась через его широкую спину, словно омывала какой-то подводный риф. Перед его широкой пастью веерообразным строем плыла целая стая полосатых, как зебра, лоцманов, а большие прилипалы и другие паразиты сидели, крепко вцепившись в огромное туловище, и путешествовали с ним в воде; все вместе они составляли любопытную коллекцию, которая разместилась вокруг чего-то, напоминавшего глубоко сидящую в воде плавучую скалу.
Десятикилограммовая золотая макрель, насаженная на шесть самых крупных рыболовных крючков, висела позади плота в качестве приманки для акул; лоцманы наткнулись на золотую макрель, потыкались носом, не трогая ее, а затем поспешили назад к своему господину и повелителю, морскому царю. Подобно механическому чудовищу, он пустил в ход свою машину и, легко скользя в воде, приблизился к золотой макрели, которая жалкой игрушкой лежала перед его пастью. Мы осторожно подтащили приманку к самому краю плота, и морское чудовище медленно последовало за нею. Оно не раскрыло рта, как будто считая, что не стоит распахивать всю дверь ради такого ничтожного кусочка, как макрель, ударявшаяся об его пасть. Когда гигант пододвинулся к самому плоту, он потерся спиной о тяжелое рулевое весло, отчего оно выскочило из воды, и теперь мы имели полную возможность изучить чудовище На самом близком расстоянии — на таком близком расстоянии, что при виде этого совершенно фантастического зрелища мы все как бы сошли с ума и, разразившись глупым смехом, принялись что-то возбужденно кричать. Сам Уолт Дисней[139], при всей силе своего воображения, не мог бы создать более ужасающее морское чудовище, чем то, которое внезапно очутилось около нас, двигая страшными челюстями у края плота.
Чудовище оказалось китовой акулой, самой большой акулой и самой большой рыбой в мире, известной в наши дни.
Она встречается исключительно редко, но отдельные экземпляры кое-где попадались в океанах под тропиками. Китовая акула в среднем имеет в длину 15 метров и весит, по утверждению зоологов, 15 тонн. Говорят, что крупные экземпляры иногда достигают в длину 20 метров; у убитого с помощью гарпуна детеныша печень весила 300 килограммов, а в широкой пасти имелось около 3 тысяч зубов.
И с этими словами спокойно повернулся и снова заснул.
Бенгт заблуждался не очень сильно. Впоследствии выяснилось, что мы шестеро, сидевшие вокруг фонаря в бамбуковой каюте, были первыми людьми, которые увидели эту рыбу в живом состоянии. На побережье Южной Америки и островов Галапагос несколько раз находили только скелеты подобной рыбы; ихтиологи назвали ее Gempylus, или змеиной макрелью, и думали, что она живет на дне океана на большой глубине, так как никто не видел ее живой. Но если она и держалась на большой глубине, то во всяком случае только днем, когда солнце слепило ее большие глаза. Ибо в темные ночи змеиная макрель разгуливала по волнам; находясь на плоту, мы имели случай в этом убедиться.
Неделю спустя после того, как эта редкая рыба угодила в спальный мешок Торстейна, к нам явился другой посетитель. Опять было четыре часа утра, И молодая луна уже зашла, так что кругом стоял мрак, но звезды сверкали. Плот легко слушался руля, и когда моя вахта окончилась, я решил пройтись вдоль борта к носу, чтобы, передав смену, посмотреть, все ли в порядке. Как всегда у вахтенных, у меня вокруг пояса была обвязана веревка; с керосиновым фонарем в руке я осторожно шел вдоль крайнего бревна, чтобы обогнуть мачту. Бревно было мокрое и скользкое, и я пришел в ярость, когда кто-то совершенно неожиданно ухватился сзади за мою веревку и стал так дергать, что я чуть не потерял равновесие. Я гневно обернулся и посветил фонарем, но никого не увидел. Затем снова дернули за веревку, и я заметил, что на палубе что-то блестит и извивается. Это оказалась еще одна змеиная макрель; на этот раз она так глубоко вонзила свои зубы в веревку, что несколько зубов сломалось, прежде чем мне удалось освободить ее. По-видимому, свет фонаря падал на извивавшуюся белую веревку, и наша гостья из глубины океана вцепилась в нее в надежде ухватить особенно длинный и изысканный лакомый кусок. Она окончила свои дни в банке с формалином.
Океан преподносит много сюрпризов тому, кто живет в квартире, расположенной на одном уровне с его поверхностью, и движется по нему медленно и бесшумно.
Случается, что охотник, который пробивался сквозь чащу леса, возвращается и говорит, что не видел никакой дичи. А другой охотник сидит на пне и ждет, и часто вокруг него начинают раздаваться шорохи и трески, и любопытные глаза выглядывают из зарослей. То же самое относится и к океану.
Обычно мы бороздим его, грохоча машинами и стуча поршнями, вспенивая воду вокруг носа корабля. Потом мы возвращаемся и говорим, что даже посреди океана не на что смотреть.
Когда мы плыли по океану, сидя у самой воды, не проходило дня, чтобы нас не навещали любознательные гости, которые сновали вокруг; некоторые из них, как, например, золотые макрели и лоцманы, так привыкли к нам, что сопровождали плот по океану, день и ночь крутясь возле него.
Когда наступала ночь и звезды мерцали в темном тропическом небе, вода вокруг нас начинала фосфоресцировать, соперничая своим сиянием со звездами. Каждый сверкающий планктонный организм так живо напоминал круглый раскаленный уголек, что мы невольно подбирали свои босые ноги, когда сверкающие шарики выбрасывало волнами на корму плота. Беря их в руки, мы могли различить, что это были ярко светящиеся гарнели[138]. В такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совеем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим гипнотизирующим взглядом — быть может, это явился сам дух моря. Часто это были большие кальмары, которые появлялись из глубины и плавали на поверхности, сверкая в темноте дьявольскими зелеными глазами, напоминающими своим блеском фосфор. А иногда это были светящиеся глаза глубоководных рыб, которые подымались на поверхность только по ночам и неподвижно лежали, уставясь на нас, очарованные тусклым светом фонаря. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота вдруг появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60–90 сантиметров, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам мы видели в воде светящиеся шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивавшие на одно мгновение электрические лампочки.
Постепенно мы привыкли к этим подземным, или, вернее, подводным, существам, которые жили под нами, и все-таки каждый раз удивлялись, когда появлялась новая разновидность. Однажды облачной ночью около двух часов, когда рулевой с трудом мог отличить черную воду от черного неба, он заметил слабый свет под водой, который постепенно принял форму большого животного. Невозможно было определить, светился ли планктон на его теле, или фосфоресцировало само животное, но это мерцание в черной воде придавало призрачному существу неясные колеблющиеся очертания. Оно казалось то круглым, то овальным или треугольным, а затем вдруг разделилось на две части, каждая из которых стала независимо плавать взад и вперед под плотом. В конце концов этих больших светящихся призраков стало три, и они описывали под нами медленные круги. Это были настоящие чудовища, так как только видимая часть их имела в длину 6–8 метров; мы все поспешно выбежали на палубу и следили за призрачным танцем. Чудовища плыли за плотом, и это зрелище продолжалось несколько часов. Таинственные и бесшумные, наши светящиеся спутники держались довольно глубоко под водой, большей частью со стороны правого борта, где горел фонарь, но иногда они плыли прямо под плотом или появлялись с левой стороны. Судя по мерцанию света на их спинах, можно было предположить, что животные размером превосходили слонов, но это не были киты, так как они ни разу не поднялись на поверхность, чтобы подышать. Может быть, мы встретились с гигантскими скатами, которые меняют свою форму, если поворачиваются набок? Они не обращали никакого внимания, когда мы приближали фонарь к самой поверхности воды, стараясь выманить их наверх, чтобы можно было как следует рассмотреть.
И подобно всем настоящим домовым и привидениям, они исчезли в глубине с первыми проблесками зари.
Нам никогда не удалось бы получить правильное объяснение этого ночного посещения трех светящихся чудовищ, если бы решение загадки не пришло само собой, когда через полтора дня при ярком солнце к нам явился еще один посетитель. Это произошло 24 мая, когда мы дрейфовали на легкой зыби, точно на 95° западной долготы и 7° южной широты. Было около полудня, и мы выбросили за борт внутренности двух больших золотых макрелей, которых поймали рано утром. Для того чтобы освежиться, я спрыгнул с носа плота в океан и лежал в воде, Держась все время начеку, привязанный к концу веревки, как вдруг я заметил толстую бурую рыбу, длиной около двух метров, которая подплывала в прозрачной воде с явным намерением поближе познакомиться со мной. Я поспешно взобрался на край плота и сидел под горячими лучами солнца, наблюдая за медленно проплывавшей рыбой; в это мгновение раздался дикий вопль Кнута, который сидел на корме позади бамбуковой каюты. Он орал изо всех сил «акула!», пока его голос не сорвался и не перешел в фальцет. Так как акулы появлялись у плота почти ежедневно, не вызывая такого волнения, мы все поняли, что произошло нечто совершенно исключительное, и бросились к корме на помощь Кнуту.
Кнут сидел там на корточках и стирал в волне свои штаны; когда он на мгновение поднял глаза, перед ним была огромная уродливая морда, какой ни один из нас не видел за всю свою жизнь, голова настоящего морского чудовища — такая большая и такая отвратительная, что появись перед нами сам дух моря, он не произвел бы на нас столь сильного впечатления. По бокам широкой и плоской, как у лягушки, головы сидели два маленьких глаза, а вокруг жабьей пасти, шириной чуть ли не в полтора метра, шли длинные складки, свисавшее у углов рта.
Голова переходила в огромное туловище, заканчивавшееся длинным тонким хвостом с остроконечным хвостовым плавником, который стоял совершенно прямо и показывал, что это морское чудовище не принадлежало к отряду китов. Туловище казалось в воде буроватым, но и голова и тело были густо усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно двигалось, лениво плывя за нашей кормой. Оно осклабилось, как бульдог, и слегка било хвостом. Большой круглый спинной плавник выступал из воды, иногда высовывался и хвостовой плавник; а когда чудовище оказывалось во впадине между волнами, вода перекатывалась через его широкую спину, словно омывала какой-то подводный риф. Перед его широкой пастью веерообразным строем плыла целая стая полосатых, как зебра, лоцманов, а большие прилипалы и другие паразиты сидели, крепко вцепившись в огромное туловище, и путешествовали с ним в воде; все вместе они составляли любопытную коллекцию, которая разместилась вокруг чего-то, напоминавшего глубоко сидящую в воде плавучую скалу.
Десятикилограммовая золотая макрель, насаженная на шесть самых крупных рыболовных крючков, висела позади плота в качестве приманки для акул; лоцманы наткнулись на золотую макрель, потыкались носом, не трогая ее, а затем поспешили назад к своему господину и повелителю, морскому царю. Подобно механическому чудовищу, он пустил в ход свою машину и, легко скользя в воде, приблизился к золотой макрели, которая жалкой игрушкой лежала перед его пастью. Мы осторожно подтащили приманку к самому краю плота, и морское чудовище медленно последовало за нею. Оно не раскрыло рта, как будто считая, что не стоит распахивать всю дверь ради такого ничтожного кусочка, как макрель, ударявшаяся об его пасть. Когда гигант пододвинулся к самому плоту, он потерся спиной о тяжелое рулевое весло, отчего оно выскочило из воды, и теперь мы имели полную возможность изучить чудовище На самом близком расстоянии — на таком близком расстоянии, что при виде этого совершенно фантастического зрелища мы все как бы сошли с ума и, разразившись глупым смехом, принялись что-то возбужденно кричать. Сам Уолт Дисней[139], при всей силе своего воображения, не мог бы создать более ужасающее морское чудовище, чем то, которое внезапно очутилось около нас, двигая страшными челюстями у края плота.
Чудовище оказалось китовой акулой, самой большой акулой и самой большой рыбой в мире, известной в наши дни.
Она встречается исключительно редко, но отдельные экземпляры кое-где попадались в океанах под тропиками. Китовая акула в среднем имеет в длину 15 метров и весит, по утверждению зоологов, 15 тонн. Говорят, что крупные экземпляры иногда достигают в длину 20 метров; у убитого с помощью гарпуна детеныша печень весила 300 килограммов, а в широкой пасти имелось около 3 тысяч зубов.
 Чудовище было таким огромным, что, когда оно начало описывать круги вокруг плота и под ним, его голова виднелась с одной стороны, а весь хвост целиком торчал с другой. А спереди его морда казалась такой невероятно причудливой, флегматичной и глупой, что мы не могли удержаться от смеха, хотя прекрасно понимали, что хвост чудовища обладал достаточной силой, чтобы в случае нападения разнести на куски и бальсовые бревна и связывающие их веревки. Снова и снова описывала китовая акула все более суживавшиеся круги под самым плотом, а мы могли лишь наблюдать и выжидать, что произойдет дальше. Проплывая мимо кормы, акула мирно и плавно проходила под рулевым веслом и приподнимала его на воздух, между тем как лопасть весла скользила вдоль ее спины. Мы стояли кругом палубы плота с ручными гарпунами наготове, но они представлялись нам чем-то вроде зубочисток по сравнению с огромным животным, с которым нам предстояло иметь дело. Не было никаких признаков того, что китовая акула собирается покинуть нас; она кружила вокруг плота и следовала вплотную за ним, подобно преданному псу. Никому из нас не приходилось испытывать или даже предполагать, что ему придется испытать нечто подобное; все это происшествие с морским чудовищем, плававшим позади плота и под ним, казалось нам до такой степени неестественным, что мы поистине не могли отнестись к нему серьезно.
На самом деле китовая акула кружила вокруг нас не больше часа, но нам казалось, что ее визит длился целый день. Наконец Эрик, стоявший с двухметровым ручным гарпуном на углу плота, не выдержал и, подбодряемый неуместными криками, занес гарпун над своей головой. Китовая акула медленно скользила по направлению к нему и высунула свою широкую голову как раз под самым углом плота. Эрик со всей своей богатырской силой взмахнул гарпуном и вонзил его в костлявую голову акулы.
Прошло несколько секунд, прежде чем чудовище как следует поняло, что произошло. И тогда в мгновение ока мирное слабоумное животное преобразилось в гору стальных мышц. Мы услышали свистящий звук, когда веревка гарпуна пролетела над бортом, и увидели фонтан воды, когда чудовище головой вниз нырнуло в глубину. Три человека, стоявшие ближе других, были сбиты с ног; пронесшаяся в воздухе веревка задела и больно хлестнула двоих из них. Толстый канат, достаточно прочный, чтобы удержать шлюпку, зацепился за край плота, но тут же лопнул, как кусок шпагата, а через несколько секунд выброшенное древко гарпуна показалось на поверхности воды в двухстах метрах от нас. Стая испуганных лоцманов промелькнула в воде, отчаянно пытаясь догнать своего старого господина и повелителя.
Мы долго ждали, что чудовище примчится назад, подобно подводной лодке; но нам больше не пришлось увидеть китовую акулу.
Теперь мы находились в Южном экваториальном течении и двигались в западном направлении ровно в 400 милях южнее островов Галапагос. Опасность того, что нас отнесет к галапагосским течениям, миновала; все наше знакомство с этим архипелагом свелось к поклонам, которые нам передавали большие морские черепахи, забиравшиеся так далеко в океан, несомненно, с этих островов. Как-то мы увидели огромную морскую черепаху, которая барахталась в воде, высунув на поверхность голову и одну ногу. Когда поднялась зыбь, мы заметили в воде под черепахой зеленые, синие и золотистые тени и поняли, что черепаха ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с золотыми макрелями. Сражение было явно односторонним; оно состояло в том, что 12–15 большеголовых, ярко окрашенных макрелей атаковали шею и ноги черепахи, очевидно пытаясь взять ее измором, так как черепаха не в состоянии пролежать целый день на брюхе, втянув голову и ноги под щит.
Как только черепаха заметила плот, она нырнула и направилась прямо к нам, преследуемая сверкающими золотыми макрелями. Она подплыла к самому краю плота и, по-видимому, была не прочь забраться на бревно, как вдруг увидела нас. Если бы мы имели больше практики, мы без труда могли бы поймать ее веревками, пока ее большой щит медленно проплывал вдоль плота. Но мы упустили момент, слишком долго разглядывая ее, и когда петля была готова, гигантская черепаха уже миновала нос плота. Мы спустили на воду маленькую резиновую лодку, и Герман, Бенгт и Торстейн пустились вдогонку в круглой скорлупке, которая была немногим больше той, что плыла впереди. Бенгт в качестве эконома мысленно предвкушал уже мясные блюда и восхитительнейший черепаховый суп. Но чем быстрее гребли наши товарищи, тем быстрее и черепаха скользила в воде под самой поверхностью; не успели они отплыть от плота на сотню метров, как черепаха неожиданно бесследно исчезла. Во всяком случае, они сделали одно доброе дело. Когда маленькая желтая резиновая лодка направилась назад, танцуя на воде, вся стая сверкающих золотых макрелей устремилась за ней. Они кружились вокруг новой черепахи, и самые смелые пытались ухватить лопасти весел, которые погружались в воду, как черепашьи ноги. Тем временем мирная черепаха благополучно скрылась от всех своих наглых преследователей.
Чудовище было таким огромным, что, когда оно начало описывать круги вокруг плота и под ним, его голова виднелась с одной стороны, а весь хвост целиком торчал с другой. А спереди его морда казалась такой невероятно причудливой, флегматичной и глупой, что мы не могли удержаться от смеха, хотя прекрасно понимали, что хвост чудовища обладал достаточной силой, чтобы в случае нападения разнести на куски и бальсовые бревна и связывающие их веревки. Снова и снова описывала китовая акула все более суживавшиеся круги под самым плотом, а мы могли лишь наблюдать и выжидать, что произойдет дальше. Проплывая мимо кормы, акула мирно и плавно проходила под рулевым веслом и приподнимала его на воздух, между тем как лопасть весла скользила вдоль ее спины. Мы стояли кругом палубы плота с ручными гарпунами наготове, но они представлялись нам чем-то вроде зубочисток по сравнению с огромным животным, с которым нам предстояло иметь дело. Не было никаких признаков того, что китовая акула собирается покинуть нас; она кружила вокруг плота и следовала вплотную за ним, подобно преданному псу. Никому из нас не приходилось испытывать или даже предполагать, что ему придется испытать нечто подобное; все это происшествие с морским чудовищем, плававшим позади плота и под ним, казалось нам до такой степени неестественным, что мы поистине не могли отнестись к нему серьезно.
На самом деле китовая акула кружила вокруг нас не больше часа, но нам казалось, что ее визит длился целый день. Наконец Эрик, стоявший с двухметровым ручным гарпуном на углу плота, не выдержал и, подбодряемый неуместными криками, занес гарпун над своей головой. Китовая акула медленно скользила по направлению к нему и высунула свою широкую голову как раз под самым углом плота. Эрик со всей своей богатырской силой взмахнул гарпуном и вонзил его в костлявую голову акулы.
Прошло несколько секунд, прежде чем чудовище как следует поняло, что произошло. И тогда в мгновение ока мирное слабоумное животное преобразилось в гору стальных мышц. Мы услышали свистящий звук, когда веревка гарпуна пролетела над бортом, и увидели фонтан воды, когда чудовище головой вниз нырнуло в глубину. Три человека, стоявшие ближе других, были сбиты с ног; пронесшаяся в воздухе веревка задела и больно хлестнула двоих из них. Толстый канат, достаточно прочный, чтобы удержать шлюпку, зацепился за край плота, но тут же лопнул, как кусок шпагата, а через несколько секунд выброшенное древко гарпуна показалось на поверхности воды в двухстах метрах от нас. Стая испуганных лоцманов промелькнула в воде, отчаянно пытаясь догнать своего старого господина и повелителя.
Мы долго ждали, что чудовище примчится назад, подобно подводной лодке; но нам больше не пришлось увидеть китовую акулу.
Теперь мы находились в Южном экваториальном течении и двигались в западном направлении ровно в 400 милях южнее островов Галапагос. Опасность того, что нас отнесет к галапагосским течениям, миновала; все наше знакомство с этим архипелагом свелось к поклонам, которые нам передавали большие морские черепахи, забиравшиеся так далеко в океан, несомненно, с этих островов. Как-то мы увидели огромную морскую черепаху, которая барахталась в воде, высунув на поверхность голову и одну ногу. Когда поднялась зыбь, мы заметили в воде под черепахой зеленые, синие и золотистые тени и поняли, что черепаха ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с золотыми макрелями. Сражение было явно односторонним; оно состояло в том, что 12–15 большеголовых, ярко окрашенных макрелей атаковали шею и ноги черепахи, очевидно пытаясь взять ее измором, так как черепаха не в состоянии пролежать целый день на брюхе, втянув голову и ноги под щит.
Как только черепаха заметила плот, она нырнула и направилась прямо к нам, преследуемая сверкающими золотыми макрелями. Она подплыла к самому краю плота и, по-видимому, была не прочь забраться на бревно, как вдруг увидела нас. Если бы мы имели больше практики, мы без труда могли бы поймать ее веревками, пока ее большой щит медленно проплывал вдоль плота. Но мы упустили момент, слишком долго разглядывая ее, и когда петля была готова, гигантская черепаха уже миновала нос плота. Мы спустили на воду маленькую резиновую лодку, и Герман, Бенгт и Торстейн пустились вдогонку в круглой скорлупке, которая была немногим больше той, что плыла впереди. Бенгт в качестве эконома мысленно предвкушал уже мясные блюда и восхитительнейший черепаховый суп. Но чем быстрее гребли наши товарищи, тем быстрее и черепаха скользила в воде под самой поверхностью; не успели они отплыть от плота на сотню метров, как черепаха неожиданно бесследно исчезла. Во всяком случае, они сделали одно доброе дело. Когда маленькая желтая резиновая лодка направилась назад, танцуя на воде, вся стая сверкающих золотых макрелей устремилась за ней. Они кружились вокруг новой черепахи, и самые смелые пытались ухватить лопасти весел, которые погружались в воду, как черепашьи ноги. Тем временем мирная черепаха благополучно скрылась от всех своих наглых преследователей.

 Обычно день на борту «Кон-Тики» начинался с того, что последний ночной вахтенный тормошил кока, и тот, заспанный, вылезал на мокрую от росы палубу, залитую утренним солнцем, и принимался собирать летающих рыб. Вместо того чтобы есть рыбу сырой, как это было принято у полинезийцев и перуанцев, мы жарили ее на небольшом примусе, который стоял внутри ящика, крепко привязанного к палубе перед дверью каюты. Этот ящик был нашей кухней. Сюда обычно не задувал юго-восточный пассат, от которого в другом месте на плоту трудно было укрыться. Только в тех случаях, когда ветер и волны слишком энергично забавлялись с пламенем примуса, деревяный ящик загорался; однажды, когда кок заснул, весь ящик охватило пламенем, которое перекинулось на стену бамбуковой каюты. Но как только дым проник в каюту, огонь был сразу же погашен: на «Кон-Тики» идти за водой было недалеко.
Запаху жареной рыбы редко удавалось разбудить храпевших в каюте, так что коку приходилось тыкать их вилкой или приниматься петь сигнал побудки так фальшиво, что никто не мог этого долго выдержать. Если вблизи от плота не было плавников акул, то день начинался с непродолжительного купания в Тихом океане, после чего следовал завтрак на открытом воздухе на краю плота.
Питание было безукоризненным. Мы проводили два эксперимента: один имел отношение к интендантскому управлению XX века, второй — к Кон-Тики и V веку. Первый опыт был поставлен на Торстейне и Бенгте, питание которых состояло из специальных рационов в маленьких тонких пакетах, хранившихся в коробках, которые мы запихали между бревнами и бамбуковой палубой. Впрочем, Торстейн и Бенгт никогда не питали пристрастия к рыбе и другой морской пище. Каждые несколько недель мы развязывали веревки, прикреплявшие бамбуковую палубу, и вытаскивали новые запасы, которые затем крепко привязывали перед каютой. Плотный слой асфальта, покрывавший со всех сторон картонные коробки, оказался прекрасной защитой, между тем как герметически закупоренные жестяные банки, которые лежали рядом без упаковки, были испорчены проникшей в них морской водой, все время плескавшейся вокруг нашего продуктового склада.
Обычно день на борту «Кон-Тики» начинался с того, что последний ночной вахтенный тормошил кока, и тот, заспанный, вылезал на мокрую от росы палубу, залитую утренним солнцем, и принимался собирать летающих рыб. Вместо того чтобы есть рыбу сырой, как это было принято у полинезийцев и перуанцев, мы жарили ее на небольшом примусе, который стоял внутри ящика, крепко привязанного к палубе перед дверью каюты. Этот ящик был нашей кухней. Сюда обычно не задувал юго-восточный пассат, от которого в другом месте на плоту трудно было укрыться. Только в тех случаях, когда ветер и волны слишком энергично забавлялись с пламенем примуса, деревяный ящик загорался; однажды, когда кок заснул, весь ящик охватило пламенем, которое перекинулось на стену бамбуковой каюты. Но как только дым проник в каюту, огонь был сразу же погашен: на «Кон-Тики» идти за водой было недалеко.
Запаху жареной рыбы редко удавалось разбудить храпевших в каюте, так что коку приходилось тыкать их вилкой или приниматься петь сигнал побудки так фальшиво, что никто не мог этого долго выдержать. Если вблизи от плота не было плавников акул, то день начинался с непродолжительного купания в Тихом океане, после чего следовал завтрак на открытом воздухе на краю плота.
Питание было безукоризненным. Мы проводили два эксперимента: один имел отношение к интендантскому управлению XX века, второй — к Кон-Тики и V веку. Первый опыт был поставлен на Торстейне и Бенгте, питание которых состояло из специальных рационов в маленьких тонких пакетах, хранившихся в коробках, которые мы запихали между бревнами и бамбуковой палубой. Впрочем, Торстейн и Бенгт никогда не питали пристрастия к рыбе и другой морской пище. Каждые несколько недель мы развязывали веревки, прикреплявшие бамбуковую палубу, и вытаскивали новые запасы, которые затем крепко привязывали перед каютой. Плотный слой асфальта, покрывавший со всех сторон картонные коробки, оказался прекрасной защитой, между тем как герметически закупоренные жестяные банки, которые лежали рядом без упаковки, были испорчены проникшей в них морской водой, все время плескавшейся вокруг нашего продуктового склада.
 У Кон-Тики, когда он впервые совершал путешествие по океану, не было ни асфальта, ни герметически закупоренных банок; тем не менее он не испытывал серьезных затруднений с продовольствием. И тогда мореплаватели питались тем, что могли захватить с собой с суши, и тем, что они могли раздобыть для себя в пути. Весьма вероятно, что Кон-Тики, отплывая от берегов Перу после поражения у озера Титикака, мог иметь в виду одну из следующих двух целей. Возможно, что он — живое воплощение солнца среди своего обожествлявшего солнце народа — рискнул пуститься прямо в океан, чтобы следовать по пути самого солнца, в надежде найти новую, более мирную страну. Другая возможность для него состояла в том, чтобы направить свои плоты вдоль побережья Южной Америки, высадиться где-нибудь севернее и основать новое царство вне пределов досягаемости для своих преследователей. Отплыв от опасных скалистых берегов, населенных враждебными племенами, он, подобно нам, оказался во власти юго-восточного пассата и течения Гумбольдта и по воле этих стихий вынужден был описать точно такой же большой полукруг прямо в сторону заката.
Каковы бы ни были планы этих солнцепоклонников, когда они покидали свою родину, они, конечно, имели с собой запас продовольствия на время путешествия. Сушеное мясо и рыба, сладкий картофель составляли главную часть их первобытной пищи. Когда в те времена люди пускались на плотах вдоль пустынного берега Перу, они брали с собой большой запас воды. Вместо глиняной посуды они большей частью пользовались огромными тыквенными бутылями, не боявшимися толчков и ударов. Еще более удобными для пользования на плоту были толстые стволы гигантского бамбука; в них просверливали все перегородки и наливали внутрь ствола воду через маленькую дырку, которую затыкали какой-нибудь втулкой, либо залепляли смолой или камедью. 30–40 толстых бамбуковых стволов можно было привязать вдоль плота под бамбуковой палубой, и там они лежали в тени, омываемые прохладной (26°Ц в экваториальном течении) морской водой. Такой запас воды вдвое превышал наш расход за все время путешествия, а его можно было и увеличить, попросту привязав еще несколько десятков бамбуков под плотом, где они ничего не весили бы и не занимали бы места.
По истечении двух месяцев мы обнаружили, что пресная вода стала затхлой и приобрела неприятный вкус. Но за это время вполне можно было миновать ту часть океана, где выпадает мало дождей, и давно очутиться в областях, в которых запас воды пополнялся бы сильными ливнями. Мы ежедневно выдавали по литру с четвертью воды на человека, и далеко не всегда эта порция бывала израсходована.
Если даже наши предшественники пускались в путь, не запасшись достаточным количеством продовольствия, они все же не испытывали больших лишений, пока двигались по океану вместе с течением, в котором рыба водилась в изобилии. За все время нашего путешествия не проходило ни одного дня, чтобы мы не видели плававших вокруг плота рыб и не могли без труда поймать их. Почти ежедневно хоть несколько летающих рыб сами являлись к нам на плот. Случалось даже, что большие бониты, замечательно вкусные, попадали на плот с набегавшими на корму волнами и бились на палубе, когда вода уходила между бревнами, как сквозь сито. Умереть от голода было невозможно.
У Кон-Тики, когда он впервые совершал путешествие по океану, не было ни асфальта, ни герметически закупоренных банок; тем не менее он не испытывал серьезных затруднений с продовольствием. И тогда мореплаватели питались тем, что могли захватить с собой с суши, и тем, что они могли раздобыть для себя в пути. Весьма вероятно, что Кон-Тики, отплывая от берегов Перу после поражения у озера Титикака, мог иметь в виду одну из следующих двух целей. Возможно, что он — живое воплощение солнца среди своего обожествлявшего солнце народа — рискнул пуститься прямо в океан, чтобы следовать по пути самого солнца, в надежде найти новую, более мирную страну. Другая возможность для него состояла в том, чтобы направить свои плоты вдоль побережья Южной Америки, высадиться где-нибудь севернее и основать новое царство вне пределов досягаемости для своих преследователей. Отплыв от опасных скалистых берегов, населенных враждебными племенами, он, подобно нам, оказался во власти юго-восточного пассата и течения Гумбольдта и по воле этих стихий вынужден был описать точно такой же большой полукруг прямо в сторону заката.
Каковы бы ни были планы этих солнцепоклонников, когда они покидали свою родину, они, конечно, имели с собой запас продовольствия на время путешествия. Сушеное мясо и рыба, сладкий картофель составляли главную часть их первобытной пищи. Когда в те времена люди пускались на плотах вдоль пустынного берега Перу, они брали с собой большой запас воды. Вместо глиняной посуды они большей частью пользовались огромными тыквенными бутылями, не боявшимися толчков и ударов. Еще более удобными для пользования на плоту были толстые стволы гигантского бамбука; в них просверливали все перегородки и наливали внутрь ствола воду через маленькую дырку, которую затыкали какой-нибудь втулкой, либо залепляли смолой или камедью. 30–40 толстых бамбуковых стволов можно было привязать вдоль плота под бамбуковой палубой, и там они лежали в тени, омываемые прохладной (26°Ц в экваториальном течении) морской водой. Такой запас воды вдвое превышал наш расход за все время путешествия, а его можно было и увеличить, попросту привязав еще несколько десятков бамбуков под плотом, где они ничего не весили бы и не занимали бы места.
По истечении двух месяцев мы обнаружили, что пресная вода стала затхлой и приобрела неприятный вкус. Но за это время вполне можно было миновать ту часть океана, где выпадает мало дождей, и давно очутиться в областях, в которых запас воды пополнялся бы сильными ливнями. Мы ежедневно выдавали по литру с четвертью воды на человека, и далеко не всегда эта порция бывала израсходована.
Если даже наши предшественники пускались в путь, не запасшись достаточным количеством продовольствия, они все же не испытывали больших лишений, пока двигались по океану вместе с течением, в котором рыба водилась в изобилии. За все время нашего путешествия не проходило ни одного дня, чтобы мы не видели плававших вокруг плота рыб и не могли без труда поймать их. Почти ежедневно хоть несколько летающих рыб сами являлись к нам на плот. Случалось даже, что большие бониты, замечательно вкусные, попадали на плот с набегавшими на корму волнами и бились на палубе, когда вода уходила между бревнами, как сквозь сито. Умереть от голода было невозможно.
 Древние индейцы хорошо знали способ утоления жажды, к которому во время последней мировой войны прибегали многие потерпевшие кораблекрушение, — высасывание влаги из сырой рыбы. Можно также выдавливать сок, завернув кусок рыбы в какую-нибудь тряпку, а если рыба большая, то нет ничего проще, как вырезать в ее туловище несколько ямок и подождать, пока они быстро наполнятся жидкостью, выделяемой лимфатическими железами рыбы. На вкус этот напиток не очень приятен — если у вас есть для питья что-нибудь лучше, — но содержание соли в нем так незначительно, что жажда утоляется.
Потребность в питьевой воде сильно уменьшалась, если мы регулярно купались, а потом мокрые лежали в затененной каюте. Если вокруг нас величественно патрулировала акула, не давая нам возможности выкупаться по-настоящему в океане, то достаточно было просто лечь на корме на бревна, хорошенько держась за веревки пальцами рук и ног. И тогда мы принимали ванны в прозрачной воде Тихого океана, которая перекатывалась через нас каждые несколько секунд.
Когда во время жары человека мучает жажда, он обычно предполагает, что его организм требует жидкости, это часто может повести к неумеренному расходованию запаса воды без всякой пользы. В действительности в жаркие дни в тропиках можно выпить столько тепловатой воды, что она начнет подступать вам к горлу, а жажда все-таки не исчезнет. В этих случаях организм требует не жидкости, а, как это ни странно, соли. В специальные рационы, которые мы имели с собой, входили таблетки соли для регулярного приема их в особенно жаркие дни, так как с потом организм выделяет соль. Мы испытывали такую жару, когда ветер совершенно замирал, а солнце беспощадно жгло. Мы пробовали вливать в себя столько воды, что она начинала хлюпать у нас в животе, а наши глотки жадно требовали еще. В такие дни мы добавляли к нашему рациону пресной воды от 20 до 40 процентов горько-соленой морской воды и, к собственному удивлению, убеждались, что эта солоноватая вода утоляла жажду. Мы долго ощущали во рту вкус морской воды, но никогда не испытывали тошноты; и тем самым мы одновременно увеличивали свой рацион воды.
Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, шальная волна угодила в кашу и совершенно бесплатно научила нас тому, что вкус овсянки в значительной степени перебивает неприятный вкус морской воды.
Старики полинезийцы сохранили в памяти любопытные предания, согласно которым их древнейшие предки, когда они переплывали океан, имели с собой листья какого-то растения, которые они жевали для утоления жажды. Другое свойство этого растения состояло в том, что, положив кусочек его в рот, можно было пить, не испытывая тошноты, чистую морскую воду. На островах Южного моря таких растений нет; они, очевидно, росли на родине их предков. Полинезийские историки упорно настаивали на этих фактах; современные ученые заинтересовались ими и пришли к заключению, что единственным известным растением, обладающим такими свойствами, является кока, который растет только в Перу. А как доказали археологические раскопки, в доисторическом Перу это же самое растение кока, содержащее кокаин, постоянно употреблялось и инками и их исчезнувшими предшественниками. Отправляясь в утомительные путешествия по горам или в плавание по океану, они брали пачки этих листьев и много дней подряд жевали их, чтобы не испытывать жажды и усталости. Жевание листьев кока позволяло им в течение некоторого времени даже без вреда для себя пить морскую воду.
На «Кон-Тики» мы не пробовали листьев кока; у нас на передней части палубы были большие плетеные корзины, наполненные другими растениями, которые наложили глубокий отпечаток на всю жизнь островов Южного моря. Крепко привязанные корзины стояли под защитой стены каюты, и, по мере того как шло время, из них все выше и выше поднимались желтые побеги и зеленые листья. Это напоминало маленький тропический сад на деревянном плоту. Когда первые европейцы появились на островах Тихого океана, они обнаружили большие плантации сладкого картофеля на острове Пасхи, на Гавайских островах и в Новой Зеландии; тот же самый батат культивировался также и на других островах, но только в пределах Полинезии. В тех странах, которые лежали дальше на запад, он был совершенно неизвестен. Сладкий картофель являлся одним из самых важных культивируемых растений на этих далеких островах, где люди без него должны были бы питаться главным образом рыбой. С этим растением связано много полинезийских легенд. Согласно преданию, его привез не кто иной, как сам Тики, когда вместе с женой Пани явился с первоначальной родины их предков, где сладкий картофель был важным предметом питания. Новозеландские легенды рассказывают, что сладкий картофель привезли из-за океана на судах, которые не были челноками, а представляли собой «бревна, связанные вместе веревками».
Как известно, Америка, кроме Полинезии, является единственным местом на земле, где сладкий картофель рос до появления европейцев. А сладкий картофель Ipomaea batatas, привезенный Тики на острова, это тот самый картофель, который возделывался с древнейших времен индейцами в Перу. Сушеный сладкий картофель был самым главным продуктом питания во время путешествий и у индейцев древнего Перу и у полинезийцев. На островах Южного моря бататы растут только при тщательном уходе, и так как они не переносят морской воды, попытка объяснить их широкое распространение на этих изолированных островах тем, что их могло принести из Перу океанским течением на расстояние свыше 4 тысяч миль, совершенно несостоятельна. Такая попытка опровергнуть столь важный довод тем более тщетна, что, как установлено филологами, на всех раскинутых на большом пространстве островах Южного моря сладкий картофель называют «кумара», а под этим же именем «кумара» сладкий картофель был известен у древних индейцев в Перу. Название последовало за бататом через океан.
Другим очень важным возделываемым в Полинезии растением, которое мы везли с собой на «Кон-Тики», была бутылочная тыква Lagenaria vulgaris. Не менее важное значение, чем сам плод, имела оболочка тыквы, которую полинезийцы высушивали над костром и употребляли в качестве сосудов для воды. Это типичное огородное растение, которое опять-таки не могло само переплыть океан и распространиться в диком состоянии по островам, было известно и древним полинезийцам и первоначальным жителям Перу. Такие бутылочные тыквы, превращенные в сосуды для воды, мы находим в заброшенных доисторических могилах на берегах Перу; ими пользовались там рыбаки за много столетий до того, как первые люди появились на островах Тихого океана. Полинезийское название бутылочной тыквы, «кими», встречается и среди индейцев Центральной Америки, куда уходит своими корнями культура Перу.
В добавление к разным южным фруктам, съеденным нами за несколько недель, прежде чем они успели сгнить, мы имели с собой третье растение, которое наряду со сладким картофелем сыграло наибольшую роль в истории Тихого океана. У нас было двести кокосовых орехов, дававших работу нашим зубам и снабжавших нас освежающим напитком. Некоторые орехи вскоре стали прорастать, и по истечении ровно десяти недель нашего плавания у нас появилось полдюжины крошечных пальм вышиной в 30 сантиметров, побеги которых уже раскрылись и образовали плотные зеленые листья. Кокосовая пальма росла в доколумбовскую эпоху и на Панамском перешейке и в Южной Америке. Автор исторических хроник Овьедо[140] пишет, что кокосовые пальмы росли в большом количестве на тихоокеанском побережье Перу, когда там появились испанцы. В это время кокосовые пальмы давно уже имелись на всех островах Тихого океана. Ботаники пока не имеют определенных данных относительно того, каков был путь их распространения по Тихому океану. Но одно сейчас уже установлено. Даже кокосовый орех с его знаменитой скорлупой не может перебраться через океан без помощи человека. Орехи, лежавшие у нас на палубе в корзинках, оставались съедобными и не теряли способности к прорастанию в течение всего нашего путешествия в Полинезию. Но примерно такое же количество орехов мы положили среди коробок с продовольствием под палубой, где вокруг них все время плескались волны. Эти орехи все до единого были испорчены морской водой. А ведь ни один орех не может плыть по океану быстрее, чем бальсовый плот, подгоняемый ветром. Начиналось с того, что глазок ореха пропитывался водой и размягчался, а затем через него морская вода проникала внутрь. Вдобавок целая армия сборщиков мусора следила по всему океану за тем, чтобы ни один плавающий съедобный предмет не мог перебраться из одной части света в другую.
Иногда в тихие дни среди синего океана вдали от всяких берегов мы видели белое перо птицы, плывущее рядом с нашим плотом. Одинокие буревестники и другие морские птицы, которые могут спать на воде, встречались нам за тысячи миль от ближайшей земли.
Если, подплыв к маленькому перу, мы начинали его внимательно осматривать, мы видели на нем двух-трех пассажиров, со всеми удобствами плывших по ветру. Когда «Кон-Тики», подобно какому-то Голиафу, обгонял их, пассажиры при виде нового судна, которое двигалось быстрее и было гораздо поместительнее, покидали свои места и как можно скорее перебирались по воде на плот, предоставляя перу продолжать свой путь в одиночестве. Вскоре «Кон-Тики» кишел безбилетными пассажирами. Это были маленькие морские крабы. Величиной с ноготь пальца, а иногда и значительно больше, они представляли собой лакомство для великанов на плоту, если нам удавалось поймать их. Маленькие крабы исполняли роль полицейских на поверхности океана; они долго не раздумывали, когда видели что-нибудь съедобное. Если кок прозевывал летающую рыбу, лежавшую между бревнами, то на следующий день на ней уже сидели восемь или десять маленьких крабов и угощались, вовсю работая клешнями. При нашем приближении они большей частью пугались, быстро удирали и прятались, но на корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один краб, названный нами Юханнесом, который был совершенно ручным. Вместе с попугаем, всеобщим нашим любимцем, краб Юханнес также входил в нашу компанию на плоту. Если вахтенный, сидя в солнечный день за рулем спиною к каюте, не видел рядом с собой Юханнеса, он чувствовал себя крайне одиноким среди широкого простора синего океана. В то время как другие маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на обыкновенном корабле, Юханнес, не таясь, сидел перед своей дверью, выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый выходивший на вахту приносил крошки галет или кусочек рыбы для Юханнеса, и достаточно было нагнуться над его норой, чтобы он немедленно появлялся на пороге и протягивал лапку. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который напихал себе полный рот.
Древние индейцы хорошо знали способ утоления жажды, к которому во время последней мировой войны прибегали многие потерпевшие кораблекрушение, — высасывание влаги из сырой рыбы. Можно также выдавливать сок, завернув кусок рыбы в какую-нибудь тряпку, а если рыба большая, то нет ничего проще, как вырезать в ее туловище несколько ямок и подождать, пока они быстро наполнятся жидкостью, выделяемой лимфатическими железами рыбы. На вкус этот напиток не очень приятен — если у вас есть для питья что-нибудь лучше, — но содержание соли в нем так незначительно, что жажда утоляется.
Потребность в питьевой воде сильно уменьшалась, если мы регулярно купались, а потом мокрые лежали в затененной каюте. Если вокруг нас величественно патрулировала акула, не давая нам возможности выкупаться по-настоящему в океане, то достаточно было просто лечь на корме на бревна, хорошенько держась за веревки пальцами рук и ног. И тогда мы принимали ванны в прозрачной воде Тихого океана, которая перекатывалась через нас каждые несколько секунд.
Когда во время жары человека мучает жажда, он обычно предполагает, что его организм требует жидкости, это часто может повести к неумеренному расходованию запаса воды без всякой пользы. В действительности в жаркие дни в тропиках можно выпить столько тепловатой воды, что она начнет подступать вам к горлу, а жажда все-таки не исчезнет. В этих случаях организм требует не жидкости, а, как это ни странно, соли. В специальные рационы, которые мы имели с собой, входили таблетки соли для регулярного приема их в особенно жаркие дни, так как с потом организм выделяет соль. Мы испытывали такую жару, когда ветер совершенно замирал, а солнце беспощадно жгло. Мы пробовали вливать в себя столько воды, что она начинала хлюпать у нас в животе, а наши глотки жадно требовали еще. В такие дни мы добавляли к нашему рациону пресной воды от 20 до 40 процентов горько-соленой морской воды и, к собственному удивлению, убеждались, что эта солоноватая вода утоляла жажду. Мы долго ощущали во рту вкус морской воды, но никогда не испытывали тошноты; и тем самым мы одновременно увеличивали свой рацион воды.
Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, шальная волна угодила в кашу и совершенно бесплатно научила нас тому, что вкус овсянки в значительной степени перебивает неприятный вкус морской воды.
Старики полинезийцы сохранили в памяти любопытные предания, согласно которым их древнейшие предки, когда они переплывали океан, имели с собой листья какого-то растения, которые они жевали для утоления жажды. Другое свойство этого растения состояло в том, что, положив кусочек его в рот, можно было пить, не испытывая тошноты, чистую морскую воду. На островах Южного моря таких растений нет; они, очевидно, росли на родине их предков. Полинезийские историки упорно настаивали на этих фактах; современные ученые заинтересовались ими и пришли к заключению, что единственным известным растением, обладающим такими свойствами, является кока, который растет только в Перу. А как доказали археологические раскопки, в доисторическом Перу это же самое растение кока, содержащее кокаин, постоянно употреблялось и инками и их исчезнувшими предшественниками. Отправляясь в утомительные путешествия по горам или в плавание по океану, они брали пачки этих листьев и много дней подряд жевали их, чтобы не испытывать жажды и усталости. Жевание листьев кока позволяло им в течение некоторого времени даже без вреда для себя пить морскую воду.
На «Кон-Тики» мы не пробовали листьев кока; у нас на передней части палубы были большие плетеные корзины, наполненные другими растениями, которые наложили глубокий отпечаток на всю жизнь островов Южного моря. Крепко привязанные корзины стояли под защитой стены каюты, и, по мере того как шло время, из них все выше и выше поднимались желтые побеги и зеленые листья. Это напоминало маленький тропический сад на деревянном плоту. Когда первые европейцы появились на островах Тихого океана, они обнаружили большие плантации сладкого картофеля на острове Пасхи, на Гавайских островах и в Новой Зеландии; тот же самый батат культивировался также и на других островах, но только в пределах Полинезии. В тех странах, которые лежали дальше на запад, он был совершенно неизвестен. Сладкий картофель являлся одним из самых важных культивируемых растений на этих далеких островах, где люди без него должны были бы питаться главным образом рыбой. С этим растением связано много полинезийских легенд. Согласно преданию, его привез не кто иной, как сам Тики, когда вместе с женой Пани явился с первоначальной родины их предков, где сладкий картофель был важным предметом питания. Новозеландские легенды рассказывают, что сладкий картофель привезли из-за океана на судах, которые не были челноками, а представляли собой «бревна, связанные вместе веревками».
Как известно, Америка, кроме Полинезии, является единственным местом на земле, где сладкий картофель рос до появления европейцев. А сладкий картофель Ipomaea batatas, привезенный Тики на острова, это тот самый картофель, который возделывался с древнейших времен индейцами в Перу. Сушеный сладкий картофель был самым главным продуктом питания во время путешествий и у индейцев древнего Перу и у полинезийцев. На островах Южного моря бататы растут только при тщательном уходе, и так как они не переносят морской воды, попытка объяснить их широкое распространение на этих изолированных островах тем, что их могло принести из Перу океанским течением на расстояние свыше 4 тысяч миль, совершенно несостоятельна. Такая попытка опровергнуть столь важный довод тем более тщетна, что, как установлено филологами, на всех раскинутых на большом пространстве островах Южного моря сладкий картофель называют «кумара», а под этим же именем «кумара» сладкий картофель был известен у древних индейцев в Перу. Название последовало за бататом через океан.
Другим очень важным возделываемым в Полинезии растением, которое мы везли с собой на «Кон-Тики», была бутылочная тыква Lagenaria vulgaris. Не менее важное значение, чем сам плод, имела оболочка тыквы, которую полинезийцы высушивали над костром и употребляли в качестве сосудов для воды. Это типичное огородное растение, которое опять-таки не могло само переплыть океан и распространиться в диком состоянии по островам, было известно и древним полинезийцам и первоначальным жителям Перу. Такие бутылочные тыквы, превращенные в сосуды для воды, мы находим в заброшенных доисторических могилах на берегах Перу; ими пользовались там рыбаки за много столетий до того, как первые люди появились на островах Тихого океана. Полинезийское название бутылочной тыквы, «кими», встречается и среди индейцев Центральной Америки, куда уходит своими корнями культура Перу.
В добавление к разным южным фруктам, съеденным нами за несколько недель, прежде чем они успели сгнить, мы имели с собой третье растение, которое наряду со сладким картофелем сыграло наибольшую роль в истории Тихого океана. У нас было двести кокосовых орехов, дававших работу нашим зубам и снабжавших нас освежающим напитком. Некоторые орехи вскоре стали прорастать, и по истечении ровно десяти недель нашего плавания у нас появилось полдюжины крошечных пальм вышиной в 30 сантиметров, побеги которых уже раскрылись и образовали плотные зеленые листья. Кокосовая пальма росла в доколумбовскую эпоху и на Панамском перешейке и в Южной Америке. Автор исторических хроник Овьедо[140] пишет, что кокосовые пальмы росли в большом количестве на тихоокеанском побережье Перу, когда там появились испанцы. В это время кокосовые пальмы давно уже имелись на всех островах Тихого океана. Ботаники пока не имеют определенных данных относительно того, каков был путь их распространения по Тихому океану. Но одно сейчас уже установлено. Даже кокосовый орех с его знаменитой скорлупой не может перебраться через океан без помощи человека. Орехи, лежавшие у нас на палубе в корзинках, оставались съедобными и не теряли способности к прорастанию в течение всего нашего путешествия в Полинезию. Но примерно такое же количество орехов мы положили среди коробок с продовольствием под палубой, где вокруг них все время плескались волны. Эти орехи все до единого были испорчены морской водой. А ведь ни один орех не может плыть по океану быстрее, чем бальсовый плот, подгоняемый ветром. Начиналось с того, что глазок ореха пропитывался водой и размягчался, а затем через него морская вода проникала внутрь. Вдобавок целая армия сборщиков мусора следила по всему океану за тем, чтобы ни один плавающий съедобный предмет не мог перебраться из одной части света в другую.
Иногда в тихие дни среди синего океана вдали от всяких берегов мы видели белое перо птицы, плывущее рядом с нашим плотом. Одинокие буревестники и другие морские птицы, которые могут спать на воде, встречались нам за тысячи миль от ближайшей земли.
Если, подплыв к маленькому перу, мы начинали его внимательно осматривать, мы видели на нем двух-трех пассажиров, со всеми удобствами плывших по ветру. Когда «Кон-Тики», подобно какому-то Голиафу, обгонял их, пассажиры при виде нового судна, которое двигалось быстрее и было гораздо поместительнее, покидали свои места и как можно скорее перебирались по воде на плот, предоставляя перу продолжать свой путь в одиночестве. Вскоре «Кон-Тики» кишел безбилетными пассажирами. Это были маленькие морские крабы. Величиной с ноготь пальца, а иногда и значительно больше, они представляли собой лакомство для великанов на плоту, если нам удавалось поймать их. Маленькие крабы исполняли роль полицейских на поверхности океана; они долго не раздумывали, когда видели что-нибудь съедобное. Если кок прозевывал летающую рыбу, лежавшую между бревнами, то на следующий день на ней уже сидели восемь или десять маленьких крабов и угощались, вовсю работая клешнями. При нашем приближении они большей частью пугались, быстро удирали и прятались, но на корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один краб, названный нами Юханнесом, который был совершенно ручным. Вместе с попугаем, всеобщим нашим любимцем, краб Юханнес также входил в нашу компанию на плоту. Если вахтенный, сидя в солнечный день за рулем спиною к каюте, не видел рядом с собой Юханнеса, он чувствовал себя крайне одиноким среди широкого простора синего океана. В то время как другие маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на обыкновенном корабле, Юханнес, не таясь, сидел перед своей дверью, выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый выходивший на вахту приносил крошки галет или кусочек рыбы для Юханнеса, и достаточно было нагнуться над его норой, чтобы он немедленно появлялся на пороге и протягивал лапку. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который напихал себе полный рот.
 Крабы облепили, подобно мухам, намокшие кокосовые орехи, которые трескались от брожения, или же подбирали планктон, выброшенный волнами на плот. А планктон, эти мельчайшие морские организмы, представлял собой неплохую пищу даже для нас, великанов, когда мы научились добывать его по стольку зараз, чтобы хватило на приличный глоток.
Эти почти невидимые планктонные организмы, которые в бесчисленном множестве плавают по океанам по воле течений, являются, без сомнения, очень питательной пищей. Если некоторые рыбы и морские птицы сами не питаются планктоном, то в таком случае они живут за счет других рыб или морских животных, которые, как бы велики они ни были, питаются им. Планктон — это общее название для тысячи видов мелких организмов, видимых и невидимых глазу, которые плавают в океане у самой поверхности. Некоторые из них являются растениями (фитопланктон), а другие — свободно плавающими рыбьими икринками или крохотными животными (зоопланктон). Животный планктон питается растительным планктоном, а растительный планктон живет за счет аммиачных, азотистокислых и азотнокислых соединений, которые образуются при разложении мертвого животного планктона. Являясь пищей друг для друга, эти два вида планктонных организмов составляют в то же время пищу для всех, кто движется в воде и над водой. Если планктонные организмы недостаточны по величине, то по количеству их вполне достаточно. В стакане богатой планктоном воды их насчитывают тысячами. Не один раз люди умирали в море от голода, потому что им не попадались рыбы такой величины, чтобы их можно было бить острогой, ловить сетью или на крючок. В таких случаях нередко бывало, что люди плыли буквально в сильно разбавленной ухе из сырой рыбы. Если бы вдобавок к крючкам и сетям у них были приспособления для процеживания ухи, среди которой они находились, они могли бы получить питательную гущу — планктон. Когда-нибудь в будущем люди начнут, пожалуй, думать о сборе планктона в море в больших масштабах, как когда-то, давным-давно, им пришла в голову мысль о сборе зерна на земле. От одного зерна пользы нет, но в больших количествах оно становится пищей.
Один ученый-гидробиолог подал нам эту идею и снабдил нас рыболовной сетью, подходящей для тех созданий, которых мы собирались ловить. «Сеть» представляла собой шелковую сетку с примерно пятьюстами ячеек на квадратный сантиметр. Она была сшита в форме воронки, широкий конец которой был закреплен вокруг железного кольца 45 миллиметров в диаметре. Сетка плыла на веревке за плотом. Как и при других видах рыбной ловли, уловы бывали различными в зависимости от времени и места. Уловы уменьшались по мере того, как вода в океане, дальше к западу, становилась теплее; наилучшие результаты у нас бывали ночью, так как многие виды планктонных организмов, по-видимому, уходят глубже в воду, когда сияет солнце.
Если бы у нас не было других способов проводить время на плоту, мы могли бы целымиднями лежать, уткнувшись носом в планктонную сетку. Не из-за запаха, так как он был достаточно неприятным. И не потому, что это было аппетитное зрелище, так как похлебка имела отвратительный вид. А потому, что раскладывая улов на палубе и разглядывая невооруженным глазом каждое из этих мельчайших существ в отдельности, мы могли любоваться бесконечным разнообразием фантастических форм и цветов.
Большей частью это были похожие на крошечных гарнелей ракообразные (копеподы) или свободно плавающие икринки рыб, но попадались также личинки рыб и моллюски, забавные миниатюрные крабы всех цветов, медузы и множество разнообразных мелких созданий, которые могли показаться заимствованными из «Фантазии» Уолта Диснея. Одни напоминали порхающие бахромчатые привидения, вырезанные из целлофана, другие походили на крошечных красноклювых птичек с твердой раковиной вместо перьев. Не было предела расточительной изобретательности природы в мире планктона; при виде этого зрелища любой художник-сюрреалист[141] признал бы себя побежденным.
Когда холодное течение Гумбольдта южнее экватора повернуло на запад, мы могли через каждые несколько часов вынимать из сетки по одному-два килограмма планктонной кашицы. Планктон скоплялся в сетке напоминавшими торт цветными слоями — бурыми, красными, серыми и зелеными — в зависимости от того, по каким планктонным полям мы проходили. Ночью, когда вода вокруг нас фосфоресцировала, нам казалось, что мы перебираем в мешке сверкающие драгоценные камни. Но когда мы брали их в руки, сокровища пиратов превращались в миллионы мельчайших сверкающих гарнелей и светящихся рыбьих личинок, которые горели в темноте, как куча раскаленных угольков. А когда мы перебрасывали их в ведро, спрессовавшееся месиво расплывалось, как волшебная каша из светлячков. Наш ночной улов, такой красивый издали, на близком расстоянии имел отвратительный вид. Несмотря на неприятный запах, на вкус он был сравнительно недурен, если у нас хватало мужества отправить в рот ложку этого фосфора. Если улов состоял из карликовых гарнелей, он по вкусу напоминал омара, краба или паштет из креветок. А если в основном это были икринки глубоководных рыб, то их вкус напоминал черную икру, иногда устриц. Несъедобный растительный планктон большей частью состоял из таких мелких частиц, что они вместе с водой проходили сквозь ячейки сетки, или же они были настолько крупными, что мы могли вылавливать их пальцами. «Вредной примесью» в блюде были единичные студенистые кишечнополостные, похожие на стеклянные шарики, и медузы величиной с сантиметр. Они были горькие, и их приходилось выкидывать. Все остальное можно было есть либо в натуральном виде, либо сваренным в пресной воде наподобие каши или супа. Вкусы бывают различными. Двое из нас считали, что планктон замечательно вкусен, двое считали, что он вполне хорош, а для двоих одного вида его было более чем достаточно. С точки зрения питательности планктон не уступает более крупным моллюскам; приправленный и как следует приготовленный, он, без сомнения, может служить первоклассным блюдом для всех любителей морской пищи.
То, что эти маленькие организмы содержат достаточно калорий, доказано голубыми китами, которые являются самыми крупными в мире животными, а питаются планктоном. Наш способ ловли с помощью маленькой сетки, которая часто оказывалась изжеванной голодными рыбами, показался нам жалким и примитивным, когда однажды, сидя на плоту, мы увидели, как проплывавший кит выбрасывал каскады воды, попросту процеживая планктон сквозь свои целлулоидные усы. А в один прекрасный день вся наша сетка пропала в океане.
— Почему бы вам, планктоноедам, не поступать, как он? — презрительно спросили Торстейн и Бенгт остальных, указывая на пускающего фонтаны кита. — Наполняйте просто рот и выдувайте воду сквозь усы!
Мне приходилось видеть китов издали с пароходов, и я рассматривал их чучела в музее, но никогда у меня не бывало ощущения, что эта гигантская туша является таким же настоящим теплокровным животным, как, например, лошадь или слон. Конечно, как биолог, я признавал, что кит настоящее млекопитающее. Но по своей сути он представлялся мне со всех точек зрения большой холодной рыбой. Теперь, когда огромные киты мчались к нашему плоту и плыли рядом с ним, наше впечатление было иным. Однажды мы, по обыкновению, сидели за едой у самого края плота, так близко от воды, что, для того чтобы сполоснуть кружки, нам достаточно было откинуться назад; вдруг все мы вздрогнули от неожиданности, когда позади нас кто-то тяжело задышал, как плывущая лошадь, и на поверхности появился большой кит. Он смотрел на нас и был так близко, что мы видели его дыхало, блестевшее, как начищенный ботинок. Было так странно слышать настоящее дыхание среди океана, где все живые существа лишены легких и, бесшумно извиваясь, шевелят своими жабрами, что мы поистине испытывали теплое дружеское чувство к нашему древнему отдаленному родственнику — киту, который, как и мы, забрался так далеко в океан. Вместо холодной, жабоподобной китовой акулы, у которой не хватало ума даже на то, чтобы высунуть нос и подышать свежим воздухом, на этот раз нас посетил кто-то, кто напоминал откормленного веселого бегемота из зоологического сада и сделал несколько вдохов и выдохов (на меня это произвело наиболее приятное впечатление), прежде чем погрузиться в воду и исчезнуть.
Киты посещали нас много раз. Большей частью это были маленькие морские свиньи и зубатые киты, большими стаями резвившиеся около нас на поверхности воды; но время от времени встречались и большие кашалоты или другие гигантские киты, которые плавали поодиночке или стаями в несколько штук. Иногда они проплывали, как корабли, на горизонте, то и дело выбрасывая в воздух фонтаны воды, но в других случаях они направлялись прямо на нас. В первый раз, когда большой кит изменил курс и явно намеренно направился прямо к плоту, мы приготовились к опасному столкновению. По мере того как кит приближался, всякий раз, как он высовывал голову из воды, мы все яснее слышали его тяжелое и редкое пыхтящее дыхание. Казалось, в воде с трудом двигалось огромное, толстокожее, неуклюжее сухопутное животное, столь же не похожее на рыбу, как летучая мышь не похожа на птицу. Кит подплыл к левому борту, где мы все собрались у самого края плота; один из нас сидел на верхушке мачты и кричал, что видит еще семь или восемь китов, направляющихся к нам.
Большой блестящий черный лоб первого кита показался не дальше чем в двух метрах от нас, но вдруг он погрузился в воду, и затем мы увидели, что огромная иссиня-черная спина медленно скользнула под плот как раз под нашими ногами. Некоторое время кит лежал там, темный и неподвижный, а мы затаив дыхание смотрели вниз на гигантскую изогнутую спину млекопитающего, длиной намного превосходившего весь плот. Потом оно медленно погрузилось в синеватую воду и исчезло из виду. Тем временем вокруг плота собралась вся стая, но она не обращала на нас внимания. Вероятно, люди нападали первыми на тех китов, которые употребляли во зло свою колоссальную силу и топили ударами хвоста китобойные баркасы. Все утро мы видели вокруг себя в самых неожиданных местах шумно дышавших китов, но ни разу они не толкнули ни плот, ни рулевое весло. Они вполне довольствовались тем, что спокойно резвились в освещенных солнцем волнах. Но около полудня вся стая, словно по сигналу, нырнула и исчезла навсегда.
Не только китов приходилось нам видеть у себя под плотом. Подняв камышовые циновки, на которых мы спали, мы могли сквозь щели между бревнами смотреть прямо вниз в прозрачную синюю воду. Если пролежать так некоторое время, то можно было заметить покачивавшийся грудной или хвостовой плавник, а время от времени и всю рыбу. Если бы щели были на несколько сантиметров шире, мы могли бы с полным комфортом лежать в постели с удочкой и ловить рыбу под своими матрацами.
Чаще всех увязывались за плотом золотые макрели и лоцманы. Начиная с того момента, когда первые золотые макрели присоединились к нам в течении Гумбольдта за бухтой Кальяо, не проходило дня за все время путешествия, чтобы мы не видели извивавшихся вокруг нас крупных экземпляров. Что привлекало их к плоту, мы не знали; может быть, они испытывали таинственное влечение к тому, чтобы плавать в тени, имея над собой движущуюся крышу; или же их привлекала пища, которую они находили в нашем огороде из водорослей и ракушек, бахромой свисавших со всех бревен и рулевого весла. Обрастание началось с тонкого ровного слоя зелени, но затем зеленые наросты водорослей стали увеличиваться с изумительной быстротой, так что «Кон-Тики», карабкаясь по волнам, имел вид какого-то бородатого морского божества. А среди зеленых водорослей было любимое убежище крохотных мальков и наших безбилетных пассажиров — крабов. Одно время плот заполонили муравьи. В некоторых бревнах были мелкие черные муравьи, и когда мы очутились в море и древесина стала пропитываться влагой, муравьи выползли и перебрались в спальные мешки. Они были повсюду и так кусали и мучали нас, что мы начали опасаться, как бы они не выжили нас с плота. Но постепенно, когда в океане нас стало все чаще заливать волнами, муравьи поняли, что эта обстановка не для них, и лишь несколько единичных насекомых выдержали переезд через океан. Лучше всего, наряду с крабами, чувствовали себя на плоту морские уточки[142] длиною в 25–40 миллиметров. Они размножались сотнями, в особенности на подветренной стороне плота, и, как только мы отправляли взрослых рачков в суповой котел, молодые личинки укоренялись и принимались расти. Рачки эти обладали свежим и приятным вкусом; для салата мы набирали водоросли — он тоже был съедобен, но не так хорош. Фактически мы ни разу не видели, чтобы золотые макрели кормились в огороде, но они то и дело поворачивались своим блестящим брюхом вверх и подплывали под бревна.
Золотая макрель — тропическая рыба с блестящей окраской — обычно бывает длиной от 100 до 135 сантиметров и имеет сильно сплющенное туловище с очень высокой головой и шеей. Однажды мы вытянули на плот рыбу длиной в 143 сантиметра; ее голова имела в вышину 37 сантиметров. Расцветка золотой макрели великолепна. В воде она переливается синими и зелеными красками, как мясная муха, и сверкает золотисто-желтыми плавниками. Но когда мы вытаскивали их из воды, иногда наблюдалось странное явление. Умирая, рыба постепенно меняла окраску, становясь сначала серебристо-серой с черными пятнами, а в конце концов сплошь серебристо-белой. Это продолжалось четыре-пять минут, а затем снова медленно восстанавливалась прежняя окраска. Даже в воде золотая макрель иногда меняет, как хамелеон, свой цвет; часто мы замечали «новую разновидность» блестящих рыб медного цвета, которые при ближайшем знакомстве оказывались нашими старыми спутниками — золотыми макрелями.
Высокий лоб придавал золотой макрели сходство с бульдогом со сплющенными боками; и когда хищник бросался, как торпеда, в погоню за удирающей стаей летающих рыб, он своим лбом рассекал поверхность воды. Если золотая макрель бывала в хорошем настроении, она поворачивалась на бок, быстро проносилась вперед, подпрыгивала высоко в воздух и, как блин, плашмя шлепалась обратно; такие прыжки повторялись через одинаковые промежутки времени и каждый раз сопровождались столбом брызг. Едва она успевала погрузиться в воду, как снова появлялась для следующего прыжка и снова для следующего, перелетая через волны. Но когда она была в плохом настроении, например когда мы вытаскивали ее на плот, тогда она кусалась. Торстейн несколько дней хромал и ходил с тряпкой вокруг большого пальца ноги, так как он угодил им в рот золотой макрели, которая не преминула воспользоваться случаем сжать челюсти и впиться зубами несколько сильней, чем обычно. По возвращении на родину нам пришлось услышать, что золотые макрели иногда нападают на купающихся людей и съедают их. Это было плохим комплиментом для нас, если принять во внимание, что мы ежедневно купались среди золотых макрелей, не вызывая в них особого интереса. Все же они были опасными хищниками, так как мы находили в их желудках и кальмаров и целых летающих рыб.
Крабы облепили, подобно мухам, намокшие кокосовые орехи, которые трескались от брожения, или же подбирали планктон, выброшенный волнами на плот. А планктон, эти мельчайшие морские организмы, представлял собой неплохую пищу даже для нас, великанов, когда мы научились добывать его по стольку зараз, чтобы хватило на приличный глоток.
Эти почти невидимые планктонные организмы, которые в бесчисленном множестве плавают по океанам по воле течений, являются, без сомнения, очень питательной пищей. Если некоторые рыбы и морские птицы сами не питаются планктоном, то в таком случае они живут за счет других рыб или морских животных, которые, как бы велики они ни были, питаются им. Планктон — это общее название для тысячи видов мелких организмов, видимых и невидимых глазу, которые плавают в океане у самой поверхности. Некоторые из них являются растениями (фитопланктон), а другие — свободно плавающими рыбьими икринками или крохотными животными (зоопланктон). Животный планктон питается растительным планктоном, а растительный планктон живет за счет аммиачных, азотистокислых и азотнокислых соединений, которые образуются при разложении мертвого животного планктона. Являясь пищей друг для друга, эти два вида планктонных организмов составляют в то же время пищу для всех, кто движется в воде и над водой. Если планктонные организмы недостаточны по величине, то по количеству их вполне достаточно. В стакане богатой планктоном воды их насчитывают тысячами. Не один раз люди умирали в море от голода, потому что им не попадались рыбы такой величины, чтобы их можно было бить острогой, ловить сетью или на крючок. В таких случаях нередко бывало, что люди плыли буквально в сильно разбавленной ухе из сырой рыбы. Если бы вдобавок к крючкам и сетям у них были приспособления для процеживания ухи, среди которой они находились, они могли бы получить питательную гущу — планктон. Когда-нибудь в будущем люди начнут, пожалуй, думать о сборе планктона в море в больших масштабах, как когда-то, давным-давно, им пришла в голову мысль о сборе зерна на земле. От одного зерна пользы нет, но в больших количествах оно становится пищей.
Один ученый-гидробиолог подал нам эту идею и снабдил нас рыболовной сетью, подходящей для тех созданий, которых мы собирались ловить. «Сеть» представляла собой шелковую сетку с примерно пятьюстами ячеек на квадратный сантиметр. Она была сшита в форме воронки, широкий конец которой был закреплен вокруг железного кольца 45 миллиметров в диаметре. Сетка плыла на веревке за плотом. Как и при других видах рыбной ловли, уловы бывали различными в зависимости от времени и места. Уловы уменьшались по мере того, как вода в океане, дальше к западу, становилась теплее; наилучшие результаты у нас бывали ночью, так как многие виды планктонных организмов, по-видимому, уходят глубже в воду, когда сияет солнце.
Если бы у нас не было других способов проводить время на плоту, мы могли бы целымиднями лежать, уткнувшись носом в планктонную сетку. Не из-за запаха, так как он был достаточно неприятным. И не потому, что это было аппетитное зрелище, так как похлебка имела отвратительный вид. А потому, что раскладывая улов на палубе и разглядывая невооруженным глазом каждое из этих мельчайших существ в отдельности, мы могли любоваться бесконечным разнообразием фантастических форм и цветов.
Большей частью это были похожие на крошечных гарнелей ракообразные (копеподы) или свободно плавающие икринки рыб, но попадались также личинки рыб и моллюски, забавные миниатюрные крабы всех цветов, медузы и множество разнообразных мелких созданий, которые могли показаться заимствованными из «Фантазии» Уолта Диснея. Одни напоминали порхающие бахромчатые привидения, вырезанные из целлофана, другие походили на крошечных красноклювых птичек с твердой раковиной вместо перьев. Не было предела расточительной изобретательности природы в мире планктона; при виде этого зрелища любой художник-сюрреалист[141] признал бы себя побежденным.
Когда холодное течение Гумбольдта южнее экватора повернуло на запад, мы могли через каждые несколько часов вынимать из сетки по одному-два килограмма планктонной кашицы. Планктон скоплялся в сетке напоминавшими торт цветными слоями — бурыми, красными, серыми и зелеными — в зависимости от того, по каким планктонным полям мы проходили. Ночью, когда вода вокруг нас фосфоресцировала, нам казалось, что мы перебираем в мешке сверкающие драгоценные камни. Но когда мы брали их в руки, сокровища пиратов превращались в миллионы мельчайших сверкающих гарнелей и светящихся рыбьих личинок, которые горели в темноте, как куча раскаленных угольков. А когда мы перебрасывали их в ведро, спрессовавшееся месиво расплывалось, как волшебная каша из светлячков. Наш ночной улов, такой красивый издали, на близком расстоянии имел отвратительный вид. Несмотря на неприятный запах, на вкус он был сравнительно недурен, если у нас хватало мужества отправить в рот ложку этого фосфора. Если улов состоял из карликовых гарнелей, он по вкусу напоминал омара, краба или паштет из креветок. А если в основном это были икринки глубоководных рыб, то их вкус напоминал черную икру, иногда устриц. Несъедобный растительный планктон большей частью состоял из таких мелких частиц, что они вместе с водой проходили сквозь ячейки сетки, или же они были настолько крупными, что мы могли вылавливать их пальцами. «Вредной примесью» в блюде были единичные студенистые кишечнополостные, похожие на стеклянные шарики, и медузы величиной с сантиметр. Они были горькие, и их приходилось выкидывать. Все остальное можно было есть либо в натуральном виде, либо сваренным в пресной воде наподобие каши или супа. Вкусы бывают различными. Двое из нас считали, что планктон замечательно вкусен, двое считали, что он вполне хорош, а для двоих одного вида его было более чем достаточно. С точки зрения питательности планктон не уступает более крупным моллюскам; приправленный и как следует приготовленный, он, без сомнения, может служить первоклассным блюдом для всех любителей морской пищи.
То, что эти маленькие организмы содержат достаточно калорий, доказано голубыми китами, которые являются самыми крупными в мире животными, а питаются планктоном. Наш способ ловли с помощью маленькой сетки, которая часто оказывалась изжеванной голодными рыбами, показался нам жалким и примитивным, когда однажды, сидя на плоту, мы увидели, как проплывавший кит выбрасывал каскады воды, попросту процеживая планктон сквозь свои целлулоидные усы. А в один прекрасный день вся наша сетка пропала в океане.
— Почему бы вам, планктоноедам, не поступать, как он? — презрительно спросили Торстейн и Бенгт остальных, указывая на пускающего фонтаны кита. — Наполняйте просто рот и выдувайте воду сквозь усы!
Мне приходилось видеть китов издали с пароходов, и я рассматривал их чучела в музее, но никогда у меня не бывало ощущения, что эта гигантская туша является таким же настоящим теплокровным животным, как, например, лошадь или слон. Конечно, как биолог, я признавал, что кит настоящее млекопитающее. Но по своей сути он представлялся мне со всех точек зрения большой холодной рыбой. Теперь, когда огромные киты мчались к нашему плоту и плыли рядом с ним, наше впечатление было иным. Однажды мы, по обыкновению, сидели за едой у самого края плота, так близко от воды, что, для того чтобы сполоснуть кружки, нам достаточно было откинуться назад; вдруг все мы вздрогнули от неожиданности, когда позади нас кто-то тяжело задышал, как плывущая лошадь, и на поверхности появился большой кит. Он смотрел на нас и был так близко, что мы видели его дыхало, блестевшее, как начищенный ботинок. Было так странно слышать настоящее дыхание среди океана, где все живые существа лишены легких и, бесшумно извиваясь, шевелят своими жабрами, что мы поистине испытывали теплое дружеское чувство к нашему древнему отдаленному родственнику — киту, который, как и мы, забрался так далеко в океан. Вместо холодной, жабоподобной китовой акулы, у которой не хватало ума даже на то, чтобы высунуть нос и подышать свежим воздухом, на этот раз нас посетил кто-то, кто напоминал откормленного веселого бегемота из зоологического сада и сделал несколько вдохов и выдохов (на меня это произвело наиболее приятное впечатление), прежде чем погрузиться в воду и исчезнуть.
Киты посещали нас много раз. Большей частью это были маленькие морские свиньи и зубатые киты, большими стаями резвившиеся около нас на поверхности воды; но время от времени встречались и большие кашалоты или другие гигантские киты, которые плавали поодиночке или стаями в несколько штук. Иногда они проплывали, как корабли, на горизонте, то и дело выбрасывая в воздух фонтаны воды, но в других случаях они направлялись прямо на нас. В первый раз, когда большой кит изменил курс и явно намеренно направился прямо к плоту, мы приготовились к опасному столкновению. По мере того как кит приближался, всякий раз, как он высовывал голову из воды, мы все яснее слышали его тяжелое и редкое пыхтящее дыхание. Казалось, в воде с трудом двигалось огромное, толстокожее, неуклюжее сухопутное животное, столь же не похожее на рыбу, как летучая мышь не похожа на птицу. Кит подплыл к левому борту, где мы все собрались у самого края плота; один из нас сидел на верхушке мачты и кричал, что видит еще семь или восемь китов, направляющихся к нам.
Большой блестящий черный лоб первого кита показался не дальше чем в двух метрах от нас, но вдруг он погрузился в воду, и затем мы увидели, что огромная иссиня-черная спина медленно скользнула под плот как раз под нашими ногами. Некоторое время кит лежал там, темный и неподвижный, а мы затаив дыхание смотрели вниз на гигантскую изогнутую спину млекопитающего, длиной намного превосходившего весь плот. Потом оно медленно погрузилось в синеватую воду и исчезло из виду. Тем временем вокруг плота собралась вся стая, но она не обращала на нас внимания. Вероятно, люди нападали первыми на тех китов, которые употребляли во зло свою колоссальную силу и топили ударами хвоста китобойные баркасы. Все утро мы видели вокруг себя в самых неожиданных местах шумно дышавших китов, но ни разу они не толкнули ни плот, ни рулевое весло. Они вполне довольствовались тем, что спокойно резвились в освещенных солнцем волнах. Но около полудня вся стая, словно по сигналу, нырнула и исчезла навсегда.
Не только китов приходилось нам видеть у себя под плотом. Подняв камышовые циновки, на которых мы спали, мы могли сквозь щели между бревнами смотреть прямо вниз в прозрачную синюю воду. Если пролежать так некоторое время, то можно было заметить покачивавшийся грудной или хвостовой плавник, а время от времени и всю рыбу. Если бы щели были на несколько сантиметров шире, мы могли бы с полным комфортом лежать в постели с удочкой и ловить рыбу под своими матрацами.
Чаще всех увязывались за плотом золотые макрели и лоцманы. Начиная с того момента, когда первые золотые макрели присоединились к нам в течении Гумбольдта за бухтой Кальяо, не проходило дня за все время путешествия, чтобы мы не видели извивавшихся вокруг нас крупных экземпляров. Что привлекало их к плоту, мы не знали; может быть, они испытывали таинственное влечение к тому, чтобы плавать в тени, имея над собой движущуюся крышу; или же их привлекала пища, которую они находили в нашем огороде из водорослей и ракушек, бахромой свисавших со всех бревен и рулевого весла. Обрастание началось с тонкого ровного слоя зелени, но затем зеленые наросты водорослей стали увеличиваться с изумительной быстротой, так что «Кон-Тики», карабкаясь по волнам, имел вид какого-то бородатого морского божества. А среди зеленых водорослей было любимое убежище крохотных мальков и наших безбилетных пассажиров — крабов. Одно время плот заполонили муравьи. В некоторых бревнах были мелкие черные муравьи, и когда мы очутились в море и древесина стала пропитываться влагой, муравьи выползли и перебрались в спальные мешки. Они были повсюду и так кусали и мучали нас, что мы начали опасаться, как бы они не выжили нас с плота. Но постепенно, когда в океане нас стало все чаще заливать волнами, муравьи поняли, что эта обстановка не для них, и лишь несколько единичных насекомых выдержали переезд через океан. Лучше всего, наряду с крабами, чувствовали себя на плоту морские уточки[142] длиною в 25–40 миллиметров. Они размножались сотнями, в особенности на подветренной стороне плота, и, как только мы отправляли взрослых рачков в суповой котел, молодые личинки укоренялись и принимались расти. Рачки эти обладали свежим и приятным вкусом; для салата мы набирали водоросли — он тоже был съедобен, но не так хорош. Фактически мы ни разу не видели, чтобы золотые макрели кормились в огороде, но они то и дело поворачивались своим блестящим брюхом вверх и подплывали под бревна.
Золотая макрель — тропическая рыба с блестящей окраской — обычно бывает длиной от 100 до 135 сантиметров и имеет сильно сплющенное туловище с очень высокой головой и шеей. Однажды мы вытянули на плот рыбу длиной в 143 сантиметра; ее голова имела в вышину 37 сантиметров. Расцветка золотой макрели великолепна. В воде она переливается синими и зелеными красками, как мясная муха, и сверкает золотисто-желтыми плавниками. Но когда мы вытаскивали их из воды, иногда наблюдалось странное явление. Умирая, рыба постепенно меняла окраску, становясь сначала серебристо-серой с черными пятнами, а в конце концов сплошь серебристо-белой. Это продолжалось четыре-пять минут, а затем снова медленно восстанавливалась прежняя окраска. Даже в воде золотая макрель иногда меняет, как хамелеон, свой цвет; часто мы замечали «новую разновидность» блестящих рыб медного цвета, которые при ближайшем знакомстве оказывались нашими старыми спутниками — золотыми макрелями.
Высокий лоб придавал золотой макрели сходство с бульдогом со сплющенными боками; и когда хищник бросался, как торпеда, в погоню за удирающей стаей летающих рыб, он своим лбом рассекал поверхность воды. Если золотая макрель бывала в хорошем настроении, она поворачивалась на бок, быстро проносилась вперед, подпрыгивала высоко в воздух и, как блин, плашмя шлепалась обратно; такие прыжки повторялись через одинаковые промежутки времени и каждый раз сопровождались столбом брызг. Едва она успевала погрузиться в воду, как снова появлялась для следующего прыжка и снова для следующего, перелетая через волны. Но когда она была в плохом настроении, например когда мы вытаскивали ее на плот, тогда она кусалась. Торстейн несколько дней хромал и ходил с тряпкой вокруг большого пальца ноги, так как он угодил им в рот золотой макрели, которая не преминула воспользоваться случаем сжать челюсти и впиться зубами несколько сильней, чем обычно. По возвращении на родину нам пришлось услышать, что золотые макрели иногда нападают на купающихся людей и съедают их. Это было плохим комплиментом для нас, если принять во внимание, что мы ежедневно купались среди золотых макрелей, не вызывая в них особого интереса. Все же они были опасными хищниками, так как мы находили в их желудках и кальмаров и целых летающих рыб.
 Летающие рыбы были излюбленной пищей золотых макрелей. Если на поверхности воды что-то всплескивало, они опрометью бросались туда в надежде, что это летающие рыбы. Часто в дремотные утренние часы, когда мы, щурясь, вылезали из каюты и еще полусонные окунали зубную щетку в океан, мы сразу же просыпались, подскакивая от неожиданности при виде пятнадцатикилограммовой рыбы, которая молнией вылетала из-под плота и разочарованно тыкалась носом в зубную щетку. Случалось, что мы спокойно сидели за завтраком на краю плота, а в это время золотая макрель выпрыгивала из воды и с такой силой шлепалась на бок, что морская вода окатывала наши спины и попадала в еду.
Однажды, когда мы сидели за обедом, с Торстейном произошел случай, какой бывает только в самых невероятных охотничьих рассказах. Он внезапно положил вилку и опустил руку в океан; прежде чем мы поняли, что случилось, вода забурлила, и большая извивающаяся золотая макрель очутилась среди нас.
Оказывается, Торстейн схватил конец лесы, медленно проплывавшей мимо нас, на другом конце которой висела на крючке совершенно ошарашенная золотая макрель, оборвавшая лесу Эрика, когда тот рыбачил несколько дней тому назад.
Не проходило дня без того, чтобы шесть, семь золотых макрелей не сопровождали нас, кружа вокруг плота и под ним. В плохие дни их могло быть только две или три, но зато назавтра их появлялось до тридцати или сорока. Обычно достаточно было предупредить кока за двадцать минут, если мы хотели получить к обеду свежую рыбу. Тогда он привязывал кусок шпагата к короткой бамбуковой палке и насаживал на крючок половину летающей рыбы. Золотая макрель являлась в мгновение ока, в погоне за крючком бороздя головой поверхность воды, а за ней по пятам следовали еще две или три. Это была увлекательная рыбная ловля, а мясо только что пойманной золотой макрели было плотное и превосходное на вкус, напоминая одновременно треску и семгу. Оно не портилось два дня, а большего нам и не надо было, так как рыбы в океане водилось достаточно.
Знакомство с лоцманами происходило у нас иным путем. Акулы приводили их и после своей смерти оставляли нам для усыновления. Уже вскоре после нашего отплытия плот посетила первая акула. А затем они стали почти ежедневными гостьями. Иногда акула просто подплывала, чтобы осмотреть плот, и, описав вокруг один или два круга, отправлялась дальше на поиски добычи. Но чаще акулы пристраивались за кормой, как раз позади рулевого весла; там они лежали совершенно бесшумно, переводя взгляд с одного борта на другой, и лишь изредка чуть-чуть шевелили хвостом, чтобы не отстать от спокойно двигавшегося плота. Серо-голубое туловище акулы, находившейся у самой поверхности воды, в лучах солнца казалось буроватым; оно поднималось и опускалось вместе с волнами, так что спинной плавник все время угрожающе выступал из воды. Если море было бурным, то волны иногда поднимали акулу гораздо выше плота, тогда она величественно плыла к нам в сопровождении суетливой свиты маленьких лоцманов, державшихся перед ее пастью, и мы видели ее всю целиком, как в стеклянном ящике. В течение нескольких секунд нам казалось, что и акула и ее полосатые спутники вот-вот окажутся на самом плоту, но затем плот грациозно наклонялся в подветренную сторону, взбирался на гребень волны и спускался по другую сторону ее.
Вначале мы относились к акулам с большим почтением из-за их репутации и угрожающего вида. В этом заостренном туловище, представляющем собой огромный ком стальных мышц, была заключена необузданная сила, а широкая плоская голова с маленькими зелеными кошачьими глазами и громадной пастью, в которой мог поместиться футбольный мяч, говорила о безжалостной алчности. Когда человек у руля кричал «акула вдоль правого борта» или «акула вдоль левого борта», мы выскакивали на палубу, хватали ручные гарпуны и остроги и выстраивались вдоль края плота. Обычно акула бесшумно плавала вокруг нас, чуть не прижимаясь спинным плавником к бревнам. Наше уважение к акуле еще увеличилось, когда мы увидели, что остроги гнулись, как спагетти[143], отскакивая от напоминавшей наждачную бумагу брони на спине акулы, а наконечники ручных гарпунов ломались в пылу схватки. Если нам и удавалось пронзить кожу акулы и добраться до ее мышц и хрящей, это приводило только к волнующей борьбе; вода вокруг нас кипела, но дело кончалось тем, что акула вырывалась и уходила, а на поверхности воды оставалось маленькое маслянистое пятно, постепенно расплывавшееся.
Чтобы сохранить наш последний гарпун, мы связали в пучок несколько самых крупных рыболовных крючков и засунули их в туловище золотой макрели. Затем мы спустили приманку за борт, предусмотрительно заменив лесу стальным многожильным тросиком, который мы прикрепили к концу нашей спасательной веревки. Медленно и решительно акула приблизилась; высунув голову над водой, она раскрыла свою серповидную пасть, рванув, схватила целиком золотую макрель и проглотила ее. Тут она и попалась. Завязалась битва, во время которой акула вспенила всю воду вокруг плота, но мы крепко вцепились в веревку и подтащили сопротивлявшуюся изо всех сил громадину к самым бревнам кормы; там она лежала в ожидании дальнейших событий и лишь широко разевала пасть, как бы желая запугать нас рядами своих острых, как пила, зубов. Набежавшая волна вкатила акулу на край скользких от водорослей бревен; набросив веревочную петлю на хвостовой плавник туловища, мы поспешно отбежали на почтительное расстояние и ждали, пока закончится военный танец.
Летающие рыбы были излюбленной пищей золотых макрелей. Если на поверхности воды что-то всплескивало, они опрометью бросались туда в надежде, что это летающие рыбы. Часто в дремотные утренние часы, когда мы, щурясь, вылезали из каюты и еще полусонные окунали зубную щетку в океан, мы сразу же просыпались, подскакивая от неожиданности при виде пятнадцатикилограммовой рыбы, которая молнией вылетала из-под плота и разочарованно тыкалась носом в зубную щетку. Случалось, что мы спокойно сидели за завтраком на краю плота, а в это время золотая макрель выпрыгивала из воды и с такой силой шлепалась на бок, что морская вода окатывала наши спины и попадала в еду.
Однажды, когда мы сидели за обедом, с Торстейном произошел случай, какой бывает только в самых невероятных охотничьих рассказах. Он внезапно положил вилку и опустил руку в океан; прежде чем мы поняли, что случилось, вода забурлила, и большая извивающаяся золотая макрель очутилась среди нас.
Оказывается, Торстейн схватил конец лесы, медленно проплывавшей мимо нас, на другом конце которой висела на крючке совершенно ошарашенная золотая макрель, оборвавшая лесу Эрика, когда тот рыбачил несколько дней тому назад.
Не проходило дня без того, чтобы шесть, семь золотых макрелей не сопровождали нас, кружа вокруг плота и под ним. В плохие дни их могло быть только две или три, но зато назавтра их появлялось до тридцати или сорока. Обычно достаточно было предупредить кока за двадцать минут, если мы хотели получить к обеду свежую рыбу. Тогда он привязывал кусок шпагата к короткой бамбуковой палке и насаживал на крючок половину летающей рыбы. Золотая макрель являлась в мгновение ока, в погоне за крючком бороздя головой поверхность воды, а за ней по пятам следовали еще две или три. Это была увлекательная рыбная ловля, а мясо только что пойманной золотой макрели было плотное и превосходное на вкус, напоминая одновременно треску и семгу. Оно не портилось два дня, а большего нам и не надо было, так как рыбы в океане водилось достаточно.
Знакомство с лоцманами происходило у нас иным путем. Акулы приводили их и после своей смерти оставляли нам для усыновления. Уже вскоре после нашего отплытия плот посетила первая акула. А затем они стали почти ежедневными гостьями. Иногда акула просто подплывала, чтобы осмотреть плот, и, описав вокруг один или два круга, отправлялась дальше на поиски добычи. Но чаще акулы пристраивались за кормой, как раз позади рулевого весла; там они лежали совершенно бесшумно, переводя взгляд с одного борта на другой, и лишь изредка чуть-чуть шевелили хвостом, чтобы не отстать от спокойно двигавшегося плота. Серо-голубое туловище акулы, находившейся у самой поверхности воды, в лучах солнца казалось буроватым; оно поднималось и опускалось вместе с волнами, так что спинной плавник все время угрожающе выступал из воды. Если море было бурным, то волны иногда поднимали акулу гораздо выше плота, тогда она величественно плыла к нам в сопровождении суетливой свиты маленьких лоцманов, державшихся перед ее пастью, и мы видели ее всю целиком, как в стеклянном ящике. В течение нескольких секунд нам казалось, что и акула и ее полосатые спутники вот-вот окажутся на самом плоту, но затем плот грациозно наклонялся в подветренную сторону, взбирался на гребень волны и спускался по другую сторону ее.
Вначале мы относились к акулам с большим почтением из-за их репутации и угрожающего вида. В этом заостренном туловище, представляющем собой огромный ком стальных мышц, была заключена необузданная сила, а широкая плоская голова с маленькими зелеными кошачьими глазами и громадной пастью, в которой мог поместиться футбольный мяч, говорила о безжалостной алчности. Когда человек у руля кричал «акула вдоль правого борта» или «акула вдоль левого борта», мы выскакивали на палубу, хватали ручные гарпуны и остроги и выстраивались вдоль края плота. Обычно акула бесшумно плавала вокруг нас, чуть не прижимаясь спинным плавником к бревнам. Наше уважение к акуле еще увеличилось, когда мы увидели, что остроги гнулись, как спагетти[143], отскакивая от напоминавшей наждачную бумагу брони на спине акулы, а наконечники ручных гарпунов ломались в пылу схватки. Если нам и удавалось пронзить кожу акулы и добраться до ее мышц и хрящей, это приводило только к волнующей борьбе; вода вокруг нас кипела, но дело кончалось тем, что акула вырывалась и уходила, а на поверхности воды оставалось маленькое маслянистое пятно, постепенно расплывавшееся.
Чтобы сохранить наш последний гарпун, мы связали в пучок несколько самых крупных рыболовных крючков и засунули их в туловище золотой макрели. Затем мы спустили приманку за борт, предусмотрительно заменив лесу стальным многожильным тросиком, который мы прикрепили к концу нашей спасательной веревки. Медленно и решительно акула приблизилась; высунув голову над водой, она раскрыла свою серповидную пасть, рванув, схватила целиком золотую макрель и проглотила ее. Тут она и попалась. Завязалась битва, во время которой акула вспенила всю воду вокруг плота, но мы крепко вцепились в веревку и подтащили сопротивлявшуюся изо всех сил громадину к самым бревнам кормы; там она лежала в ожидании дальнейших событий и лишь широко разевала пасть, как бы желая запугать нас рядами своих острых, как пила, зубов. Набежавшая волна вкатила акулу на край скользких от водорослей бревен; набросив веревочную петлю на хвостовой плавник туловища, мы поспешно отбежали на почтительное расстояние и ждали, пока закончится военный танец.
 В хряще первой акулы мы обнаружили наконечник нашего собственного гарпуна и вначале думали, что этим объясняется ее сравнительно слабое сопротивление. Но впоследствии мы таким же способом ловили одну акулу за другой, и каждый раз без особого труда. Как бы ни дергала и ни упиралась акула, какого колоссального труда ни стоило бы подтягивать ее в воде, она становилась совершенно беспомощной и пассивной и никогда не могла полностью использовать свою чудовищную силу, если только нам удавалось туго натягивать лесу, не уступая ни сантиметра в этой борьбе — «кто кого перетянет». Акулы, которых мы вытаскивали на плот, обычно имели в длину от двух до трех метров и среди них попадались и голубые и бурые. У последних кожа, обтягивавшая массу мышц, была очень твердой; для того чтобы пробить ее острым ножом, мы должны были ударять изо всех сил, и даже тогда нож часто отскакивал. На животе кожа была столь же непроницаема, как и на спине, и единственным уязвимым местом являлись жаберные щели за головой, по пять штук с каждой стороны.
В хряще первой акулы мы обнаружили наконечник нашего собственного гарпуна и вначале думали, что этим объясняется ее сравнительно слабое сопротивление. Но впоследствии мы таким же способом ловили одну акулу за другой, и каждый раз без особого труда. Как бы ни дергала и ни упиралась акула, какого колоссального труда ни стоило бы подтягивать ее в воде, она становилась совершенно беспомощной и пассивной и никогда не могла полностью использовать свою чудовищную силу, если только нам удавалось туго натягивать лесу, не уступая ни сантиметра в этой борьбе — «кто кого перетянет». Акулы, которых мы вытаскивали на плот, обычно имели в длину от двух до трех метров и среди них попадались и голубые и бурые. У последних кожа, обтягивавшая массу мышц, была очень твердой; для того чтобы пробить ее острым ножом, мы должны были ударять изо всех сил, и даже тогда нож часто отскакивал. На животе кожа была столь же непроницаема, как и на спине, и единственным уязвимым местом являлись жаберные щели за головой, по пять штук с каждой стороны.
 Когда мы вытаскивали акулу, на ее туловище обычно оказывались крепко прицепившиеся черные скользкие прилипалы. С помощью овального присоска на темени плоской головы они прилеплялись так крепко, что нам не удавалось оторвать их, хотя мы изо всех сил тащили за хвост. Но прилипалы сами могли отцепиться и в одно мгновение перебраться на другое место. Если им надоедало висеть, крепко присосавшись к акуле, когда их старый хозяин не обнаруживал намерения вернуться в океан, они спрыгивали с него и исчезали в щелях плота, чтобы поплыть на поиски другой акулы. А если прилипало не находил акулы, он временно присасывался к коже какой-нибудь другой рыбы. Прилипалы бывали разные — и в палец длиной и в тридцать сантиметров. Мы пробовали повторить старый трюк полинезийцев, к которому они иногда прибегают, если им удается заполучить живого прилипалу. Они привязывают бечевку к его хвосту и пускают в воду. Прилипало старается присосаться к первой попавшейся рыбе и вцепляется в нее так крепко, что удачливый рыбак может вытащить вместе с прилипалой и рыбу, на которой тот держится. Нам удачи не было. Всякий раз, как мы выпускали прилипалу с привязанной к его хвосту бечевкой, он стремглав уплывал и крепко присасывался к одному из бревен плота, думая, что ему попалась исключительно хорошая большая акула. И там он висел, как бы сильно мы ни дергали за веревку. Постепенно у нас появилось изрядное количество таких мелких прилипал; они, покачиваясь, упрямо висели среди ракушек на бревнах плота и путешествовали с нами по Тихому океану.
Но прилипалы были глупы и уродливы и никогда не становились нашими любимцами, как их веселые товарищи — лоцманы. Лоцманы — маленькие сигарообразные, полосатые, как зебры, рыбы, которые быстро плывут стаями перед мордой акулы. Свое название они получили из-за того, что по распространенному когда-то мнению, они служили лоцманами для своего полуслепого приятеля, указывая ему путь в море. На самом деле, они просто движутся вместе с акулой и если действуют независимо от нее, то лишь в тех случаях, когда в поле их зрения попадает какая-нибудь пища. Лоцман сопровождает своего господина и повелителя до последнего мгновения. Но так как он не может прицепиться к коже гиганта, как это делают прилипалы, он приходит в полное изумление, если его старый хозяин неожиданно исчезает в воздухе и не возвращается обратно. Тогда лоцманы начинают растерянно сновать взад и вперед в поисках хозяина и всегда возвращаются и вьются у кормы плота, где исчезла акула. Время идет, но акула не возвращается, и им приходится искать для себя нового господина и повелителя. А под боком, ближе всех — сам «Кон-Тики».
Если мы ложились на край плота и свешивали голову в прозрачную воду, нижняя часть плота представлялась нам брюхом какого-то морского чудовища; рулевое весло походило на хвост, а кили выступали наподобие тупых плавников. И между ними друг подле друга плавали все усыновленные нами лоцманы, которые не обращали никакого внимания на пускавшие пузыри головы людей; разве только одна-две рыбешки быстро шарахались в сторону и тыкались нам в нос, чтобы затем опять спокойно вильнуть обратно и занять свое место в рядах неутомимых пловцов.
Наши лоцманы патрулировали двумя отрядами: большая часть плавала между килями, остальные изящным веерообразным строем держались перед самым носом плота. Время от времени они стремительно бросались в сторону, чтобы схватить какую-нибудь съедобную безделицу, проплывавшую мимо; а после наших трапез, когда мы мыли за бортом посуду, могло показаться, что вместе с объедками мы высыпали в воду целый сигаретный ящик полосатых лоцманов. Они не пропускали ни одного кусочка, не исследовав его, и если он был не растительного происхождения, то немедленно проглатывался. Эти забавные рыбки ютились под нашим крылышком с такой детской доверчивостью, что мы, подобно акулам, испытывали по отношению к ним какое-то отцовское покровительственное чувство. Лоцманы стали морскими любимцами «Кон-Тики», и было установлено «табу», запрещавшее трогать их.
Среди нашей свиты были, конечно, лоцманы, не вышедшие еще из детского возраста, ибо они имели в длину немногим больше двух сантиметров, тогда как большинство было длиной сантиметров в пятнадцать. Когда китовая акула, после того как гарпун Эрика вонзился в ее череп, умчалась с молниеносной быстротой, некоторые из сопровождавших ее лоцманов перешли на сторону победителя; они были длиной в шестьдесят сантиметров. Вскоре после ряда побед за «Кон-Тики» следовало 40–50 лоцманов, и многим из них так понравилось спокойное плавание и ежедневные объедки, что они сопровождали нас на протяжении тысяч миль.
Но иногда лоцманы оказывались вероломными. Однажды во время вахты у руля я обратил внимание на то, что к югу от нас вода внезапно забурлила, и увидел огромную стаю золотых макрелей, которые, подобно блестящим торпедам, неслись к нам. Обычно они приближались, мирно играя, то подскакивая, то шлепаясь обратно в воду плоскими боками; на этот раз они неслись с бешеной скоростью больше по воздуху, чем по воде. Синяя зыбь была взбита в белую пену судорожными движениями беспорядочно мчавшихся беглецов, а за ними, как быстроходный моторный катер, зигзагами мчалась чья-то черная спина. Золотые макрели отчаянными скачками приблизились к самому плоту; здесь они нырнули и, тесно сбившись стаей чуть не в сотню штук, метнулись к востоку, так что все море у нас за кормой засверкало яркими красками. Блестящая спина преследователя наполовину выступила над поверхностью воды, описав изящную кривую, нырнула под плот и понеслась, как торпеда, за стаей золотых макрелей. Это была дьявольски здоровенная голубая акула, длиной, пожалуй, около шести метров. Когда она исчезла, с ней ушла и часть наших лоцманов. Они нашли более привлекательного морского героя и решили присоединиться к нему.
По мнению специалистов, из всех морских животных больше всего нам следовало опасаться кальмаров, так как они могли забраться на плот. В Национальном географическом обществе в Вашингтоне нам показали отчеты и драматические снимки, сделанные при вспышках магния: из снимков явствовало, что один из районов течения Гумбольдта очень часто посещается чудовищными кальмарами, по ночам выплывающими на поверхность океана. Они так прожорливы, что если один из них вцепится в кусок мяса и окажется пойманным на крючок, немедленно появляется другой и начинает поедать своего плененного родича. У них такие щупальца, что с их помощью они приканчивают крупную акулу и оставляют безобразные рубцы на теле больших китов; а между щупальцами у них спрятан дьявольский клюв, не уступающий орлиному. Нам напоминали, что кальмары часто лежат на воде со светящимися в темноте глазами и что своими длинными щупальцами они могут проникнуть во все уголки плота, если даже им будет лень вскарабкаться на самый плот. Нам вовсе не улыбалась перспектива почувствовать, как холодные щупальца сжимают нам ночью шею и вытаскивают из спальных мешков; поэтому на случай, если бы мы вдруг проснулись от прикосновения щупалец, мы захватили с собой тяжелые ножи-мачете, по одному на каждого. Мысль о кальмарах сильнее всего тревожила нас перед отплытием, в особенности после того, как океанографы в Перу заговорили с нами на ту же тему и продемонстрировали карту, на которой наиболее опасный участок был отмечен как раз в самом течении Гумбольдта.
Долгое время мы не замечали никаких признаков этих моллюсков ни на плоту, ни в океане. Но вот однажды утром мы получили первое предупреждение, что они находятся в этих водах. Когда взошло солнце, мы обнаружили на плоту отродье кальмара в виде маленького детеныша величиной с кошку. Ночью он без всякой посторонней помощи взобрался на палубу и теперь лежал мертвый, обвив щупальцами бамбуковую жердь перед дверью каюты. Густая чернильно-черная жидкость растеклась по бамбуковой палубе и образовала лужицу вокруг кальмара. Мы исписали несколько страниц в судовом журнале этими чернилами, которые напоминали черную тушь, а затем выбросили труп детеныша за борт на радость золотым макрелям.
Мы сочли, что это незначительное происшествие предвещает появление более крупных ночных посетителей. Если детеныш мог забраться на плот, то его голодный родитель, без сомнения, способен на то же. Наши предки испытывали, вероятно, такое же чувство, когда они плавали на своих кораблях в эпоху викингов и думали о духе моря. Но следующее событие совершенно сбило нас с толку. Как-то утром мы обнаружили на коньке нашей крыши из пальмовых листьев молодого кальмара еще меньших размеров. Это сильно нас озадачило. Он не мог сам влезть туда, так как чернильные пятна виднелись только вокруг него, посредине крыши. Его не могла уронить туда морская птица, так как на нем не было никаких повреждений или следов от клюва. Мы пришли к выводу, что его забросило на крышу волной, захлестнувшей плот, хотя ни один из вахтенных не помнил, чтобы ночью была такая волна. Проходила одна ночь за другой, и мы регулярно находили на плоту новых молодых кальмаров, самый маленький из которых был величиной со средний палец.
Скоро мы привыкли к тому, что каждое утро на палубе среди летающих рыб оказывались один-два маленьких кальмара, если даже море ночью было спокойным. Эти молодые кальмары принадлежали к той самой дьявольской разновидности, о которой нам рассказывали; у них имелось восемь длинных щупалец, усеянных круглыми присосками, и два еще более длинных, с шипообразными крючками на конце. Но большие кальмары ни разу не появлялись на плоту. Темными ночами мы видели сияние фосфоресцирующих глаз, медленно плывших у самой поверхности воды; и только один-единственный раз океан вокруг нас закипел и забурлил, когда что-то вроде большого колеса всплыло наверх и перевернулось в воздухе, а некоторые из наших золотых макрелей пытались спастись бегством, в отчаянии выпрыгивая из воды. Но почему большие кальмары никогда не появлялись на плоту, хотя маленькие были нашими постоянными ночными посетителями, долго оставалось для нас полнейшей загадкой; решение мы нашли только через два месяца — два месяца, богатых опытом, — когда мы были уже вне пределов злополучного района кальмаров.
Молодые кальмары продолжали являться на плот. Одним солнечным утром мы все увидели стаю каких-то блестящих созданий, которые выпрыгивали из воды и летели по воздуху, напоминая крупные дождевые капли, между тем как море кипело от преследовавших их золотых макрелей. Сначала мы думали, что это стая летающих рыб, так как у нас на плоту побывало уже три разновидности их. Но когда они приблизились и некоторые стали перелетать через плот на высоте примерно полутора метров, одна из них ударилась о грудь Бенгта и шлепнулась на палубу. Это был маленький кальмар. Наше удивление не имело предела. Когда мы поместили его в брезентовое ведро, он продолжал отталкиваться и подскакивать вверх, но в маленьком ведре он не мог развить достаточной скорости и лишь наполовину выпрыгивал из воды. Общеизвестно, что кальмар обычно плавает по принципу ракетного самолета. Он с большой силой пропускает воду сквозь закрытую трубку, проходящую сбоку в его туловище, и таким образом может очень быстро, толчками, двигаться назад; подобрав все свои щупальца и сложив их кистью на голове, он приобретает обтекаемую, как у рыбы, форму. По бокам у него находятся две круглые толстые складки кожи, которые обычно служат для управления и спокойного плавания в воде. Но вот мы обнаружили, что беззащитные молодые кальмары, которые являются излюбленной пищей для многих крупных рыб, могут ускользать от своих преследователей, поднимаясь в воздух, подобно летающим рыбам. Они осуществили на деле принцип ракетного самолета задолго до того, как человеческий гений напал на эту идею. Они накачивают и выпускают из себя морскую воду до тех пор, пока не приобретают громадной скорости, а затем, расправив складки кожи наподобие крыльев, они отрываются под углом от поверхности воды. Как и летающие рыбы, они несутся планирующим полетом над волнами до тех пор, пока не иссякает накопленная ими скорость. После этого случая мы стали обращать на них внимание и часто видели, как они поодиночке, по двое или по трое пролетали 45–55 метров. Тот факт, что кальмар может планировать, явился новостью для всех зоологов, с которыми нам пришлось встретиться по возвращении из экспедиции.
Бывая в гостях у местных жителей тихоокеанских островов, я часто ел кальмаров. По вкусу они напоминают смесь омара и резины. Но на «Кон-Тики» кальмары занимали последнее место в нашем меню. Если они бесплатно попадали нам в руки, мы меняли их на что-нибудь другое. Обмен совершался следующим образом: мы насаживали кальмара на крючок и забрасывали его в океан, а затем вытаскивали его назад со вцепившейся в него большой рыбой. Молодые кальмары нравились даже тунцам и бонитам, а эти рыбы занимали в нашем меню почетное место.
Мы не испытывали недостатка в новых знакомствах, когда нас медленно несло по океану. В моем дневнике имеется много записей в следующем роде:
«11/5. Сегодня, когда мы сидели за ужином на краю плота, какое-то большое морское животное дважды появлялось на поверхности рядом с нами. Оно страшно плескалось, затем исчезло. Мы не имеем понятия, что это за животное.
6/6. Герман видел толстую темную рыбу с широким белым брюхом, узким хвостом и шипами. Она несколько раз выпрыгивала из воды со стороны правого борта.
16/6. С левого борта видна любопытная рыба. В длину около двух метров, максимальная ширина 30 сантиметров; удлиненная тонкая голова бурого цвета, большой спинной плавник у головы и поменьше на средине спины, мощный серповидный хвостовой плавник. Держится у поверхности, временами плавает, извиваясь, как угорь. Когда Герман и я с ручным гарпуном поплыли в резиновой лодке, она нырнула. Позже показалась опять, но вскоре нырнула и исчезла.
17/6. В полдень Эрик сидел на верхушке мачты и заметил 30–40 длинных узких рыб бурого цвета — таких же, как накануне. На этот раз они быстро приближались с левой стороны и исчезли за кормой, промелькнув в воде бурой плоской тенью.
18/6. Кнут заметил какое-то существо, похожее на змею, узкое, длиною в 60–90 сантиметров; оно виднелось в воде у самой поверхности, то разгибалось, то сгибалось, а затем нырнуло, извиваясь, как змея».
Иногда мы медленно проплывали мимо большой темной массы, которая неподвижно лежала у самой поверхности, напоминая подводную скалу площадью с комнату. По всей вероятности, это был гигантский скат с очень плохой репутацией, но он ни разу не шевельнулся, а мы ни разу не подходили настолько близко, чтобы иметь возможность ясно рассмотреть его очертания.
При наличии в воде такого разнообразного общества время для нас всегда проходило быстро. Хуже бывало, когда нам самим приходилось нырять в океан и осматривать веревки с нижней стороны плота. Однажды один из килей выпал и скользнул под плот; там он запутался в веревках, но мы не могли его достать. Лучше всех ныряли Герман и Кнут. Дважды Герман подплывал под плот и, лежа там среди золотых макрелей и лоцманов, пытался высвободить доску. Он только что вынырнул во второй раз и сидел на краю плота, чтобы перевести дыхание, как вдруг в каких-нибудь трех метрах мы заметили двухсполовинойметровую акулу, которая медленно подымалась из глубины, направляясь к кончикам пальцев его ног. Может быть, мы были по отношению к акуле несправедливы, но мы заподозрили ее в злом умысле и вонзили гарпун ей в череп. Акула почувствовала себя оскорбленной, и началась борьба, сопровождавшаяся фонтанами брызг, в результате которой акула скрылась, оставив масляное пятно на поверхности воды. А запутавшийся в веревках киль продолжал лежать под плотом.
Тогда Эрику пришла в голову мысль смастерить водолазную корзину. У нас под руками имелось мало материалов, но у нас были бамбук, веревки и старая лубяная корзина, в которой лежали кокосовые орехи. С помощью бамбука и сплетенных веревок мы нарастили верх корзины и теперь имели возможность спускаться за борт в ней. Соблазнительные ноги были спрятаны в корзине, и хотя веревочное плетение наверху оказывало лишь психологическое действие и на нас и на рыб, все же, если кто-нибудь несся на нас с враждебными намерениями, мы могли моментально скрючиться на дне корзины, а оставшиеся на палубе товарищи сразу вытащили бы нас из воды.
Когда мы вытаскивали акулу, на ее туловище обычно оказывались крепко прицепившиеся черные скользкие прилипалы. С помощью овального присоска на темени плоской головы они прилеплялись так крепко, что нам не удавалось оторвать их, хотя мы изо всех сил тащили за хвост. Но прилипалы сами могли отцепиться и в одно мгновение перебраться на другое место. Если им надоедало висеть, крепко присосавшись к акуле, когда их старый хозяин не обнаруживал намерения вернуться в океан, они спрыгивали с него и исчезали в щелях плота, чтобы поплыть на поиски другой акулы. А если прилипало не находил акулы, он временно присасывался к коже какой-нибудь другой рыбы. Прилипалы бывали разные — и в палец длиной и в тридцать сантиметров. Мы пробовали повторить старый трюк полинезийцев, к которому они иногда прибегают, если им удается заполучить живого прилипалу. Они привязывают бечевку к его хвосту и пускают в воду. Прилипало старается присосаться к первой попавшейся рыбе и вцепляется в нее так крепко, что удачливый рыбак может вытащить вместе с прилипалой и рыбу, на которой тот держится. Нам удачи не было. Всякий раз, как мы выпускали прилипалу с привязанной к его хвосту бечевкой, он стремглав уплывал и крепко присасывался к одному из бревен плота, думая, что ему попалась исключительно хорошая большая акула. И там он висел, как бы сильно мы ни дергали за веревку. Постепенно у нас появилось изрядное количество таких мелких прилипал; они, покачиваясь, упрямо висели среди ракушек на бревнах плота и путешествовали с нами по Тихому океану.
Но прилипалы были глупы и уродливы и никогда не становились нашими любимцами, как их веселые товарищи — лоцманы. Лоцманы — маленькие сигарообразные, полосатые, как зебры, рыбы, которые быстро плывут стаями перед мордой акулы. Свое название они получили из-за того, что по распространенному когда-то мнению, они служили лоцманами для своего полуслепого приятеля, указывая ему путь в море. На самом деле, они просто движутся вместе с акулой и если действуют независимо от нее, то лишь в тех случаях, когда в поле их зрения попадает какая-нибудь пища. Лоцман сопровождает своего господина и повелителя до последнего мгновения. Но так как он не может прицепиться к коже гиганта, как это делают прилипалы, он приходит в полное изумление, если его старый хозяин неожиданно исчезает в воздухе и не возвращается обратно. Тогда лоцманы начинают растерянно сновать взад и вперед в поисках хозяина и всегда возвращаются и вьются у кормы плота, где исчезла акула. Время идет, но акула не возвращается, и им приходится искать для себя нового господина и повелителя. А под боком, ближе всех — сам «Кон-Тики».
Если мы ложились на край плота и свешивали голову в прозрачную воду, нижняя часть плота представлялась нам брюхом какого-то морского чудовища; рулевое весло походило на хвост, а кили выступали наподобие тупых плавников. И между ними друг подле друга плавали все усыновленные нами лоцманы, которые не обращали никакого внимания на пускавшие пузыри головы людей; разве только одна-две рыбешки быстро шарахались в сторону и тыкались нам в нос, чтобы затем опять спокойно вильнуть обратно и занять свое место в рядах неутомимых пловцов.
Наши лоцманы патрулировали двумя отрядами: большая часть плавала между килями, остальные изящным веерообразным строем держались перед самым носом плота. Время от времени они стремительно бросались в сторону, чтобы схватить какую-нибудь съедобную безделицу, проплывавшую мимо; а после наших трапез, когда мы мыли за бортом посуду, могло показаться, что вместе с объедками мы высыпали в воду целый сигаретный ящик полосатых лоцманов. Они не пропускали ни одного кусочка, не исследовав его, и если он был не растительного происхождения, то немедленно проглатывался. Эти забавные рыбки ютились под нашим крылышком с такой детской доверчивостью, что мы, подобно акулам, испытывали по отношению к ним какое-то отцовское покровительственное чувство. Лоцманы стали морскими любимцами «Кон-Тики», и было установлено «табу», запрещавшее трогать их.
Среди нашей свиты были, конечно, лоцманы, не вышедшие еще из детского возраста, ибо они имели в длину немногим больше двух сантиметров, тогда как большинство было длиной сантиметров в пятнадцать. Когда китовая акула, после того как гарпун Эрика вонзился в ее череп, умчалась с молниеносной быстротой, некоторые из сопровождавших ее лоцманов перешли на сторону победителя; они были длиной в шестьдесят сантиметров. Вскоре после ряда побед за «Кон-Тики» следовало 40–50 лоцманов, и многим из них так понравилось спокойное плавание и ежедневные объедки, что они сопровождали нас на протяжении тысяч миль.
Но иногда лоцманы оказывались вероломными. Однажды во время вахты у руля я обратил внимание на то, что к югу от нас вода внезапно забурлила, и увидел огромную стаю золотых макрелей, которые, подобно блестящим торпедам, неслись к нам. Обычно они приближались, мирно играя, то подскакивая, то шлепаясь обратно в воду плоскими боками; на этот раз они неслись с бешеной скоростью больше по воздуху, чем по воде. Синяя зыбь была взбита в белую пену судорожными движениями беспорядочно мчавшихся беглецов, а за ними, как быстроходный моторный катер, зигзагами мчалась чья-то черная спина. Золотые макрели отчаянными скачками приблизились к самому плоту; здесь они нырнули и, тесно сбившись стаей чуть не в сотню штук, метнулись к востоку, так что все море у нас за кормой засверкало яркими красками. Блестящая спина преследователя наполовину выступила над поверхностью воды, описав изящную кривую, нырнула под плот и понеслась, как торпеда, за стаей золотых макрелей. Это была дьявольски здоровенная голубая акула, длиной, пожалуй, около шести метров. Когда она исчезла, с ней ушла и часть наших лоцманов. Они нашли более привлекательного морского героя и решили присоединиться к нему.
По мнению специалистов, из всех морских животных больше всего нам следовало опасаться кальмаров, так как они могли забраться на плот. В Национальном географическом обществе в Вашингтоне нам показали отчеты и драматические снимки, сделанные при вспышках магния: из снимков явствовало, что один из районов течения Гумбольдта очень часто посещается чудовищными кальмарами, по ночам выплывающими на поверхность океана. Они так прожорливы, что если один из них вцепится в кусок мяса и окажется пойманным на крючок, немедленно появляется другой и начинает поедать своего плененного родича. У них такие щупальца, что с их помощью они приканчивают крупную акулу и оставляют безобразные рубцы на теле больших китов; а между щупальцами у них спрятан дьявольский клюв, не уступающий орлиному. Нам напоминали, что кальмары часто лежат на воде со светящимися в темноте глазами и что своими длинными щупальцами они могут проникнуть во все уголки плота, если даже им будет лень вскарабкаться на самый плот. Нам вовсе не улыбалась перспектива почувствовать, как холодные щупальца сжимают нам ночью шею и вытаскивают из спальных мешков; поэтому на случай, если бы мы вдруг проснулись от прикосновения щупалец, мы захватили с собой тяжелые ножи-мачете, по одному на каждого. Мысль о кальмарах сильнее всего тревожила нас перед отплытием, в особенности после того, как океанографы в Перу заговорили с нами на ту же тему и продемонстрировали карту, на которой наиболее опасный участок был отмечен как раз в самом течении Гумбольдта.
Долгое время мы не замечали никаких признаков этих моллюсков ни на плоту, ни в океане. Но вот однажды утром мы получили первое предупреждение, что они находятся в этих водах. Когда взошло солнце, мы обнаружили на плоту отродье кальмара в виде маленького детеныша величиной с кошку. Ночью он без всякой посторонней помощи взобрался на палубу и теперь лежал мертвый, обвив щупальцами бамбуковую жердь перед дверью каюты. Густая чернильно-черная жидкость растеклась по бамбуковой палубе и образовала лужицу вокруг кальмара. Мы исписали несколько страниц в судовом журнале этими чернилами, которые напоминали черную тушь, а затем выбросили труп детеныша за борт на радость золотым макрелям.
Мы сочли, что это незначительное происшествие предвещает появление более крупных ночных посетителей. Если детеныш мог забраться на плот, то его голодный родитель, без сомнения, способен на то же. Наши предки испытывали, вероятно, такое же чувство, когда они плавали на своих кораблях в эпоху викингов и думали о духе моря. Но следующее событие совершенно сбило нас с толку. Как-то утром мы обнаружили на коньке нашей крыши из пальмовых листьев молодого кальмара еще меньших размеров. Это сильно нас озадачило. Он не мог сам влезть туда, так как чернильные пятна виднелись только вокруг него, посредине крыши. Его не могла уронить туда морская птица, так как на нем не было никаких повреждений или следов от клюва. Мы пришли к выводу, что его забросило на крышу волной, захлестнувшей плот, хотя ни один из вахтенных не помнил, чтобы ночью была такая волна. Проходила одна ночь за другой, и мы регулярно находили на плоту новых молодых кальмаров, самый маленький из которых был величиной со средний палец.
Скоро мы привыкли к тому, что каждое утро на палубе среди летающих рыб оказывались один-два маленьких кальмара, если даже море ночью было спокойным. Эти молодые кальмары принадлежали к той самой дьявольской разновидности, о которой нам рассказывали; у них имелось восемь длинных щупалец, усеянных круглыми присосками, и два еще более длинных, с шипообразными крючками на конце. Но большие кальмары ни разу не появлялись на плоту. Темными ночами мы видели сияние фосфоресцирующих глаз, медленно плывших у самой поверхности воды; и только один-единственный раз океан вокруг нас закипел и забурлил, когда что-то вроде большого колеса всплыло наверх и перевернулось в воздухе, а некоторые из наших золотых макрелей пытались спастись бегством, в отчаянии выпрыгивая из воды. Но почему большие кальмары никогда не появлялись на плоту, хотя маленькие были нашими постоянными ночными посетителями, долго оставалось для нас полнейшей загадкой; решение мы нашли только через два месяца — два месяца, богатых опытом, — когда мы были уже вне пределов злополучного района кальмаров.
Молодые кальмары продолжали являться на плот. Одним солнечным утром мы все увидели стаю каких-то блестящих созданий, которые выпрыгивали из воды и летели по воздуху, напоминая крупные дождевые капли, между тем как море кипело от преследовавших их золотых макрелей. Сначала мы думали, что это стая летающих рыб, так как у нас на плоту побывало уже три разновидности их. Но когда они приблизились и некоторые стали перелетать через плот на высоте примерно полутора метров, одна из них ударилась о грудь Бенгта и шлепнулась на палубу. Это был маленький кальмар. Наше удивление не имело предела. Когда мы поместили его в брезентовое ведро, он продолжал отталкиваться и подскакивать вверх, но в маленьком ведре он не мог развить достаточной скорости и лишь наполовину выпрыгивал из воды. Общеизвестно, что кальмар обычно плавает по принципу ракетного самолета. Он с большой силой пропускает воду сквозь закрытую трубку, проходящую сбоку в его туловище, и таким образом может очень быстро, толчками, двигаться назад; подобрав все свои щупальца и сложив их кистью на голове, он приобретает обтекаемую, как у рыбы, форму. По бокам у него находятся две круглые толстые складки кожи, которые обычно служат для управления и спокойного плавания в воде. Но вот мы обнаружили, что беззащитные молодые кальмары, которые являются излюбленной пищей для многих крупных рыб, могут ускользать от своих преследователей, поднимаясь в воздух, подобно летающим рыбам. Они осуществили на деле принцип ракетного самолета задолго до того, как человеческий гений напал на эту идею. Они накачивают и выпускают из себя морскую воду до тех пор, пока не приобретают громадной скорости, а затем, расправив складки кожи наподобие крыльев, они отрываются под углом от поверхности воды. Как и летающие рыбы, они несутся планирующим полетом над волнами до тех пор, пока не иссякает накопленная ими скорость. После этого случая мы стали обращать на них внимание и часто видели, как они поодиночке, по двое или по трое пролетали 45–55 метров. Тот факт, что кальмар может планировать, явился новостью для всех зоологов, с которыми нам пришлось встретиться по возвращении из экспедиции.
Бывая в гостях у местных жителей тихоокеанских островов, я часто ел кальмаров. По вкусу они напоминают смесь омара и резины. Но на «Кон-Тики» кальмары занимали последнее место в нашем меню. Если они бесплатно попадали нам в руки, мы меняли их на что-нибудь другое. Обмен совершался следующим образом: мы насаживали кальмара на крючок и забрасывали его в океан, а затем вытаскивали его назад со вцепившейся в него большой рыбой. Молодые кальмары нравились даже тунцам и бонитам, а эти рыбы занимали в нашем меню почетное место.
Мы не испытывали недостатка в новых знакомствах, когда нас медленно несло по океану. В моем дневнике имеется много записей в следующем роде:
«11/5. Сегодня, когда мы сидели за ужином на краю плота, какое-то большое морское животное дважды появлялось на поверхности рядом с нами. Оно страшно плескалось, затем исчезло. Мы не имеем понятия, что это за животное.
6/6. Герман видел толстую темную рыбу с широким белым брюхом, узким хвостом и шипами. Она несколько раз выпрыгивала из воды со стороны правого борта.
16/6. С левого борта видна любопытная рыба. В длину около двух метров, максимальная ширина 30 сантиметров; удлиненная тонкая голова бурого цвета, большой спинной плавник у головы и поменьше на средине спины, мощный серповидный хвостовой плавник. Держится у поверхности, временами плавает, извиваясь, как угорь. Когда Герман и я с ручным гарпуном поплыли в резиновой лодке, она нырнула. Позже показалась опять, но вскоре нырнула и исчезла.
17/6. В полдень Эрик сидел на верхушке мачты и заметил 30–40 длинных узких рыб бурого цвета — таких же, как накануне. На этот раз они быстро приближались с левой стороны и исчезли за кормой, промелькнув в воде бурой плоской тенью.
18/6. Кнут заметил какое-то существо, похожее на змею, узкое, длиною в 60–90 сантиметров; оно виднелось в воде у самой поверхности, то разгибалось, то сгибалось, а затем нырнуло, извиваясь, как змея».
Иногда мы медленно проплывали мимо большой темной массы, которая неподвижно лежала у самой поверхности, напоминая подводную скалу площадью с комнату. По всей вероятности, это был гигантский скат с очень плохой репутацией, но он ни разу не шевельнулся, а мы ни разу не подходили настолько близко, чтобы иметь возможность ясно рассмотреть его очертания.
При наличии в воде такого разнообразного общества время для нас всегда проходило быстро. Хуже бывало, когда нам самим приходилось нырять в океан и осматривать веревки с нижней стороны плота. Однажды один из килей выпал и скользнул под плот; там он запутался в веревках, но мы не могли его достать. Лучше всех ныряли Герман и Кнут. Дважды Герман подплывал под плот и, лежа там среди золотых макрелей и лоцманов, пытался высвободить доску. Он только что вынырнул во второй раз и сидел на краю плота, чтобы перевести дыхание, как вдруг в каких-нибудь трех метрах мы заметили двухсполовинойметровую акулу, которая медленно подымалась из глубины, направляясь к кончикам пальцев его ног. Может быть, мы были по отношению к акуле несправедливы, но мы заподозрили ее в злом умысле и вонзили гарпун ей в череп. Акула почувствовала себя оскорбленной, и началась борьба, сопровождавшаяся фонтанами брызг, в результате которой акула скрылась, оставив масляное пятно на поверхности воды. А запутавшийся в веревках киль продолжал лежать под плотом.
Тогда Эрику пришла в голову мысль смастерить водолазную корзину. У нас под руками имелось мало материалов, но у нас были бамбук, веревки и старая лубяная корзина, в которой лежали кокосовые орехи. С помощью бамбука и сплетенных веревок мы нарастили верх корзины и теперь имели возможность спускаться за борт в ней. Соблазнительные ноги были спрятаны в корзине, и хотя веревочное плетение наверху оказывало лишь психологическое действие и на нас и на рыб, все же, если кто-нибудь несся на нас с враждебными намерениями, мы могли моментально скрючиться на дне корзины, а оставшиеся на палубе товарищи сразу вытащили бы нас из воды.
 Водолазная корзина оказалась не только полезной, но постепенно стала для нас прекрасным местом развлечения. Она давала нам великолепную возможность для изучения плавучего аквариума, находившегося под нами.
Когда океан спокойно катил свои волны, мы по очереди залезали в корзину, и нас спускали под воду, где мы оставались, пока хватало дыхания. Внизу в воде свет как-то необычайно преображался и предметы не отбрасывали тени. Как только наши глаза оказывались под водой, источник света — в отличие от нашего надводного мира — как бы переставал существовать. Преломленные лучи доходили до нас не только сверху, но и снизу; солнце больше не сияло, оно было повсюду. Если мы смотрели вверх, на дно плота, то оно представлялось нам ярко освещенным; девять больших бревен и вся сеть веревочных креплений вместе с покачивающимися гирляндами ярко-зеленых водорослей, свисавших со всех сторон плота и с рулевого весла, — все было залито таинственным светом. Лоцманы плавали стройными рядами, напоминая зебр в рыбьей коже, а большие золотые макрели неутомимо, настороженно, быстро описывали круги, выслеживая добычу. Тут и там свет падал на разбухшую красную древесину киля, который выступал вниз из щели; на доске сидела мирная колония белых морских уточек, ритмично шевеливших бахромчатыми желтыми жабрами, вбирая в себя кислород и пищу. Если кто-нибудь приближался к ним, они поспешно захлопывали створки своих раковин с красной и желтой каймой и сидели за закрытой дверью, пока не убеждались, что опасность миновала. Здесь внизу свет отличался изумительной ясностью и действовал на нас, привыкших на палубе к тропическому солнцу, очень успокаивающе. Даже тогда, когда мы смотрели вниз в бездонную глубину океана, где царит вечная черная ночь, эта ночь являлась нам окрашенной в приятный голубой цвет, так как от нее отражались солнечные лучи. К нашему удивлению, мы, находясь у самой поверхности, могли видеть рыб, плававших далеко внизу, в глубине ясной чистой синевы. Возможно, это были бониты, но встречались и другие виды, которые плавали на такой глубине, что мы не могли их определить. Иногда они держались огромными стаями, и мы часто задавали себе вопрос, все ли океанское течение полно рыбы или эти стаи, проплывавшие внизу, в глубине, намеренно собрались под «Кон-Тики», чтобы на несколько дней составить нам компанию.
Больше всего нам нравилось опускаться в воду, когда нас посещали большие тунцы с золотыми плавниками. Иногда они приплывали к плоту большими стаями, но чаще всего являлись по двое или по трое и несколько дней подряд описывали вокруг нас спокойные круги, пока нам не удавалось приманить их на крючок. С плота они казались просто большими, неуклюжими рыбами буроватого цвета, без каких-либо особых украшений; но если мы спускались к ним в их собственную стихию, они вдруг ни с того ни с сего меняли и цвет и форму. Перемена была настолько необъяснимой, что мы несколько раз должны были подниматься на поверхность и снова определять направление, чтобы проверить, те ли это рыбы, на которых мы смотрели в воде. Большие рыбы не обращали на нас никакого внимания; они невозмутимо продолжали свои величественные маневры и принимали такую изящную форму, какой мы не наблюдали ни у одной другой рыбы, а их окраска становилась бледно-лиловой, с металлическим оттенком. Своими совершенными пропорциями и обтекаемой формой они напоминали сверкающие серебром и сталью мощные торпеды, и им достаточно было чуть-чуть пошевелить одним или двумя плавниками, чтобы их туловище весом в 70–80 килограммов с непревзойденным изяществом заскользило в воде.
Чем теснее соприкасались мы с океаном и его обитателями, тем меньше мы удивлялись и тем привычнее он становился для нас. И мы научились уважать древние первобытные народы, которые жили в тесном общении с Тихим океаном и поэтому знали такие его особенности, о которых мы не имеем представления. Конечно, мы установили теперь содержание соли в воде океана и дали тунцам и золотым макрелям латинские названия. Древние полинезийцы этого не сделали. И все же боюсь, что первобытные народы имели об океане более правильное представление, чем мы.
Здесь, в океане, почти не было путеводных вех. Волны и рыбы, солнце и звезды появлялись и исчезали. Предполагалось, что никакой суши не существует на всем протяжении в 4 300 морских миль, которые отделяют острова Южного моря от Перу. Поэтому мы очень удивились, когда, приближаясь к 100° западной долготы, обнаружили, что на карте Тихого океана, прямо впереди нас по курсу, которым мы следовали, отмечена подводная скала. Ее изобразили в виде маленького кружка, и так как карта была издана в этом году, мы заглянули в «Лоцию Южной Америки». Мы прочли: «В 1906, а затем снова в 1926 году были замечены буруны примерно в 600 милях к юго-западу от островов Галапагос, под 6°42′ южной широты, 99°43′ западной долготы. В 1927 году пароход прошел в одной миле к западу от этого пункта, но у него не заметили никаких бурунов; в 1934 году другой пароход прошел в одной миле к югу и также не обнаружил никаких следов бурунов. Моторное судно «Каури» в 1935 году при промере не достигло в этом пункте дна на глубине 300 метров».
Согласно картам плавание в этом районе все еще считалось делом сомнительным, и, так как глубоко сидящее судно, слишком близко подойдя к мели, подвергалось бы гораздо большему риску, чем наш плот, мы решили направиться прямо к месту, отмеченному на карте, и посмотреть, что там находится. Подводная скала была указана чуть-чуть севернее той точки, к которой мы, по-видимому, держали курс; поэтому мы положили руль вправо и подтянули четырехугольный парус так, что нос плота был устремлен примерно на север, а волны и ветер мы принимали с правого борта. Теперь в наши спальные мешки попадало тихоокеанской воды несколько больше обычного; к тому же и ветер в это время стал значительно свежее. Но мы с удовлетворением убедились, что «Кон-Тики» можно вполне уверенно управлять, идя даже под очень большим углом к ветру, если только мы вовсе не теряли его. В этом случае парус начинал полоскаться, и нам приходилось выполнять цирковые номера, чтобы заставить плот снова слушаться руля. В течение двух дней и ночей мы вели плот к север-северозападу. Волны вздымались высоко, и когда пассат стал неустойчивым и дул то с юго-востока, то с востока, они шли уже непрерывными рядами; но мы продолжали плыть, подымаясь и опускаясь с обрушивавшимися на нас валами. На верхушке мачты все время кто-нибудь дежурил, и когда плот поднимался на гребень, горизонт перед нами значительно расширялся. Гребни волн вздымались почти на два метра выше крыши нашей бамбуковой каюты; а если две мощные волны обрушивались на нас одновременно, то, сталкиваясь, они взлетали еще выше и превращались в шипящий водяной смерч, который мог налететь на нас с любой стороны. Когда наступила ночь, мы забаррикадировали вход в каюту ящиками с продуктами; но океан то и дело нарушал наш покой. Не успели мы заснуть, как раздался первый треск бамбуковой стены; тысяча струй воды фонтанами полилась на нас сквозь бамбуковое плетение, а пенящийся поток обрушился на ящики с продуктами, а затем внутрь каюты.
— Вызовите по телефону водопроводчика, — услышал я чей-то сонный голос, когда мыскрючились, чтобы дать воде возможность уйти сквозь пол. Водопроводчик не пришел, и этой ночью мы, лежа в постели, приняли не одну ванну. Во время вахты Германа на плот ненароком явилась большая золотая макрель.
На следующий день волнение несколько утихло, так как пассат решил, что теперь он некоторое время будет дуть с востока. Мы сменяли друг друга на верхушке мачты, ибо можно было ожидать, что к вечеру мы достигнем того пункта, к которому направлялись. В этот день море казалось нам более оживленным, чем всегда. Может быть, это происходило только потому, что мы всматривались внимательней обычного.
После полудня мы увидели большую меч-рыбу, которая приближалась к плоту, плывя у самой поверхности. Два остроконечных плавника, торчавших из воды, отстояли друг от друга почти на два метра, а меч казался таким же длинным, как и туловище. Меч-рыба описала кривую рядом с рулевым и исчезла за гребнями волн. Когда мы сидели за обедом, изрядно приправленным соленой водой, шипящая волна подняла к самым нашим лицам большую морскую черепаху со щитом, головой и свисавшими ногами. Когда эта волна уступила место двум другим, черепаха исчезла так же внезапно, как и появилась. И на этот раз мы опять заметили, как, блестя своим зеленовато-белым брюхом, золотые макрели метались в воде под защищенным броней пресмыкающимся. Этот район океана был исключительно богат крошечными летающими рыбами длиной в два-три сантиметра, которые плыли рядом с нами большими стаями и часто попадали на плот. Мы видели также одиноких чаек-поморников, нас постоянно навещали фрегаты, которые летали взад и вперед над плотом, напоминая своим раздвоенным хвостом гигантских ласточек. Появление фрегатов обычно считается признаком близости земли, и оптимистическое настроение на плоту усиливалось.
«Может быть, здесь действительно имеется подводная скала или песчаная отмель», — думали некоторые из нас. А самые большие оптимисты говорили:
— А что, если мы обнаружим островок с зеленой травой? Кто знает, ведь здесь до нас бывало так мало людей. Тогда мы открыли бы новую землю — остров Кон-Тики!
Начиная с полудня, Эрик все чаще и чаще влезал на кухонный ящик и, прищурившись, смотрел в секстант. В 6 часов 20 минут пополудни он сообщил наше положение: 6°42′ южной широты и 99°42′ западной долготы. Мы находились на расстоянии одной мили к востоку от указанной на карте скалы. Мы опустили бамбуковую рею и скатали на палубе парус. Ветер дул с востока и должен был медленно донести нас до места. Когда солнце быстро опустилось в океан, на смену ему во всем своем великолепии появилась полная луна и осветила поверхность океана, который от горизонта до горизонта переливался чернью и серебром. Видимость с верхушки мачты была хорошая. Повсюду шли длинные валы сталкивавшихся между собой волн, но постоянных бурунов, которые указывали бы на подводную скалу или отмель, не было. Никто из нас не заходил в каюту; все стояли на палубе, пристально всматриваясь, а два-три человека наблюдали с мачты. Когда мы медленно плыли в центре отмеченного на карте района, мы все время делали промеры. К концу шелкового шнура длиной свыше 800 метров, сплетенного из 54 нитей, мы привязали все свинцовые грузила, какие только имелись у нас; если учесть даже, что из-за дрейфа плота шнур опускался не совсем отвесно, все же груз висел на глубине по меньшей мере 600 метров. А дна не было ни к востоку от указанного места, ни в центре, ни к западу от него. Окинув последним взглядом поверхность океана и окончательно убедившись, что имеем полное право считать этот район обследованным и что здесь нет никаких отмелей, мы поставили парус и повернули руль в нормальное положение, так, что ветер и волны снова оказались сзади кормы слева. И наш плот снова двинулся вперед обычным спокойным ходом. Как и прежде, волны накатывались на корму и уходили в промежутки между бревнами. Теперь мы могли спать и есть, не принимая душей, хотя океан вокруг нас разыгрался всерьез и бесновался несколько дней, а пассат дул то с востока, то с юго-востока.
Во время этого маленького путешествия к несуществующему рифу мы начали понимать, какую роль играют выдвижные кили; а когда впоследствии Герман и Кнут, нырнув вдвоем под плот, освободили пятый киль, мы узнали об этих забавных досках еще больше — узнали то, чего никто не понимал с тех пор, как сами индейцы перестали заниматься этим забытым спортом. То, что доска выполняла роль киля и давала плоту возможность двигаться под углом к ветру, было нам понятно. Но когда мы читали у древних испанских историков, что индейцы в какой-то мере «управляют» своими бальсовыми плотами в океане с помощью «своего рода выдвижных килей, которые они просовывают в щели между бревнами», это казалось совершенно непостижимым и нам и всем остальным, кто занимался этим вопросом. Ведь выдвижной киль просто вгонялся в узкую щель и был неподвижен; он не мог поворачиваться в сторону и служить рулем.
Тайна была раскрыта при следующих обстоятельствах. Дул ровный ветер, и океан снова успокоился, так что в течение нескольких дней нам не приходилось прикасаться к привязанному рулевому веслу, для того чтобы удерживать «Кон-Тики» в нужном направлении. Мы засунули выловленный киль в щель на корме, и в то же мгновение «Кон-Тики» изменил курс на несколько градусов с запада к северо-западу, а затем продолжал спокойно и ровно двигаться по новому курсу. Когда мы снова вытащили киль, плот повернул на прежний курс. Но если мы вытаскивали доску только наполовину, то и плот поворачивал на старый курс только наполовину. Простым подыманием и опусканием киля мы могли вызывать изменение курса и держаться его, не притрагиваясь к рулевому веслу. В этом и заключалась остроумная идея инков. Они разработали простую систему рычагов, в которой вследствие давления ветра на парус мачта являлась неподвижной точкой. Плечами рычага были части плота спереди от мачты и сзади от нее. Если общая поверхность килей спереди была больше, нос плота легко поворачивался к ветру, но если поверхность килей сзади была больше, корма поворачивалась к ветру. Действие ближайших к мачте килей было наиболее слабым — согласно закону о соотношении между длиной плеча и силой. Когда ветер дул с кормы, выдвижные кили переставали действовать; тогда, для того чтобы плот шел ровно, необходимо было все время работать рулевым веслом. В этом случае плот шел прямо по ветру, к тому же он оказывался немного длиннее, чем это нужно для того, чтобы легко скользить по волнам. А так как дверь каюты и место наших трапез находились с правой стороны, мы всегда стремились к тому, чтобы волны набегали на плот сзади под углом слева.
Конечно, во время дальнейшего пути рулевой мог стоять у киля, подымая и опуская его в щели, вместо того чтобы тянуть то в одну, то в другую сторону веревки рулевого весла; однако мы теперь так привыкли к веслу что предпочитали управлять им, установив с помощью килей лишь общий курс.
Следующая знаменательная веха на нашем пути была такой же невидимой, как и отмель, которая существовала только на карте.
Это произошло на сорок пятый день нашего пребывания в океане; мы прошли от 78° западной долготы до 108° и находились ровно на полпути до ближайших островов впереди. Между нами и Южной Америкой на востоке было свыше 2 тысяч миль, и такое же расстояние отделяло нас от Полинезии на западе. Ближайшей сушей были острова Галапагос к восток-северо-востоку и остров Пасхи к югу, но и до них свыше чем на 500 миль простирался беспредельный океан. Мы не видели и не могли увидеть ни одного корабля, так как по этой части Тихого океана не проходили обычные пароходные пути.
Но на самом деле мы не ощущали этих огромных расстояний; горизонт незаметно двигался вместе с нами, и наш плавучий мир оставался все время неизменным — ограниченный горизонтом круг, вздымавшийся к небесному своду, плот в центре круга и все те же звезды, из ночи в ночь медленно двигавшиеся над нами.
Водолазная корзина оказалась не только полезной, но постепенно стала для нас прекрасным местом развлечения. Она давала нам великолепную возможность для изучения плавучего аквариума, находившегося под нами.
Когда океан спокойно катил свои волны, мы по очереди залезали в корзину, и нас спускали под воду, где мы оставались, пока хватало дыхания. Внизу в воде свет как-то необычайно преображался и предметы не отбрасывали тени. Как только наши глаза оказывались под водой, источник света — в отличие от нашего надводного мира — как бы переставал существовать. Преломленные лучи доходили до нас не только сверху, но и снизу; солнце больше не сияло, оно было повсюду. Если мы смотрели вверх, на дно плота, то оно представлялось нам ярко освещенным; девять больших бревен и вся сеть веревочных креплений вместе с покачивающимися гирляндами ярко-зеленых водорослей, свисавших со всех сторон плота и с рулевого весла, — все было залито таинственным светом. Лоцманы плавали стройными рядами, напоминая зебр в рыбьей коже, а большие золотые макрели неутомимо, настороженно, быстро описывали круги, выслеживая добычу. Тут и там свет падал на разбухшую красную древесину киля, который выступал вниз из щели; на доске сидела мирная колония белых морских уточек, ритмично шевеливших бахромчатыми желтыми жабрами, вбирая в себя кислород и пищу. Если кто-нибудь приближался к ним, они поспешно захлопывали створки своих раковин с красной и желтой каймой и сидели за закрытой дверью, пока не убеждались, что опасность миновала. Здесь внизу свет отличался изумительной ясностью и действовал на нас, привыкших на палубе к тропическому солнцу, очень успокаивающе. Даже тогда, когда мы смотрели вниз в бездонную глубину океана, где царит вечная черная ночь, эта ночь являлась нам окрашенной в приятный голубой цвет, так как от нее отражались солнечные лучи. К нашему удивлению, мы, находясь у самой поверхности, могли видеть рыб, плававших далеко внизу, в глубине ясной чистой синевы. Возможно, это были бониты, но встречались и другие виды, которые плавали на такой глубине, что мы не могли их определить. Иногда они держались огромными стаями, и мы часто задавали себе вопрос, все ли океанское течение полно рыбы или эти стаи, проплывавшие внизу, в глубине, намеренно собрались под «Кон-Тики», чтобы на несколько дней составить нам компанию.
Больше всего нам нравилось опускаться в воду, когда нас посещали большие тунцы с золотыми плавниками. Иногда они приплывали к плоту большими стаями, но чаще всего являлись по двое или по трое и несколько дней подряд описывали вокруг нас спокойные круги, пока нам не удавалось приманить их на крючок. С плота они казались просто большими, неуклюжими рыбами буроватого цвета, без каких-либо особых украшений; но если мы спускались к ним в их собственную стихию, они вдруг ни с того ни с сего меняли и цвет и форму. Перемена была настолько необъяснимой, что мы несколько раз должны были подниматься на поверхность и снова определять направление, чтобы проверить, те ли это рыбы, на которых мы смотрели в воде. Большие рыбы не обращали на нас никакого внимания; они невозмутимо продолжали свои величественные маневры и принимали такую изящную форму, какой мы не наблюдали ни у одной другой рыбы, а их окраска становилась бледно-лиловой, с металлическим оттенком. Своими совершенными пропорциями и обтекаемой формой они напоминали сверкающие серебром и сталью мощные торпеды, и им достаточно было чуть-чуть пошевелить одним или двумя плавниками, чтобы их туловище весом в 70–80 килограммов с непревзойденным изяществом заскользило в воде.
Чем теснее соприкасались мы с океаном и его обитателями, тем меньше мы удивлялись и тем привычнее он становился для нас. И мы научились уважать древние первобытные народы, которые жили в тесном общении с Тихим океаном и поэтому знали такие его особенности, о которых мы не имеем представления. Конечно, мы установили теперь содержание соли в воде океана и дали тунцам и золотым макрелям латинские названия. Древние полинезийцы этого не сделали. И все же боюсь, что первобытные народы имели об океане более правильное представление, чем мы.
Здесь, в океане, почти не было путеводных вех. Волны и рыбы, солнце и звезды появлялись и исчезали. Предполагалось, что никакой суши не существует на всем протяжении в 4 300 морских миль, которые отделяют острова Южного моря от Перу. Поэтому мы очень удивились, когда, приближаясь к 100° западной долготы, обнаружили, что на карте Тихого океана, прямо впереди нас по курсу, которым мы следовали, отмечена подводная скала. Ее изобразили в виде маленького кружка, и так как карта была издана в этом году, мы заглянули в «Лоцию Южной Америки». Мы прочли: «В 1906, а затем снова в 1926 году были замечены буруны примерно в 600 милях к юго-западу от островов Галапагос, под 6°42′ южной широты, 99°43′ западной долготы. В 1927 году пароход прошел в одной миле к западу от этого пункта, но у него не заметили никаких бурунов; в 1934 году другой пароход прошел в одной миле к югу и также не обнаружил никаких следов бурунов. Моторное судно «Каури» в 1935 году при промере не достигло в этом пункте дна на глубине 300 метров».
Согласно картам плавание в этом районе все еще считалось делом сомнительным, и, так как глубоко сидящее судно, слишком близко подойдя к мели, подвергалось бы гораздо большему риску, чем наш плот, мы решили направиться прямо к месту, отмеченному на карте, и посмотреть, что там находится. Подводная скала была указана чуть-чуть севернее той точки, к которой мы, по-видимому, держали курс; поэтому мы положили руль вправо и подтянули четырехугольный парус так, что нос плота был устремлен примерно на север, а волны и ветер мы принимали с правого борта. Теперь в наши спальные мешки попадало тихоокеанской воды несколько больше обычного; к тому же и ветер в это время стал значительно свежее. Но мы с удовлетворением убедились, что «Кон-Тики» можно вполне уверенно управлять, идя даже под очень большим углом к ветру, если только мы вовсе не теряли его. В этом случае парус начинал полоскаться, и нам приходилось выполнять цирковые номера, чтобы заставить плот снова слушаться руля. В течение двух дней и ночей мы вели плот к север-северозападу. Волны вздымались высоко, и когда пассат стал неустойчивым и дул то с юго-востока, то с востока, они шли уже непрерывными рядами; но мы продолжали плыть, подымаясь и опускаясь с обрушивавшимися на нас валами. На верхушке мачты все время кто-нибудь дежурил, и когда плот поднимался на гребень, горизонт перед нами значительно расширялся. Гребни волн вздымались почти на два метра выше крыши нашей бамбуковой каюты; а если две мощные волны обрушивались на нас одновременно, то, сталкиваясь, они взлетали еще выше и превращались в шипящий водяной смерч, который мог налететь на нас с любой стороны. Когда наступила ночь, мы забаррикадировали вход в каюту ящиками с продуктами; но океан то и дело нарушал наш покой. Не успели мы заснуть, как раздался первый треск бамбуковой стены; тысяча струй воды фонтанами полилась на нас сквозь бамбуковое плетение, а пенящийся поток обрушился на ящики с продуктами, а затем внутрь каюты.
— Вызовите по телефону водопроводчика, — услышал я чей-то сонный голос, когда мыскрючились, чтобы дать воде возможность уйти сквозь пол. Водопроводчик не пришел, и этой ночью мы, лежа в постели, приняли не одну ванну. Во время вахты Германа на плот ненароком явилась большая золотая макрель.
На следующий день волнение несколько утихло, так как пассат решил, что теперь он некоторое время будет дуть с востока. Мы сменяли друг друга на верхушке мачты, ибо можно было ожидать, что к вечеру мы достигнем того пункта, к которому направлялись. В этот день море казалось нам более оживленным, чем всегда. Может быть, это происходило только потому, что мы всматривались внимательней обычного.
После полудня мы увидели большую меч-рыбу, которая приближалась к плоту, плывя у самой поверхности. Два остроконечных плавника, торчавших из воды, отстояли друг от друга почти на два метра, а меч казался таким же длинным, как и туловище. Меч-рыба описала кривую рядом с рулевым и исчезла за гребнями волн. Когда мы сидели за обедом, изрядно приправленным соленой водой, шипящая волна подняла к самым нашим лицам большую морскую черепаху со щитом, головой и свисавшими ногами. Когда эта волна уступила место двум другим, черепаха исчезла так же внезапно, как и появилась. И на этот раз мы опять заметили, как, блестя своим зеленовато-белым брюхом, золотые макрели метались в воде под защищенным броней пресмыкающимся. Этот район океана был исключительно богат крошечными летающими рыбами длиной в два-три сантиметра, которые плыли рядом с нами большими стаями и часто попадали на плот. Мы видели также одиноких чаек-поморников, нас постоянно навещали фрегаты, которые летали взад и вперед над плотом, напоминая своим раздвоенным хвостом гигантских ласточек. Появление фрегатов обычно считается признаком близости земли, и оптимистическое настроение на плоту усиливалось.
«Может быть, здесь действительно имеется подводная скала или песчаная отмель», — думали некоторые из нас. А самые большие оптимисты говорили:
— А что, если мы обнаружим островок с зеленой травой? Кто знает, ведь здесь до нас бывало так мало людей. Тогда мы открыли бы новую землю — остров Кон-Тики!
Начиная с полудня, Эрик все чаще и чаще влезал на кухонный ящик и, прищурившись, смотрел в секстант. В 6 часов 20 минут пополудни он сообщил наше положение: 6°42′ южной широты и 99°42′ западной долготы. Мы находились на расстоянии одной мили к востоку от указанной на карте скалы. Мы опустили бамбуковую рею и скатали на палубе парус. Ветер дул с востока и должен был медленно донести нас до места. Когда солнце быстро опустилось в океан, на смену ему во всем своем великолепии появилась полная луна и осветила поверхность океана, который от горизонта до горизонта переливался чернью и серебром. Видимость с верхушки мачты была хорошая. Повсюду шли длинные валы сталкивавшихся между собой волн, но постоянных бурунов, которые указывали бы на подводную скалу или отмель, не было. Никто из нас не заходил в каюту; все стояли на палубе, пристально всматриваясь, а два-три человека наблюдали с мачты. Когда мы медленно плыли в центре отмеченного на карте района, мы все время делали промеры. К концу шелкового шнура длиной свыше 800 метров, сплетенного из 54 нитей, мы привязали все свинцовые грузила, какие только имелись у нас; если учесть даже, что из-за дрейфа плота шнур опускался не совсем отвесно, все же груз висел на глубине по меньшей мере 600 метров. А дна не было ни к востоку от указанного места, ни в центре, ни к западу от него. Окинув последним взглядом поверхность океана и окончательно убедившись, что имеем полное право считать этот район обследованным и что здесь нет никаких отмелей, мы поставили парус и повернули руль в нормальное положение, так, что ветер и волны снова оказались сзади кормы слева. И наш плот снова двинулся вперед обычным спокойным ходом. Как и прежде, волны накатывались на корму и уходили в промежутки между бревнами. Теперь мы могли спать и есть, не принимая душей, хотя океан вокруг нас разыгрался всерьез и бесновался несколько дней, а пассат дул то с востока, то с юго-востока.
Во время этого маленького путешествия к несуществующему рифу мы начали понимать, какую роль играют выдвижные кили; а когда впоследствии Герман и Кнут, нырнув вдвоем под плот, освободили пятый киль, мы узнали об этих забавных досках еще больше — узнали то, чего никто не понимал с тех пор, как сами индейцы перестали заниматься этим забытым спортом. То, что доска выполняла роль киля и давала плоту возможность двигаться под углом к ветру, было нам понятно. Но когда мы читали у древних испанских историков, что индейцы в какой-то мере «управляют» своими бальсовыми плотами в океане с помощью «своего рода выдвижных килей, которые они просовывают в щели между бревнами», это казалось совершенно непостижимым и нам и всем остальным, кто занимался этим вопросом. Ведь выдвижной киль просто вгонялся в узкую щель и был неподвижен; он не мог поворачиваться в сторону и служить рулем.
Тайна была раскрыта при следующих обстоятельствах. Дул ровный ветер, и океан снова успокоился, так что в течение нескольких дней нам не приходилось прикасаться к привязанному рулевому веслу, для того чтобы удерживать «Кон-Тики» в нужном направлении. Мы засунули выловленный киль в щель на корме, и в то же мгновение «Кон-Тики» изменил курс на несколько градусов с запада к северо-западу, а затем продолжал спокойно и ровно двигаться по новому курсу. Когда мы снова вытащили киль, плот повернул на прежний курс. Но если мы вытаскивали доску только наполовину, то и плот поворачивал на старый курс только наполовину. Простым подыманием и опусканием киля мы могли вызывать изменение курса и держаться его, не притрагиваясь к рулевому веслу. В этом и заключалась остроумная идея инков. Они разработали простую систему рычагов, в которой вследствие давления ветра на парус мачта являлась неподвижной точкой. Плечами рычага были части плота спереди от мачты и сзади от нее. Если общая поверхность килей спереди была больше, нос плота легко поворачивался к ветру, но если поверхность килей сзади была больше, корма поворачивалась к ветру. Действие ближайших к мачте килей было наиболее слабым — согласно закону о соотношении между длиной плеча и силой. Когда ветер дул с кормы, выдвижные кили переставали действовать; тогда, для того чтобы плот шел ровно, необходимо было все время работать рулевым веслом. В этом случае плот шел прямо по ветру, к тому же он оказывался немного длиннее, чем это нужно для того, чтобы легко скользить по волнам. А так как дверь каюты и место наших трапез находились с правой стороны, мы всегда стремились к тому, чтобы волны набегали на плот сзади под углом слева.
Конечно, во время дальнейшего пути рулевой мог стоять у киля, подымая и опуская его в щели, вместо того чтобы тянуть то в одну, то в другую сторону веревки рулевого весла; однако мы теперь так привыкли к веслу что предпочитали управлять им, установив с помощью килей лишь общий курс.
Следующая знаменательная веха на нашем пути была такой же невидимой, как и отмель, которая существовала только на карте.
Это произошло на сорок пятый день нашего пребывания в океане; мы прошли от 78° западной долготы до 108° и находились ровно на полпути до ближайших островов впереди. Между нами и Южной Америкой на востоке было свыше 2 тысяч миль, и такое же расстояние отделяло нас от Полинезии на западе. Ближайшей сушей были острова Галапагос к восток-северо-востоку и остров Пасхи к югу, но и до них свыше чем на 500 миль простирался беспредельный океан. Мы не видели и не могли увидеть ни одного корабля, так как по этой части Тихого океана не проходили обычные пароходные пути.
Но на самом деле мы не ощущали этих огромных расстояний; горизонт незаметно двигался вместе с нами, и наш плавучий мир оставался все время неизменным — ограниченный горизонтом круг, вздымавшийся к небесному своду, плот в центре круга и все те же звезды, из ночи в ночь медленно двигавшиеся над нами.

 Вид был неважный, и мы с трудом понимали, почему все шло так благополучно на борту нашего своеобразного судна.
В следующий раз, когда мы отплыли в лодке чтобы хорошенько посмеяться над собой, чуть не произошло несчастье. Ветер и волнение оказались сильнее, чем мы предполагали, и «Кон-Тики» прокладывал себе дорогу в волнах с гораздо большей скоростью, чем мы могли думать. Спасая свою жизнь, мы должны были грести изо всех сил, стараясь догнать несговорчивый плот, который не мог ни остановиться и подождать, ни повернуть назад. Даже тогда, когда наши товарищи на борту «Кон-Тики» спустили парус, ветер так дул в бамбуковую каюту, что бальсовый плот несло на запад с той же скоростью, какую мы могли развить с помощью маленьких игрушечных весел в нашей круглой резиновой лодке, танцевавшей на волнах. У каждого была только одна мысль: мы должны снова быть вместе. Мы провели в океане ужасные минуты, прежде чем удалось догнать убегающий плот и, взобравшись на него, очутиться опять дома, среди товарищей.
С этого дня было строжайше запрещено отплывать в резиновой лодке, предварительно не привязав ее длинной веревкой к плоту, чтобы оставшиеся на борту могли в случае необходимости подтянуть лодку. Поэтому мы никогда не отплывали далеко от плота, за исключением тех случаев, когда ветер дул очень слабо и по океану шла лишь легкая зыбь. Когда плот находился на полпути к Полинезии, стоял как раз такой штиль, и величественный океан простирался во все стороны горизонта, изгибаясь вокруг земного шара. Теперь мы могли спокойно покидать «Кон-Тики» и уплывать в синий простор между небом и океаном. Подчас в нас закрадывалось чувство одиночества, когда мы видели, как силуэт нашего судна, удаляясь, становился все меньше и меньше, а большой парус в конце концов превращался в черный квадрат, едва различимый у горизонта. Океан уходил вдаль, синий под синим небом, а там, где вода и небо встречались, синева сливалась, и грань между ними исчезала. У нас бывало такое ощущение, словно мы висели в пространстве; нас окружал пустой синий мир; не было ничего, на чем мог бы остановиться взор, кроме тропического солнца, золотого и жаркого, которое жгло нам шею. Затем далекий парус одинокого плота на горизонте притягивал нас к себе, как магнит. Мы гребли обратно, взбирались на плот и чувствовали, что вернулись домой, в наш собственный мир, на плот, представлявшийся твердой, надежной землей. А внутри бамбуковой каюты нас ждали тень и запах бамбука и увядших пальмовых листьев. Залитой солнцем незапятнанной синевы, которую мы видели сквозь открытую стену каюты, теперь было для нас вполне достаточно. К этому зрелищу мы привыкли, и оно удовлетворяло нас до тех пор, пока беспредельная ясная синева снова не соблазняла покинуть плот.
Просто изумительно, какое психологическое действие оказывала на нас шаткая бамбуковая каюта. Она была размером 2,5 на 4 метра, и, для того чтобы уменьшить давление ветра и волн, мы построили ее такой низкой, что никто из нас не мог, выпрямившись, стоять даже под коньком крыши. Стены и крыша были сделаны из крепких бамбуковых жердей, связанных между собой и укрепленных оттяжками; они были забраны плотным плетением из расщепленных побегов бамбука. Эта обрешетка зеленого и желтого цвета с гирляндами листьев, спускавшихся с крыши, была для глаз гораздо приятней, чем каюта, выкрашенная белой краской. И несмотря на то, что бамбуковая стена с правой стороны была на одну треть своей длины открытой, а крыша и стены пропускали солнечные и лунные лучи, эта примитивная берлога вселяла в нас чувство безопасности, какого не могли бы нам дать в этих условиях белоснежные переборки и закрытые иллюминаторы. Мы попытались найти объяснение этому любопытному факту и пришли к следующему выводу. Для нашего сознания было совершенно непривычным ассоциировать крытое пальмовыми листьями бамбуковое жилище с морским путешествием. Не существовало никакой естественной гармонической связи между огромным перекатывающимся океаном и зияющей дырами пальмовой хижиной, которая плыла среди волн. Поэтому либо хижина должна казаться нам совершенно неуместной среди волн, либо волны должны казаться совершенно неуместными вокруг хижины. Пока мы находились на плоту, бамбуковая хижина с ее запахом джунглей была для нас привычной действительностью, а вздымающиеся волны представлялись чем-то мало реальным. Но если мы находились в резиновой лодке, волны и хижина менялись ролями. Бальсовые бревна, подобно чайке, всегда скользили по волнам и всегда давали выход воде, которая захлестывала корму, и это вселяло в нас непоколебимую веру в сухое место посреди плота, где находилась каюта. Чем дольше длилось путешествие, тем в большей безопасности мы чувствовали себя в нашей уютной берлоге; и мы смотрели на белые гребни волн, плясавших перед дверью, с таким чувством, словно это был волнующий фильм, который нам абсолютно ничем не угрожает. Пусть открытая стена находится всего в полутора метрах от ничем не огражденного края плота и только на полметра выше уровня воды, все же, забравшись внутрь каюты, мы чувствовали себя так, будто путешествовали по суше за много миль от моря и находились в какой-то лесной хижине, вдали от всех опасностей океана. Тут мы могли лежать на спине, смотреть вверх на забавную крышу, которая покачивалась, как ветви на ветру, и наслаждаться лесными запахами свежей древесины, бамбука и увядших пальмовых листьев.
Вид был неважный, и мы с трудом понимали, почему все шло так благополучно на борту нашего своеобразного судна.
В следующий раз, когда мы отплыли в лодке чтобы хорошенько посмеяться над собой, чуть не произошло несчастье. Ветер и волнение оказались сильнее, чем мы предполагали, и «Кон-Тики» прокладывал себе дорогу в волнах с гораздо большей скоростью, чем мы могли думать. Спасая свою жизнь, мы должны были грести изо всех сил, стараясь догнать несговорчивый плот, который не мог ни остановиться и подождать, ни повернуть назад. Даже тогда, когда наши товарищи на борту «Кон-Тики» спустили парус, ветер так дул в бамбуковую каюту, что бальсовый плот несло на запад с той же скоростью, какую мы могли развить с помощью маленьких игрушечных весел в нашей круглой резиновой лодке, танцевавшей на волнах. У каждого была только одна мысль: мы должны снова быть вместе. Мы провели в океане ужасные минуты, прежде чем удалось догнать убегающий плот и, взобравшись на него, очутиться опять дома, среди товарищей.
С этого дня было строжайше запрещено отплывать в резиновой лодке, предварительно не привязав ее длинной веревкой к плоту, чтобы оставшиеся на борту могли в случае необходимости подтянуть лодку. Поэтому мы никогда не отплывали далеко от плота, за исключением тех случаев, когда ветер дул очень слабо и по океану шла лишь легкая зыбь. Когда плот находился на полпути к Полинезии, стоял как раз такой штиль, и величественный океан простирался во все стороны горизонта, изгибаясь вокруг земного шара. Теперь мы могли спокойно покидать «Кон-Тики» и уплывать в синий простор между небом и океаном. Подчас в нас закрадывалось чувство одиночества, когда мы видели, как силуэт нашего судна, удаляясь, становился все меньше и меньше, а большой парус в конце концов превращался в черный квадрат, едва различимый у горизонта. Океан уходил вдаль, синий под синим небом, а там, где вода и небо встречались, синева сливалась, и грань между ними исчезала. У нас бывало такое ощущение, словно мы висели в пространстве; нас окружал пустой синий мир; не было ничего, на чем мог бы остановиться взор, кроме тропического солнца, золотого и жаркого, которое жгло нам шею. Затем далекий парус одинокого плота на горизонте притягивал нас к себе, как магнит. Мы гребли обратно, взбирались на плот и чувствовали, что вернулись домой, в наш собственный мир, на плот, представлявшийся твердой, надежной землей. А внутри бамбуковой каюты нас ждали тень и запах бамбука и увядших пальмовых листьев. Залитой солнцем незапятнанной синевы, которую мы видели сквозь открытую стену каюты, теперь было для нас вполне достаточно. К этому зрелищу мы привыкли, и оно удовлетворяло нас до тех пор, пока беспредельная ясная синева снова не соблазняла покинуть плот.
Просто изумительно, какое психологическое действие оказывала на нас шаткая бамбуковая каюта. Она была размером 2,5 на 4 метра, и, для того чтобы уменьшить давление ветра и волн, мы построили ее такой низкой, что никто из нас не мог, выпрямившись, стоять даже под коньком крыши. Стены и крыша были сделаны из крепких бамбуковых жердей, связанных между собой и укрепленных оттяжками; они были забраны плотным плетением из расщепленных побегов бамбука. Эта обрешетка зеленого и желтого цвета с гирляндами листьев, спускавшихся с крыши, была для глаз гораздо приятней, чем каюта, выкрашенная белой краской. И несмотря на то, что бамбуковая стена с правой стороны была на одну треть своей длины открытой, а крыша и стены пропускали солнечные и лунные лучи, эта примитивная берлога вселяла в нас чувство безопасности, какого не могли бы нам дать в этих условиях белоснежные переборки и закрытые иллюминаторы. Мы попытались найти объяснение этому любопытному факту и пришли к следующему выводу. Для нашего сознания было совершенно непривычным ассоциировать крытое пальмовыми листьями бамбуковое жилище с морским путешествием. Не существовало никакой естественной гармонической связи между огромным перекатывающимся океаном и зияющей дырами пальмовой хижиной, которая плыла среди волн. Поэтому либо хижина должна казаться нам совершенно неуместной среди волн, либо волны должны казаться совершенно неуместными вокруг хижины. Пока мы находились на плоту, бамбуковая хижина с ее запахом джунглей была для нас привычной действительностью, а вздымающиеся волны представлялись чем-то мало реальным. Но если мы находились в резиновой лодке, волны и хижина менялись ролями. Бальсовые бревна, подобно чайке, всегда скользили по волнам и всегда давали выход воде, которая захлестывала корму, и это вселяло в нас непоколебимую веру в сухое место посреди плота, где находилась каюта. Чем дольше длилось путешествие, тем в большей безопасности мы чувствовали себя в нашей уютной берлоге; и мы смотрели на белые гребни волн, плясавших перед дверью, с таким чувством, словно это был волнующий фильм, который нам абсолютно ничем не угрожает. Пусть открытая стена находится всего в полутора метрах от ничем не огражденного края плота и только на полметра выше уровня воды, все же, забравшись внутрь каюты, мы чувствовали себя так, будто путешествовали по суше за много миль от моря и находились в какой-то лесной хижине, вдали от всех опасностей океана. Тут мы могли лежать на спине, смотреть вверх на забавную крышу, которая покачивалась, как ветви на ветру, и наслаждаться лесными запахами свежей древесины, бамбука и увядших пальмовых листьев.
 Иногда мы отплывали в резиновой лодке, чтобы взглянуть на себя ночью. Черные как смоль волны громоздились со всех сторон, а мириады мерцающих тропических звезд слабо отражались в планктоне у поверхности воды. Мир был прост — звезды во мраке. Был ли это 1947 год до нашей эры или нашей эры, внезапно потеряло всякое значение. Мы жили, и это мы ощущали со всей остротой. Мы понимали, что жизнь была полна для людей и до наступления века техники — пожалуй, во многих отношениях полнее и богаче, чем жизнь современного человека. Время и эволюция в эти мгновения переставали существовать. Все, что в жизни человека было реальным и имело значение, сегодня оставалось таким же, каким оно было когда-то и будет всегда. Мы растворялись в абсолютном всеобщем мериле истории: бесконечная беспросветная тьма под роем звезд. Перед вами в ночи вставал из волн «Кон-Тики» и снова опускался за черные массы воды, которые вздымались между ним и нами. В лунном свете плот окутывала какая-то особая атмосфера. Толстые блестящие бревна с бахромой из водорослей, квадратные очертания черного паруса викингов, ощетинившаяся бамбуковая хижина с желтым светом керосинового фонаря позади — все это напоминало скорее картину из волшебной сказки, чем реальную действительность. Время от времени плот совершенно исчезал за черными волнами; затем он опять появлялся и резким силуэтом вырисовывался в свете звезд, а с его бревен стекали сверкающие струи воды.
Когда мы ночью смотрели на наш одинокий плот, мы без труда могли мысленно представить себе, как где-то за горизонтом, когда люди впервые прокладывали себе путь через этот океан, проплывала целая флотилия таких судов, держась веерообразным строем, чтобы было больше шансов заметить землю. Незадолго до появления испанцев инка Тупак Юпанки, который подчинил своей власти и Перу и Эквадор, в сопровождении многих тысяч людей отплыл в океан с целой армадой бальсовых плотов, на поиски островов, которые, по слухам, находились где-то в Тихом океане. Он нашел два острова; некоторые считают, что то были острова Галапагос; и после восьмимесячного отсутствия ему и его многочисленным гребцам с трудом удалось вернуться назад в Эквадор. Конечно, и Кон-Тики со своими спутниками несколькими столетиями раньше плыл таким же строем, но так как они открыли острова Полинезии, у них не было причин пытаться преодолеть обратный путь.
Когда мы снова взбирались на плот, мы часто усаживались вокруг керосинового фонаря на бамбуковой палубе и разговаривали о мореплавателях из Перу, которые полторы тысячи лет назад испытали то же самое. Фонарь отбрасывал на парус огромные тени бородатых людей, и мы думали о белых людях с бородой, следы пребывания которых мы находили в мифологии и архитектуре на всем протяжении от Мексики до Центральной Америки и в северо-западной части Южной Америки вплоть до Перу. Там таинственная цивилизация перед приходом инков исчезает, словно по мановению волшебной палочки, и так же внезапно появляется на одиноких островах на западе, к которым мы теперь приближались. Может быть, эти странствующие наставники принадлежали к древнему цивилизованному народу, который жил за Атлантическим океаном и в давно прошедшие времена переплыл его столь же простым способом, воспользовавшись западным океанским течением и пассатом, доставившими их с Канарских островов в Мексиканский залив? Конечно, это расстояние было гораздо короче, чем то, которое мы преодолеваем, а мы больше не верили, что океан является абсолютно изолирующим фактором. Многие исследователи на основании веских доводов утверждали, что великие индейские цивилизации — от ацтеков в Мексике до инков в Перу — появились в результате неожиданных миграционных волн, приходивших из-за океана с востока, в то время как американские индейцы в целом представляют собой азиатские охотничьи и рыбачьи племена, которые на протяжении 20 тысяч лет или даже более долгого времени просочились в Америку из Сибири. Нас, безусловно, должно поражать то обстоятельство, что мы не находим никаких следов постепенного развития великих цивилизаций, которые когда-то распространялись от Мексики до Перу. Чем глубже в землю уходили раскопки археологов, тем более высокую культуру они находили, пока не достигался определенный предел, который с очевидностью указывал на то, что древние цивилизации возникли, не имея никаких корней в первобытных культурах.
И цивилизации возникли там, куда подходит атлантическое течение, — посреди пустынь и джунглей в Центральной и Южной Америке, а не в областях с более умеренным климатом, где условия для развития цивилизаций и в древности и в современную эпоху были гораздо более благоприятными.
То же самое мы наблюдаем и на островах Южного моря. Самые отчетливые следы цивилизации мы находим на ближайшем к Перу острове Пасхи, хотя почва на этом незначительном островке сухая и неплодородная и хотя он отстоит от Азии дальше, чем все остальные тихоокеанские острова.
Пройдя половину пути, мы проплыли как раз такое расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу, и этот легендарный остров лежал к югу от нас. Стараясь воспроизвести обычный путь плота в океане, мы отплыли от материка в удачном месте — в средине перуанского побережья. Если бы мы отплыли несколько южнее, ближе к Тиахуанаке, разрушенной столице Кон-Тики, то мы шли бы с тем же ветром, но в более слабом течении, и оно понесло бы нас по направлению к острову Пасхи.
Когда мы миновали 110° западной долготы, мы очутились уже в полинезийской океанической области, так как полинезийский остров Пасхи был теперь к Перу ближе, чем мы. Мы находились на одном меридиане с первым аванпостом островов Южного моря, центром древнейшей островной цивилизации. По вечерам, после того как раскаленный путеводный шар спускался к горизонту и в сопровождении всех цветов спектра исчезал в океане на западе, легкий пассат воскрешал рассказы о необычайных тайнах острова Пасхи. Ночное небо сглаживало всякое представление о времени, а головы бородатых великанов опять вырисовывались на парусе.
Но далеко на юге, на острове Пасхи, стоят высеченные из камня еще более гигантские головы с остроконечной бородой и чертами лица белых людей, стоят и размышляют о тайне столетий. Так стояли они, когда первые европейцы открыли остров в 1722 году, и так стояли они двадцатью двумя полинезийскими поколениями раньше, когда предки теперешних жителей высадились из своих челноков и истребили всех попавшихся им в руки взрослых мужчин таинственного цивилизованного народа, населявшего остров. С тех пор гигантские камерные головы на острове Пасхи причисляют к самым неразрешимым тайнам древности. Тут и там на склонах холмов этого безлесного острова поднимались к небу огромные статуи — каменные колоссы, великолепные фигуры людей, высеченные из одной глыбы вышиной с трех- или четырехэтажный дом. Как могли древние люди изваять, перенести и поставить этих гигантских каменных колоссов? И, словно этого им еще было мало, они умудрились на головах некоторых статуй, на высоте двенадцати метров над землей, установить в равновесии добавочную чудовищную глыбу красного камня, напоминавшую огромный парик. Что это все означало и какими познаниями в механике обладали эти исчезнувшие зодчие, которые разрешали проблемы, достаточно трудные и для лучших современных инженеров?
В конце концов, если сопоставить все данные, то тайна острова Пасхи, пожалуй, не является неразрешимой; ключом к этой загадке могут быть люди из Перу, приплывшие на плотах. На этом острове древняя цивилизация оставила такие следы, которые не могло изгладить само время. Остров Пасхи представляет собой вершину древнего потухшего вулкана. Мощеные дороги, проложенные древними цивилизованными жителями, ведут к хорошо сохранившимся местам высадки на побережье, и это доказывает, что глубина воды вокруг острова не изменилась до наших дней. Это не остатки опустившегося материка, а крошечный заброшенный остров, который был таким же маленьким и одиноким и тогда, когда он являлся культурным центром Тихого океана.
Посредине конусообразного островка находится кратер потухшего вулкана, а на дне кратера расположены удивительные каменоломни и скульптурная мастерская. Она осталась в таком же точно виде, в каком столетия назад ее покинули древние скульпторы и зодчие, когда они поспешно бросились к восточному мысу острова, где, согласно преданию, пришельцы перебили всех взрослых мужчин-островитян. Благодаря тому, что работа художников была внезапно прервана, мы имеем теперь ясное представление об обычном рабочем дне в кратере острова Пасхи. Каменные топоры скульпторов, твердые, как кремень, лежат, брошенные у рабочих мест, и доказывают, что этот культурный народ не знал железа, как не знали его скульпторы Кон-Тики, когда они убежали из Перу, оставив после себя подобные же гигантские каменные статуи на плато в Андах. И здесь и там находят каменоломни в тех местах, где легендарные белые бородатые люди высекали прямо из склона горы каменные глыбы длиной в девять-двенадцать метров, пользуясь топорами из еще более твердого камня. И здесь и там гигантские глыбы, весившие много тонн, переносились на расстояние многих километров по неровной местности, прежде чем их устанавливали стоймя в виде громадных человеческих фигур или ставили друг на друга, создавая таинственные террасы и стены.
Много больших незаконченных статуй до сих пор лежит там, где их начали делать, — в углублениях в стене кратера на острове Пасхи; они показывают, как шла работа на различных этапах. Самая большая человеческая фигура, которая была почти готова, когда зодчим пришлось убежать, имела в длину 22 метра; если бы она была закончена и установлена, голова этого каменного колосса находилась бы на одном уровне с крышей восьмиэтажного здания. Каждая отдельная статуя была высечена из одной цельной глыбы, а рабочие ниши для скульпторов вокруг лежащей каменной фигуры показывают, что над статуей одновременно работало лишь несколько человек. Статуи на острове Пасхи лежали на спине с согнутыми в локтях руками, с кистями рук на животе, в точности похожие на каменных колоссов в Перу. Статуи отделывались в мастерской до мельчайших деталей, и лишь затем их выносили и доставляли к месту назначения. На последнем этапе работы в каменоломне гигантская фигура оставалась прикрепленной к скале лишь узкой каменной перемычкой, находившейся под спиной; затем отсекали и перемычку, предварительно подложив под статую валуны, чтобы она не скатилась.
Большое количество таких статуй было уже спущено вниз, на дно кратера; там они стояли прислоненные к склону. Но много самых огромных колоссов было вытащено наверх и доставлено за много километров по труднопроходимой местности; там их устанавливали на каменную плиту, а на голову водружали добавочную гигантскую глыбу из красной лавы. Сама эта переноска может показаться полнейшим чудом, но отрицать этот факт невозможно, как нельзя отрицать того, что исчезнувшие из Перу зодчие оставили в Андах каменных гигантов такой же величины — свидетельство их непревзойденного мастерства. Больше всего монолитов, при этом самых крупных, было обнаружено на острове Пасхи, где скульпторы выработали свой собственный стиль; однако представители той же самой исчезнувшей цивилизации воздвигли подобные же гигантские человеческие фигуры на ряде других тихоокеанских островов, ближайших к Америке, и повсюду монолиты доставлялись к священному месту из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах я слышал легенды о том, каким способом передвигали каменных гигантов; так как эти легенды в точности повторяют рассказы местных жителей о переноске каменных колонн к огромному порталу на острове Тонгатабу, то можно предположить, что тот же народ применял тот же метод и для переноски статуй на острове Пасхи.
Работа скульпторов в каменном карьере требовала много времени, но выполнялась только несколькими специалистами. Работа по доставке законченных статуй производилась быстрее, но зато для нее нужно большое количество людей. В те времена, о которых идет речь, маленький остров Пасхи был богат рыбой, а большие плантации перуанского сладкого картофеля тщательно обрабатывались. Специалисты считают, что в эти лучшие времена остров мог прокормить население в 7 или 8 тысяч человек. Для того чтобы поднять огромные статуи вверх по крутому склону кратера, вполне достаточно было тысячи человек, и 500 человек могли управиться с дальнейшей их переноской по острову.
Из луба и растительного волокна сплетали изумительно прочные канаты, и, укрепив каменный колосс на деревянных рамах, толпа тащила его на катках, сделанных из бревен и небольших валунов, которые натирались корнями таро, чтобы рамы легче скользили.
О том, что древние цивилизованные люди мастерски изготовляли веревки и канаты, убедительно говорят находки на островах Южного моря и — с еще большей несомненностью — в Перу, где первые европейцы обнаружили висячие мосты длиною в сотню метров, переброшенные через бурные потоки и ущелья и сделанные из плетеных канатов толщиной в талию взрослого мужчины.
Когда каменный колосс прибывал на предназначенное ему место, возникал новый вопрос: как его установить. Группа островитян строила из камня и песка специальную насыпь с пологим склоном с одной стороны и с крутым противоположным склоном. По пологой поверхности гигантскую фигуру втаскивали наверх, ногами вперед. Когда статуя достигала вершины насыпи, она переваливалась через острый край и соскальзывала прямо вниз так, что ее основание попадало в заранее вырытую яму. Затылок гиганта касался вершины насыпи, по ней вкатывали добавочную цилиндрическую глыбу камня и устанавливали на голове статуи, и лишь после этого насыпь разрушали. Такого рода готовые насыпи стоят в нескольких местах на острове Пасхи, ожидая огромные статуи, которые никогда не появятся. Вся эта техника была изумительна, но она не представляет собой ничего таинственного, если только мы откажемся от недооценки умственных способностей людей древности и примем во внимание, что они могли располагать большим количеством времени и рабочей силы.
Но зачем они делали эти статуи? И почему было необходимо отправляться в другую каменоломню, за семь километров от мастерской в кратере, и добывать там красный камень особого сорта, чтобы класть его на головы фигур? И в Южной Америке и на Маркизских островах часто вся статуя была сделана из этого красного камня, за которым приходилось ходить очень далеко. Красные головные уборы у людей высшего сословия были характерным признаком и в Полинезии и в Перу.
Постараемся сначала уяснить себе, кого изображали статуи. Когда первые европейцы посетили остров Пасхи, они увидели на берегу таинственных «белых людей» и, что было совершенно необычно для этих племен, среди них встречались мужчины с длинными рыжими бородами — потомки женщин и детей, принадлежавших к первоначальному населению острова и пощаженных захватчиками. Сами островитяне заявляли, что некоторые из их предков были белыми, между тем как другие имели коричневую кожу. Они точно высчитывали, что со времени прибытия последних с каких-то других полинезийских островов прошло двадцать два поколения, тогда как первые явились на больших судах с востока за целых пятьдесят семь поколений (то есть приблизительно между 400 и 500 годом нашей эры). Людей, которые пришли с востока, называли «длинноухими», так как они искусственно удлиняли свои уши, подвешивая к мочкам какие-нибудь тяжести; поэтому уши свисали у них до плеч. Эти таинственные «длинноухие» были перебиты, когда на остров явились «короткоухие»; но у всех каменных статуй на острове Пасхи были длинные, свисавшие до плеч уши, как у самих скульпторов.
А легенды инков в Перу рассказывают, что солнце-король Кон-Тики был повелителем белых людей с бородами, которых инки называли «большеухими», потому что они искусственно удлиняли свои уши, вытягивавшиеся у них до плеч. Инки подчеркивали, что заброшенные гигантские статуи в Андах были воздвигнуты именно «большеухими» людьми Кон-Тики, прежде чем те были частью истреблены, а частью обращены в бегство самими инками в битве на острове озера Титикака.
Подведем итоги: белые «большеухие» люди Кон-Тики, исчезнувшие из Перу и отправившиеся куда-то на запад, имели большой опыт по созданию колоссальных каменных статуй, а белые «длинноухие» люди Тики пришли на остров Пасхи с востока и были сведущи в том же самом искусстве, в котором они сразу по прибытии проявили себя законченными мастерами, так как на острове Пасхи нельзя обнаружить ни малейшего следа постепенного развития этого мастерства.
Сравнивая большие каменные статуи на некоторых островах Южного моря с такими же статуями в Перу, мы часто находим между ними больше сходства, чем между монолитами с разных островов Южного моря. На Маркизских островах и на Таити такие статуи известны под общим названием «тики», и там они изображают предков, прославившихся в истории островов и после смерти приравненных к богам. В этом, несомненно, заключается и объяснение странных красных шапок на головах статуй с острова Пасхи. Как уже упоминалось, на всех полинезийских островах можно было встретить отдельных людей и целые семьи, у которых были красноватого цвета волосы и светлая кожа; сами островитяне утверждали, что именно эти люди являются потомками первых белых людей, населявших острова. На некоторых островах участники религиозных празднеств красили себе кожу в белый цвет и волосы в красный, чтобы походить на своих древнейших предков. Во время ежегодной церемонии на острове Пасхи главный участник празднества отрезал себе волосы, чтобы можно было окрасить голову в красный цвет. А колоссальные шапки из красного камня на гигантских статуях острова Пасхи были высечены в форме, характерной для местного стиля прически; на них сверху был круглый узел, соответствовавший традиционному маленькому узлу, в который мужчины связывали свои волосы на макушке.
У статуй на острове Пасхи были длинные уши, потому что у самих скульпторов были длинные уши. Для париков специально подбирался красный камень, потому что у самих скульпторов были красноватые волосы. Подбородки были остроконечные и выдавались вперед, потому что сами скульпторы отращивали бороды. Лица статуй имели характерные черты белой расы — прямой узкий нос и тонкие, резко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали к малайской группе народов. И если у статуй были огромные головы и непропорционально маленькие ноги, а кисти рук были сложены на животе, то это происходило потому, что именно в таком виде зодчие привыкли делать гигантские статуи в Перу. Единственное украшение на статуях острова Пасхи состояло в поясе, который всегда обхватывал их живот. Такой же символический пояс мы находим на каждой статуе в развалинах древнего города Кон-Тики у озера Титикака. Это легендарная эмблема солнце-короля — пояс-радуга. На острове Мангарева существовал миф, согласно которому солнце-бог снял с себя радугу, которая являлась его волшебным поясом, и спустился по ней с неба на остров Мангарева, чтобы заселить его своими белокожими детьми. Когда-то на всех этих островах, как и в Перу, солнце считалось древнейшим родоначальником.
Мы часто сидели на палубе под звездным небом и без конца говорили о загадочной истории острова Пасхи, хотя наш плот уносило прямо в сердце Полинезии и у нас не было никаких шансов увидеть этот уединенный остров на самом деле, а не на карте. Но на острове Пасхи так много следов, ведущих на восток, что само его древнее название может служить ключом к разгадке.
Название «остров Пасхи» появилось на карте потому, что какой-то голландец «открыл» остров в пасхальное воскресенье. И мы забыли, что сами местные жители, уже населявшие остров, имели для своей родины более поучительные и многозначительные названия. У полинезийцев этот остров известен не меньше чем под тремя названиями.
Одним из них является Те-Пите-те-Хенуа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, по мнению самих полинезийцев являющееся самым древним, совершенно явно ставит остров Пасхи в особое положение по отношению к другим островам, лежащим дальше на запад. В восточной части острова, вблизи от легендарного места высадки первых «длинноухих», стоит тщательно обработанный каменный шар, который называют «золотой пуп» и считают также «пупом» самого острова Пасхи. То, что поэтические предки полинезийцев изваяли эмблему острова в виде пупа на восточном берегу и провозглашали ближайший к Перу остров «пупом» бесчисленных островов, расположенных дальше на запад, имело символическое значение. Если принять во внимание, что полинезийские предания говорят об открытии островов, как об их «рождении», то это является несомненным указанием, что именно остров Пасхи считался соединительным звеном между всеми островами и их первоначальной родиной.
Второе название острова Пасхи, Рапа-нуи, означает «Большая Рапа»; имеется также Рапа-ити, или «Маленькая Рапа», — другой остров такой же величины, находящийся далеко на запад от острова Пасхи. У всех народов существует вполне естественное обыкновение называть свою первоначальную родину, например, Большая Рапа, а вторую родину — Новая Рапа или Маленькая Рапа, если даже обе местности одинаковой величины. Жители Маленькой Рапы сохранили до наших дней предания, в которых говорится, что первые обитатели их острова пришли с Большой Рапы — острова Пасхи, лежащего на востоке и ближайшего к Америке. Это является прямым указанием на то, что первоначальная иммиграция шла с востока.
Третье и последнее название этого ключевого острова, Мата-Ките-Рани, означает «Глаз (который) смотрит (в) небо». На первый взгляд это может показаться странным; с не меньшим основанием, чем о сравнительно низком острове Пасхи, можно и о других возвышенных, гористых островах — как Таити, Маркизские или Гавайские острова — сказать, что они смотрят в небо. Но слово «рани» (небо) у полинезийцев имеет двойное значение. Оно означает также первоначальную родину их предков, священную землю солнце-короля, покинутое горное царство Тики. И это чрезвычайно многозначительно, что из тысячи островов, разбросанных по океану, именно самый ближайший к Америке остров Пасхи были назван глазом, который смотрит в сторону родины. Еще более поразительно то, что название Мата-Рани, означающее на языке полинезийцев «глаз неба», является родственным древнему названию местности в Перу, расположенной на тихоокеанском побережье напротив острова Пасхи, у подножья Анд, как раз там, где выше в горах находилась древняя разрушенная столица Кон-Тики.
Один только остров Пасхи давал нам достаточно тем для разговоров, когда мы сидели на палубе под звездным небом и чувствовали себя участниками всех этих доисторических событий. У нас было почти такое ощущение, словно со времен Тики мы только и делали, что плыли по волнам под солнцем и звездами в поисках земли.
Мы больше не испытывали прежнего почтения к волнам и океану. Мы знали их, знали, чего можем ждать от них, находясь на плоту. Даже акула стала для нас повседневностью; мы узнали ее нрав и обычное поведение. Мы уже больше не вспоминали о ручном гарпуне и даже не уходили с края плота, когда акула появлялась рядом. Напротив, когда она невозмутимо скользила вдоль бревен, мы даже пытались схватить ее за спинной плавник. В конце концов это превратилось в совершенно новый вид спорта — игра с акулой в «кто кого перетянет» без веревки.
Мы начали довольно скромно. Нам ничего не стоило наловить золотых макрелей в гораздо большем количестве, чем мы могли съесть. Чтобы не отказываться от любимых развлечений и в то же время не тратить зря запасов провизии, мы придумали комическую ловлю рыбы без крючка, доставлявшую одинаковое удовольствие и золотым макрелям и нам. Мы привязывали ненужных нам летающих рыб к веревке и забрасывали ее так, что они плавали по поверхности воды. Золотые макрели мчались к летающим рыбам и хватали их, а затем мы принимались тянуть каждый в свою сторону; получалось неплохое цирковое представление, так как, если одна золотая макрель выпускала веревку, на смену ей являлась другая. Мы развлекались, а золотые макрели в конце концов получали рыбу.
Затем мы начали ту же игру с акулами. К концу веревки мы привязывали кусок рыбы или чаще мешок с обеденными объедками и спускали приманку за борт. Вместо того чтобы повернуться на спину, акула высовывала голову над водой и подплывала, широко раскрыв пасть, чтобы проглотить угощение. Мы не могли удержаться от соблазна отдернуть веревку, как только акула намеревалась сомкнуть свои челюсти; обманутая акула с глупейшим терпеливым видом подплывала ближе и опять открывала пасть, чтобы схватить приманку, которая выпрыгивала у нее изо рта каждый раз, как она пыталась проглотить ее. Кончалось дело тем, что акула подплывала к самым бревнам и принималась подпрыгивать, как пес, выпрашивающий подачку, которая соблазнительно покачивалась в мешке над его носом. Это напоминало кормление разевавшего пасть бегемота в зоологическом саду, и как-то в конце июля, после трехмесячного плавания, в моем дневнике появилась следующая запись:
«Мы подружились с акулой, сопровождавшей нас сегодня. За обедом мы кормили ее остатками, которые кидали ей в открытую пасть. Когда она плыла рядом с нами, можно было подумать, что это свирепый, но сейчас добродушно и дружески настроенный пес. Приходится признать, что акулы имеют довольно забавный вид, пока вы сами не попадаете к ним в пасть. Во всяком случае, нам доставляло удовольствие, когда они плавали около нас, если только мы в это время не купались».
Однажды бамбуковая палка с мешком, в котором находилась еда для акулы, привязанная кверевке, лежала наготове на краю плота, как вдруг набежала волна и смыла ее за борт. Бамбуковая палка плыла уже в каких-нибудь 200 метрах за кормой плота; внезапно она встала в воде торчком и сама по себе помчалась вслед за плотом, как бы любезно собираясь сама вернуться на свое место. Когда удилище, покачиваясь, приблизилось к нам, мы заметили плывшую под ним трехметровую акулу; бамбуковая палка торчала из воды, подобно перископу. Акула проглотила мешок с едой, но не перегрызла веревки. Вскоре удилище догнало нас, спокойно проплыло мимо и скрылось впереди.
Хотя мы постепенно стали смотреть на акулу совершенно иными глазами, все же наше уважение к пяти или шести рядам острых, как бритва, зубов, спрятанных в огромной ее пасти, никогда не исчезало.
Как-то Кнуту пришлось поневоле выкупаться в обществе акулы. Никому из нас ни в коем случае не разрешалось отплывать от плота — как из-за того, что плот могло унести, так и из-за акул. Но однажды было исключительно тихо, и мы вытащили уже на борт несколько акул, следовавших за нами; поэтому я разрешил быстро выкупаться в океане. Кнут нырнул и, проплыв под водой довольно большое расстояние, появился на поверхности и собирался вернуться назад. В это мгновение мы заметили с мачты, что под ним движется в воде тень, которая была больше его самого. Мы предостерегающе закричали, по возможности спокойно, чтобы не испугать, и Кнут изо всех сил заторопился к плоту. Но тень под ним принадлежала еще лучшему пловцу, который рванулся из глубины и стал нагонять Кнута. Они достигли плота одновременно. Пока Кнут взбирался на палубу, двухметровая акула проскользнула как раз под его животом и остановилась у плота. В благодарность за то, что она не откусила Кнуту ногу, мы дали ей вкусную голову золотой макрели.
Обычно жадность в акуле пробуждается не при виде добычи, а от ее запаха. Опыта ради мы садились на край плота и опускали ноги в воду, и акулы подплывали к нам на расстояние метра или полуметра, а затем спокойно поворачивались к нам хвостом. Но если вода хоть чуть-чуть окрашивалась кровью, как это бывало, когда мы потрошили рыбу, тогда акульи плавники оживали, и акулы налетали на нас, подобно мясным мухам, со всех сторон. Когда мы выбрасывали акульи потроха, хищники форменным образом сходили с ума и в слепом неистовстве метались вокруг нас. Они с жадностью пожирали требуху своего родича, а если мы опускали в воду ногу, они бросались со скоростью ракеты и даже хватали зубами бревна в том месте, где только что была нога. Бывают акулы и акулы, так как они целиком находятся во власти своего настроения.
В наших отношениях с акулами мы в конце концов дошли до такой фамильярности, что стали таскать их за хвост. Таскать животных за хвост считается не слишком интересным видом спорта, но это объясняется, пожалуй, тем, что никто не проделывал таких фокусов с акулами. На самом деле, это увлекательный спорт.
Для того чтобы хватить акулу за хвост, мы должны были сначала предложить ей какой-нибудь действительно лакомый кусок. Чтобы заполучить его, она готова высунуть голову из воды. Обычно пища ей предлагалась в танцующем мешке. Кормить акулу прямо из рук вовсе не забавно. Если из рук кормят собак или ручных медведей, они впиваются зубами в мясо и начинают рвать и терзать его, пока не откусят кусочка или не захватят весь кусок. Но если вы держите на безопасном расстоянии от головы акулы большую золотую макрель, то акула подпрыгивает, щелкает челюстями, и, хотя вы не чувствуете никакого рывка, половина макрели внезапно исчезает, и вы остаетесь сидеть с хвостом в руках. Нам стоило большого труда ножом разрезать золотую макрель на две части, а акула за какую-нибудь долю секунды еле заметным быстрым движением вбок своих челюстей с треугольными пилообразными зубами перерезала, как машинкой для резания колбасы, спинной хребет. Когда акула спокойно поворачивалась, чтобы скрыться в глубине, ее хвост колыхался над поверхностью воды, и тогда его легко было схватить. Кожа акулы на ощупь напоминает наждачную бумагу, а с нижней стороны кончика ее хвоста имеется углубление — по-видимому, для того, чтобы можно было как следует ухватиться. Если нам удавалось вцепиться в хвост в этом месте, то хватка оказывалась достаточно прочной. Затем, прежде чем акула приходила в себя, нужно было сильно рвануть и вытащить хвост акулы как можно дальше, прижав его к бревнам. Секунду или две акула ничего не соображала, а затем начинала извиваться передней частью туловища и рваться, но довольно вяло, так как без помощи хвоста она не может развить никакой скорости. Остальные плавники служат только для сохранения равновесия и в качестве руля. После нескольких безнадежных рывков, во время которых наша задача сводилась к тому, чтобы не выпустить хвоста, ошеломленная акула падала духом и становилась совершенно пассивной; так как свободно перемещающийся желудок начинал опускаться в сторону головы, то в конце концов акула впадала в состояние полного паралича. Как только акула затихала и неподвижно повисала, ожидая дальнейших событий, наступал момент, когда нужно было тащить ее изо всех сил. Нам редко удавалось вытянуть из воды тяжелую рыбу больше чем наполовину, но тут акула приходила в себя и остальное доделывала сама. Мощными рывками она поворачивала голову в нашу сторону и высовывала ее на бревна; тогда мы подтягивали ее со всей силой, на какую были способны, и оттаскивали в сторону при этом как можно быстрее, чтобы спасти свои ноги. Ибо теперь настроение у акулы было отнюдь не добродушным. Она билась и подпрыгивала на палубе и молотила хвостом по бамбуковой стене, работая им, как кувалдой. Теперь она больше не щадила своих стальных мышц. Огромная пасть была широко раскрыта, а ряды зубов щелкали и кусали вокруг все, до чего они могли добраться. Иногда военный танец заканчивался тем, что акула более или менее случайно шлепалась за борт и, претерпев столь постыдное унижение, навсегда исчезала; но чаще всего она слепо билась на бревнах кормы, и мы успевали набросить затягивающуюся петлю на ее хвост, или же она сама навеки переставала скалить свои дьявольские зубы.
Когда акула попадала к нам на палубу, наш попугай приходил в большое волнение. Он торопливо выскакивал из бамбуковой каюты и с бешеной скоростью взбирался по стене, пока не оказывался на безопасном наблюдательном пункте — на крыше из пальмовых листьев; там он сидел, покачивая головой, или же бегал взад и вперед вдоль конька крыши, крича от возбуждения. Он уже давно стал прекрасным моряком и всегда был полон юмора и веселья. Мы считали, что нас на плоту семеро — шестеро людей и зеленый попугай. Холоднокровному крабу Юханнесу приходилось все-таки довольствоваться тем, что его признавали не вполне полноправным компаньоном. По ночам попугай забирался в клетку, которая находилась под крышей каюты, но днем он важно разгуливал по палубе или висел на вантах и штагах, проделывая самые изумительные акробатические упражнения. Вначале на штагах и вантах у нас были тендеры[144], но от них перетирались веревки, и мы заменили их обыкновенными морскими узлами. Когда штаги и ванты от действия солнца и ветра вытянулись и стали провисать, нам всем пришлось взяться за укрепление тяжелых, как железо, мачт из мангрового дерева, которые все больше и больше наклонялись и грозили запутаться в снастях и в конце концов упасть. В самый критический момент, когда мы изо всех сил тянули, попугай принялся кричать своим резким голосом:
— Тяни! Тяни! Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха! — Он заставил и нас расхохотаться, а сам смеялся до тех пор, пока не стал от радости трястись и вертеться на штагах.
Первое время наши радисты относились к попугаю недружелюбно. Случалось, что они сидели в радиорубке, забыв про все на свете, с магическими наушниками, установив связь с каким-нибудь радиолюбителем, скажем, из Оклахомы. Вдруг их наушники умолкали, и они не могли поймать больше ни звука, сколько ни старались проверять провода и вертеть кнопки. Попугай в это время занимался тем, что клевал проволоку антенны. Особенно часто это происходило в первые дни, когда антенна поднималась прямо вверх, привязанная к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Он уныло сидел у себя в клетке и два дня не притрагивался к пище, а в его помете блестели золотистые крупинки антенны. Тут наши радисты раскаялись в своих злобных пожеланиях, а попугай в своих прегрешениях; с этого дня Торстейн и Кнут стали лучшими друзьями попугая, и он всегда спал только в радиорубке. Когда попугай появился на борту, его родным языком был испанский; Бенгт утверждал, что попугай стал говорить по-испански с норвежским акцентом еще задолго до того, как научился повторять излюбленные восклицания Торстейна на сочном норвежском языке.
В течение двух месяцев веселье попугая и его яркое оперенье доставляли нам много радости, но однажды попугай спускался по штагу с верхушки мачты, и как раз в это мгновение большая волна захлестнула сзади плот. Когда мы обнаружили, что попугая нет на борту, было уже слишком поздно. Мы не видели его нигде, а «Кон-Тики» нельзя было ни повернуть, ни остановить; если какой-нибудь предмет падал за борт плота, мы не имели возможности вернуться за ним — в этом мы убедились на ряде случаев.
В первый вечер после гибели попугая у нас было подавленное настроение: мы знали, что то же самое может случиться с любым из нас, если он свалится за борт во время одинокой ночной вахты.
Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, сменили спасательную веревку, которой пользовались на ночных вахтах, и внушали друг другу, что мы не можем считать себя в безопасности только потому, что все шло хорошо в течение первых двух месяцев. Один неосторожный шаг, одно неосторожное движение — и даже среди бела дня мы можем отправиться туда, куда отправился зеленый попугай.
Несколько раз мы видели большую белую оболочку яиц кальмара, которая покачивалась на синей зыби, напоминая яйца страуса или белые черепа. Один только раз мы заметили под оболочкой извивавшегося моллюска. Мы видели белоснежные шары, плававшие вблизи от нас и сначала нам казалось, что ничего не стоит подплыть к ним в лодке и поймать их. Когда оборвалась веревка планктонной сетки и шелковая сетка осталась позади и плыла следом за плотом, мы были так же оптимистичны и спустили на воду лодочку, привязав к ней веревку, чтобы легче было вернуться. Но, к нашему удивлению, мы убедились, что ветер и волна не дают лодке подойти и что веревка, привязанная к «Кон-Тики», сильно тормозит в воде; нам ни разу не удалось подгрести к тому месту, где только что находился плот. Иногда до того предмета, который мы хотели подобрать, оставалось всего несколько метров, но тут веревка натягивалась, и «Кон-Тики» тянул нас прочь, на запад. «Что за борт упало, то пропало», — таков был вывод, к которому мы постепенно пришли и которого потом никогда не забывали до конца нашего плавания. Если мы хотели остаться в живых, надо было крепко держаться за «Кон-Тики», пока тот не уткнется носом в сушу по ту сторону океана.
После пропажи попугая радиорубка опустела; но когда на следующее утро тропическое солнце засияло над Тихим океаном, наш траур быстро окончился. В ближайшие несколько дней мы вытащили немало акул и, неизменно находя в желудке акулы среди голов тунцов и других диковинок черный изогнутый клюв, принимали его за клюв попугая. Но три ближайшем рассмотрении он каждый раз оказывался клювом переваренного кальмара.
С самого начала плавания обоим радистам хватало работы в их рубке. Как только мы очутились в течении Гумбольдта, из ящиков с батареями стала капать морская вода, и пришлось покрыть боящуюся сырости радиорубку брезентом, чтобы спасти от порчи все, что только возможно было спасти в условиях открытого моря. Потом радистам пришлось поломать голову над тем, как пристроить на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Они попытались пустить антенну вверх, привязав ее к воздушному змею, но от порыва ветра змей попросту окунулся в гребень волны и исчез. Тогда они стали пускать антенну вверх с помощью воздушного шара, но тропическое солнце выжигало дырки в шаре, так что он сморщивался и падал в океан. А затем у них возникли неприятности из-за попугая. К этому можно добавить, что лишь после двухнедельного плавания в течении Гумбольдта мы вышли из мертвой зоны Анд, в пределах которой короткие волны так же немы и безжизненны как воздух в пустом ящике из-под мыла.
Но вот однажды короткие волны неожиданно пробились, и позывные сигналы Торстейна услышал какой-то случайный радиолюбитель в Лос-Анжелосе, который возился со своим радиопередатчиком, стараясь установить связь с другим любителем в Швеции. Американец спросил, какой системы наш передатчик, и, получив исчерпывающий ответ, осведомился у Торстейна, кто он такой и где живет. Когда он услышал, что Торстейн проживает в бамбуковой каюте на плоту в Тихом океане, раздалось несколько странных пощелкиваний, и Торстейн поторопился сообщить некоторые подробности. Как только человек в эфире пришел в себя, он передал нам, что его зовут Гал, а его жену — Анна, что она по происхождению шведка и известит наши семьи о том, что мы живы и здоровы.
В этот вечер нам казалось очень странным, что совершенно чужой человек, по имени Гал, какой-то неизвестный кинооператор, один из многочисленных жителей далекого Лос-Анжелоса, был единственным в мире человеком, не считая нас самих, который знал, где мы находимся и что у нас все благополучно. Начиная с этого вечера, Гал, он же Гарольд Кемпел, и его друг Френк Кюевэс по очереди дежурили каждую ночь и ловили сигналы нашего плота, а Герман получал благодарственные телеграммы от начальника бюро погоды США за то, что дважды в сутки передавал по шифру метеорологические сведения из района, о котором сведения поступали очень редко, а сводки вовсе отсутствовали. Впоследствии Кнут и Торстейн почти каждую ночь устанавливали связь и с другими радиолюбителями, а те передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика по имени Эгиль Берг, который жил в Нутоддене[145].
Лишь на несколько дней, когда мы находились посреди океана, наша радиостанция совершенно прекратила работу, так как в радиорубку набралось слишком много соленой воды. Наши радисты лезли вон из кожи, целыми днями и ночами возясь с винтами и паяльником, а далекие радиолюбители думали, что с плотом все кончено. Затем как-то вечером позывные LI2B понеслись в эфире, и в одно мгновение радиорубка зажужжала, подобно осиному гнезду, так как несколько сот американских коротковолновиков одновременно застучали ключами, отвечая на наш призыв. В самом деле, когда мы попадали во владения наших радистов, у нас бывало такое ощущение, словно мы сидим на осином гнезде. Все было мокрым от воды, проникавшей со всех сторон; на бальсовом бревне лежал небольшой резиновый коврик, на котором сидели радисты, но если кто-нибудь из нас дотрагивался до ключа Морзе, он немедленно чувствовал удар тока одновременно в задней части и в кончиках пальцев. А если кто-нибудь из нас, посторонних, пытался украсть карандаш из богатой всякими принадлежностями радиорубки, у него волосы на голове вставали дыбом или же с огрызка карандаша начинали сыпаться крупные искры. Только Торстейн, Кнут и попугай могли без риска лавировать в этом уголке каюты, и мы прибили кусок картона, чтобы отметить границу опасной для остальных зоны.
Однажды поздно вечером Кнут сидел в радиорубке и с чем-то возился при свете фонаря; вдруг он потянул меня за ногу и сказал, что разговаривает с парнем по имени Христиан Амундсен, который живет под самым Осло. Это был один из радиолюбительских рекордов, так как наш маленький коротковолновый передатчик с его 13 990 килоциклами в секунду мог дать не больше шести ватт, то есть приблизительно столько же, сколько дает маленький электрический фонарь. Это произошло 2 августа, и мы проплыли уже 60° в западном направлении, так что Осло находилось как раз на противоположной стороне земного шара. Королю Хокону на следующий день исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравительную телеграмму прямо с плота; а еще через день мы снова услышали Христиана, передававшего нам ответ короля, который пожелал нам дальнейшей удачи и успешного окончания путешествия.
Другой эпизод остался у нас в памяти в качестве контраста всей нашей жизни на плоту. У нас было два фотоаппарата, а Эрик захватил с собой запас химикалий для проявления снимков в пути, так что мы могли заново снять то, что получилось неудачно. После посещения китовой акулы Эрик не мог больше удержаться и как-то вечером развел химикалии в строгом соответствии с наставлениями и проявил две пленки. Негативы — все в крапинках и морщинах — напоминали изображения, полученные по бильдтелеграфу. Пленка была погублена. Мы запросили по радио совета, и наша радиограмма была принята одним коротковолновиком в Голливуде; он позвонил по телефону в фотолабораторию и вскоре вклинился в разговор и сообщил, что у нас слишком теплый проявитель и что нельзя пользоваться водой с температурой выше 16°Ц, иначе на негативах будут морщины.
Мы поблагодарили за совет и удостоверились, что самая низкая температура вокруг нас — это температура самого океанского течения, равнявшаяся примерно 27°. Но ведь Герман был инженер-холодильщик, и я в шутку предложил ему довести температуру воды до 16°. Он попросил разрешения пустить в ход маленькую бутылку угольной кислоты, оставшейся неизрасходованной после надувания резиновой лодки; затем он проделал какие-то фокусы в металлической кастрюле, покрытой спальным мешком и шерстяной фуфайкой. И вдруг щетинистая борода Германа покрылась изморозью, и он появился в каюте с кастрюлей, в которой лежал большой кусок белого льда.
Эрик снова принялся за проявление, и результаты оказались отличные.
Но хотя слова-призраки, разносимые по эфиру короткими волнами, были неизвестной роскошью в далекие дни Кон-Тики, все же океанские волны под нами оставались такими же, как и встарь, и они несли наш бальсовый плот упорно на запад, как это делали тогда, полторы тысячи лет назад.
После того как мы прошли половину нашего пути к островам Южного моря, погода стала несколько более неустойчивой, и время от времени налетали дождевые шквалы, а пассат изменил свое направление. Он неуклонно дул с юго-востока, пока мы не прошли значительной части экваториального течения; затем он стал все больше и больше отклоняться к востоку. 10 июня мы достигли самой северной точки под 6°19′ южной широты. Мы находились тогда так близко к экватору, что, казалось, нас пронесет мимо даже самых северных из Маркизских островов и мы окончательно затеряемся в океане, не обнаружив земли. Но затем пассат еще отклонился, стал дуть не с востока, а с северо-востока и понес нас по кривой к югу, к широтам мира островов.
Часто случалось, что направление ветра и волн оставалось неизменным в течение нескольких дней подряд; тогда мы совершенно забывали, чья была вахта, и вспоминали об этом только по ночам, когда вахтенный оставался один на палубе. Ибо при постоянном ветре рулевое весло крепко привязывалось, и «Кон-Тики» двигался под наполненным парусом без всякого нашего участия. В такие ночи вахтенный мог спокойно сидеть в дверях каюты и следить за звездами. Если созвездия меняли свое положение на небе, значит ему надо выйти и выяснить, сдвинулось ли весло, или отклонился ветер.
Нас самих изумляло, до чего легко было управлять плотом по звездам, после того как мы несколько недель подряд наблюдали их движение по небесному своду. По правде говоря, ночью больше и не на что было смотреть. Мы знали, где из ночи в ночь должны находиться различные созвездия; а когда мы приблизились к экватору, на северном горизонте так ясно виднелась Большая Медведица, что мы испугались, как бы не появилась и Полярная звезда, которую мы могли увидеть лишь в том случае, если бы пересекли экватор. Но как только установился северо-восточный пассат, Большая Медведица снова исчезла.
Древние полинезийцы были великими мореплавателями. Они ориентировались днем по солнцу, а ночью по звездам. Они обладали удивительными познаниями о небесных светилах. Они знали, что земля круглая, и в их языке имелись слова, обозначавшие такие сложные понятия, как экватор, северные и южные тропики. На Гавайских островах они выцарапывали карту океана на оболочке круглых бутылочных тыкв, а на некоторых других островах делали подробные карты из переплетенных сучьев, к которым для обозначения островов прикреплялись раковины, а ветки обозначали особо важные течения. Полинезийцы знали пять планет, которые они называли странствующими звездами и отличали от неподвижных звезд, имевших в их языке около 300 различных названий. В древней Полинезии хороший мореплаватель твердо знал, в какой части неба восходит та или иная звезда и где она должна находиться в различное время ночи и в различное время года. Они знали, какие звезды достигают зенита над тем или иным островом, и в этих случаях острова назывались по имени тех звезд, которые из ночи в ночь и из года в год кульминировали над ними.
Полинезийцы не только знали, что звездное небо представляет собой огромный сверкающий компас, вращающийся с востока на запад, но также понимали, что различные звезды над их головой всегда указывают, как далеко на север или на юг забрались мореплаватели. Когда полинезийцы исследовали и подчинили себе свое островное царство, охватывавшее всю ближайшую к Америке часть океана, они установили сообщение между некоторыми островами, и этими путями пользовались многие последующие поколения. Исторические предания рассказывают о том, как плавали вожди с Таити на Гавайские острова, которые находятся на 2 тысячи морских миль к северу и на несколько градусов к западу. Сначала рулевой по солнцу и звездам правил на север, пока звезды над его головой не говорили ему, что его лодка находится на широте Гавайских островов. Тогда он поворачивал под прямым углом и правил на запад, пока не появлялись птицы и облака, указывавшие ему путь к уже близким островам.
Откуда полинезийцы позаимствовали свои обширные астрономические познания и свой календарь, вычисленный с изумительной точностью? Конечно, не от меланезийцев или малайцев, которые жили на западе. Но тот же самый древний исчезнувший цивилизованный народ — «белые и бородатые люди», — который передал свою удивительную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, создал изумительно похожий календарь и обладал такими же астрономическими познаниями, о которых в Европе в те времена не могли и мечтать.
В Полинезии, как и в Перу, началом календарного года считался день, когда созвездие Плеяд впервые появляется над горизонтом, и в обеих странах это созвездие считалось покровителем земледелия.
В Перу, там, где горная страна понижается в сторону Тихого океана, до наших дней сохранились в песчаной пустыне развалины чрезвычайно древней астрономической обсерватории — памятник того же самого таинственного цивилизованного народа, который высекал каменных колоссов, воздвигал пирамиды, возделывал сладкий картофель и бутылочную тыкву и начинал год с восхода Плеяд. Кон-Тики был знаком со звездами, когда направил свой парус в Тихий океан.
2 июля ночному вахтенному не пришлось уже мирно сидеть, изучая звездное небо. После нескольких дней легкого северо-восточного пассата подул сильный ветер, и море стало бурным. Поздно вечером сияла луна и дул свежий попутный ветер. Мы измерили скорость нашего движения, подсчитав, сколько секунд потребовалось нам, чтобы обогнать щепку, брошенную в воду рядом с носом плота, и обнаружили, что мы установили рекорд. В то время как средняя скорость равнялась 12–18 «щепкам», выражаясь на принятом у нас жаргоне, на этот раз мы имели всего «6 щепок», и бурлящая струя светящейся воды бежала вслед за кормой плота.
Четыре человека храпели в бамбуковой каюте, Торстейн сидел, постукивая ключом Морзе, а я находился на вахте у руля. Перед самой полночью я заметил совершенно необычную волну, которая, опрокидываясь, надвигалась на нас прямо с кормы, закрывая весь горизонт позади, а за ней я мог тут и там различить пенящиеся гребни еще двух таких же огромных волн, следовавших по пятам за первой. Если бы мы только что не миновали это место, я был бы убежден, что вижу высокие буруны, обрушивающиеся на предательскую отмель. Как только первая волна длинной стеной подошла к нам, вздымаясь в лунном свете, я издал предупреждающий крик, резко повернул плот в наиболее выгодное положение и стал ждать дальнейших событий.
Когда первая волна нагнала нас, плот задрал корму вверх и в сторону и поднялся на гребень, который как раз в это мгновение обрушился, и все зашипело и закипело вокруг нас. Мы плыли среди хаоса бурлящей пены, между тем как сама могучая волна перекатывалась под нами. Нос взлетел вверх последним, когда волна прошла, и мы стали скользить кормою вниз в огромную впадину между волнами. Сразу же налетела, вздыбившись, следующая стена воды, и нас снова быстро подбросило вверх, а прозрачные потоки воды обрушились сзади, когда мы взлетели на гребень. Теперь плот повернуло бортом к волнам, и было совершенно невозможно быстро выправить его. Следующая волна приблизилась и поднялась из клочьев пены, подобно сверкающей стене, верхний край которой обрушился, как только она догнала нас. Когда вал накрыл плот, мне ничего не оставалось делать, как крепко ухватиться за выступавший из-под крыши каюты бамбуковый шест; так я стоял, задержав дыхание, чувствуя, как плот подбросило высоко вверх и все вокруг меня понеслось, увлекаемое шипящими пенистыми водоворотами. Через мгновение мы и «Кон-Тики» снова были над водой и спокойно скользили вниз по пологой стороне волны. А затем волны снова стали нормальными. Три огромных вала мчались впереди нас, а за кормой в свете луны мы видели цепочку кокосовых орехов, покачивавшихся на воде.
Последняя волна сильно ударила по каюте, так что Торстейн в радиорубке полетел вверх тормашками, а остальные проснулись, испуганные шумом; из-под бревен и сквозь стену в каюту хлынула вода. С левой стороны в носовой части палубы бамбуковый настил был сорван, и в этом месте зияла дыра, напоминавшая небольшую воронку от снаряда; наша водолазная корзина расплющилась о выступ носа, но все остальное оказалось неповрежденным. Откуда явились эти три большие волны, мы так никогда и не смогли с уверенностью объяснить; возможно, они были вызваны какими-то тектоническими движениями дна океана, которые для этих районов являются довольно обычными[146].
Два дня спустя мы пережили первый шторм. Началось с того, что ветер совершенно стих и белые перистые облака, которые при пассате проплывали над вами в небесной синеве, были внезапно вытеснены черной грядой плотных туч, набежавших с юга из-за горизонта. Затем начались порывы ветра с самых неожиданных сторон, так что вахтенный Рулевой потерял всякую возможность управлять плотом. Как только нам удалось повернуть корму к новому направлению ветра и парус ровно и упруго надувался, сразу же порывы ветра налетали с другой стороны и парус терял свои гордые очертания, начинал полоскаться и хлопать по чему попало, подвергая опасности команду и груз. После этого ветер внезапно начал настойчиво дуть с той стороны, откуда надвигалась непогода. И когда черные тучи заклубились над нами, ветер усилился до свежего и постепенно перешел в настоящий ураган.
За невероятно короткий промежуток времени волны вокруг нас стали вздыматься на высоту пяти метров, а отдельные гребни с шипеньем неслись на высоте шести-восьми метров, так что они оказывались на уровне верхушки нашей мачты, когда мы опускались между двумя волнами. Все мы, согнувшись в три погибели, с трудом удерживались на палубе, а ветер сотрясал бамбуковую стену и свистел и завывал во всех снастях.
Чтобы предохранить радиорубку, мы покрывали брезентом заднюю стену и левую сторону каюты. Весь незакрепленный груз был крепко принайтован, а парус спущен и свернут вокруг бамбуковой реи. Когда небо заволокло тучами, океан стал темным и грозным и со всех сторон покрылся белыми гребнями. Длинные полосы безжизненной пены тянулись с наветренной стороны широких валов, и всюду, где волны обрушивались и разбивались, появлялись зеленые рубцы, которые еще долго пенились на иссиня-черном океане. Когда валы разбивались, их гребни уносило ветром, и над океаном соленым дождем висели брызги. Наконец начался тропический ливень, который хлестал по поверхности океана горизонтальными шквалами и скрыл все от нашего взора. Вода, стекавшая у нас с головы и бороды, имела солоноватый вкус. А мы, голые и замерзшие, скрючившись, продолжали, спотыкаясь, метаться по палубе и следить за тем, чтобы все снасти были в порядке и могли благополучно выдержать шторм. Когда мы заметили на горизонте первые признаки надвигавшегося шторма, а затем он стал приближаться к нам, на наших лицах можно было прочесть напряженное ожидание и беспокойство. Но когда он всерьез разразился над нами и «Кон-Тики» легко и бодро преодолевал все препятствия на своем пути, шторм превратился в волнующий вид спорта; мы все любовались бушевавшими вокруг нас стихиями, видя, что наш бальсовый плот, прекрасно справлявшийся с ними, все время держится, как пробка, на гребнях волн, а основная масса беснующейся воды все время проносится на десяток сантиметров ниже нас. В такую погоду океан во многом напоминает горы. У нас было такое ощущение, словно мы в бурю очутились под открытым небом на высочайшем горном плато, голом и сером. Хотя мы находились в сердце тропиков, всякий раз, как плот скользил вверх и вниз по клубящейся пустыне океана, нам казалось, что мы мчимся с горы среди сугробов снега и скал.
В такую погоду вахтенному рулевому следовало глядеть в оба. Когда самые крутые волны проходили под передней частью плота, бревна на корме совершенно выступали из воды, но в следующее мгновение снова опускались, чтобы затем вскарабкаться на новый гребень. Волны шли иногда так близко одна от другой, что задняя нагоняла нас, когда первая еще держала нос плота задранным кверху; тогда на рулевого с шумом низвергались целые потоки беспорядочно крутящейся воды, но через секунду корма поднималась, и вода исчезала, уходя между бревнами, как между зубьями вилки.
Мы подсчитали, что при обычном, спокойном море, когда самые высокие волны большей частью шли с промежутками в семь секунд, каждые сутки на нашу корму попадало около 200 тонн воды; но мы этого почти не замечали, так как вода спокойно растекалась вокруг босых ног рулевого и так же спокойно исчезала между бревнами. Но во время сильного шторма плот в течение суток принимал на свою корму больше 10 тысяч тонн воды, если считать, что каждые пять секунд на нее обрушивалось от нескольких десятков литров до двух или трех кубических метров воды, а подчас и значительно больше. Иногда волна налетала на плот с оглушительным, как удар грома, грохотом, и рулевой стоял по пояс в воде и испытывал такое ощущение, словно ему приходится идти вброд против течения по быстрой реке. Плот, казалось, на мгновение останавливался, содрогаясь, а затем огромная масса воды, придавившая его корму, уходила большими каскадами за борт.
Герман все время находился на палубе с анемометром в руке, измеряя силу ураганных шквалов, не прекращавшихся целые сутки. Затем ураган постепенно перешел в сильный ветер с редкими дождевыми шквалами, от которых океан вокруг нас продолжал бурлить. А мы при хорошем попутном ветре, переваливаясь с волны на волну, шли на запад. Для того чтобы точно измерить силу ветра, находясь внизу между вздымающимися волнами, Герман при малейшей возможности взбирался на верхушку качавшейся мачты, где ему приходилось держаться как можно крепче.
Лишь только погода несколько улучшилась, все крупные рыбы вокруг нас совершенно взбесились. Океан поблизости от плота кишел акулами, тунцами, золотыми макрелями и сравнительно немногочисленными перепуганными бонитами; все они скользили под самым плотом или в волнах рядом с ним. Среди них шла непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть. Спины крупных рыб, изгибаясь, высовывались из воды, внезапно хищники срывались с места и бросались в погоню, и вода вокруг плота не один раз густо окрашивалась кровью. Сражались главным образом тунцы и золотые макрели; последние плыли большими стаями, которые двигались гораздо быстрее, чем обычно, и держались все время настороже. Нападающей стороной были тунцы; нередко мы видели, как рыба в 70–80 килограммов весом подскакивала высоко в воздух, держа в пасти окровавленную голову макрели. В то время как отдельные золотые макрели стремглав убегали от преследовавших их по пятам тунцов, стая макрелей не отступала перед врагом, хотя некоторые из них извивались в воде с большими зияющими ранами на шее. Время от времени и акулы, казалось, приходили в слепой раж, и мы наблюдали, как они настигали и хватали больших тунцов, для которых акула является превосходящим по силе противником.
Не видно было ни одного мирного маленького лоцмана. Или их пожрали разъяренные тунцы, или они спрятались в щели под плотом, а может быть, убежали подальше от поля битвы. Мы не решались окунуть голову в воду, чтобы заглянуть под плот.
Когда я находился на корме, отдавая дань природе, я испытывал невероятное потрясение — впоследствии я не мог без смеха вспоминать об этом чувстве полной растерянности, охватившем меня. Мы привыкли к небольшим волнам в нашей уборной; но я был совершенно ошеломлен, когда неожиданно получил сильный удар сзади чем-то большим, холодным и очень тяжелым, вынырнувшим подо мной из воды и напоминавшим голову акулы. Я уже карабкался вверх по штагу с таким ощущением, что в мою заднюю часть вцепилась акула, прежде чем пришел в себя.
Герман, который повис на рулевом весле, скрючившись от хохота, рассказал мне, что большой тунец плашмя шлепнул меня по голому месту своими 70 килограммами холодной рыбьей туши. Позже, когда Герман, а затем Торстейн стояли на вахте, та же рыба пыталась вскочить на плот с набегавшими на корму волнами; дважды эта здоровенная рыба оказывалась на краю бревен, но каждый раз она снова срывалась за борт, прежде чем нам удалось схватить ее скользкое туловище.
Через некоторое время крупный ошалелый бонит попал с волной прямо на плот, и мы решили использовать его и пойманного накануне тунца для рыбной ловли, чтобы навести порядок в окружавшем нас кровавом хаосе.
Наш дневник гласит:
«Первой попалась на крючок и была вытащена на плот двухметровая акула. Как только крючок был освобожден, его проглотила двухсполовинойметровая акула, которую мы также вытащили на борт. Когда крючок был снова заброшен в воду, на него попалась еще одна двухметровая акула; мы подтянули ее на край плота, но тут она освободилась и нырнула. Крючок был сразу же снова заброшен, и его схватила двухсполовинойметровая акула, с которой у нас завязалась упорная борьба. Мы уже вытащили ее голову на бревна, как вдруг все четыре стальные жилы были перекушены и акула скрылась в глубине. Заброшен новый крючок, и мы вытянули еще одну акулу. Теперь стало опасно заниматься рыбной ловлей, стоя на скользких бревнах кормы, так как три акулы продолжали время от времени вскидывать голову и щелкать челюстями еще долго после того, как мы сочли их мертвыми. Мы оттащили акул за хвост и сложили в кучу на носовой части палубы, и вскоре после этого на крючок попал большой тунец, который задал нам больше жару, чем любая из акул, каких нам приходилось вытаскивать. Он был такой жирный и тяжелый, что никто из нас не мог поднять его за хвост.
Океан все еще кишел беснующимися рыбами. Еще одна акула схватила крючок, но вырвалась, когда мы ее уже чуть не втащили на плот. Затем мы благополучно вытащили двухметровую акулу, за ней — полутораметровую. Потом мы поймали еще одну двухметровую акулу и вытащили и ее. Когда крючок был снова заброшен, мы вытащили еще одну акулу покрупнее».
Куда бы мы ни ступали, всюду натыкались на больших акул, которые, судорожно подпрыгивая, били хвостами по палубе или ударялись о бамбуковую каюту. Когда мы начали рыбную ловлю после двух ночей шторма, мы уже были усталые и измученные и теперь буквально растерялись, не зная, какие из акул уже околели, какие еще могут, судорожно щелкая челюстями, схватить нас, если мы приблизимся, и какие только кажутся мертвыми, а на самом деле только подстерегают нас. Когда девять больших акул загромоздили всю палубу вокруг нас, мы были так утомлены от вытягивания тяжелых лес и борьбы с упиравшимися акулами, что после пяти часов изнурительного труда решили отказаться от дальнейшей ловли.
На следующий день золотых макрелей и тунцов было меньше, но акул столько же. Мы снова принялись ловить и вытаскивать их, но вскоре прекратили это занятие, так как заметили, что свежая акулья кровь, стекавшая с плота, лишь привлекает еще большее количество акул. Мы выбросили всех мертвых акул за борт и смыли кровь с палубы. Бамбуковые циновки оказались изорванными зубами и грубой кожей акул; самые окровавленные и самые порванные мы выбросили за борт и заменили их новыми золотисто-желтыми бамбуковыми циновками, несколько пачек которых было крепко привязано на передней части палубы.
Когда в этот вечер мы легли спать, стоило нам закрыть глаза, как перед нами вставали хищные раскрытые пасти акул и пятна крови. А запах акульего мяса преследовал нас. Мы могли есть акул; по вкусу они напоминали пикшу, если только мы вымачивали куски рыбы сутки в воде, чтобы удалить запах аммиака. Но бониты и тунцы были несравненно вкуснее.
Этим вечером я первый раз услышал, как один из моих спутников сказал, что хорошо было бы удобно вытянуться на зеленой траве под пальмами на каком-нибудь острове; он был бы рад увидеть что-нибудь другое вместо холодных рыб и бурного океана.
Снова наступила хорошая погода, но она была не так устойчива и надежна, как прежде. Время от времени совершенно неожиданные резкие порывы ветра приносили с собой сильные ливни, которым мы были очень рады, так как значительная часть нашего запаса воды стала портиться и по вкусу напоминала затхлую болотную воду. Когда ливень достигал наибольшей силы, мы собирали воду, стекавшую с крыши каюты, и стояли голые на палубе, наслаждаясь тем, что свежая вода смывала с нас соль.
Лоцманы снова скользили у плота на своих обычных местах; но были ли это те же самые старые приятели, которые вернулись к нам по окончании кровавой бани, или же это были новые спутники, приобретенные в горячке битвы, мы не могли сказать.
21 июля ветер неожиданно снова упал. Атмосфера была гнетущая, и стало совершенно тихо; по прежнему опыту мы знали, что это могло означать. И в самом деле, после нескольких бешеных порывов с востока, с запада и с юга ветер посвежел и стал дуть с юга, где горизонт снова заволокло черными, грозными тучами. Герман все время находился на палубе с анемометром, показывавшим уже больше пятнадцати метров в секунду, как вдруг спальный мешок Торстейна устремился за борт. События, которые разыгрались в течение ближайших нескольких секунд, заняли гораздо меньше времени, чем нужно, для того чтобы рассказать о них.
Герман, пытаясь поймать мешок на лету, оступился и свалился в воду. Среди шума волн мы услышали слабый крик о помощи и увидели голову и загребавшую воду руку Германа и одновременно какой-то неясный зеленый силуэт, крутившийся вблизи. Герман изо всех сил старался подплыть обратно к плоту, отчаянно борясь с высокими волнами, которые поднимали его и относили в сторону от левого борта. Торстейн, находившийся на корме у рулевого весла, и я, стоя на носу, первыми увидели его и похолодели от ужаса. Мы заорали во всю глотку: «Человек за бортом!» — и кинулись к ближайшей спасательной веревке. Из-за шума океана остальные не слышали крика Германа. Но теперь в одно мгновение на палубе все ожило и засуетилось. Герман был прекрасным пловцом, и хотя мы сразу поняли, что его жизнь поставлена на карту, мы все же сильно, надеялись, что ему удастся доплыть до плота, прежде чем станет уже слишком поздно.
Торстейн, стоявший ближе всех к бамбуковому цилиндру, вокруг которого была намотана веревка, предназначенная для спасательной лодки, быстро схватил его. Это был единственный раз за все время путешествия, когда веревку заело и так некстати. Все произошло в течение нескольких секунд. Герман теперь находился на одной линии с кормой плота, но в нескольких метрах от нее и мог еще надеяться на спасение, если бы ему удалось подплыть к лопасти рулевого весла и повиснуть на ней. Так как он не успел ухватиться за выступ бревен, он протянул руку к лопасти весла, но она скользнула мимо. И вот он лежал именно там, откуда, как мы знали по опыту, ничто не возвращается. Пока Бенгт и я спускали на воду лодку, Кнут и Эрик пытались бросить Герману спасательный пояс. Привязанный к длинной веревке, пояс висел всегда наготове на углу крыши каюты; но в этот раз ветер был такой сильный, что всякий раз относил спасательный пояс обратно на плот. Все попытки добросить пояс кончались неудачей, а Герман уже находился далеко позади рулевого весла и отчаянно пытался не отставать от плота, но с каждым порывом ветра расстояние увеличивалось. Он понял, что отныне разрыв будет все увеличиваться, но у него еще оставалась слабая надежда на лодку, которая теперь была уже на воде. Без веревки, которая действовала как тормоз, вероятно, было бы возможно подогнать резиновую лодку навстречу плывущему человеку; другой вопрос — удастся ли резиновой лодке когда-нибудь вернуться к «Кон-Тики». Все-таки у трех человек в резиновой лодке были какие-то шансы на спасение, у одного человека в океане — никаких.
Вдруг мы увидели, что Кнут бросился с плота и нырнул головой вниз в океан. В одной руке он держал спасательный пояс и плыл, опираясь на него. Всякий раз, как голова Германа появлялась на гребне волны, Кнут исчезал, а всякий раз, как появлялся Кнут, Германа не было. Но вот мы увидели головы обоих одновременно: они подплыли друг к другу и оба держались за спасательный пояс. Кнут махал рукой; так как тем временем мы успели втащить резиновую лодку на борт, то мы все вчетвером ухватились за веревку от спасательного пояса и стали тянуть изо всех сил, не спуская в то же время глаз с большого темного предмета, который виднелся в воде позади двух пловцов. Это таинственное животное время от времени высовывало над гребнем волны большой зеленовато-черный треугольник; он чуть не насмерть перепугал Кнута, когда тот плыл к Герману. В тот момент один лишь Герман знал, что треугольник принадлежал неакуле и не какому-нибудь другому морскому чудовищу. Это был раздувшийся угол непромокаемого спального мешка Торстейна. Но спальный мешок недолго держался на воде после того, как мы вытащили на плот обоих наших товарищей целыми и невредимыми. Тот, кто утащил спальный мешок в глубь океана, упустил более стоящую добычу.
— Как хорошо, что я не был в нем, — сказал Торстейн и снова взялся за рулевое весло.
Впрочем, в этот вечер нам было не до веселых острот. Нас всех еще долго пробирала нервная дрожь. Но холодная дрожь смешивалась с горячим чувством радости оттого, что нас по-прежнему было шестеро на плоту.
В этот день мы наговорили Кнуту кучу приятных слов — и сам Герман и все остальные.
Однако у нас было мало времени раздумывать о том, что уже случилось; по мере того как небо над нами темнело, порывы ветра все усиливались, и до наступления ночи на нас обрушился новый шторм. Теперь привязанный к длинной веревке спасательный пояс находился на воде за кормой; если во время шквала кто-нибудь из нас опять упадет за борт, то, может быть, ему удастся ухватиться за пояс, который плыл позади рулевого весла. Когда наступила ночь, вокруг нас стояла кромешная тьма, скрывшая от нашего взора и плот и океан; бешено прыгая в темноте с волны на волну, мы слышали только, как завывал ветер в мачтах и снастях, и чувствовали, как шквалы налетали на гибкие стены бамбуковой каюты с такой силой, что, казалось, вот-вот они унесут ее за борт. Но каюта была прикрыта брезентами и хорошо укреплена оттяжками. Мы чувствовали, как «Кон-Тики» метался на пенящихся волнах и бревна, подобно клавишам рояля, двигались вверх и вниз в такт движению волн. Мы каждый раз удивлялись, что потоки воды не врываются сквозь широкие щели в полу каюты, а эти щели служили лишь мехами, через которые постоянно неслись вверх и вниз токи влажного воздуха.
Целых пять дней погода стояла неустойчивая: то дул настоящий ураган, то ветер падал до слабого. Океан был изборожден широкими долинами, окутанными дымкой от пенившихся серовато-синих волн, гребни которых казались вытянутыми в длину и сплющенными от напора ветра. Затем на пятый день на небе появились голубые просветы, и по мере того как ураган удалялся от нас, зловещие черные тучи уступали место всепобеждающему голубому небу.
Шторм наделал нам дел: рулевое весло было разбито, парус разодран, а выдвижные кили болтались и ударялись, подобно вагам, о бревна, так как все веревки, которыми они были закреплены под водой, совершенно перетерлись. Но сами мы и груз ничуть не пострадали.
После двух штормов «Кон-Тики» основательно расшатался. От напряжения при подъеме на крутые гребни волн все веревки вытянулись, а от постоянного движения бревен веревки врезались в них. Мы благодарили провидение за то, что последовали указаниям инков и отказались от стальных тросов, которые во время шторма попросту перепилили бы весь плот на мелкие куски. А если бы с самого начала у нас были совершенно сухие, обладающие высокой плавучестью бальсовые бревна, плот давно пропитался бы морской водой и погрузился бы в океан вместе с нами. Сок свежесрубленных деревьев служил пропитывающим составом и препятствовал проникновению воды в пористую бальсовую древесину. Но теперь веревки так ослабели, что опасно было ступить между двумя бревнами, так как при резком столкновении они могли раздробить ногу. На носу и на корме, где не было бамбуковой палубы, нам приходилось, сгибая колени, широко расставлять ноги, чтобы стоять сразу на двух бревнах. Корма, покрытая мокрыми водорослями, стала скользкой, как листья бананов; там, где мы обычно ходили, мы устроили среди зелени постоянную дорожку, а для вахтенного у руля положили широкую доску, и все же, когда волна подбрасывала плот, удержаться на ногах было нелегко. А по левой стороне одно из девяти огромных бревен день и ночь с глухим, хлюпающим стуком ударялось о ронжины. Новые зловещие скрипы стали издавать также веревки, которые связывали вершины двух наклонных мачт, так как гнезда для мачт были вырублены в двух разных бревнах и двигались независимо друг от друга.
Мы срастили рулевое весло, привязав к нему длинные куски тяжелого, как железо, мангрового дерева. Эрик и Бенгт починили парус, и Кон-Тики снова гордо поднял голову и выпятил грудь в сторону Полинезии, а рулевое весло танцевало за кормой в волнах, которые с наступлением хорошей погоды опять были кроткими и пологими. Но кили никогда больше не стали такими, какими были раньше; они не отзывались на давление воды со всей своей прежней силой, так как сместились и болтались под плотом ничем не закрепленные. Не имело смысла пытаться осмотреть веревки со стороны дна, так как они совершенно заросли водорослями. Обследовав всю бамбуковую палубу, мы обнаружили, что только три из основных веревок были порваны; они лежали скрюченные, прижатые к грузу, о который они перетерлись. Было совершенно очевидно, что бревна впитали в себя большое количество воды, но груз уменьшился, и это уравновешивало потерю плавучести. Большая часть провизии и питьевой воды, а также сухих батарей наших радистов была уже израсходована.
Тем не менее после последнего шторма мы были вполне убеждены, что плот не расползется и проплывет то короткое расстояние, которое отделяло нас от находившихся впереди островов. Теперь на первый план выступала другая проблема: каким образом наше путешествие закончится?
«Кон-Тики» будет непреклонно стремиться к западу, пока не упрется носом в береговые скалы или в какую-нибудь другую неподвижную преграду, которая остановит его движение. Путешествие окончится только тогда, когда вся команда, целая и невредимая, выйдет на берег одного из многочисленных полинезийских островов, лежавших впереди.
Когда миновал последний шторм, нам было совершенно неясно, куда может пристать плот. Мы находились на одинаковом расстоянии и от Маркизских островов и от архипелага Туамоту, причем не была исключена возможность того, что мы спокойнейшим образом можем пройти между этими двумя группами островов, не увидев ни той, ни другой. Ближайший остров из группы Маркизских находился в 300 милях к северо-западу, ближайший остров архипелага Туамоту — в 300 милях к юго-западу, а ветер и течение были неустойчивы, но в общем несли нас на запад, в широкие ворота океана между двумя группами островов.
Ближайший в северо-западном направлении остров был тот самый Фату-Хива, маленький, покрытый джунглями гористый островок, на котором я когда-то жил в хижине, построенной на берегу на сваях, и слушал образные рассказы старика о героическом предке — Тики. Если бы «Кон-Тики» пристал к этому же берегу, я встретил бы там много знакомых, но вряд ли самого старика. Он, наверно, давно уже скончался с твердой надеждой на встречу со своим предком Тики. Если плот направится к этой цепи гористых Маркизских островов, то высадка будет для нас нелегким делом. Острова этой группы лежат далеко друг от друга, и океан беспрепятственно обрушивается на отвесные утесы, так что нам надо будет смотреть в оба, держа путь к устьям немногочисленных долин, которые всегда заканчиваются узкой полосой пляжа.
Если же плот направится к коралловым рифам архипелага Туамоту, то там океан на большом протяжении густо усеян множеством островов. Но эта группа островов известна также под названием Низкого, или Опасного, архипелага, так как своим возникновением она обязана кораллам и состоит из предательских подводных рифов и покрытых пальмами атоллов, которые возвышаются всего на два-три метра над поверхностью воды. Опасные рифы окружают защитным кольцом каждый атолл, представляя серьезную помеху для мореплавания во всем этом районе. Но хотя атоллы Туамоту созданы кораллами, а Маркизские острова представляют собой остатки потухших вулканов, обе группы островов населены одним и тем же полинезийским народом, и королевские семьи повсюду считают Тики своим родоначальником.
Еще 3 июля, когда мы находились за тысячу миль от Полинезии, сама природа сообщила нам, — как она в свое время сообщила первобытным перуанским мореплавателям, добравшимся сюда на своих плотах, — что где-то впереди среди океана действительно находится земля. Пока мы не прошли добрую тысячу миль от берегов Перу, мы время от времени видели небольшие стаи фрегатов. Примерно на 100° западной долготы они исчезли, и нам стали попадаться только маленькие буревестники, которые живут в океане. Но 3 июля на 125° западной долготы фрегаты снова появились. Начиная с этого дня, мы часто видели небольшие стаи фрегатов; они летели высоко в небе или проносились над гребнями волн, хватая летающих рыб, которые выпрыгивали в воздух, спасаясь от золотых макрелей. Так как эти птицы прилетели не из Америки, лежавшей позади нас, то их родина должна была находиться в другой стороне — впереди.
16 июля природа дала нам еще более очевидное указание. В этот день мы вытащили трехметровую акулу, которая извергла из своего живота большую непереваренную морскую звезду, недавно проглоченную ею у берега где-то вблизи.
А на следующий день к нам прилетели первые гости непосредственно с островов Полинезии. Это было знаменательным событием на плоту, когда мы заметили на горизонте в западном направлении двух больших глупышей, которые вскоре стали низко парить над нашей мачтой. Распластав свои крылья, имевшие в размахе полтора метра, они долго кружили над нами, затем сложили крылья и сели на воду рядом с плотом. Золотые макрели сразу же бросились к этому месту и принялись назойливо вертеться вокруг больших плавающих птиц, но обе стороны не трогали друг друга. Это были первые живые вестники, принесшие нам привет из Полинезии. Вечером они не улетели, но остались на воде, и еще после полуночи мы слышали, как они с хриплыми криками кружили вокруг мачты.
Летающие рыбы, которые попадали к нам на плот, были теперь значительно крупнее и принадлежали к другому виду; я помнил их по рыболовным прогулкам, которые совершал с островитянами вдоль берегов Фату-Хивы.
В течение трех суток мы держали курс прямо на Фату-Хиву, но затем задул сильный северо-восточный ветер и отнес нас к югу, в сторону атоллов Туамоту, за пределы собственно экваториального течения, и теперь океанские течения стали вести себя ненадежно. Один день они были заметны, на другой день исчезали. Течение иногда шло, как невидимая река, разветвляясь во все стороны. Если оно было быстрое, волны становились сильнее и температура воды обычно падала на один градус. Направление и силу течения мы определяли ежедневно по разнице между вычисленным Эриком положением плота и определенным им по солнцу[147].
На пороге Полинезии ветер сказал «пас» и передал нас тихому ответвлению течения, которое, к нашему ужасу, шло по направлению к Антарктике. Полного штиля не было — мы не испытали его ни разу за все время нашего путешествия, — и если ветер был очень слабый, мы подвешивали к мачте все наши тряпки, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было ни одного дня, когда мы двигались бы назад, в сторону Америки; наименьшее расстояние, пройденное за сутки, составляло 9 морских миль, между тем как средняя суточная скорость за все время нашего путешествия в целом равнялась 42,5 мили.
Все-таки у пассата не хватило духу покинуть нас у самой цели. Он опять приступил к исполнению своих обязанностей и принялся толкать и вести разваливающееся судно, которое готовилось вступить в новую, необыкновенную страну.
С каждым днем стаи морских птиц становились все многочисленнее и бесцельно кружили над нами во всех направлениях. Однажды вечером, когда солнце садилось в океан, мы ясно заметили, что птицы чем-то сильно взбудоражены. Они летели на запад, не обращая никакого внимания на нас и на летающих рыб. С верхушки мачты мы могли видеть, что, пролетев над нами, они все устремлялись в одном и том же направлении. Может быть, сверху они видели что-то, чего мы не видели. А может быть, ими руководил инстинкт. Во всяком случае, они летели к определенной цели, прямо домой, на ближайший остров, место их гнездовий.
Иногда мы отплывали в резиновой лодке, чтобы взглянуть на себя ночью. Черные как смоль волны громоздились со всех сторон, а мириады мерцающих тропических звезд слабо отражались в планктоне у поверхности воды. Мир был прост — звезды во мраке. Был ли это 1947 год до нашей эры или нашей эры, внезапно потеряло всякое значение. Мы жили, и это мы ощущали со всей остротой. Мы понимали, что жизнь была полна для людей и до наступления века техники — пожалуй, во многих отношениях полнее и богаче, чем жизнь современного человека. Время и эволюция в эти мгновения переставали существовать. Все, что в жизни человека было реальным и имело значение, сегодня оставалось таким же, каким оно было когда-то и будет всегда. Мы растворялись в абсолютном всеобщем мериле истории: бесконечная беспросветная тьма под роем звезд. Перед вами в ночи вставал из волн «Кон-Тики» и снова опускался за черные массы воды, которые вздымались между ним и нами. В лунном свете плот окутывала какая-то особая атмосфера. Толстые блестящие бревна с бахромой из водорослей, квадратные очертания черного паруса викингов, ощетинившаяся бамбуковая хижина с желтым светом керосинового фонаря позади — все это напоминало скорее картину из волшебной сказки, чем реальную действительность. Время от времени плот совершенно исчезал за черными волнами; затем он опять появлялся и резким силуэтом вырисовывался в свете звезд, а с его бревен стекали сверкающие струи воды.
Когда мы ночью смотрели на наш одинокий плот, мы без труда могли мысленно представить себе, как где-то за горизонтом, когда люди впервые прокладывали себе путь через этот океан, проплывала целая флотилия таких судов, держась веерообразным строем, чтобы было больше шансов заметить землю. Незадолго до появления испанцев инка Тупак Юпанки, который подчинил своей власти и Перу и Эквадор, в сопровождении многих тысяч людей отплыл в океан с целой армадой бальсовых плотов, на поиски островов, которые, по слухам, находились где-то в Тихом океане. Он нашел два острова; некоторые считают, что то были острова Галапагос; и после восьмимесячного отсутствия ему и его многочисленным гребцам с трудом удалось вернуться назад в Эквадор. Конечно, и Кон-Тики со своими спутниками несколькими столетиями раньше плыл таким же строем, но так как они открыли острова Полинезии, у них не было причин пытаться преодолеть обратный путь.
Когда мы снова взбирались на плот, мы часто усаживались вокруг керосинового фонаря на бамбуковой палубе и разговаривали о мореплавателях из Перу, которые полторы тысячи лет назад испытали то же самое. Фонарь отбрасывал на парус огромные тени бородатых людей, и мы думали о белых людях с бородой, следы пребывания которых мы находили в мифологии и архитектуре на всем протяжении от Мексики до Центральной Америки и в северо-западной части Южной Америки вплоть до Перу. Там таинственная цивилизация перед приходом инков исчезает, словно по мановению волшебной палочки, и так же внезапно появляется на одиноких островах на западе, к которым мы теперь приближались. Может быть, эти странствующие наставники принадлежали к древнему цивилизованному народу, который жил за Атлантическим океаном и в давно прошедшие времена переплыл его столь же простым способом, воспользовавшись западным океанским течением и пассатом, доставившими их с Канарских островов в Мексиканский залив? Конечно, это расстояние было гораздо короче, чем то, которое мы преодолеваем, а мы больше не верили, что океан является абсолютно изолирующим фактором. Многие исследователи на основании веских доводов утверждали, что великие индейские цивилизации — от ацтеков в Мексике до инков в Перу — появились в результате неожиданных миграционных волн, приходивших из-за океана с востока, в то время как американские индейцы в целом представляют собой азиатские охотничьи и рыбачьи племена, которые на протяжении 20 тысяч лет или даже более долгого времени просочились в Америку из Сибири. Нас, безусловно, должно поражать то обстоятельство, что мы не находим никаких следов постепенного развития великих цивилизаций, которые когда-то распространялись от Мексики до Перу. Чем глубже в землю уходили раскопки археологов, тем более высокую культуру они находили, пока не достигался определенный предел, который с очевидностью указывал на то, что древние цивилизации возникли, не имея никаких корней в первобытных культурах.
И цивилизации возникли там, куда подходит атлантическое течение, — посреди пустынь и джунглей в Центральной и Южной Америке, а не в областях с более умеренным климатом, где условия для развития цивилизаций и в древности и в современную эпоху были гораздо более благоприятными.
То же самое мы наблюдаем и на островах Южного моря. Самые отчетливые следы цивилизации мы находим на ближайшем к Перу острове Пасхи, хотя почва на этом незначительном островке сухая и неплодородная и хотя он отстоит от Азии дальше, чем все остальные тихоокеанские острова.
Пройдя половину пути, мы проплыли как раз такое расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу, и этот легендарный остров лежал к югу от нас. Стараясь воспроизвести обычный путь плота в океане, мы отплыли от материка в удачном месте — в средине перуанского побережья. Если бы мы отплыли несколько южнее, ближе к Тиахуанаке, разрушенной столице Кон-Тики, то мы шли бы с тем же ветром, но в более слабом течении, и оно понесло бы нас по направлению к острову Пасхи.
Когда мы миновали 110° западной долготы, мы очутились уже в полинезийской океанической области, так как полинезийский остров Пасхи был теперь к Перу ближе, чем мы. Мы находились на одном меридиане с первым аванпостом островов Южного моря, центром древнейшей островной цивилизации. По вечерам, после того как раскаленный путеводный шар спускался к горизонту и в сопровождении всех цветов спектра исчезал в океане на западе, легкий пассат воскрешал рассказы о необычайных тайнах острова Пасхи. Ночное небо сглаживало всякое представление о времени, а головы бородатых великанов опять вырисовывались на парусе.
Но далеко на юге, на острове Пасхи, стоят высеченные из камня еще более гигантские головы с остроконечной бородой и чертами лица белых людей, стоят и размышляют о тайне столетий. Так стояли они, когда первые европейцы открыли остров в 1722 году, и так стояли они двадцатью двумя полинезийскими поколениями раньше, когда предки теперешних жителей высадились из своих челноков и истребили всех попавшихся им в руки взрослых мужчин таинственного цивилизованного народа, населявшего остров. С тех пор гигантские камерные головы на острове Пасхи причисляют к самым неразрешимым тайнам древности. Тут и там на склонах холмов этого безлесного острова поднимались к небу огромные статуи — каменные колоссы, великолепные фигуры людей, высеченные из одной глыбы вышиной с трех- или четырехэтажный дом. Как могли древние люди изваять, перенести и поставить этих гигантских каменных колоссов? И, словно этого им еще было мало, они умудрились на головах некоторых статуй, на высоте двенадцати метров над землей, установить в равновесии добавочную чудовищную глыбу красного камня, напоминавшую огромный парик. Что это все означало и какими познаниями в механике обладали эти исчезнувшие зодчие, которые разрешали проблемы, достаточно трудные и для лучших современных инженеров?
В конце концов, если сопоставить все данные, то тайна острова Пасхи, пожалуй, не является неразрешимой; ключом к этой загадке могут быть люди из Перу, приплывшие на плотах. На этом острове древняя цивилизация оставила такие следы, которые не могло изгладить само время. Остров Пасхи представляет собой вершину древнего потухшего вулкана. Мощеные дороги, проложенные древними цивилизованными жителями, ведут к хорошо сохранившимся местам высадки на побережье, и это доказывает, что глубина воды вокруг острова не изменилась до наших дней. Это не остатки опустившегося материка, а крошечный заброшенный остров, который был таким же маленьким и одиноким и тогда, когда он являлся культурным центром Тихого океана.
Посредине конусообразного островка находится кратер потухшего вулкана, а на дне кратера расположены удивительные каменоломни и скульптурная мастерская. Она осталась в таком же точно виде, в каком столетия назад ее покинули древние скульпторы и зодчие, когда они поспешно бросились к восточному мысу острова, где, согласно преданию, пришельцы перебили всех взрослых мужчин-островитян. Благодаря тому, что работа художников была внезапно прервана, мы имеем теперь ясное представление об обычном рабочем дне в кратере острова Пасхи. Каменные топоры скульпторов, твердые, как кремень, лежат, брошенные у рабочих мест, и доказывают, что этот культурный народ не знал железа, как не знали его скульпторы Кон-Тики, когда они убежали из Перу, оставив после себя подобные же гигантские каменные статуи на плато в Андах. И здесь и там находят каменоломни в тех местах, где легендарные белые бородатые люди высекали прямо из склона горы каменные глыбы длиной в девять-двенадцать метров, пользуясь топорами из еще более твердого камня. И здесь и там гигантские глыбы, весившие много тонн, переносились на расстояние многих километров по неровной местности, прежде чем их устанавливали стоймя в виде громадных человеческих фигур или ставили друг на друга, создавая таинственные террасы и стены.
Много больших незаконченных статуй до сих пор лежит там, где их начали делать, — в углублениях в стене кратера на острове Пасхи; они показывают, как шла работа на различных этапах. Самая большая человеческая фигура, которая была почти готова, когда зодчим пришлось убежать, имела в длину 22 метра; если бы она была закончена и установлена, голова этого каменного колосса находилась бы на одном уровне с крышей восьмиэтажного здания. Каждая отдельная статуя была высечена из одной цельной глыбы, а рабочие ниши для скульпторов вокруг лежащей каменной фигуры показывают, что над статуей одновременно работало лишь несколько человек. Статуи на острове Пасхи лежали на спине с согнутыми в локтях руками, с кистями рук на животе, в точности похожие на каменных колоссов в Перу. Статуи отделывались в мастерской до мельчайших деталей, и лишь затем их выносили и доставляли к месту назначения. На последнем этапе работы в каменоломне гигантская фигура оставалась прикрепленной к скале лишь узкой каменной перемычкой, находившейся под спиной; затем отсекали и перемычку, предварительно подложив под статую валуны, чтобы она не скатилась.
Большое количество таких статуй было уже спущено вниз, на дно кратера; там они стояли прислоненные к склону. Но много самых огромных колоссов было вытащено наверх и доставлено за много километров по труднопроходимой местности; там их устанавливали на каменную плиту, а на голову водружали добавочную гигантскую глыбу из красной лавы. Сама эта переноска может показаться полнейшим чудом, но отрицать этот факт невозможно, как нельзя отрицать того, что исчезнувшие из Перу зодчие оставили в Андах каменных гигантов такой же величины — свидетельство их непревзойденного мастерства. Больше всего монолитов, при этом самых крупных, было обнаружено на острове Пасхи, где скульпторы выработали свой собственный стиль; однако представители той же самой исчезнувшей цивилизации воздвигли подобные же гигантские человеческие фигуры на ряде других тихоокеанских островов, ближайших к Америке, и повсюду монолиты доставлялись к священному месту из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах я слышал легенды о том, каким способом передвигали каменных гигантов; так как эти легенды в точности повторяют рассказы местных жителей о переноске каменных колонн к огромному порталу на острове Тонгатабу, то можно предположить, что тот же народ применял тот же метод и для переноски статуй на острове Пасхи.
Работа скульпторов в каменном карьере требовала много времени, но выполнялась только несколькими специалистами. Работа по доставке законченных статуй производилась быстрее, но зато для нее нужно большое количество людей. В те времена, о которых идет речь, маленький остров Пасхи был богат рыбой, а большие плантации перуанского сладкого картофеля тщательно обрабатывались. Специалисты считают, что в эти лучшие времена остров мог прокормить население в 7 или 8 тысяч человек. Для того чтобы поднять огромные статуи вверх по крутому склону кратера, вполне достаточно было тысячи человек, и 500 человек могли управиться с дальнейшей их переноской по острову.
Из луба и растительного волокна сплетали изумительно прочные канаты, и, укрепив каменный колосс на деревянных рамах, толпа тащила его на катках, сделанных из бревен и небольших валунов, которые натирались корнями таро, чтобы рамы легче скользили.
О том, что древние цивилизованные люди мастерски изготовляли веревки и канаты, убедительно говорят находки на островах Южного моря и — с еще большей несомненностью — в Перу, где первые европейцы обнаружили висячие мосты длиною в сотню метров, переброшенные через бурные потоки и ущелья и сделанные из плетеных канатов толщиной в талию взрослого мужчины.
Когда каменный колосс прибывал на предназначенное ему место, возникал новый вопрос: как его установить. Группа островитян строила из камня и песка специальную насыпь с пологим склоном с одной стороны и с крутым противоположным склоном. По пологой поверхности гигантскую фигуру втаскивали наверх, ногами вперед. Когда статуя достигала вершины насыпи, она переваливалась через острый край и соскальзывала прямо вниз так, что ее основание попадало в заранее вырытую яму. Затылок гиганта касался вершины насыпи, по ней вкатывали добавочную цилиндрическую глыбу камня и устанавливали на голове статуи, и лишь после этого насыпь разрушали. Такого рода готовые насыпи стоят в нескольких местах на острове Пасхи, ожидая огромные статуи, которые никогда не появятся. Вся эта техника была изумительна, но она не представляет собой ничего таинственного, если только мы откажемся от недооценки умственных способностей людей древности и примем во внимание, что они могли располагать большим количеством времени и рабочей силы.
Но зачем они делали эти статуи? И почему было необходимо отправляться в другую каменоломню, за семь километров от мастерской в кратере, и добывать там красный камень особого сорта, чтобы класть его на головы фигур? И в Южной Америке и на Маркизских островах часто вся статуя была сделана из этого красного камня, за которым приходилось ходить очень далеко. Красные головные уборы у людей высшего сословия были характерным признаком и в Полинезии и в Перу.
Постараемся сначала уяснить себе, кого изображали статуи. Когда первые европейцы посетили остров Пасхи, они увидели на берегу таинственных «белых людей» и, что было совершенно необычно для этих племен, среди них встречались мужчины с длинными рыжими бородами — потомки женщин и детей, принадлежавших к первоначальному населению острова и пощаженных захватчиками. Сами островитяне заявляли, что некоторые из их предков были белыми, между тем как другие имели коричневую кожу. Они точно высчитывали, что со времени прибытия последних с каких-то других полинезийских островов прошло двадцать два поколения, тогда как первые явились на больших судах с востока за целых пятьдесят семь поколений (то есть приблизительно между 400 и 500 годом нашей эры). Людей, которые пришли с востока, называли «длинноухими», так как они искусственно удлиняли свои уши, подвешивая к мочкам какие-нибудь тяжести; поэтому уши свисали у них до плеч. Эти таинственные «длинноухие» были перебиты, когда на остров явились «короткоухие»; но у всех каменных статуй на острове Пасхи были длинные, свисавшие до плеч уши, как у самих скульпторов.
А легенды инков в Перу рассказывают, что солнце-король Кон-Тики был повелителем белых людей с бородами, которых инки называли «большеухими», потому что они искусственно удлиняли свои уши, вытягивавшиеся у них до плеч. Инки подчеркивали, что заброшенные гигантские статуи в Андах были воздвигнуты именно «большеухими» людьми Кон-Тики, прежде чем те были частью истреблены, а частью обращены в бегство самими инками в битве на острове озера Титикака.
Подведем итоги: белые «большеухие» люди Кон-Тики, исчезнувшие из Перу и отправившиеся куда-то на запад, имели большой опыт по созданию колоссальных каменных статуй, а белые «длинноухие» люди Тики пришли на остров Пасхи с востока и были сведущи в том же самом искусстве, в котором они сразу по прибытии проявили себя законченными мастерами, так как на острове Пасхи нельзя обнаружить ни малейшего следа постепенного развития этого мастерства.
Сравнивая большие каменные статуи на некоторых островах Южного моря с такими же статуями в Перу, мы часто находим между ними больше сходства, чем между монолитами с разных островов Южного моря. На Маркизских островах и на Таити такие статуи известны под общим названием «тики», и там они изображают предков, прославившихся в истории островов и после смерти приравненных к богам. В этом, несомненно, заключается и объяснение странных красных шапок на головах статуй с острова Пасхи. Как уже упоминалось, на всех полинезийских островах можно было встретить отдельных людей и целые семьи, у которых были красноватого цвета волосы и светлая кожа; сами островитяне утверждали, что именно эти люди являются потомками первых белых людей, населявших острова. На некоторых островах участники религиозных празднеств красили себе кожу в белый цвет и волосы в красный, чтобы походить на своих древнейших предков. Во время ежегодной церемонии на острове Пасхи главный участник празднества отрезал себе волосы, чтобы можно было окрасить голову в красный цвет. А колоссальные шапки из красного камня на гигантских статуях острова Пасхи были высечены в форме, характерной для местного стиля прически; на них сверху был круглый узел, соответствовавший традиционному маленькому узлу, в который мужчины связывали свои волосы на макушке.
У статуй на острове Пасхи были длинные уши, потому что у самих скульпторов были длинные уши. Для париков специально подбирался красный камень, потому что у самих скульпторов были красноватые волосы. Подбородки были остроконечные и выдавались вперед, потому что сами скульпторы отращивали бороды. Лица статуй имели характерные черты белой расы — прямой узкий нос и тонкие, резко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали к малайской группе народов. И если у статуй были огромные головы и непропорционально маленькие ноги, а кисти рук были сложены на животе, то это происходило потому, что именно в таком виде зодчие привыкли делать гигантские статуи в Перу. Единственное украшение на статуях острова Пасхи состояло в поясе, который всегда обхватывал их живот. Такой же символический пояс мы находим на каждой статуе в развалинах древнего города Кон-Тики у озера Титикака. Это легендарная эмблема солнце-короля — пояс-радуга. На острове Мангарева существовал миф, согласно которому солнце-бог снял с себя радугу, которая являлась его волшебным поясом, и спустился по ней с неба на остров Мангарева, чтобы заселить его своими белокожими детьми. Когда-то на всех этих островах, как и в Перу, солнце считалось древнейшим родоначальником.
Мы часто сидели на палубе под звездным небом и без конца говорили о загадочной истории острова Пасхи, хотя наш плот уносило прямо в сердце Полинезии и у нас не было никаких шансов увидеть этот уединенный остров на самом деле, а не на карте. Но на острове Пасхи так много следов, ведущих на восток, что само его древнее название может служить ключом к разгадке.
Название «остров Пасхи» появилось на карте потому, что какой-то голландец «открыл» остров в пасхальное воскресенье. И мы забыли, что сами местные жители, уже населявшие остров, имели для своей родины более поучительные и многозначительные названия. У полинезийцев этот остров известен не меньше чем под тремя названиями.
Одним из них является Те-Пите-те-Хенуа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, по мнению самих полинезийцев являющееся самым древним, совершенно явно ставит остров Пасхи в особое положение по отношению к другим островам, лежащим дальше на запад. В восточной части острова, вблизи от легендарного места высадки первых «длинноухих», стоит тщательно обработанный каменный шар, который называют «золотой пуп» и считают также «пупом» самого острова Пасхи. То, что поэтические предки полинезийцев изваяли эмблему острова в виде пупа на восточном берегу и провозглашали ближайший к Перу остров «пупом» бесчисленных островов, расположенных дальше на запад, имело символическое значение. Если принять во внимание, что полинезийские предания говорят об открытии островов, как об их «рождении», то это является несомненным указанием, что именно остров Пасхи считался соединительным звеном между всеми островами и их первоначальной родиной.
Второе название острова Пасхи, Рапа-нуи, означает «Большая Рапа»; имеется также Рапа-ити, или «Маленькая Рапа», — другой остров такой же величины, находящийся далеко на запад от острова Пасхи. У всех народов существует вполне естественное обыкновение называть свою первоначальную родину, например, Большая Рапа, а вторую родину — Новая Рапа или Маленькая Рапа, если даже обе местности одинаковой величины. Жители Маленькой Рапы сохранили до наших дней предания, в которых говорится, что первые обитатели их острова пришли с Большой Рапы — острова Пасхи, лежащего на востоке и ближайшего к Америке. Это является прямым указанием на то, что первоначальная иммиграция шла с востока.
Третье и последнее название этого ключевого острова, Мата-Ките-Рани, означает «Глаз (который) смотрит (в) небо». На первый взгляд это может показаться странным; с не меньшим основанием, чем о сравнительно низком острове Пасхи, можно и о других возвышенных, гористых островах — как Таити, Маркизские или Гавайские острова — сказать, что они смотрят в небо. Но слово «рани» (небо) у полинезийцев имеет двойное значение. Оно означает также первоначальную родину их предков, священную землю солнце-короля, покинутое горное царство Тики. И это чрезвычайно многозначительно, что из тысячи островов, разбросанных по океану, именно самый ближайший к Америке остров Пасхи были назван глазом, который смотрит в сторону родины. Еще более поразительно то, что название Мата-Рани, означающее на языке полинезийцев «глаз неба», является родственным древнему названию местности в Перу, расположенной на тихоокеанском побережье напротив острова Пасхи, у подножья Анд, как раз там, где выше в горах находилась древняя разрушенная столица Кон-Тики.
Один только остров Пасхи давал нам достаточно тем для разговоров, когда мы сидели на палубе под звездным небом и чувствовали себя участниками всех этих доисторических событий. У нас было почти такое ощущение, словно со времен Тики мы только и делали, что плыли по волнам под солнцем и звездами в поисках земли.
Мы больше не испытывали прежнего почтения к волнам и океану. Мы знали их, знали, чего можем ждать от них, находясь на плоту. Даже акула стала для нас повседневностью; мы узнали ее нрав и обычное поведение. Мы уже больше не вспоминали о ручном гарпуне и даже не уходили с края плота, когда акула появлялась рядом. Напротив, когда она невозмутимо скользила вдоль бревен, мы даже пытались схватить ее за спинной плавник. В конце концов это превратилось в совершенно новый вид спорта — игра с акулой в «кто кого перетянет» без веревки.
Мы начали довольно скромно. Нам ничего не стоило наловить золотых макрелей в гораздо большем количестве, чем мы могли съесть. Чтобы не отказываться от любимых развлечений и в то же время не тратить зря запасов провизии, мы придумали комическую ловлю рыбы без крючка, доставлявшую одинаковое удовольствие и золотым макрелям и нам. Мы привязывали ненужных нам летающих рыб к веревке и забрасывали ее так, что они плавали по поверхности воды. Золотые макрели мчались к летающим рыбам и хватали их, а затем мы принимались тянуть каждый в свою сторону; получалось неплохое цирковое представление, так как, если одна золотая макрель выпускала веревку, на смену ей являлась другая. Мы развлекались, а золотые макрели в конце концов получали рыбу.
Затем мы начали ту же игру с акулами. К концу веревки мы привязывали кусок рыбы или чаще мешок с обеденными объедками и спускали приманку за борт. Вместо того чтобы повернуться на спину, акула высовывала голову над водой и подплывала, широко раскрыв пасть, чтобы проглотить угощение. Мы не могли удержаться от соблазна отдернуть веревку, как только акула намеревалась сомкнуть свои челюсти; обманутая акула с глупейшим терпеливым видом подплывала ближе и опять открывала пасть, чтобы схватить приманку, которая выпрыгивала у нее изо рта каждый раз, как она пыталась проглотить ее. Кончалось дело тем, что акула подплывала к самым бревнам и принималась подпрыгивать, как пес, выпрашивающий подачку, которая соблазнительно покачивалась в мешке над его носом. Это напоминало кормление разевавшего пасть бегемота в зоологическом саду, и как-то в конце июля, после трехмесячного плавания, в моем дневнике появилась следующая запись:
«Мы подружились с акулой, сопровождавшей нас сегодня. За обедом мы кормили ее остатками, которые кидали ей в открытую пасть. Когда она плыла рядом с нами, можно было подумать, что это свирепый, но сейчас добродушно и дружески настроенный пес. Приходится признать, что акулы имеют довольно забавный вид, пока вы сами не попадаете к ним в пасть. Во всяком случае, нам доставляло удовольствие, когда они плавали около нас, если только мы в это время не купались».
Однажды бамбуковая палка с мешком, в котором находилась еда для акулы, привязанная кверевке, лежала наготове на краю плота, как вдруг набежала волна и смыла ее за борт. Бамбуковая палка плыла уже в каких-нибудь 200 метрах за кормой плота; внезапно она встала в воде торчком и сама по себе помчалась вслед за плотом, как бы любезно собираясь сама вернуться на свое место. Когда удилище, покачиваясь, приблизилось к нам, мы заметили плывшую под ним трехметровую акулу; бамбуковая палка торчала из воды, подобно перископу. Акула проглотила мешок с едой, но не перегрызла веревки. Вскоре удилище догнало нас, спокойно проплыло мимо и скрылось впереди.
Хотя мы постепенно стали смотреть на акулу совершенно иными глазами, все же наше уважение к пяти или шести рядам острых, как бритва, зубов, спрятанных в огромной ее пасти, никогда не исчезало.
Как-то Кнуту пришлось поневоле выкупаться в обществе акулы. Никому из нас ни в коем случае не разрешалось отплывать от плота — как из-за того, что плот могло унести, так и из-за акул. Но однажды было исключительно тихо, и мы вытащили уже на борт несколько акул, следовавших за нами; поэтому я разрешил быстро выкупаться в океане. Кнут нырнул и, проплыв под водой довольно большое расстояние, появился на поверхности и собирался вернуться назад. В это мгновение мы заметили с мачты, что под ним движется в воде тень, которая была больше его самого. Мы предостерегающе закричали, по возможности спокойно, чтобы не испугать, и Кнут изо всех сил заторопился к плоту. Но тень под ним принадлежала еще лучшему пловцу, который рванулся из глубины и стал нагонять Кнута. Они достигли плота одновременно. Пока Кнут взбирался на палубу, двухметровая акула проскользнула как раз под его животом и остановилась у плота. В благодарность за то, что она не откусила Кнуту ногу, мы дали ей вкусную голову золотой макрели.
Обычно жадность в акуле пробуждается не при виде добычи, а от ее запаха. Опыта ради мы садились на край плота и опускали ноги в воду, и акулы подплывали к нам на расстояние метра или полуметра, а затем спокойно поворачивались к нам хвостом. Но если вода хоть чуть-чуть окрашивалась кровью, как это бывало, когда мы потрошили рыбу, тогда акульи плавники оживали, и акулы налетали на нас, подобно мясным мухам, со всех сторон. Когда мы выбрасывали акульи потроха, хищники форменным образом сходили с ума и в слепом неистовстве метались вокруг нас. Они с жадностью пожирали требуху своего родича, а если мы опускали в воду ногу, они бросались со скоростью ракеты и даже хватали зубами бревна в том месте, где только что была нога. Бывают акулы и акулы, так как они целиком находятся во власти своего настроения.
В наших отношениях с акулами мы в конце концов дошли до такой фамильярности, что стали таскать их за хвост. Таскать животных за хвост считается не слишком интересным видом спорта, но это объясняется, пожалуй, тем, что никто не проделывал таких фокусов с акулами. На самом деле, это увлекательный спорт.
Для того чтобы хватить акулу за хвост, мы должны были сначала предложить ей какой-нибудь действительно лакомый кусок. Чтобы заполучить его, она готова высунуть голову из воды. Обычно пища ей предлагалась в танцующем мешке. Кормить акулу прямо из рук вовсе не забавно. Если из рук кормят собак или ручных медведей, они впиваются зубами в мясо и начинают рвать и терзать его, пока не откусят кусочка или не захватят весь кусок. Но если вы держите на безопасном расстоянии от головы акулы большую золотую макрель, то акула подпрыгивает, щелкает челюстями, и, хотя вы не чувствуете никакого рывка, половина макрели внезапно исчезает, и вы остаетесь сидеть с хвостом в руках. Нам стоило большого труда ножом разрезать золотую макрель на две части, а акула за какую-нибудь долю секунды еле заметным быстрым движением вбок своих челюстей с треугольными пилообразными зубами перерезала, как машинкой для резания колбасы, спинной хребет. Когда акула спокойно поворачивалась, чтобы скрыться в глубине, ее хвост колыхался над поверхностью воды, и тогда его легко было схватить. Кожа акулы на ощупь напоминает наждачную бумагу, а с нижней стороны кончика ее хвоста имеется углубление — по-видимому, для того, чтобы можно было как следует ухватиться. Если нам удавалось вцепиться в хвост в этом месте, то хватка оказывалась достаточно прочной. Затем, прежде чем акула приходила в себя, нужно было сильно рвануть и вытащить хвост акулы как можно дальше, прижав его к бревнам. Секунду или две акула ничего не соображала, а затем начинала извиваться передней частью туловища и рваться, но довольно вяло, так как без помощи хвоста она не может развить никакой скорости. Остальные плавники служат только для сохранения равновесия и в качестве руля. После нескольких безнадежных рывков, во время которых наша задача сводилась к тому, чтобы не выпустить хвоста, ошеломленная акула падала духом и становилась совершенно пассивной; так как свободно перемещающийся желудок начинал опускаться в сторону головы, то в конце концов акула впадала в состояние полного паралича. Как только акула затихала и неподвижно повисала, ожидая дальнейших событий, наступал момент, когда нужно было тащить ее изо всех сил. Нам редко удавалось вытянуть из воды тяжелую рыбу больше чем наполовину, но тут акула приходила в себя и остальное доделывала сама. Мощными рывками она поворачивала голову в нашу сторону и высовывала ее на бревна; тогда мы подтягивали ее со всей силой, на какую были способны, и оттаскивали в сторону при этом как можно быстрее, чтобы спасти свои ноги. Ибо теперь настроение у акулы было отнюдь не добродушным. Она билась и подпрыгивала на палубе и молотила хвостом по бамбуковой стене, работая им, как кувалдой. Теперь она больше не щадила своих стальных мышц. Огромная пасть была широко раскрыта, а ряды зубов щелкали и кусали вокруг все, до чего они могли добраться. Иногда военный танец заканчивался тем, что акула более или менее случайно шлепалась за борт и, претерпев столь постыдное унижение, навсегда исчезала; но чаще всего она слепо билась на бревнах кормы, и мы успевали набросить затягивающуюся петлю на ее хвост, или же она сама навеки переставала скалить свои дьявольские зубы.
Когда акула попадала к нам на палубу, наш попугай приходил в большое волнение. Он торопливо выскакивал из бамбуковой каюты и с бешеной скоростью взбирался по стене, пока не оказывался на безопасном наблюдательном пункте — на крыше из пальмовых листьев; там он сидел, покачивая головой, или же бегал взад и вперед вдоль конька крыши, крича от возбуждения. Он уже давно стал прекрасным моряком и всегда был полон юмора и веселья. Мы считали, что нас на плоту семеро — шестеро людей и зеленый попугай. Холоднокровному крабу Юханнесу приходилось все-таки довольствоваться тем, что его признавали не вполне полноправным компаньоном. По ночам попугай забирался в клетку, которая находилась под крышей каюты, но днем он важно разгуливал по палубе или висел на вантах и штагах, проделывая самые изумительные акробатические упражнения. Вначале на штагах и вантах у нас были тендеры[144], но от них перетирались веревки, и мы заменили их обыкновенными морскими узлами. Когда штаги и ванты от действия солнца и ветра вытянулись и стали провисать, нам всем пришлось взяться за укрепление тяжелых, как железо, мачт из мангрового дерева, которые все больше и больше наклонялись и грозили запутаться в снастях и в конце концов упасть. В самый критический момент, когда мы изо всех сил тянули, попугай принялся кричать своим резким голосом:
— Тяни! Тяни! Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха! — Он заставил и нас расхохотаться, а сам смеялся до тех пор, пока не стал от радости трястись и вертеться на штагах.
Первое время наши радисты относились к попугаю недружелюбно. Случалось, что они сидели в радиорубке, забыв про все на свете, с магическими наушниками, установив связь с каким-нибудь радиолюбителем, скажем, из Оклахомы. Вдруг их наушники умолкали, и они не могли поймать больше ни звука, сколько ни старались проверять провода и вертеть кнопки. Попугай в это время занимался тем, что клевал проволоку антенны. Особенно часто это происходило в первые дни, когда антенна поднималась прямо вверх, привязанная к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Он уныло сидел у себя в клетке и два дня не притрагивался к пище, а в его помете блестели золотистые крупинки антенны. Тут наши радисты раскаялись в своих злобных пожеланиях, а попугай в своих прегрешениях; с этого дня Торстейн и Кнут стали лучшими друзьями попугая, и он всегда спал только в радиорубке. Когда попугай появился на борту, его родным языком был испанский; Бенгт утверждал, что попугай стал говорить по-испански с норвежским акцентом еще задолго до того, как научился повторять излюбленные восклицания Торстейна на сочном норвежском языке.
В течение двух месяцев веселье попугая и его яркое оперенье доставляли нам много радости, но однажды попугай спускался по штагу с верхушки мачты, и как раз в это мгновение большая волна захлестнула сзади плот. Когда мы обнаружили, что попугая нет на борту, было уже слишком поздно. Мы не видели его нигде, а «Кон-Тики» нельзя было ни повернуть, ни остановить; если какой-нибудь предмет падал за борт плота, мы не имели возможности вернуться за ним — в этом мы убедились на ряде случаев.
В первый вечер после гибели попугая у нас было подавленное настроение: мы знали, что то же самое может случиться с любым из нас, если он свалится за борт во время одинокой ночной вахты.
Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, сменили спасательную веревку, которой пользовались на ночных вахтах, и внушали друг другу, что мы не можем считать себя в безопасности только потому, что все шло хорошо в течение первых двух месяцев. Один неосторожный шаг, одно неосторожное движение — и даже среди бела дня мы можем отправиться туда, куда отправился зеленый попугай.
Несколько раз мы видели большую белую оболочку яиц кальмара, которая покачивалась на синей зыби, напоминая яйца страуса или белые черепа. Один только раз мы заметили под оболочкой извивавшегося моллюска. Мы видели белоснежные шары, плававшие вблизи от нас и сначала нам казалось, что ничего не стоит подплыть к ним в лодке и поймать их. Когда оборвалась веревка планктонной сетки и шелковая сетка осталась позади и плыла следом за плотом, мы были так же оптимистичны и спустили на воду лодочку, привязав к ней веревку, чтобы легче было вернуться. Но, к нашему удивлению, мы убедились, что ветер и волна не дают лодке подойти и что веревка, привязанная к «Кон-Тики», сильно тормозит в воде; нам ни разу не удалось подгрести к тому месту, где только что находился плот. Иногда до того предмета, который мы хотели подобрать, оставалось всего несколько метров, но тут веревка натягивалась, и «Кон-Тики» тянул нас прочь, на запад. «Что за борт упало, то пропало», — таков был вывод, к которому мы постепенно пришли и которого потом никогда не забывали до конца нашего плавания. Если мы хотели остаться в живых, надо было крепко держаться за «Кон-Тики», пока тот не уткнется носом в сушу по ту сторону океана.
После пропажи попугая радиорубка опустела; но когда на следующее утро тропическое солнце засияло над Тихим океаном, наш траур быстро окончился. В ближайшие несколько дней мы вытащили немало акул и, неизменно находя в желудке акулы среди голов тунцов и других диковинок черный изогнутый клюв, принимали его за клюв попугая. Но три ближайшем рассмотрении он каждый раз оказывался клювом переваренного кальмара.
С самого начала плавания обоим радистам хватало работы в их рубке. Как только мы очутились в течении Гумбольдта, из ящиков с батареями стала капать морская вода, и пришлось покрыть боящуюся сырости радиорубку брезентом, чтобы спасти от порчи все, что только возможно было спасти в условиях открытого моря. Потом радистам пришлось поломать голову над тем, как пристроить на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Они попытались пустить антенну вверх, привязав ее к воздушному змею, но от порыва ветра змей попросту окунулся в гребень волны и исчез. Тогда они стали пускать антенну вверх с помощью воздушного шара, но тропическое солнце выжигало дырки в шаре, так что он сморщивался и падал в океан. А затем у них возникли неприятности из-за попугая. К этому можно добавить, что лишь после двухнедельного плавания в течении Гумбольдта мы вышли из мертвой зоны Анд, в пределах которой короткие волны так же немы и безжизненны как воздух в пустом ящике из-под мыла.
Но вот однажды короткие волны неожиданно пробились, и позывные сигналы Торстейна услышал какой-то случайный радиолюбитель в Лос-Анжелосе, который возился со своим радиопередатчиком, стараясь установить связь с другим любителем в Швеции. Американец спросил, какой системы наш передатчик, и, получив исчерпывающий ответ, осведомился у Торстейна, кто он такой и где живет. Когда он услышал, что Торстейн проживает в бамбуковой каюте на плоту в Тихом океане, раздалось несколько странных пощелкиваний, и Торстейн поторопился сообщить некоторые подробности. Как только человек в эфире пришел в себя, он передал нам, что его зовут Гал, а его жену — Анна, что она по происхождению шведка и известит наши семьи о том, что мы живы и здоровы.
В этот вечер нам казалось очень странным, что совершенно чужой человек, по имени Гал, какой-то неизвестный кинооператор, один из многочисленных жителей далекого Лос-Анжелоса, был единственным в мире человеком, не считая нас самих, который знал, где мы находимся и что у нас все благополучно. Начиная с этого вечера, Гал, он же Гарольд Кемпел, и его друг Френк Кюевэс по очереди дежурили каждую ночь и ловили сигналы нашего плота, а Герман получал благодарственные телеграммы от начальника бюро погоды США за то, что дважды в сутки передавал по шифру метеорологические сведения из района, о котором сведения поступали очень редко, а сводки вовсе отсутствовали. Впоследствии Кнут и Торстейн почти каждую ночь устанавливали связь и с другими радиолюбителями, а те передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика по имени Эгиль Берг, который жил в Нутоддене[145].
Лишь на несколько дней, когда мы находились посреди океана, наша радиостанция совершенно прекратила работу, так как в радиорубку набралось слишком много соленой воды. Наши радисты лезли вон из кожи, целыми днями и ночами возясь с винтами и паяльником, а далекие радиолюбители думали, что с плотом все кончено. Затем как-то вечером позывные LI2B понеслись в эфире, и в одно мгновение радиорубка зажужжала, подобно осиному гнезду, так как несколько сот американских коротковолновиков одновременно застучали ключами, отвечая на наш призыв. В самом деле, когда мы попадали во владения наших радистов, у нас бывало такое ощущение, словно мы сидим на осином гнезде. Все было мокрым от воды, проникавшей со всех сторон; на бальсовом бревне лежал небольшой резиновый коврик, на котором сидели радисты, но если кто-нибудь из нас дотрагивался до ключа Морзе, он немедленно чувствовал удар тока одновременно в задней части и в кончиках пальцев. А если кто-нибудь из нас, посторонних, пытался украсть карандаш из богатой всякими принадлежностями радиорубки, у него волосы на голове вставали дыбом или же с огрызка карандаша начинали сыпаться крупные искры. Только Торстейн, Кнут и попугай могли без риска лавировать в этом уголке каюты, и мы прибили кусок картона, чтобы отметить границу опасной для остальных зоны.
Однажды поздно вечером Кнут сидел в радиорубке и с чем-то возился при свете фонаря; вдруг он потянул меня за ногу и сказал, что разговаривает с парнем по имени Христиан Амундсен, который живет под самым Осло. Это был один из радиолюбительских рекордов, так как наш маленький коротковолновый передатчик с его 13 990 килоциклами в секунду мог дать не больше шести ватт, то есть приблизительно столько же, сколько дает маленький электрический фонарь. Это произошло 2 августа, и мы проплыли уже 60° в западном направлении, так что Осло находилось как раз на противоположной стороне земного шара. Королю Хокону на следующий день исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравительную телеграмму прямо с плота; а еще через день мы снова услышали Христиана, передававшего нам ответ короля, который пожелал нам дальнейшей удачи и успешного окончания путешествия.
Другой эпизод остался у нас в памяти в качестве контраста всей нашей жизни на плоту. У нас было два фотоаппарата, а Эрик захватил с собой запас химикалий для проявления снимков в пути, так что мы могли заново снять то, что получилось неудачно. После посещения китовой акулы Эрик не мог больше удержаться и как-то вечером развел химикалии в строгом соответствии с наставлениями и проявил две пленки. Негативы — все в крапинках и морщинах — напоминали изображения, полученные по бильдтелеграфу. Пленка была погублена. Мы запросили по радио совета, и наша радиограмма была принята одним коротковолновиком в Голливуде; он позвонил по телефону в фотолабораторию и вскоре вклинился в разговор и сообщил, что у нас слишком теплый проявитель и что нельзя пользоваться водой с температурой выше 16°Ц, иначе на негативах будут морщины.
Мы поблагодарили за совет и удостоверились, что самая низкая температура вокруг нас — это температура самого океанского течения, равнявшаяся примерно 27°. Но ведь Герман был инженер-холодильщик, и я в шутку предложил ему довести температуру воды до 16°. Он попросил разрешения пустить в ход маленькую бутылку угольной кислоты, оставшейся неизрасходованной после надувания резиновой лодки; затем он проделал какие-то фокусы в металлической кастрюле, покрытой спальным мешком и шерстяной фуфайкой. И вдруг щетинистая борода Германа покрылась изморозью, и он появился в каюте с кастрюлей, в которой лежал большой кусок белого льда.
Эрик снова принялся за проявление, и результаты оказались отличные.
Но хотя слова-призраки, разносимые по эфиру короткими волнами, были неизвестной роскошью в далекие дни Кон-Тики, все же океанские волны под нами оставались такими же, как и встарь, и они несли наш бальсовый плот упорно на запад, как это делали тогда, полторы тысячи лет назад.
После того как мы прошли половину нашего пути к островам Южного моря, погода стала несколько более неустойчивой, и время от времени налетали дождевые шквалы, а пассат изменил свое направление. Он неуклонно дул с юго-востока, пока мы не прошли значительной части экваториального течения; затем он стал все больше и больше отклоняться к востоку. 10 июня мы достигли самой северной точки под 6°19′ южной широты. Мы находились тогда так близко к экватору, что, казалось, нас пронесет мимо даже самых северных из Маркизских островов и мы окончательно затеряемся в океане, не обнаружив земли. Но затем пассат еще отклонился, стал дуть не с востока, а с северо-востока и понес нас по кривой к югу, к широтам мира островов.
Часто случалось, что направление ветра и волн оставалось неизменным в течение нескольких дней подряд; тогда мы совершенно забывали, чья была вахта, и вспоминали об этом только по ночам, когда вахтенный оставался один на палубе. Ибо при постоянном ветре рулевое весло крепко привязывалось, и «Кон-Тики» двигался под наполненным парусом без всякого нашего участия. В такие ночи вахтенный мог спокойно сидеть в дверях каюты и следить за звездами. Если созвездия меняли свое положение на небе, значит ему надо выйти и выяснить, сдвинулось ли весло, или отклонился ветер.
Нас самих изумляло, до чего легко было управлять плотом по звездам, после того как мы несколько недель подряд наблюдали их движение по небесному своду. По правде говоря, ночью больше и не на что было смотреть. Мы знали, где из ночи в ночь должны находиться различные созвездия; а когда мы приблизились к экватору, на северном горизонте так ясно виднелась Большая Медведица, что мы испугались, как бы не появилась и Полярная звезда, которую мы могли увидеть лишь в том случае, если бы пересекли экватор. Но как только установился северо-восточный пассат, Большая Медведица снова исчезла.
Древние полинезийцы были великими мореплавателями. Они ориентировались днем по солнцу, а ночью по звездам. Они обладали удивительными познаниями о небесных светилах. Они знали, что земля круглая, и в их языке имелись слова, обозначавшие такие сложные понятия, как экватор, северные и южные тропики. На Гавайских островах они выцарапывали карту океана на оболочке круглых бутылочных тыкв, а на некоторых других островах делали подробные карты из переплетенных сучьев, к которым для обозначения островов прикреплялись раковины, а ветки обозначали особо важные течения. Полинезийцы знали пять планет, которые они называли странствующими звездами и отличали от неподвижных звезд, имевших в их языке около 300 различных названий. В древней Полинезии хороший мореплаватель твердо знал, в какой части неба восходит та или иная звезда и где она должна находиться в различное время ночи и в различное время года. Они знали, какие звезды достигают зенита над тем или иным островом, и в этих случаях острова назывались по имени тех звезд, которые из ночи в ночь и из года в год кульминировали над ними.
Полинезийцы не только знали, что звездное небо представляет собой огромный сверкающий компас, вращающийся с востока на запад, но также понимали, что различные звезды над их головой всегда указывают, как далеко на север или на юг забрались мореплаватели. Когда полинезийцы исследовали и подчинили себе свое островное царство, охватывавшее всю ближайшую к Америке часть океана, они установили сообщение между некоторыми островами, и этими путями пользовались многие последующие поколения. Исторические предания рассказывают о том, как плавали вожди с Таити на Гавайские острова, которые находятся на 2 тысячи морских миль к северу и на несколько градусов к западу. Сначала рулевой по солнцу и звездам правил на север, пока звезды над его головой не говорили ему, что его лодка находится на широте Гавайских островов. Тогда он поворачивал под прямым углом и правил на запад, пока не появлялись птицы и облака, указывавшие ему путь к уже близким островам.
Откуда полинезийцы позаимствовали свои обширные астрономические познания и свой календарь, вычисленный с изумительной точностью? Конечно, не от меланезийцев или малайцев, которые жили на западе. Но тот же самый древний исчезнувший цивилизованный народ — «белые и бородатые люди», — который передал свою удивительную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, создал изумительно похожий календарь и обладал такими же астрономическими познаниями, о которых в Европе в те времена не могли и мечтать.
В Полинезии, как и в Перу, началом календарного года считался день, когда созвездие Плеяд впервые появляется над горизонтом, и в обеих странах это созвездие считалось покровителем земледелия.
В Перу, там, где горная страна понижается в сторону Тихого океана, до наших дней сохранились в песчаной пустыне развалины чрезвычайно древней астрономической обсерватории — памятник того же самого таинственного цивилизованного народа, который высекал каменных колоссов, воздвигал пирамиды, возделывал сладкий картофель и бутылочную тыкву и начинал год с восхода Плеяд. Кон-Тики был знаком со звездами, когда направил свой парус в Тихий океан.
2 июля ночному вахтенному не пришлось уже мирно сидеть, изучая звездное небо. После нескольких дней легкого северо-восточного пассата подул сильный ветер, и море стало бурным. Поздно вечером сияла луна и дул свежий попутный ветер. Мы измерили скорость нашего движения, подсчитав, сколько секунд потребовалось нам, чтобы обогнать щепку, брошенную в воду рядом с носом плота, и обнаружили, что мы установили рекорд. В то время как средняя скорость равнялась 12–18 «щепкам», выражаясь на принятом у нас жаргоне, на этот раз мы имели всего «6 щепок», и бурлящая струя светящейся воды бежала вслед за кормой плота.
Четыре человека храпели в бамбуковой каюте, Торстейн сидел, постукивая ключом Морзе, а я находился на вахте у руля. Перед самой полночью я заметил совершенно необычную волну, которая, опрокидываясь, надвигалась на нас прямо с кормы, закрывая весь горизонт позади, а за ней я мог тут и там различить пенящиеся гребни еще двух таких же огромных волн, следовавших по пятам за первой. Если бы мы только что не миновали это место, я был бы убежден, что вижу высокие буруны, обрушивающиеся на предательскую отмель. Как только первая волна длинной стеной подошла к нам, вздымаясь в лунном свете, я издал предупреждающий крик, резко повернул плот в наиболее выгодное положение и стал ждать дальнейших событий.
Когда первая волна нагнала нас, плот задрал корму вверх и в сторону и поднялся на гребень, который как раз в это мгновение обрушился, и все зашипело и закипело вокруг нас. Мы плыли среди хаоса бурлящей пены, между тем как сама могучая волна перекатывалась под нами. Нос взлетел вверх последним, когда волна прошла, и мы стали скользить кормою вниз в огромную впадину между волнами. Сразу же налетела, вздыбившись, следующая стена воды, и нас снова быстро подбросило вверх, а прозрачные потоки воды обрушились сзади, когда мы взлетели на гребень. Теперь плот повернуло бортом к волнам, и было совершенно невозможно быстро выправить его. Следующая волна приблизилась и поднялась из клочьев пены, подобно сверкающей стене, верхний край которой обрушился, как только она догнала нас. Когда вал накрыл плот, мне ничего не оставалось делать, как крепко ухватиться за выступавший из-под крыши каюты бамбуковый шест; так я стоял, задержав дыхание, чувствуя, как плот подбросило высоко вверх и все вокруг меня понеслось, увлекаемое шипящими пенистыми водоворотами. Через мгновение мы и «Кон-Тики» снова были над водой и спокойно скользили вниз по пологой стороне волны. А затем волны снова стали нормальными. Три огромных вала мчались впереди нас, а за кормой в свете луны мы видели цепочку кокосовых орехов, покачивавшихся на воде.
Последняя волна сильно ударила по каюте, так что Торстейн в радиорубке полетел вверх тормашками, а остальные проснулись, испуганные шумом; из-под бревен и сквозь стену в каюту хлынула вода. С левой стороны в носовой части палубы бамбуковый настил был сорван, и в этом месте зияла дыра, напоминавшая небольшую воронку от снаряда; наша водолазная корзина расплющилась о выступ носа, но все остальное оказалось неповрежденным. Откуда явились эти три большие волны, мы так никогда и не смогли с уверенностью объяснить; возможно, они были вызваны какими-то тектоническими движениями дна океана, которые для этих районов являются довольно обычными[146].
Два дня спустя мы пережили первый шторм. Началось с того, что ветер совершенно стих и белые перистые облака, которые при пассате проплывали над вами в небесной синеве, были внезапно вытеснены черной грядой плотных туч, набежавших с юга из-за горизонта. Затем начались порывы ветра с самых неожиданных сторон, так что вахтенный Рулевой потерял всякую возможность управлять плотом. Как только нам удалось повернуть корму к новому направлению ветра и парус ровно и упруго надувался, сразу же порывы ветра налетали с другой стороны и парус терял свои гордые очертания, начинал полоскаться и хлопать по чему попало, подвергая опасности команду и груз. После этого ветер внезапно начал настойчиво дуть с той стороны, откуда надвигалась непогода. И когда черные тучи заклубились над нами, ветер усилился до свежего и постепенно перешел в настоящий ураган.
За невероятно короткий промежуток времени волны вокруг нас стали вздыматься на высоту пяти метров, а отдельные гребни с шипеньем неслись на высоте шести-восьми метров, так что они оказывались на уровне верхушки нашей мачты, когда мы опускались между двумя волнами. Все мы, согнувшись в три погибели, с трудом удерживались на палубе, а ветер сотрясал бамбуковую стену и свистел и завывал во всех снастях.
Чтобы предохранить радиорубку, мы покрывали брезентом заднюю стену и левую сторону каюты. Весь незакрепленный груз был крепко принайтован, а парус спущен и свернут вокруг бамбуковой реи. Когда небо заволокло тучами, океан стал темным и грозным и со всех сторон покрылся белыми гребнями. Длинные полосы безжизненной пены тянулись с наветренной стороны широких валов, и всюду, где волны обрушивались и разбивались, появлялись зеленые рубцы, которые еще долго пенились на иссиня-черном океане. Когда валы разбивались, их гребни уносило ветром, и над океаном соленым дождем висели брызги. Наконец начался тропический ливень, который хлестал по поверхности океана горизонтальными шквалами и скрыл все от нашего взора. Вода, стекавшая у нас с головы и бороды, имела солоноватый вкус. А мы, голые и замерзшие, скрючившись, продолжали, спотыкаясь, метаться по палубе и следить за тем, чтобы все снасти были в порядке и могли благополучно выдержать шторм. Когда мы заметили на горизонте первые признаки надвигавшегося шторма, а затем он стал приближаться к нам, на наших лицах можно было прочесть напряженное ожидание и беспокойство. Но когда он всерьез разразился над нами и «Кон-Тики» легко и бодро преодолевал все препятствия на своем пути, шторм превратился в волнующий вид спорта; мы все любовались бушевавшими вокруг нас стихиями, видя, что наш бальсовый плот, прекрасно справлявшийся с ними, все время держится, как пробка, на гребнях волн, а основная масса беснующейся воды все время проносится на десяток сантиметров ниже нас. В такую погоду океан во многом напоминает горы. У нас было такое ощущение, словно мы в бурю очутились под открытым небом на высочайшем горном плато, голом и сером. Хотя мы находились в сердце тропиков, всякий раз, как плот скользил вверх и вниз по клубящейся пустыне океана, нам казалось, что мы мчимся с горы среди сугробов снега и скал.
В такую погоду вахтенному рулевому следовало глядеть в оба. Когда самые крутые волны проходили под передней частью плота, бревна на корме совершенно выступали из воды, но в следующее мгновение снова опускались, чтобы затем вскарабкаться на новый гребень. Волны шли иногда так близко одна от другой, что задняя нагоняла нас, когда первая еще держала нос плота задранным кверху; тогда на рулевого с шумом низвергались целые потоки беспорядочно крутящейся воды, но через секунду корма поднималась, и вода исчезала, уходя между бревнами, как между зубьями вилки.
Мы подсчитали, что при обычном, спокойном море, когда самые высокие волны большей частью шли с промежутками в семь секунд, каждые сутки на нашу корму попадало около 200 тонн воды; но мы этого почти не замечали, так как вода спокойно растекалась вокруг босых ног рулевого и так же спокойно исчезала между бревнами. Но во время сильного шторма плот в течение суток принимал на свою корму больше 10 тысяч тонн воды, если считать, что каждые пять секунд на нее обрушивалось от нескольких десятков литров до двух или трех кубических метров воды, а подчас и значительно больше. Иногда волна налетала на плот с оглушительным, как удар грома, грохотом, и рулевой стоял по пояс в воде и испытывал такое ощущение, словно ему приходится идти вброд против течения по быстрой реке. Плот, казалось, на мгновение останавливался, содрогаясь, а затем огромная масса воды, придавившая его корму, уходила большими каскадами за борт.
Герман все время находился на палубе с анемометром в руке, измеряя силу ураганных шквалов, не прекращавшихся целые сутки. Затем ураган постепенно перешел в сильный ветер с редкими дождевыми шквалами, от которых океан вокруг нас продолжал бурлить. А мы при хорошем попутном ветре, переваливаясь с волны на волну, шли на запад. Для того чтобы точно измерить силу ветра, находясь внизу между вздымающимися волнами, Герман при малейшей возможности взбирался на верхушку качавшейся мачты, где ему приходилось держаться как можно крепче.
Лишь только погода несколько улучшилась, все крупные рыбы вокруг нас совершенно взбесились. Океан поблизости от плота кишел акулами, тунцами, золотыми макрелями и сравнительно немногочисленными перепуганными бонитами; все они скользили под самым плотом или в волнах рядом с ним. Среди них шла непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть. Спины крупных рыб, изгибаясь, высовывались из воды, внезапно хищники срывались с места и бросались в погоню, и вода вокруг плота не один раз густо окрашивалась кровью. Сражались главным образом тунцы и золотые макрели; последние плыли большими стаями, которые двигались гораздо быстрее, чем обычно, и держались все время настороже. Нападающей стороной были тунцы; нередко мы видели, как рыба в 70–80 килограммов весом подскакивала высоко в воздух, держа в пасти окровавленную голову макрели. В то время как отдельные золотые макрели стремглав убегали от преследовавших их по пятам тунцов, стая макрелей не отступала перед врагом, хотя некоторые из них извивались в воде с большими зияющими ранами на шее. Время от времени и акулы, казалось, приходили в слепой раж, и мы наблюдали, как они настигали и хватали больших тунцов, для которых акула является превосходящим по силе противником.
Не видно было ни одного мирного маленького лоцмана. Или их пожрали разъяренные тунцы, или они спрятались в щели под плотом, а может быть, убежали подальше от поля битвы. Мы не решались окунуть голову в воду, чтобы заглянуть под плот.
Когда я находился на корме, отдавая дань природе, я испытывал невероятное потрясение — впоследствии я не мог без смеха вспоминать об этом чувстве полной растерянности, охватившем меня. Мы привыкли к небольшим волнам в нашей уборной; но я был совершенно ошеломлен, когда неожиданно получил сильный удар сзади чем-то большим, холодным и очень тяжелым, вынырнувшим подо мной из воды и напоминавшим голову акулы. Я уже карабкался вверх по штагу с таким ощущением, что в мою заднюю часть вцепилась акула, прежде чем пришел в себя.
Герман, который повис на рулевом весле, скрючившись от хохота, рассказал мне, что большой тунец плашмя шлепнул меня по голому месту своими 70 килограммами холодной рыбьей туши. Позже, когда Герман, а затем Торстейн стояли на вахте, та же рыба пыталась вскочить на плот с набегавшими на корму волнами; дважды эта здоровенная рыба оказывалась на краю бревен, но каждый раз она снова срывалась за борт, прежде чем нам удалось схватить ее скользкое туловище.
Через некоторое время крупный ошалелый бонит попал с волной прямо на плот, и мы решили использовать его и пойманного накануне тунца для рыбной ловли, чтобы навести порядок в окружавшем нас кровавом хаосе.
Наш дневник гласит:
«Первой попалась на крючок и была вытащена на плот двухметровая акула. Как только крючок был освобожден, его проглотила двухсполовинойметровая акула, которую мы также вытащили на борт. Когда крючок был снова заброшен в воду, на него попалась еще одна двухметровая акула; мы подтянули ее на край плота, но тут она освободилась и нырнула. Крючок был сразу же снова заброшен, и его схватила двухсполовинойметровая акула, с которой у нас завязалась упорная борьба. Мы уже вытащили ее голову на бревна, как вдруг все четыре стальные жилы были перекушены и акула скрылась в глубине. Заброшен новый крючок, и мы вытянули еще одну акулу. Теперь стало опасно заниматься рыбной ловлей, стоя на скользких бревнах кормы, так как три акулы продолжали время от времени вскидывать голову и щелкать челюстями еще долго после того, как мы сочли их мертвыми. Мы оттащили акул за хвост и сложили в кучу на носовой части палубы, и вскоре после этого на крючок попал большой тунец, который задал нам больше жару, чем любая из акул, каких нам приходилось вытаскивать. Он был такой жирный и тяжелый, что никто из нас не мог поднять его за хвост.
Океан все еще кишел беснующимися рыбами. Еще одна акула схватила крючок, но вырвалась, когда мы ее уже чуть не втащили на плот. Затем мы благополучно вытащили двухметровую акулу, за ней — полутораметровую. Потом мы поймали еще одну двухметровую акулу и вытащили и ее. Когда крючок был снова заброшен, мы вытащили еще одну акулу покрупнее».
Куда бы мы ни ступали, всюду натыкались на больших акул, которые, судорожно подпрыгивая, били хвостами по палубе или ударялись о бамбуковую каюту. Когда мы начали рыбную ловлю после двух ночей шторма, мы уже были усталые и измученные и теперь буквально растерялись, не зная, какие из акул уже околели, какие еще могут, судорожно щелкая челюстями, схватить нас, если мы приблизимся, и какие только кажутся мертвыми, а на самом деле только подстерегают нас. Когда девять больших акул загромоздили всю палубу вокруг нас, мы были так утомлены от вытягивания тяжелых лес и борьбы с упиравшимися акулами, что после пяти часов изнурительного труда решили отказаться от дальнейшей ловли.
На следующий день золотых макрелей и тунцов было меньше, но акул столько же. Мы снова принялись ловить и вытаскивать их, но вскоре прекратили это занятие, так как заметили, что свежая акулья кровь, стекавшая с плота, лишь привлекает еще большее количество акул. Мы выбросили всех мертвых акул за борт и смыли кровь с палубы. Бамбуковые циновки оказались изорванными зубами и грубой кожей акул; самые окровавленные и самые порванные мы выбросили за борт и заменили их новыми золотисто-желтыми бамбуковыми циновками, несколько пачек которых было крепко привязано на передней части палубы.
Когда в этот вечер мы легли спать, стоило нам закрыть глаза, как перед нами вставали хищные раскрытые пасти акул и пятна крови. А запах акульего мяса преследовал нас. Мы могли есть акул; по вкусу они напоминали пикшу, если только мы вымачивали куски рыбы сутки в воде, чтобы удалить запах аммиака. Но бониты и тунцы были несравненно вкуснее.
Этим вечером я первый раз услышал, как один из моих спутников сказал, что хорошо было бы удобно вытянуться на зеленой траве под пальмами на каком-нибудь острове; он был бы рад увидеть что-нибудь другое вместо холодных рыб и бурного океана.
Снова наступила хорошая погода, но она была не так устойчива и надежна, как прежде. Время от времени совершенно неожиданные резкие порывы ветра приносили с собой сильные ливни, которым мы были очень рады, так как значительная часть нашего запаса воды стала портиться и по вкусу напоминала затхлую болотную воду. Когда ливень достигал наибольшей силы, мы собирали воду, стекавшую с крыши каюты, и стояли голые на палубе, наслаждаясь тем, что свежая вода смывала с нас соль.
Лоцманы снова скользили у плота на своих обычных местах; но были ли это те же самые старые приятели, которые вернулись к нам по окончании кровавой бани, или же это были новые спутники, приобретенные в горячке битвы, мы не могли сказать.
21 июля ветер неожиданно снова упал. Атмосфера была гнетущая, и стало совершенно тихо; по прежнему опыту мы знали, что это могло означать. И в самом деле, после нескольких бешеных порывов с востока, с запада и с юга ветер посвежел и стал дуть с юга, где горизонт снова заволокло черными, грозными тучами. Герман все время находился на палубе с анемометром, показывавшим уже больше пятнадцати метров в секунду, как вдруг спальный мешок Торстейна устремился за борт. События, которые разыгрались в течение ближайших нескольких секунд, заняли гораздо меньше времени, чем нужно, для того чтобы рассказать о них.
Герман, пытаясь поймать мешок на лету, оступился и свалился в воду. Среди шума волн мы услышали слабый крик о помощи и увидели голову и загребавшую воду руку Германа и одновременно какой-то неясный зеленый силуэт, крутившийся вблизи. Герман изо всех сил старался подплыть обратно к плоту, отчаянно борясь с высокими волнами, которые поднимали его и относили в сторону от левого борта. Торстейн, находившийся на корме у рулевого весла, и я, стоя на носу, первыми увидели его и похолодели от ужаса. Мы заорали во всю глотку: «Человек за бортом!» — и кинулись к ближайшей спасательной веревке. Из-за шума океана остальные не слышали крика Германа. Но теперь в одно мгновение на палубе все ожило и засуетилось. Герман был прекрасным пловцом, и хотя мы сразу поняли, что его жизнь поставлена на карту, мы все же сильно, надеялись, что ему удастся доплыть до плота, прежде чем станет уже слишком поздно.
Торстейн, стоявший ближе всех к бамбуковому цилиндру, вокруг которого была намотана веревка, предназначенная для спасательной лодки, быстро схватил его. Это был единственный раз за все время путешествия, когда веревку заело и так некстати. Все произошло в течение нескольких секунд. Герман теперь находился на одной линии с кормой плота, но в нескольких метрах от нее и мог еще надеяться на спасение, если бы ему удалось подплыть к лопасти рулевого весла и повиснуть на ней. Так как он не успел ухватиться за выступ бревен, он протянул руку к лопасти весла, но она скользнула мимо. И вот он лежал именно там, откуда, как мы знали по опыту, ничто не возвращается. Пока Бенгт и я спускали на воду лодку, Кнут и Эрик пытались бросить Герману спасательный пояс. Привязанный к длинной веревке, пояс висел всегда наготове на углу крыши каюты; но в этот раз ветер был такой сильный, что всякий раз относил спасательный пояс обратно на плот. Все попытки добросить пояс кончались неудачей, а Герман уже находился далеко позади рулевого весла и отчаянно пытался не отставать от плота, но с каждым порывом ветра расстояние увеличивалось. Он понял, что отныне разрыв будет все увеличиваться, но у него еще оставалась слабая надежда на лодку, которая теперь была уже на воде. Без веревки, которая действовала как тормоз, вероятно, было бы возможно подогнать резиновую лодку навстречу плывущему человеку; другой вопрос — удастся ли резиновой лодке когда-нибудь вернуться к «Кон-Тики». Все-таки у трех человек в резиновой лодке были какие-то шансы на спасение, у одного человека в океане — никаких.
Вдруг мы увидели, что Кнут бросился с плота и нырнул головой вниз в океан. В одной руке он держал спасательный пояс и плыл, опираясь на него. Всякий раз, как голова Германа появлялась на гребне волны, Кнут исчезал, а всякий раз, как появлялся Кнут, Германа не было. Но вот мы увидели головы обоих одновременно: они подплыли друг к другу и оба держались за спасательный пояс. Кнут махал рукой; так как тем временем мы успели втащить резиновую лодку на борт, то мы все вчетвером ухватились за веревку от спасательного пояса и стали тянуть изо всех сил, не спуская в то же время глаз с большого темного предмета, который виднелся в воде позади двух пловцов. Это таинственное животное время от времени высовывало над гребнем волны большой зеленовато-черный треугольник; он чуть не насмерть перепугал Кнута, когда тот плыл к Герману. В тот момент один лишь Герман знал, что треугольник принадлежал неакуле и не какому-нибудь другому морскому чудовищу. Это был раздувшийся угол непромокаемого спального мешка Торстейна. Но спальный мешок недолго держался на воде после того, как мы вытащили на плот обоих наших товарищей целыми и невредимыми. Тот, кто утащил спальный мешок в глубь океана, упустил более стоящую добычу.
— Как хорошо, что я не был в нем, — сказал Торстейн и снова взялся за рулевое весло.
Впрочем, в этот вечер нам было не до веселых острот. Нас всех еще долго пробирала нервная дрожь. Но холодная дрожь смешивалась с горячим чувством радости оттого, что нас по-прежнему было шестеро на плоту.
В этот день мы наговорили Кнуту кучу приятных слов — и сам Герман и все остальные.
Однако у нас было мало времени раздумывать о том, что уже случилось; по мере того как небо над нами темнело, порывы ветра все усиливались, и до наступления ночи на нас обрушился новый шторм. Теперь привязанный к длинной веревке спасательный пояс находился на воде за кормой; если во время шквала кто-нибудь из нас опять упадет за борт, то, может быть, ему удастся ухватиться за пояс, который плыл позади рулевого весла. Когда наступила ночь, вокруг нас стояла кромешная тьма, скрывшая от нашего взора и плот и океан; бешено прыгая в темноте с волны на волну, мы слышали только, как завывал ветер в мачтах и снастях, и чувствовали, как шквалы налетали на гибкие стены бамбуковой каюты с такой силой, что, казалось, вот-вот они унесут ее за борт. Но каюта была прикрыта брезентами и хорошо укреплена оттяжками. Мы чувствовали, как «Кон-Тики» метался на пенящихся волнах и бревна, подобно клавишам рояля, двигались вверх и вниз в такт движению волн. Мы каждый раз удивлялись, что потоки воды не врываются сквозь широкие щели в полу каюты, а эти щели служили лишь мехами, через которые постоянно неслись вверх и вниз токи влажного воздуха.
Целых пять дней погода стояла неустойчивая: то дул настоящий ураган, то ветер падал до слабого. Океан был изборожден широкими долинами, окутанными дымкой от пенившихся серовато-синих волн, гребни которых казались вытянутыми в длину и сплющенными от напора ветра. Затем на пятый день на небе появились голубые просветы, и по мере того как ураган удалялся от нас, зловещие черные тучи уступали место всепобеждающему голубому небу.
Шторм наделал нам дел: рулевое весло было разбито, парус разодран, а выдвижные кили болтались и ударялись, подобно вагам, о бревна, так как все веревки, которыми они были закреплены под водой, совершенно перетерлись. Но сами мы и груз ничуть не пострадали.
После двух штормов «Кон-Тики» основательно расшатался. От напряжения при подъеме на крутые гребни волн все веревки вытянулись, а от постоянного движения бревен веревки врезались в них. Мы благодарили провидение за то, что последовали указаниям инков и отказались от стальных тросов, которые во время шторма попросту перепилили бы весь плот на мелкие куски. А если бы с самого начала у нас были совершенно сухие, обладающие высокой плавучестью бальсовые бревна, плот давно пропитался бы морской водой и погрузился бы в океан вместе с нами. Сок свежесрубленных деревьев служил пропитывающим составом и препятствовал проникновению воды в пористую бальсовую древесину. Но теперь веревки так ослабели, что опасно было ступить между двумя бревнами, так как при резком столкновении они могли раздробить ногу. На носу и на корме, где не было бамбуковой палубы, нам приходилось, сгибая колени, широко расставлять ноги, чтобы стоять сразу на двух бревнах. Корма, покрытая мокрыми водорослями, стала скользкой, как листья бананов; там, где мы обычно ходили, мы устроили среди зелени постоянную дорожку, а для вахтенного у руля положили широкую доску, и все же, когда волна подбрасывала плот, удержаться на ногах было нелегко. А по левой стороне одно из девяти огромных бревен день и ночь с глухим, хлюпающим стуком ударялось о ронжины. Новые зловещие скрипы стали издавать также веревки, которые связывали вершины двух наклонных мачт, так как гнезда для мачт были вырублены в двух разных бревнах и двигались независимо друг от друга.
Мы срастили рулевое весло, привязав к нему длинные куски тяжелого, как железо, мангрового дерева. Эрик и Бенгт починили парус, и Кон-Тики снова гордо поднял голову и выпятил грудь в сторону Полинезии, а рулевое весло танцевало за кормой в волнах, которые с наступлением хорошей погоды опять были кроткими и пологими. Но кили никогда больше не стали такими, какими были раньше; они не отзывались на давление воды со всей своей прежней силой, так как сместились и болтались под плотом ничем не закрепленные. Не имело смысла пытаться осмотреть веревки со стороны дна, так как они совершенно заросли водорослями. Обследовав всю бамбуковую палубу, мы обнаружили, что только три из основных веревок были порваны; они лежали скрюченные, прижатые к грузу, о который они перетерлись. Было совершенно очевидно, что бревна впитали в себя большое количество воды, но груз уменьшился, и это уравновешивало потерю плавучести. Большая часть провизии и питьевой воды, а также сухих батарей наших радистов была уже израсходована.
Тем не менее после последнего шторма мы были вполне убеждены, что плот не расползется и проплывет то короткое расстояние, которое отделяло нас от находившихся впереди островов. Теперь на первый план выступала другая проблема: каким образом наше путешествие закончится?
«Кон-Тики» будет непреклонно стремиться к западу, пока не упрется носом в береговые скалы или в какую-нибудь другую неподвижную преграду, которая остановит его движение. Путешествие окончится только тогда, когда вся команда, целая и невредимая, выйдет на берег одного из многочисленных полинезийских островов, лежавших впереди.
Когда миновал последний шторм, нам было совершенно неясно, куда может пристать плот. Мы находились на одинаковом расстоянии и от Маркизских островов и от архипелага Туамоту, причем не была исключена возможность того, что мы спокойнейшим образом можем пройти между этими двумя группами островов, не увидев ни той, ни другой. Ближайший остров из группы Маркизских находился в 300 милях к северо-западу, ближайший остров архипелага Туамоту — в 300 милях к юго-западу, а ветер и течение были неустойчивы, но в общем несли нас на запад, в широкие ворота океана между двумя группами островов.
Ближайший в северо-западном направлении остров был тот самый Фату-Хива, маленький, покрытый джунглями гористый островок, на котором я когда-то жил в хижине, построенной на берегу на сваях, и слушал образные рассказы старика о героическом предке — Тики. Если бы «Кон-Тики» пристал к этому же берегу, я встретил бы там много знакомых, но вряд ли самого старика. Он, наверно, давно уже скончался с твердой надеждой на встречу со своим предком Тики. Если плот направится к этой цепи гористых Маркизских островов, то высадка будет для нас нелегким делом. Острова этой группы лежат далеко друг от друга, и океан беспрепятственно обрушивается на отвесные утесы, так что нам надо будет смотреть в оба, держа путь к устьям немногочисленных долин, которые всегда заканчиваются узкой полосой пляжа.
Если же плот направится к коралловым рифам архипелага Туамоту, то там океан на большом протяжении густо усеян множеством островов. Но эта группа островов известна также под названием Низкого, или Опасного, архипелага, так как своим возникновением она обязана кораллам и состоит из предательских подводных рифов и покрытых пальмами атоллов, которые возвышаются всего на два-три метра над поверхностью воды. Опасные рифы окружают защитным кольцом каждый атолл, представляя серьезную помеху для мореплавания во всем этом районе. Но хотя атоллы Туамоту созданы кораллами, а Маркизские острова представляют собой остатки потухших вулканов, обе группы островов населены одним и тем же полинезийским народом, и королевские семьи повсюду считают Тики своим родоначальником.
Еще 3 июля, когда мы находились за тысячу миль от Полинезии, сама природа сообщила нам, — как она в свое время сообщила первобытным перуанским мореплавателям, добравшимся сюда на своих плотах, — что где-то впереди среди океана действительно находится земля. Пока мы не прошли добрую тысячу миль от берегов Перу, мы время от времени видели небольшие стаи фрегатов. Примерно на 100° западной долготы они исчезли, и нам стали попадаться только маленькие буревестники, которые живут в океане. Но 3 июля на 125° западной долготы фрегаты снова появились. Начиная с этого дня, мы часто видели небольшие стаи фрегатов; они летели высоко в небе или проносились над гребнями волн, хватая летающих рыб, которые выпрыгивали в воздух, спасаясь от золотых макрелей. Так как эти птицы прилетели не из Америки, лежавшей позади нас, то их родина должна была находиться в другой стороне — впереди.
16 июля природа дала нам еще более очевидное указание. В этот день мы вытащили трехметровую акулу, которая извергла из своего живота большую непереваренную морскую звезду, недавно проглоченную ею у берега где-то вблизи.
А на следующий день к нам прилетели первые гости непосредственно с островов Полинезии. Это было знаменательным событием на плоту, когда мы заметили на горизонте в западном направлении двух больших глупышей, которые вскоре стали низко парить над нашей мачтой. Распластав свои крылья, имевшие в размахе полтора метра, они долго кружили над нами, затем сложили крылья и сели на воду рядом с плотом. Золотые макрели сразу же бросились к этому месту и принялись назойливо вертеться вокруг больших плавающих птиц, но обе стороны не трогали друг друга. Это были первые живые вестники, принесшие нам привет из Полинезии. Вечером они не улетели, но остались на воде, и еще после полуночи мы слышали, как они с хриплыми криками кружили вокруг мачты.
Летающие рыбы, которые попадали к нам на плот, были теперь значительно крупнее и принадлежали к другому виду; я помнил их по рыболовным прогулкам, которые совершал с островитянами вдоль берегов Фату-Хивы.
В течение трех суток мы держали курс прямо на Фату-Хиву, но затем задул сильный северо-восточный ветер и отнес нас к югу, в сторону атоллов Туамоту, за пределы собственно экваториального течения, и теперь океанские течения стали вести себя ненадежно. Один день они были заметны, на другой день исчезали. Течение иногда шло, как невидимая река, разветвляясь во все стороны. Если оно было быстрое, волны становились сильнее и температура воды обычно падала на один градус. Направление и силу течения мы определяли ежедневно по разнице между вычисленным Эриком положением плота и определенным им по солнцу[147].
На пороге Полинезии ветер сказал «пас» и передал нас тихому ответвлению течения, которое, к нашему ужасу, шло по направлению к Антарктике. Полного штиля не было — мы не испытали его ни разу за все время нашего путешествия, — и если ветер был очень слабый, мы подвешивали к мачте все наши тряпки, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было ни одного дня, когда мы двигались бы назад, в сторону Америки; наименьшее расстояние, пройденное за сутки, составляло 9 морских миль, между тем как средняя суточная скорость за все время нашего путешествия в целом равнялась 42,5 мили.
Все-таки у пассата не хватило духу покинуть нас у самой цели. Он опять приступил к исполнению своих обязанностей и принялся толкать и вести разваливающееся судно, которое готовилось вступить в новую, необыкновенную страну.
С каждым днем стаи морских птиц становились все многочисленнее и бесцельно кружили над нами во всех направлениях. Однажды вечером, когда солнце садилось в океан, мы ясно заметили, что птицы чем-то сильно взбудоражены. Они летели на запад, не обращая никакого внимания на нас и на летающих рыб. С верхушки мачты мы могли видеть, что, пролетев над нами, они все устремлялись в одном и том же направлении. Может быть, сверху они видели что-то, чего мы не видели. А может быть, ими руководил инстинкт. Во всяком случае, они летели к определенной цели, прямо домой, на ближайший остров, место их гнездовий.
 Мы повернули рулевое весло и, направили наш плот точно в ту сторону, где исчезли птицы. Даже после наступления темноты мы слышали крики отставших стай, которые пролетали над нами на фоне звездного неба как раз в том направлении, которого мы теперь держались. Это была чудесная ночь; луна была почти полной — в третий раз за время плавания «Кон-Тики».
На следующий день над нами кружило еще больше птиц, но вечером мы уже не нуждались в том, чтобы они показывали нам путь. К этому времени мы заметили на горизонте странное, неподвижное облако. Другие облака казались маленькими, легкими клочками шерсти, которые появлялись на юге и, подгоняемые пассатом, проплывали по небесному своду, а затем исчезали за горизонтом на западе. Такими я когда-то видел эти уносимые пассатом облака на острове Фату-Хива, такими мы их видели над собой ночью и днем на борту «Кон-Тики». Но одинокое облако на горизонте к юго-западу от нас не двигалось, — оно просто висело в воздухе, подобно неподвижному столбу дыма, между тем как остальные облака проплывали мимо. Такие облака по-латыни называются Cumulonimbus. Полинезийцы не знали этого, но они знали, что под такими облаками находится земля. Когда тропическое солнце раскаляет песок, образуется ток теплого воздуха, который поднимается вверх, и в более холодных слоях атмосферы содержащиеся в нем водяные пары сгущаются.
Мы правили на облако, пока с заходом солнца оно не исчезло. Ветер был устойчивый, и с крепко привязанным рулевым веслом «Кон-Тики» сам, без всякого нашего участия, как это часто бывало в хорошую погоду в океане, держался своего курса. Работа вахтенного заключалась теперь в том, чтобы взбираться на верхушку мачты и как можно дольше сидеть там на площадке, за последние дни натершейся до блеска, высматривая, не появятся ли признаки близости земли.
Всю ночь над нами раздавались оглушительные крики птиц. А луна была почти полная.
Мы повернули рулевое весло и, направили наш плот точно в ту сторону, где исчезли птицы. Даже после наступления темноты мы слышали крики отставших стай, которые пролетали над нами на фоне звездного неба как раз в том направлении, которого мы теперь держались. Это была чудесная ночь; луна была почти полной — в третий раз за время плавания «Кон-Тики».
На следующий день над нами кружило еще больше птиц, но вечером мы уже не нуждались в том, чтобы они показывали нам путь. К этому времени мы заметили на горизонте странное, неподвижное облако. Другие облака казались маленькими, легкими клочками шерсти, которые появлялись на юге и, подгоняемые пассатом, проплывали по небесному своду, а затем исчезали за горизонтом на западе. Такими я когда-то видел эти уносимые пассатом облака на острове Фату-Хива, такими мы их видели над собой ночью и днем на борту «Кон-Тики». Но одинокое облако на горизонте к юго-западу от нас не двигалось, — оно просто висело в воздухе, подобно неподвижному столбу дыма, между тем как остальные облака проплывали мимо. Такие облака по-латыни называются Cumulonimbus. Полинезийцы не знали этого, но они знали, что под такими облаками находится земля. Когда тропическое солнце раскаляет песок, образуется ток теплого воздуха, который поднимается вверх, и в более холодных слоях атмосферы содержащиеся в нем водяные пары сгущаются.
Мы правили на облако, пока с заходом солнца оно не исчезло. Ветер был устойчивый, и с крепко привязанным рулевым веслом «Кон-Тики» сам, без всякого нашего участия, как это часто бывало в хорошую погоду в океане, держался своего курса. Работа вахтенного заключалась теперь в том, чтобы взбираться на верхушку мачты и как можно дольше сидеть там на площадке, за последние дни натершейся до блеска, высматривая, не появятся ли признаки близости земли.
Всю ночь над нами раздавались оглушительные крики птиц. А луна была почти полная.

 Отойдя на порядочное расстояние вдоль рифа, мои товарищи обнаружили резиновый плот, который лежал, покачиваясь, наполненный водой. Они вылили из него воду и подтащили его обратно к разбитому плоту; тут мы до отказа нагрузили его самым необходимым — радиостанцией, продовольствием и бутылями с водой. Все это мы перетащили через риф и сложили в кучу на самую верхушку огромной коралловой глыбы, которая одиноко возвышалась на внутренней стороне рифа, напоминая огромный метеорит. Затем мы отправились обратно к месту крушения за новым грузом. Разве могли мы знать, какой вышины достигнут волны, когда на нас устремятся приливные течения?
На мелководье с внутренней стороны рифа мы заметали какой-то предмет, ярко блестевший на солнце. Когда мы вброд подошли, чтобы поднять его, мы увидели, к нашему удивлению, две пустые консервные банки. Это оказалось не совсем то, на что мы надеялись; еще больше мы поразились, когда увидели, что маленькие банки были совершенно светлые и лишь недавно открыты, а этикетки на них с надписью «ананас» были в точности такие, как на банках из новых полевых рационов, которые мы сами испытывали по поручению интендантского управления. Конечно, это были наши собственные банки из-под ананасов, выброшенные после последней трапезы на борту «Кон-Тики». Мы все время плыли вслед за ними до самого рифа.
Мы стояли на острых шероховатых коралловых глыбах и, ступая по неровному дну, брели в воде то по щиколотку, то по грудь — в зависимости от глубины русел и каналов среди рифов. Анемоны и кораллы придавали всему рифу вид какого-то скалистого сада с мхами, кактусами и окаменелыми растениями, красными, зелеными, желтыми и белыми. Все цвета были здесь представлены либо кораллами, либо водорослями, либо раковинами и морскими моллюсками, либо фантастическими рыбами, которые извивались повсюду вокруг нас. В более глубоких каналах в прозрачной воде мы видели небольших акул длиною в метр с лишним, подкрадывавшихся к нам. Но стоило шлепнуть по воде ладонью, как они поворачивали в сторону и отплывали на почтительное расстояние.
Там, где мы были выброшены на риф, нас окружали лишь лужи воды с кое-где выступавшими островками влажных кораллов, а дальше простиралась спокойная синяя лагуна. Шел отлив, и все новые коралловые островки выступали из воды, а прибой, беспрерывно грохотавший вдоль рифа, стал ниже, как бы опустившись на один этаж. Что произойдет здесь, на узком рифе, когда начнется прилив, трудно было сказать. Нам надо уходить.
Риф, напоминая наполовину погруженную в воду крепостную стену, тянулся к северу и к югу от нас. У южного края виднелся длинный остров, густо поросший лесом из пальм. А к северу, вблизи от нас, на расстоянии 600–700 метров находился другой, но значительно меньший остров, также поросший пальмами. Он лежал с внутренней стороны рифа; верхушки пальм поднимались к небу, а белоснежные песчаные пляжи спускались к тихой лагуне. Весь островок походил на огромную зеленую корзину цветов или на миниатюрный рай. На этом острове мы и остановили свой выбор.
Герман стоял рядом со мной, и широкая улыбка сияла на его бородатом лице. Он не произнес ни слова, только протянул руку и тихо засмеялся. «Кон-Тики» все еще сидел на наружной стороне рифа, и брызги прибоя перелетали через него. Он был инвалидом, но почетным инвалидом. На палубе все было исковеркано, но девять бальсовых бревен из киведских джунглей в Эквадоре были по-прежнему совершенно целы. Они спасли нам жизнь. Океан поживился немногим из нашего груза, а то, что мы сложили внутри каюты, осталось в полной сохранности. Мы сами сняли с плота все, что представляло какую-нибудь ценность, и теперь наше имущество лежало в безопасности на вершине огромной накаленной солнцем скалы на внутренней стороне рифа.
С тех пор как я спрыгнул с плота, мне поистине не хватало наших лоцманов, которые раньше скользили в воде впереди нас. Теперь большие бальсовые бревна лежали поверх рифа, погруженные в воду на каких-нибудь 15 сантиметров, и под носом плота извивались коричневые морские моллюски. Лоцманы исчезли. Золотые макрели исчезли. Лишь неизвестные плоские рыбы с павлиньей окраской и тупым хвостом деловито скользили взад и вперед между бревнами. Мы прибыли в новый мир. Юханнес покинул свою дыру. Он, без сомнения, нашел здесь другое убежище.
Я в последний раз осмотрелся на плоту и заметил крошечную пальму в сплющенной корзине. Из глазка кокосового ореха выступал стебель длиной в 45 сантиметров, а снизу торчали два корня. Я зашагал вброд к острову, держа в руке этот орех. За несколько шагов впереди от себя я увидел Кнута, который весело брел по воде к берегу, держа под мышкой модель плота; он смастерил ее во время путешествия, затратив немало времени. Вскоре мы обогнали Бенгта. Он был превосходный эконом. С шишкой на лбу, с мокрой бородой, с которой капала морская вода, он шел согнувшись и подталкивал ящик, который принимался танцевать перед ним всякий раз, как в лагуну попадал поток воды от разбившихся у наружной стороны рифа бурунов. Он гордо приоткрыл крышку ящика. Это был кухонный ящик, а в нем примус и кухонные принадлежности в полном порядке.
Я никогда не забуду этого перехода по рифам к чудесному острову, поросшему пальмами, который становился все больше по мере того, как мы приближались к нему. Когда я добрался до солнечного песчаного берега, я сбросил ботинки и шел, зарываясь пальцами ног в теплый, абсолютно сухой песок. Мне как бы доставлял наслаждение вид каждого следа, оставшегося на девственном песчаном берегу, уходившем вверх к пальмовой роще. Вскоре кроны пальм сомкнулись над моей головой, а я все шел вперед к центру крошечного острова. Зеленые кокосовые орехи висели под макушками пальм, а какие-то пышные кусты были густо усеяны белоснежными цветами, которые пахли так сладко и упоительно, что у меня стала кружиться голова. Две совершенно ручные крачки порхали над моими плечами. Они были такие белые и легкие, что напоминали крохотные вытянутые облачка. Маленькие ящерицы выскальзывали из-под ног; самыми главными обитателями острова были большие кроваво-красные раки-отшельники, медленно ползавшие во всех направлениях с украденными раковинами улиток величиной с яйцо, в которых была спрятана их мягкая задняя половина тела.
Я был совершенно потрясен. Я стал на колени и запустил пальцы глубоко в сухой теплый песок.
Путешествие окончилось. Мы все были живы. Мы высадились на маленький необитаемый остров Южного моря. И что за остров! Торстейн подошел ко мне, сбросил мешок, растянулся на песке и, лежа на спине, смотрел на верхушки пальм и на легких, как пушинки, белых птиц, которые бесшумно кружились над нами. Вскоре мы все шестеро лежали здесь. Герман, всегда полный энергии, вскарабкался на небольшую пальму и сбросил гроздь зеленых кокосовых орехов. Нашими ножами-мачете мы срезали их мягкие верхушки, как будто это были яйца, и, запрокинув головы, стали пить самый восхитительный в мире освежающий напиток — сладкое холодное молоко молодого, незрелого плода кокосовой пальмы. С наружной стороны рифа снова доносился монотонный барабанный бой стражи, охранявшей «ворота рая».
— В чистилище было несколько сыровато, — сказал Бенгт, — но рай примерно таков, каким я его себе представлял.
Мы блаженно растянулись на земле и улыбались белым пассатным облакам, проплывавшим на запад высоко над вершинами пальм. Теперь мы больше не следовали беспомощно за облаками; теперь мы лежали на твердой земле неподвижного острова, в настоящей Полинезии.
И пока мы лежали, растянувшись, буруны у рифа грохотали, как поезд, — туда и сюда, туда и сюда, вдоль всего горизонта.
Бенгт был прав: мы попали в рай.
Отойдя на порядочное расстояние вдоль рифа, мои товарищи обнаружили резиновый плот, который лежал, покачиваясь, наполненный водой. Они вылили из него воду и подтащили его обратно к разбитому плоту; тут мы до отказа нагрузили его самым необходимым — радиостанцией, продовольствием и бутылями с водой. Все это мы перетащили через риф и сложили в кучу на самую верхушку огромной коралловой глыбы, которая одиноко возвышалась на внутренней стороне рифа, напоминая огромный метеорит. Затем мы отправились обратно к месту крушения за новым грузом. Разве могли мы знать, какой вышины достигнут волны, когда на нас устремятся приливные течения?
На мелководье с внутренней стороны рифа мы заметали какой-то предмет, ярко блестевший на солнце. Когда мы вброд подошли, чтобы поднять его, мы увидели, к нашему удивлению, две пустые консервные банки. Это оказалось не совсем то, на что мы надеялись; еще больше мы поразились, когда увидели, что маленькие банки были совершенно светлые и лишь недавно открыты, а этикетки на них с надписью «ананас» были в точности такие, как на банках из новых полевых рационов, которые мы сами испытывали по поручению интендантского управления. Конечно, это были наши собственные банки из-под ананасов, выброшенные после последней трапезы на борту «Кон-Тики». Мы все время плыли вслед за ними до самого рифа.
Мы стояли на острых шероховатых коралловых глыбах и, ступая по неровному дну, брели в воде то по щиколотку, то по грудь — в зависимости от глубины русел и каналов среди рифов. Анемоны и кораллы придавали всему рифу вид какого-то скалистого сада с мхами, кактусами и окаменелыми растениями, красными, зелеными, желтыми и белыми. Все цвета были здесь представлены либо кораллами, либо водорослями, либо раковинами и морскими моллюсками, либо фантастическими рыбами, которые извивались повсюду вокруг нас. В более глубоких каналах в прозрачной воде мы видели небольших акул длиною в метр с лишним, подкрадывавшихся к нам. Но стоило шлепнуть по воде ладонью, как они поворачивали в сторону и отплывали на почтительное расстояние.
Там, где мы были выброшены на риф, нас окружали лишь лужи воды с кое-где выступавшими островками влажных кораллов, а дальше простиралась спокойная синяя лагуна. Шел отлив, и все новые коралловые островки выступали из воды, а прибой, беспрерывно грохотавший вдоль рифа, стал ниже, как бы опустившись на один этаж. Что произойдет здесь, на узком рифе, когда начнется прилив, трудно было сказать. Нам надо уходить.
Риф, напоминая наполовину погруженную в воду крепостную стену, тянулся к северу и к югу от нас. У южного края виднелся длинный остров, густо поросший лесом из пальм. А к северу, вблизи от нас, на расстоянии 600–700 метров находился другой, но значительно меньший остров, также поросший пальмами. Он лежал с внутренней стороны рифа; верхушки пальм поднимались к небу, а белоснежные песчаные пляжи спускались к тихой лагуне. Весь островок походил на огромную зеленую корзину цветов или на миниатюрный рай. На этом острове мы и остановили свой выбор.
Герман стоял рядом со мной, и широкая улыбка сияла на его бородатом лице. Он не произнес ни слова, только протянул руку и тихо засмеялся. «Кон-Тики» все еще сидел на наружной стороне рифа, и брызги прибоя перелетали через него. Он был инвалидом, но почетным инвалидом. На палубе все было исковеркано, но девять бальсовых бревен из киведских джунглей в Эквадоре были по-прежнему совершенно целы. Они спасли нам жизнь. Океан поживился немногим из нашего груза, а то, что мы сложили внутри каюты, осталось в полной сохранности. Мы сами сняли с плота все, что представляло какую-нибудь ценность, и теперь наше имущество лежало в безопасности на вершине огромной накаленной солнцем скалы на внутренней стороне рифа.
С тех пор как я спрыгнул с плота, мне поистине не хватало наших лоцманов, которые раньше скользили в воде впереди нас. Теперь большие бальсовые бревна лежали поверх рифа, погруженные в воду на каких-нибудь 15 сантиметров, и под носом плота извивались коричневые морские моллюски. Лоцманы исчезли. Золотые макрели исчезли. Лишь неизвестные плоские рыбы с павлиньей окраской и тупым хвостом деловито скользили взад и вперед между бревнами. Мы прибыли в новый мир. Юханнес покинул свою дыру. Он, без сомнения, нашел здесь другое убежище.
Я в последний раз осмотрелся на плоту и заметил крошечную пальму в сплющенной корзине. Из глазка кокосового ореха выступал стебель длиной в 45 сантиметров, а снизу торчали два корня. Я зашагал вброд к острову, держа в руке этот орех. За несколько шагов впереди от себя я увидел Кнута, который весело брел по воде к берегу, держа под мышкой модель плота; он смастерил ее во время путешествия, затратив немало времени. Вскоре мы обогнали Бенгта. Он был превосходный эконом. С шишкой на лбу, с мокрой бородой, с которой капала морская вода, он шел согнувшись и подталкивал ящик, который принимался танцевать перед ним всякий раз, как в лагуну попадал поток воды от разбившихся у наружной стороны рифа бурунов. Он гордо приоткрыл крышку ящика. Это был кухонный ящик, а в нем примус и кухонные принадлежности в полном порядке.
Я никогда не забуду этого перехода по рифам к чудесному острову, поросшему пальмами, который становился все больше по мере того, как мы приближались к нему. Когда я добрался до солнечного песчаного берега, я сбросил ботинки и шел, зарываясь пальцами ног в теплый, абсолютно сухой песок. Мне как бы доставлял наслаждение вид каждого следа, оставшегося на девственном песчаном берегу, уходившем вверх к пальмовой роще. Вскоре кроны пальм сомкнулись над моей головой, а я все шел вперед к центру крошечного острова. Зеленые кокосовые орехи висели под макушками пальм, а какие-то пышные кусты были густо усеяны белоснежными цветами, которые пахли так сладко и упоительно, что у меня стала кружиться голова. Две совершенно ручные крачки порхали над моими плечами. Они были такие белые и легкие, что напоминали крохотные вытянутые облачка. Маленькие ящерицы выскальзывали из-под ног; самыми главными обитателями острова были большие кроваво-красные раки-отшельники, медленно ползавшие во всех направлениях с украденными раковинами улиток величиной с яйцо, в которых была спрятана их мягкая задняя половина тела.
Я был совершенно потрясен. Я стал на колени и запустил пальцы глубоко в сухой теплый песок.
Путешествие окончилось. Мы все были живы. Мы высадились на маленький необитаемый остров Южного моря. И что за остров! Торстейн подошел ко мне, сбросил мешок, растянулся на песке и, лежа на спине, смотрел на верхушки пальм и на легких, как пушинки, белых птиц, которые бесшумно кружились над нами. Вскоре мы все шестеро лежали здесь. Герман, всегда полный энергии, вскарабкался на небольшую пальму и сбросил гроздь зеленых кокосовых орехов. Нашими ножами-мачете мы срезали их мягкие верхушки, как будто это были яйца, и, запрокинув головы, стали пить самый восхитительный в мире освежающий напиток — сладкое холодное молоко молодого, незрелого плода кокосовой пальмы. С наружной стороны рифа снова доносился монотонный барабанный бой стражи, охранявшей «ворота рая».
— В чистилище было несколько сыровато, — сказал Бенгт, — но рай примерно таков, каким я его себе представлял.
Мы блаженно растянулись на земле и улыбались белым пассатным облакам, проплывавшим на запад высоко над вершинами пальм. Теперь мы больше не следовали беспомощно за облаками; теперь мы лежали на твердой земле неподвижного острова, в настоящей Полинезии.
И пока мы лежали, растянувшись, буруны у рифа грохотали, как поезд, — туда и сюда, туда и сюда, вдоль всего горизонта.
Бенгт был прав: мы попали в рай.

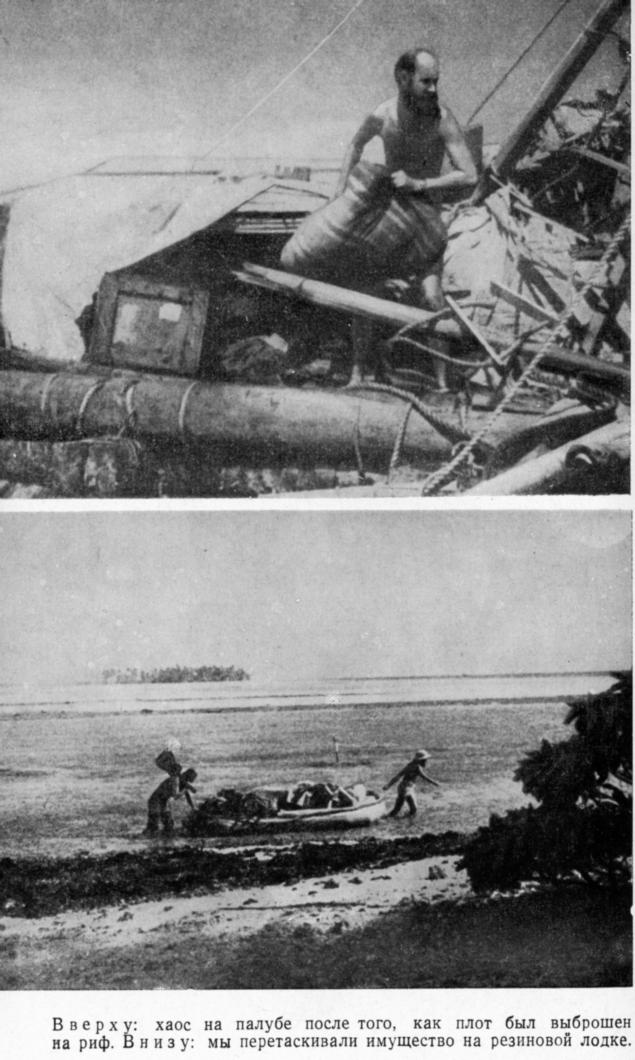 Около места, где нас выбросило на риф, мы нашли тяжелый, пропитанный водой парус и притащили его на берег. Мы натянули парус между двумя толстыми пальмами на маленькой лужайке, с которой открывался вид на лагуну; два других угла мы укрепили на бамбуковых жердях, приплывших с места крушения. Густая изгородь из буйно цветущих кустов подпирала парус, так что у нас была крыша и три стены; перед нашим взором расстилалась сверкающая лагуна, а воздух вокруг нас был полон вкрадчивого аромата цветов. Приятно было очутиться здесь. Мы все удовлетворенно посмеивались и наслаждались покоем; каждый устроил себе постель из свежих пальмовых листьев, предварительно убрав обломки ветвей кораллов, которые совершенно некстати торчали из песка. До наступления ночи мы приготовили очень удобное место для сна, а у себя над головой мы видели бородатое лицо доброго старого Кон-Тики. Он больше не выпячивал свою грудь под напором восточного ветра. Теперь он неподвижно лежал на спине и смотрел на звезды, которые мерцали над Полинезией.
На кустах вокруг нас висели мокрые флаги и спальные мешки, а намокшая одежда лежала и сохла на песке. Еще один день на этом солнечном острове, и все хорошенько высохнет. Даже радистам пришлось прекратить свою работу в ожидании, что на следующий день солнце высушит их аппаратуру. Мы сняли с кустов спальные мешки и залезли в них, хвастливо споря о том, у кого самый сухой мешок. Победителем был признан Бенгт: когда он повернулся, его мешок не захлюпал. Силы небесные, до чего хорошо было иметь возможность заснуть!
Когда мы проснулись на заре, парус оказался провисшим и наполненным чистой прозрачной дождевой водой. Бенгт позаботился об этом неожиданном даре, а затем не спеша спустился к лагуне и выбросил на берег несколько забавных рыб, которых он заманил в каналы, прорытые им в песке.
Ночью у Германа разболелась шея и спина в тех местах, которые он повредил себе перед отплытием из Лимы, а у Эрика был приступ давно не повторявшегося прострела. В остальном наша прогулка через риф имела удивительно легкие последствия: мы отделались царапинами и незначительными ранами, только Бенгт, которого упавшая мачта ударила по лбу, получил легкое сотрясение. Самый забавный вид был у меня: руки и ноги были покрыты иссиня-черными синяками — с такой силой я сжимал ими веревку.
Ни один из нас, впрочем, не чувствовал себя настолько плохо, чтобы вид сверкающей прозрачной лагуны не соблазнил его наскоро выкупаться перед завтраком. Лагуна была огромна. Вдали она была синяя и от пассата покрывалась рябью; и она была так широка, что мы едва могли различить ряд окутанных голубой дымкой, поросших пальмами островов, которые окаймляли атолл с противоположной стороны. Но здесь, на подветренной стороне островов, пассат мирно шелестел в перистых листьях пальм, которые слегка покачивались, а лагуна лежала внизу, как неподвижное зеркало, и отражала всю их красоту. Горько-соленая вода была чистой и прозрачной; ярко окрашенные кораллы на глубине почти трех метров казались лежащими так близко к поверхности, что мы боялись порезать себе о них ноги при купанье. В воде кишели чудеснейшие разновидности рыб самой разнообразной окраски. Перед нами раскрывался изумительный мир, полный развлечений. Вода была в меру прохладна, чтобы освежать, а воздух сух и нагрет солнцем до приятной теплоты. Но сегодня нужно было скорей вылезать на берег: Раротонга передаст тревожные сообщения, если до конца дня с плота не поступит никаких известий.
Катушки и другие детали радиопередатчика были разложены на совершенно сухих коралловых плитах и сохли на тропическом солнце, а Торстейн и Кнут соединяли и завинчивали. Прошло все утро, и обстановка становилась все более и более напряженной. Мы забросили все остальные дела и окружили наших радистов в надежде, что сумеем им чем-нибудь помочь. Мы должны быть в эфире до десяти часов вечера. К этому времени истечет тридцатишестичасовой срок, и радиолюбитель с Раротонги передаст призывы о высылке самолета и спасательных экспедиций.
Настал полдень, затем вечер, и солнце зашло. Хватило бы только выдержки у человека на Раротонге! Семь часов, восемь, девять. Напряжение достигло предела. Ни признака жизни в передатчике, но приемник NC-173 стал оживать у самого основания шкалы, где слабо звучала какая-то музыка. Но на любительском диапазоне ничего не было слышно. Постепенно, однако, звуки начали пробиваться — вероятно, все зависело от сырой обмотки, которая просыхала с одного конца. Передатчик все еще был мертв — повсюду короткие замыкания и искры.
Оставалось меньше часа. Ничего не выйдет! Передатчик вышел из строя, и мы решили снова испробовать маленький подпольный передатчик, которым пользовались во время войны. Несколько попыток мы уже делали в течение дня, но безрезультатно. Может быть, он теперь немного подсох? Все батареи были совершенно испорчены, и для получения тока нам приходилось крутить маленькую ручную динамку. Это была нелегкая работа, и мы четверо, профаны в радиотехнике, в течение всего дня сидели и крутили эту адскую штуку.
Тридцать шесть часов должны были скоро истечь. Я помню, как кто-то шептал: «семь минут», «пять минут», и затем больше никто не смотрел на часы. Передатчик был по-прежнему нем, но приемник что-то бормотал уже близко к нужной нам волне. Вдруг он затрещал на волне любителя с Раротонги, и мы решили, что он ведет разговор с радиостанцией на Таити. Вскоре мы уловили следующий отрывок радиограммы, переданной с Раротонги:
«…ни одного самолета по эту сторону островов Самоа. Я совершенно уверен…»
Затем все снова затихло. Напряжение стало невыносимым. Что они там затевают? Неужели они уже посылают самолет и спасательные экспедиции? Теперь, без сомнения, сообщения о нас разносятся по эфиру во все стороны.
Оба радиста продолжали лихорадочно работать. С их лиц стекал такой же обильный пот, как и с лица того, кто крутил рукоятку динамки. Электрические колебания постепенно стали появляться в контуре антенны передатчика, и Торстейн в экстазе указывал на стрелку, медленно подымавшуюся по шкале, когда он нажимал ключ Морзе. Дело шло на лад!
Мы, как безумные, крутили рукоятку, а Торстейн вызывал Раротонгу. Никто не слышал нас. Еще раз. Теперь опять пробудился приемник, но Раротонга нас не слышала. Мы вызывали Гала и Френка в Лос-Анжелосе и морское училище в Лиме, но никто не слышал нас.
Тогда Торстейн послал сигнал CQ: иначе говоря, он вызывал все станции в мире, которые могли услышать нас на нашей любительской короткой волне.
Это дало некоторый результат. Теперь чей-то слабый голос из эфира стал тихо вызывать нас. Мы повторили сигнал и сказали, что слышим его. Тогда тихий голос из эфира произнес:
— Меня зовут Поль, я живу в Колорадо; как вас зовут и где вы живете?
Это был какой-то радиолюбитель. Мы продолжали крутить ручку, а Торстейн схватил ключ и ответил:
— Это «Кон-Тики», нас выбросило на необитаемый остров в Тихом океане.
Поль совершенно не поверил этому сообщению. Он думал, что какой-то коротковолновик из соседнего квартала разыгрывает его, и больше не появлялся в эфире. В отчаянии мы рвали на себе волосы. Вот мы сидим здесь, под пальмами, звездной ночью на необитаемом острове, и никто не верит нашим словам.
Торстейн не сдавался; он снова взялся за ключ и беспрерывно передавал: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Мы во что бы то ни стало должны приостановить подготовку всех этих спасательных экспедиций в разных концах Тихого океана.
Вдруг мы услышали в приемнике, как кто-то довольно тихо спросил:
— Если все в порядке, то зачем волноваться?
Около места, где нас выбросило на риф, мы нашли тяжелый, пропитанный водой парус и притащили его на берег. Мы натянули парус между двумя толстыми пальмами на маленькой лужайке, с которой открывался вид на лагуну; два других угла мы укрепили на бамбуковых жердях, приплывших с места крушения. Густая изгородь из буйно цветущих кустов подпирала парус, так что у нас была крыша и три стены; перед нашим взором расстилалась сверкающая лагуна, а воздух вокруг нас был полон вкрадчивого аромата цветов. Приятно было очутиться здесь. Мы все удовлетворенно посмеивались и наслаждались покоем; каждый устроил себе постель из свежих пальмовых листьев, предварительно убрав обломки ветвей кораллов, которые совершенно некстати торчали из песка. До наступления ночи мы приготовили очень удобное место для сна, а у себя над головой мы видели бородатое лицо доброго старого Кон-Тики. Он больше не выпячивал свою грудь под напором восточного ветра. Теперь он неподвижно лежал на спине и смотрел на звезды, которые мерцали над Полинезией.
На кустах вокруг нас висели мокрые флаги и спальные мешки, а намокшая одежда лежала и сохла на песке. Еще один день на этом солнечном острове, и все хорошенько высохнет. Даже радистам пришлось прекратить свою работу в ожидании, что на следующий день солнце высушит их аппаратуру. Мы сняли с кустов спальные мешки и залезли в них, хвастливо споря о том, у кого самый сухой мешок. Победителем был признан Бенгт: когда он повернулся, его мешок не захлюпал. Силы небесные, до чего хорошо было иметь возможность заснуть!
Когда мы проснулись на заре, парус оказался провисшим и наполненным чистой прозрачной дождевой водой. Бенгт позаботился об этом неожиданном даре, а затем не спеша спустился к лагуне и выбросил на берег несколько забавных рыб, которых он заманил в каналы, прорытые им в песке.
Ночью у Германа разболелась шея и спина в тех местах, которые он повредил себе перед отплытием из Лимы, а у Эрика был приступ давно не повторявшегося прострела. В остальном наша прогулка через риф имела удивительно легкие последствия: мы отделались царапинами и незначительными ранами, только Бенгт, которого упавшая мачта ударила по лбу, получил легкое сотрясение. Самый забавный вид был у меня: руки и ноги были покрыты иссиня-черными синяками — с такой силой я сжимал ими веревку.
Ни один из нас, впрочем, не чувствовал себя настолько плохо, чтобы вид сверкающей прозрачной лагуны не соблазнил его наскоро выкупаться перед завтраком. Лагуна была огромна. Вдали она была синяя и от пассата покрывалась рябью; и она была так широка, что мы едва могли различить ряд окутанных голубой дымкой, поросших пальмами островов, которые окаймляли атолл с противоположной стороны. Но здесь, на подветренной стороне островов, пассат мирно шелестел в перистых листьях пальм, которые слегка покачивались, а лагуна лежала внизу, как неподвижное зеркало, и отражала всю их красоту. Горько-соленая вода была чистой и прозрачной; ярко окрашенные кораллы на глубине почти трех метров казались лежащими так близко к поверхности, что мы боялись порезать себе о них ноги при купанье. В воде кишели чудеснейшие разновидности рыб самой разнообразной окраски. Перед нами раскрывался изумительный мир, полный развлечений. Вода была в меру прохладна, чтобы освежать, а воздух сух и нагрет солнцем до приятной теплоты. Но сегодня нужно было скорей вылезать на берег: Раротонга передаст тревожные сообщения, если до конца дня с плота не поступит никаких известий.
Катушки и другие детали радиопередатчика были разложены на совершенно сухих коралловых плитах и сохли на тропическом солнце, а Торстейн и Кнут соединяли и завинчивали. Прошло все утро, и обстановка становилась все более и более напряженной. Мы забросили все остальные дела и окружили наших радистов в надежде, что сумеем им чем-нибудь помочь. Мы должны быть в эфире до десяти часов вечера. К этому времени истечет тридцатишестичасовой срок, и радиолюбитель с Раротонги передаст призывы о высылке самолета и спасательных экспедиций.
Настал полдень, затем вечер, и солнце зашло. Хватило бы только выдержки у человека на Раротонге! Семь часов, восемь, девять. Напряжение достигло предела. Ни признака жизни в передатчике, но приемник NC-173 стал оживать у самого основания шкалы, где слабо звучала какая-то музыка. Но на любительском диапазоне ничего не было слышно. Постепенно, однако, звуки начали пробиваться — вероятно, все зависело от сырой обмотки, которая просыхала с одного конца. Передатчик все еще был мертв — повсюду короткие замыкания и искры.
Оставалось меньше часа. Ничего не выйдет! Передатчик вышел из строя, и мы решили снова испробовать маленький подпольный передатчик, которым пользовались во время войны. Несколько попыток мы уже делали в течение дня, но безрезультатно. Может быть, он теперь немного подсох? Все батареи были совершенно испорчены, и для получения тока нам приходилось крутить маленькую ручную динамку. Это была нелегкая работа, и мы четверо, профаны в радиотехнике, в течение всего дня сидели и крутили эту адскую штуку.
Тридцать шесть часов должны были скоро истечь. Я помню, как кто-то шептал: «семь минут», «пять минут», и затем больше никто не смотрел на часы. Передатчик был по-прежнему нем, но приемник что-то бормотал уже близко к нужной нам волне. Вдруг он затрещал на волне любителя с Раротонги, и мы решили, что он ведет разговор с радиостанцией на Таити. Вскоре мы уловили следующий отрывок радиограммы, переданной с Раротонги:
«…ни одного самолета по эту сторону островов Самоа. Я совершенно уверен…»
Затем все снова затихло. Напряжение стало невыносимым. Что они там затевают? Неужели они уже посылают самолет и спасательные экспедиции? Теперь, без сомнения, сообщения о нас разносятся по эфиру во все стороны.
Оба радиста продолжали лихорадочно работать. С их лиц стекал такой же обильный пот, как и с лица того, кто крутил рукоятку динамки. Электрические колебания постепенно стали появляться в контуре антенны передатчика, и Торстейн в экстазе указывал на стрелку, медленно подымавшуюся по шкале, когда он нажимал ключ Морзе. Дело шло на лад!
Мы, как безумные, крутили рукоятку, а Торстейн вызывал Раротонгу. Никто не слышал нас. Еще раз. Теперь опять пробудился приемник, но Раротонга нас не слышала. Мы вызывали Гала и Френка в Лос-Анжелосе и морское училище в Лиме, но никто не слышал нас.
Тогда Торстейн послал сигнал CQ: иначе говоря, он вызывал все станции в мире, которые могли услышать нас на нашей любительской короткой волне.
Это дало некоторый результат. Теперь чей-то слабый голос из эфира стал тихо вызывать нас. Мы повторили сигнал и сказали, что слышим его. Тогда тихий голос из эфира произнес:
— Меня зовут Поль, я живу в Колорадо; как вас зовут и где вы живете?
Это был какой-то радиолюбитель. Мы продолжали крутить ручку, а Торстейн схватил ключ и ответил:
— Это «Кон-Тики», нас выбросило на необитаемый остров в Тихом океане.
Поль совершенно не поверил этому сообщению. Он думал, что какой-то коротковолновик из соседнего квартала разыгрывает его, и больше не появлялся в эфире. В отчаянии мы рвали на себе волосы. Вот мы сидим здесь, под пальмами, звездной ночью на необитаемом острове, и никто не верит нашим словам.
Торстейн не сдавался; он снова взялся за ключ и беспрерывно передавал: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Мы во что бы то ни стало должны приостановить подготовку всех этих спасательных экспедиций в разных концах Тихого океана.
Вдруг мы услышали в приемнике, как кто-то довольно тихо спросил:
— Если все в порядке, то зачем волноваться?
 Затем эфир снова умолк. И это было все.
В полном отчаянии мы готовы были подпрыгнуть до верхушек пальм и стрясти с них все кокосовые орехи, и трудно сказать, что мы предприняли бы, если бы внезапно нас не услышали сразу и Раротонга и старина Гал. По словам Гала, он плакал от радости, услышав снова позывные L12B. Вся шумиха немедленно прекратилась; мы опять были одни, и никто нас не тревожил на нашем острове Южного моря. Совершенно измученные, мы улеглись спать на наши постели из пальмовых листьев.
На следующий день мы никуда не торопились и в полную меру наслаждались жизнью. Одни купались, другие рыбачили или бродили по рифу в поисках любопытных морских животных; самые энергичные приводили в порядок лагерь и украшали его окрестности. На берегу, откуда виден был «Кон-Тики», на опушке пальмовой рощи мы выкопали яму, выложили ее листьями и посадили проросший кокосовый орех, привезенный из Перу. Рядом, как раз напротив того места, где «Кон-Тики» наскочил на риф, мы построили пирамиду из коралловых глыб.
Затем эфир снова умолк. И это было все.
В полном отчаянии мы готовы были подпрыгнуть до верхушек пальм и стрясти с них все кокосовые орехи, и трудно сказать, что мы предприняли бы, если бы внезапно нас не услышали сразу и Раротонга и старина Гал. По словам Гала, он плакал от радости, услышав снова позывные L12B. Вся шумиха немедленно прекратилась; мы опять были одни, и никто нас не тревожил на нашем острове Южного моря. Совершенно измученные, мы улеглись спать на наши постели из пальмовых листьев.
На следующий день мы никуда не торопились и в полную меру наслаждались жизнью. Одни купались, другие рыбачили или бродили по рифу в поисках любопытных морских животных; самые энергичные приводили в порядок лагерь и украшали его окрестности. На берегу, откуда виден был «Кон-Тики», на опушке пальмовой рощи мы выкопали яму, выложили ее листьями и посадили проросший кокосовый орех, привезенный из Перу. Рядом, как раз напротив того места, где «Кон-Тики» наскочил на риф, мы построили пирамиду из коралловых глыб.
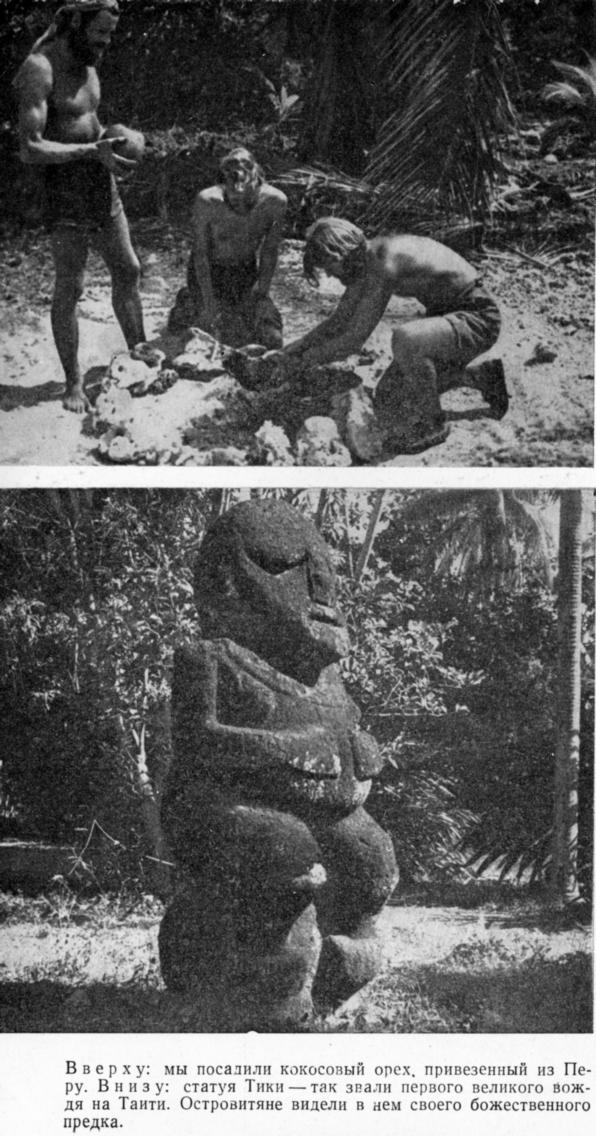 За ночь прибой продвинул «Кон-Тики» еще ближе к лагуне, и теперь, окруженный лишь несколькими лужами, он лежал почти целиком над водой, среди больших коралловых глыб далеко от наружного края рифа.
Прогревшись как следует в горячем песке, Эрик и Герман чувствовали себя гораздо лучше и захотели отправиться вдоль рифа на юг в надежде, что им удастся перебраться на большой остров, находившийся в той стороне. Я предупредил, чтобы они остерегались акул, а еще больше угрей[149], и они захватили с собой длинные ножи-мачете, засунув их за пояс. Коралловые рифы являются убежищем страшных угрей с длинными ядовитыми зубами, которыми они легко могут оторвать человеку ногу. При нападении они двигаются, извиваясь с молниеносной быстротой, и внушают панический ужас местным жителям, которые не боятся плавать рядом с акулой.
Эрик и Герман прошли вброд значительное расстояние по рифу на юг, но местами попадались более глубокие русла, по которым вода шла в этом направлении, и тогда им приходилось прыгать в воду и плыть. Они благополучно достигли большого острова и вброд перешли на берег. Длинный и узкий остров, покрытый пальмовым лесом, уходил дальше на юг; его солнечные пляжи были защищены от ветра рифом. Эрик и Герман продолжали идти вдоль острова, пока не достигли южной оконечности. Отсюда риф, покрытый белой пеной, шел дальше на юг к другим островам. Здесь наши исследователи нашли разбитый остов большого корабля; у него было четыре мачты, и он лежал на берегу, разделенный на две части. Эта был старый испанский парусник, груженный рельсами, и ржавые рельсы были разбросаны вдоль рифа. Эрик и Герман вернулись по другой стороне острова, но ни одного следа на песке им обнаружить не удалось.
На обратном пути через риф они тo и дело вспугивали каких-то странных рыб и пытались поймать некоторых из них; внезапно на них напало не меньше восьми крупных угрей. Эрик и Герман увидели в прозрачной воде, как те приближались, и вскочили на большую коралловую глыбу; угри стали извиваться вокруг нее. Скользкие чудовища толщиной с мужскую голень были усеяны зелеными и черными пятнами, напоминая ядовитых змей; на маленькой голове блестели злые змеиные глаза, а зубы, острые, как шило, имели в длину два-три сантиметра. Когда маленькие покачивавшиеся головки, извиваясь, приблизились, Эрик и Герман взмахнули ножами; голова одного угря была отрублена, другой был ранен. Кровь в воде привлекла целую стаю молодых голубых акул, которые набросились на мертвого и раненого угрей, а Эрику и Герману удалось перепрыгнуть на другую коралловую глыбу и уйти.
В этот же день я шел вброд к нашему острову, как вдруг кто-то молниеносным движением вцепился с обеих сторон в мою лодыжку и крепко повис на ней. Это оказался осьминог. Он был не крупный, но трудно передать то ужасное ощущение, которое я испытывал, когда холодные щупальца обвили мою ногу и на меня смотрели злобные маленькие глаза, торчавшие на багрово-красном слизистом мешке, представлявшем собой тело осьминога. Я изо всех сил дрыгнул ногой, и осьминог, который не имел в длину и метра, последовал за ней, но щупалец не разжал. По-видимому, его привлекала повязка на моей ноге. Я рывками двигался к берегу с прицепившимся к ноге отвратительным созданием. Лишь тогда, когда я достиг края сухого песка, осьминог отпустил меня и стал медленно отступать по мелководью; его щупальца были вытянуты в направлении берега, и он не спускал с него глаз, как бы готовый к новому нападению, если я того пожелаю. Когда я бросил в осьминога несколько крупных кусков коралла, он поспешно скрылся.
Разнообразные приключения среди рифов придавали только пикантность нашему блаженному существованию на островке. Но мы не собирались провести там всю свою жизнь, и пора было подумать, как вернуться в обычный мир. По истечении недели «Кон-Тики» пробил себе дорогу до средины кораллового барьера, где теперь лежал, прочно застряв на обнаженных рифах. Большие бревна, стараясь проложить себе путь вперед к лагуне, растолкали и обломали крупные глыбы коралла, но теперь деревянный плот засел недвижимо, и сколько мы его ни тащили и ни толкали, все было бесполезно. Если бы нам только удалось спустить разбитый плот в лагуну, мы могли бы, во всяком случае, срастить мачту и оснастить его достаточно для того, чтобы, плывя по ветру, пересечь мирную лагуну и посмотреть что окажется по ту сторону ее. Если какой-нибудь из островов был населен, то скорее всего тот, который находился далеко на горизонте к западу, где атолл изгибается к подветренной стороне.
Шли дни.
И вот однажды утром кто-то из наших прибежал сломя голову и сообщил, что видел белый парус на лагуне. С более возвышенного места у опушки пальмовой рощи мы могли различить крохотное белое пятнышко, которое отчетливо выделялось на фоне опалово-синей лагуны. Совершенно очевидно, это была парусная лодка, только что отплывшая от противоположного берега. Мы видели, как она повернула на другой галс. Вскоре показался еще один парус.
В течение всего утра они постепенно приближались и увеличивались в размере. Они шли прямо к нам. Мы подняли на верхушку пальмы французский флаг и размахивали нашим норвежским флагом, привязанным к шесту. Один парус находился уже так близко, что мы могли различить под ним полинезийскую пирогу с балансиром. Оснастка ее была более современного типа. Две коричневые фигуры стояли в пироге и смотрели на нас. Мы замахали руками. Они помахали в ответ и подплыли прямо к берегу по мелководью.
— Иа ора на, — приветствовали мы их на полинезийском языке.
— Иа ора на! — хором крикнули они в ответ, и один выпрыгнул из пироги и потащил ее за собой, идя в воде по песчаному дну прямо к нам.
Оба гостя были в европейской одежде, но их хорошо сложенные тела были коричневыми. Ноги у них были голые, а на голове для защиты от солнца они носили самодельные соломенные шляпы. Полинезийцы добрались до берега и несколько неуверенно стали приближаться к нам; но когда мы все до очереди, улыбаясь, пожали им руки, они засияли широкими улыбками, обнажив два ряда ослепительно белых зубов; эти улыбки говорили больше, чем слова.
Наше приветствие на полинезийском языке удивило и приободрило наших гостей, введя их в такое же заблуждение, в каком оказались мы сами, когда их соплеменник с Ангатау кричал нам по-английски «добрый вечер». Они принялись что-то быстро и горячо рассказывать нам по-полинезийски, и прошло немало времени, прежде чем они поняли, что их излияния совершенно не достигают цели. Тогда они умолкли и лишь дружелюбно посмеивались, указывая на другую пирогу, которая теперь приближалась.
В ней было три человека, и когда они вброд достигли берега и поздоровались с нами, то оказалось, что один из них немного говорит по-французски. Мы узнали, что на одном из островов по ту сторону лагуны находится полинезийская деревня и что жители ее как-то видели ночью наш костер. В рифе Рароиа имеется всего один-единственный проход, ведущий к островам, которые окружают лагуну; и так как этот проход расположен у самой деревни, то всякого, кто приблизится к островам, лежащим за рифом, жители деревни должны были бы обязательно заметить. Поэтому старики в деревне пришли к заключению, что огонь, который они видели на рифе к востоку, не мог быть делом человеческих рук, а являлся чем-то сверхъестественным. Это лишило островитян всякого желания переплыть лагуну и самим посмотреть, что произошло. Но затем к их острову прибило приплывший по лагуне сломанный ящик, и на нем были нарисованы какие-то знаки. Двое из островитян, которые побывали на Таити и знали азбуку, разобрали надпись и прочли слово «Тики», написанное большими черными буквами на доске. Теперь больше не оставалось никаких сомнений, что на рифе появились духи, так как Тики, — они все знали это, — был давным-давно умерший родоначальник их собственного народа. Но через некоторое время по лагуне приплыли банки с сухарями, сигаретами, кокосовые орехи и коробка со старым ботинком; тогда они все поняли, что на восточной стороне рифа произошло кораблекрушение, и вождь отправил две пироги на поиски уцелевших людей, чей костер на острове они видели.
По настоянию своих товарищей островитянин, говоривший по-французски, спросил, почему на доске, которая приплыла по лагуне, было написано «Тики». Мы объяснили, что «Кон-Тики» было написано на всем нашем снаряжении и что это название судна, на котором мы приплыли.
Наши новые друзья громкими восклицаниями выражали свое изумление, когда услышали, что никто не погиб при кораблекрушении и что плоский разбитый остов, лежавший на рифе, был действительно тем судном, на котором мы прибыли. Они хотели сразу же посадить нас всех в пироги и доставить в деревню. Мы поблагодарили и отказались, так как хотели остаться до тех пор, пока не снимем «Кон-Тики» с рифа. Они с ужасом смотрели на неуклюжее сооружение, застрявшее на рифе; конечно, мы не должны и мечтать о том, что нам удастся снова спустить на воду этот исковерканный остов! В конце концов посланец решительно заявил, что мы должны отправиться с ними; вождь дал им строгий приказ без нас не возвращаться.
Тогда мы решили, что один из нас поедет с островитянами в качестве посла для переговоров с вождем, а затем вернется и расскажет нам, какова обстановка на том острове. Мы не бросим плота на рифе и не можем оставить все снаряжение на нашем маленьком острове. Бенгт отправился с островитянами. Обе пироги столкнули с песчаного берега, и вскоре они, подгоняемые свежим ветром, исчезли на западе.
На следующий день на горизонте показались бесчисленные белые паруса. Казалось, теперь островитяне явились за нами на всех судах, какие у них были.
Вся флотилия повернула в нашу сторону, и когда она приблизилась, мы увидели на передней пироге среди коричневых фигур старину Бенгта, который размахивал шляпой. Он крикнул нам, что с ним находится сам вождь, и мы почтительно выстроились на берегу, чтобы встретить подходивших вброд гостей.
Бенгт очень торжественно представил нас вождю.
— Вождя зовут, — сказал Бенгт, — Тепиураиарии Териифаатау, но он поймет, кого мы имеем в виду, если мы будем называть его Тека.
Мы и стали называть его Тека.
За ночь прибой продвинул «Кон-Тики» еще ближе к лагуне, и теперь, окруженный лишь несколькими лужами, он лежал почти целиком над водой, среди больших коралловых глыб далеко от наружного края рифа.
Прогревшись как следует в горячем песке, Эрик и Герман чувствовали себя гораздо лучше и захотели отправиться вдоль рифа на юг в надежде, что им удастся перебраться на большой остров, находившийся в той стороне. Я предупредил, чтобы они остерегались акул, а еще больше угрей[149], и они захватили с собой длинные ножи-мачете, засунув их за пояс. Коралловые рифы являются убежищем страшных угрей с длинными ядовитыми зубами, которыми они легко могут оторвать человеку ногу. При нападении они двигаются, извиваясь с молниеносной быстротой, и внушают панический ужас местным жителям, которые не боятся плавать рядом с акулой.
Эрик и Герман прошли вброд значительное расстояние по рифу на юг, но местами попадались более глубокие русла, по которым вода шла в этом направлении, и тогда им приходилось прыгать в воду и плыть. Они благополучно достигли большого острова и вброд перешли на берег. Длинный и узкий остров, покрытый пальмовым лесом, уходил дальше на юг; его солнечные пляжи были защищены от ветра рифом. Эрик и Герман продолжали идти вдоль острова, пока не достигли южной оконечности. Отсюда риф, покрытый белой пеной, шел дальше на юг к другим островам. Здесь наши исследователи нашли разбитый остов большого корабля; у него было четыре мачты, и он лежал на берегу, разделенный на две части. Эта был старый испанский парусник, груженный рельсами, и ржавые рельсы были разбросаны вдоль рифа. Эрик и Герман вернулись по другой стороне острова, но ни одного следа на песке им обнаружить не удалось.
На обратном пути через риф они тo и дело вспугивали каких-то странных рыб и пытались поймать некоторых из них; внезапно на них напало не меньше восьми крупных угрей. Эрик и Герман увидели в прозрачной воде, как те приближались, и вскочили на большую коралловую глыбу; угри стали извиваться вокруг нее. Скользкие чудовища толщиной с мужскую голень были усеяны зелеными и черными пятнами, напоминая ядовитых змей; на маленькой голове блестели злые змеиные глаза, а зубы, острые, как шило, имели в длину два-три сантиметра. Когда маленькие покачивавшиеся головки, извиваясь, приблизились, Эрик и Герман взмахнули ножами; голова одного угря была отрублена, другой был ранен. Кровь в воде привлекла целую стаю молодых голубых акул, которые набросились на мертвого и раненого угрей, а Эрику и Герману удалось перепрыгнуть на другую коралловую глыбу и уйти.
В этот же день я шел вброд к нашему острову, как вдруг кто-то молниеносным движением вцепился с обеих сторон в мою лодыжку и крепко повис на ней. Это оказался осьминог. Он был не крупный, но трудно передать то ужасное ощущение, которое я испытывал, когда холодные щупальца обвили мою ногу и на меня смотрели злобные маленькие глаза, торчавшие на багрово-красном слизистом мешке, представлявшем собой тело осьминога. Я изо всех сил дрыгнул ногой, и осьминог, который не имел в длину и метра, последовал за ней, но щупалец не разжал. По-видимому, его привлекала повязка на моей ноге. Я рывками двигался к берегу с прицепившимся к ноге отвратительным созданием. Лишь тогда, когда я достиг края сухого песка, осьминог отпустил меня и стал медленно отступать по мелководью; его щупальца были вытянуты в направлении берега, и он не спускал с него глаз, как бы готовый к новому нападению, если я того пожелаю. Когда я бросил в осьминога несколько крупных кусков коралла, он поспешно скрылся.
Разнообразные приключения среди рифов придавали только пикантность нашему блаженному существованию на островке. Но мы не собирались провести там всю свою жизнь, и пора было подумать, как вернуться в обычный мир. По истечении недели «Кон-Тики» пробил себе дорогу до средины кораллового барьера, где теперь лежал, прочно застряв на обнаженных рифах. Большие бревна, стараясь проложить себе путь вперед к лагуне, растолкали и обломали крупные глыбы коралла, но теперь деревянный плот засел недвижимо, и сколько мы его ни тащили и ни толкали, все было бесполезно. Если бы нам только удалось спустить разбитый плот в лагуну, мы могли бы, во всяком случае, срастить мачту и оснастить его достаточно для того, чтобы, плывя по ветру, пересечь мирную лагуну и посмотреть что окажется по ту сторону ее. Если какой-нибудь из островов был населен, то скорее всего тот, который находился далеко на горизонте к западу, где атолл изгибается к подветренной стороне.
Шли дни.
И вот однажды утром кто-то из наших прибежал сломя голову и сообщил, что видел белый парус на лагуне. С более возвышенного места у опушки пальмовой рощи мы могли различить крохотное белое пятнышко, которое отчетливо выделялось на фоне опалово-синей лагуны. Совершенно очевидно, это была парусная лодка, только что отплывшая от противоположного берега. Мы видели, как она повернула на другой галс. Вскоре показался еще один парус.
В течение всего утра они постепенно приближались и увеличивались в размере. Они шли прямо к нам. Мы подняли на верхушку пальмы французский флаг и размахивали нашим норвежским флагом, привязанным к шесту. Один парус находился уже так близко, что мы могли различить под ним полинезийскую пирогу с балансиром. Оснастка ее была более современного типа. Две коричневые фигуры стояли в пироге и смотрели на нас. Мы замахали руками. Они помахали в ответ и подплыли прямо к берегу по мелководью.
— Иа ора на, — приветствовали мы их на полинезийском языке.
— Иа ора на! — хором крикнули они в ответ, и один выпрыгнул из пироги и потащил ее за собой, идя в воде по песчаному дну прямо к нам.
Оба гостя были в европейской одежде, но их хорошо сложенные тела были коричневыми. Ноги у них были голые, а на голове для защиты от солнца они носили самодельные соломенные шляпы. Полинезийцы добрались до берега и несколько неуверенно стали приближаться к нам; но когда мы все до очереди, улыбаясь, пожали им руки, они засияли широкими улыбками, обнажив два ряда ослепительно белых зубов; эти улыбки говорили больше, чем слова.
Наше приветствие на полинезийском языке удивило и приободрило наших гостей, введя их в такое же заблуждение, в каком оказались мы сами, когда их соплеменник с Ангатау кричал нам по-английски «добрый вечер». Они принялись что-то быстро и горячо рассказывать нам по-полинезийски, и прошло немало времени, прежде чем они поняли, что их излияния совершенно не достигают цели. Тогда они умолкли и лишь дружелюбно посмеивались, указывая на другую пирогу, которая теперь приближалась.
В ней было три человека, и когда они вброд достигли берега и поздоровались с нами, то оказалось, что один из них немного говорит по-французски. Мы узнали, что на одном из островов по ту сторону лагуны находится полинезийская деревня и что жители ее как-то видели ночью наш костер. В рифе Рароиа имеется всего один-единственный проход, ведущий к островам, которые окружают лагуну; и так как этот проход расположен у самой деревни, то всякого, кто приблизится к островам, лежащим за рифом, жители деревни должны были бы обязательно заметить. Поэтому старики в деревне пришли к заключению, что огонь, который они видели на рифе к востоку, не мог быть делом человеческих рук, а являлся чем-то сверхъестественным. Это лишило островитян всякого желания переплыть лагуну и самим посмотреть, что произошло. Но затем к их острову прибило приплывший по лагуне сломанный ящик, и на нем были нарисованы какие-то знаки. Двое из островитян, которые побывали на Таити и знали азбуку, разобрали надпись и прочли слово «Тики», написанное большими черными буквами на доске. Теперь больше не оставалось никаких сомнений, что на рифе появились духи, так как Тики, — они все знали это, — был давным-давно умерший родоначальник их собственного народа. Но через некоторое время по лагуне приплыли банки с сухарями, сигаретами, кокосовые орехи и коробка со старым ботинком; тогда они все поняли, что на восточной стороне рифа произошло кораблекрушение, и вождь отправил две пироги на поиски уцелевших людей, чей костер на острове они видели.
По настоянию своих товарищей островитянин, говоривший по-французски, спросил, почему на доске, которая приплыла по лагуне, было написано «Тики». Мы объяснили, что «Кон-Тики» было написано на всем нашем снаряжении и что это название судна, на котором мы приплыли.
Наши новые друзья громкими восклицаниями выражали свое изумление, когда услышали, что никто не погиб при кораблекрушении и что плоский разбитый остов, лежавший на рифе, был действительно тем судном, на котором мы прибыли. Они хотели сразу же посадить нас всех в пироги и доставить в деревню. Мы поблагодарили и отказались, так как хотели остаться до тех пор, пока не снимем «Кон-Тики» с рифа. Они с ужасом смотрели на неуклюжее сооружение, застрявшее на рифе; конечно, мы не должны и мечтать о том, что нам удастся снова спустить на воду этот исковерканный остов! В конце концов посланец решительно заявил, что мы должны отправиться с ними; вождь дал им строгий приказ без нас не возвращаться.
Тогда мы решили, что один из нас поедет с островитянами в качестве посла для переговоров с вождем, а затем вернется и расскажет нам, какова обстановка на том острове. Мы не бросим плота на рифе и не можем оставить все снаряжение на нашем маленьком острове. Бенгт отправился с островитянами. Обе пироги столкнули с песчаного берега, и вскоре они, подгоняемые свежим ветром, исчезли на западе.
На следующий день на горизонте показались бесчисленные белые паруса. Казалось, теперь островитяне явились за нами на всех судах, какие у них были.
Вся флотилия повернула в нашу сторону, и когда она приблизилась, мы увидели на передней пироге среди коричневых фигур старину Бенгта, который размахивал шляпой. Он крикнул нам, что с ним находится сам вождь, и мы почтительно выстроились на берегу, чтобы встретить подходивших вброд гостей.
Бенгт очень торжественно представил нас вождю.
— Вождя зовут, — сказал Бенгт, — Тепиураиарии Териифаатау, но он поймет, кого мы имеем в виду, если мы будем называть его Тека.
Мы и стали называть его Тека.
 Вождь Тека был высокий стройный полинезиец с глазами, говорившими о недюжинном уме. Он был знатным человеком, потомком старого королевского рода на Таити и являлся вождем обоих островов: и Рароиа и Такуме. Он учился в школе на Таити, знал французский язык и умел читать и писать. Он сказал мне, что столица Норвегии называется Христиания[150], и спросил, не знаю ли я Бинга Кросби[151]. Он сообщил нам также, что в течение последних десяти лет всего три иностранных судна заходили на Рароиа, но их деревню несколько раз в год посещают шхуны местных торговцев копрой с Гаити, которые привозят товары и забирают ядра кокосовых орехов. Они уже несколько недель поджидают такую шхуну, так что она может явиться в любое время.
Отчет Бенгта вкратце сводился к тому, что на Рароиа не было ни школы, ни радио, ни белых людей; но 127 полинезийцев, живущих в деревне, сделали все, что могли, чтобы устроить нас со всеми удобствами, и подготовили торжественный прием.
Первым делом вождь пожелал осмотреть судно, которое доставило нас живыми на риф. Мы отправились вброд к «Кон-Тики», сопровождаемые вереницей островитян. Когда мы приблизились, полинезийцы внезапно остановились и стали обмениваться замечаниями, громко крича все зараз. Теперь можно было ясно видеть бревна «Кон-Тики», и один из островитян воскликнул:
— Это не лодка, это пае-пае!
— Пае-пае! — повторили все его товарищи хором.
Поднимая брызги, они бросились бегом по рифу и взобрались на «Кон-Тики». Они лазили повсюду, возбужденные, как дети, ощупывали бревна, бамбуковое плетение и веревки. Вождь был в таком же приподнятом настроении, как и остальные; он вернулся к нам и несколько раз повторил:
— «Тики» не лодка, это пае-пае. — В его голосе звучало удивление и любопытство.
Пае-пае на полинезийском языке означает «плот» и «помост», а на острове Пасхи это же слово употребляется для обозначения местных лодок. Вождь рассказал нам, что теперь таких пае-пае больше не существует, но самые старые люди в деревне рассказывают древние предания о пае-пае. Все полинезийцы наперебой восхищались огромными бальсовыми бревнами, но от веревок они презрительно отворачивались. Такие веревки под действием соленой воды и солнца не выдержат и несколько месяцев. И островитяне с гордостью показывали нам снасти своих пирог; они сами сплели их из волокон кокосового ореха, и такие веревки безотказно служат пять лет.
Когда мы вернулись обратно на наш маленький остров, мы с общего согласия назвали его «Фенуа Кон-Тики», или «Остров Кон-Тики». Это название мы все могли произнести, но полинезийцам очень тяжело давалось произношение наших коротких северных имен. Они пришли в восторг, когда я сказал им, что они могут называть меня Тераи Матеата, так как великий вождь Таити дал мне это имя, «усыновив» меня во время моего первого путешествия в эти края.
Островитяне притащили из пирог домашнюю птицу, яйца и плоды хлебного дерева, другие с помощью трехзубой остроги набили в лагуне несколько крупных рыб, и вокруг лагерного костра началось пиршество. Мы должны были рассказать обо всех наших приключениях на пае-пае в океане, и рассказ о китовой акуле нам пришлось повторять все снова и снова. И каждый раз, когда дело доходило до того, как Эрик вонзил гарпун в череп акулы, слушатели издавали восторженные крики. Полинезийцы с первого взгляда узнавали всех рыб, зарисованных Эриком, и немедленно сообщали нам, как они называются на их языке. Но они никогда не видели ни китовой акулы, ни змеиной макрели и ничего не слышали о них.
Когда наступил вечер, мы, к величайшему удовольствию всех собравшихся, включили радио. Больше всего им понравилась церковная музыка, но затем, к нашему удивлению, мы поймали передававшуюся из Америки настоящую полинезийскую танцевальную музыку. Тогда самые веселые из островитян принялись покачивать руками, согнутыми над головой, и вскоре все наши гости вскочили на ноги и пустились в пляс в такт музыке. С наступлением ночи все улеглись на берегу вокруг костра. Для островитян это было такое же приключение, как и для нас.
Когда мы проснулись на следующее утро, полинезийцы уже встали и жарили свеженаловленную рыбу; шесть только что вскрытых кокосовых орехов были приготовлены для утоления нашей утренней жажды.
В этот день грохот у рифа был громче обычного; ветер усилился, и буруны высоко взлетали в воздух там, за остовом нашего судна.
— Сегодня «Тики» придет в лагуну, — сказал вождь, показывая на разбитый плот. — Прилив будет высокий.
Около одиннадцати часов вода, проходя мимо нас, стала проникать в лагуну. Лагуна начала наполняться, как огромный бассейн, и уровень воды вокруг всего острова поднимался. Позже из океана хлынули целые потоки. Вода шла валами, которые поднимались все выше, и покрыла большую часть рифа. Потоки воды проносились вдоль обеих сторон острова. Они отрывали крупные глыбы кораллов и наносили большие песчаные отмели, которые затем исчезали, подобно сдутой ветром муке, а в другом месте появлялись новые отмели. Отдельные бамбуковые жерди с разбитого плота проплыли мимо нас, и «Кон-Тики» стал шевелиться. Все, что лежало у берега, пришлось перетащить в глубь острова, чтобы спасти от прилива. Вскоре из-под воды виднелись лишь самые высокие выступы рифа, и все берега вокруг нашего острова исчезли, а океан подступал все ближе к лужайкам плоского, как блин, острова. Становилось жутковато. Казалось, весь океан наступает на нас. «Кон-Тики» повернулся на 180° и двинулся с места, но скоро опять застрял среди других коралловых глыб.
Полинезийцы бросились вводу и, то плывя, то идя вброд среди водоворотов, двигаясь от одной отмели до другой, добрались до плота. Кнут и Эрик сопровождали их. На плоту лежали приготовленные веревки, и когда он поднялся над последними коралловыми глыбами и сошел с рифа, островитяне прыгнули за борт и пытались удержать его. Они не знали «Кон-Тики» и его неукротимого стремления двигаться на запад. Плот тащил их за собой совершенно беспомощных, и вскоре он уже с приличной скоростью двигался через риф и дальше по лагуне. Достигнув более тихой воды, «Кон-Тики», казалось, слегка растерялся и стал оглядываться, как бы высматривая дальнейшие возможности. Прежде чем он двинулся дальше и обнаружил выход из лагуны, островитянам удалось обмотать конец веревки вокруг пальмы на берегу. И вот «Кон-Тики» остался в лагуне на крепкой привязи. Судно, которого не могли остановить никакие преграды, проложило себе путь через баррикаду и вступило во внутреннюю лагуну острова Рароиа.
Воодушевляемые воинственными кликами с бодрым припевом «ке-ке-те-хуру-хуру», мы соединенными усилиями подтащили «Кон-Тики» к берегу острова, носившего его имя. Прилив достиг высоты, которая на 120 сантиметров превышала нормальный уровень воды. Мы думали, что весь остров будет затоплен.
Подгоняемые ветром волны вздымались по всей лагуне, и в узкие, захлестываемые водой пироги мы смогли поместить лишь незначительную часть нашего снаряжения. Полинезийцам надо было как можно скорей возвращаться в деревню; Бенгт и Герман отправились с ними, чтобы попытаться помочь маленькому мальчику, который умирал в одной из хижин в деревне. У мальчика был гнойный нарыв на голове, а у нас имелся пенициллин.
Следующий день мы провели на острове Кон-Тики вчетвером. Восточный ветер дул теперь с такой силой, что островитяне не могли добраться до нас через лагуну, усеянную острыми коралловыми рифами и мелями. Вода за ночь несколько спала, но теперь волны опять яростно набегали длинными, мчавшимися уступами валами.
На следующий день ветер стал тише. Мы смогли нырнуть под плот и удостовериться, что девять бревен были в целости; острые выступы рифов лишь соскоблили несколько сантиметров с их нижней стороны. Веревки ушли так глубоко в пазы, что только четыре из них оказались перерезанными кораллами. Мы принялись наводить порядок на плоту. После того как мы убрали с палубы весь хлам, расправили, как гармонь, каюту, срастили и поставили мачту, наше гордое судно приобрело более приличный вид.
Днем на горизонте снова показались паруса; островитяне приехали за нами и за остальным грузом. Герман и Бенгт были с ними; они рассказали нам, что в деревне готовятся большие празднества. Когда мы прибудем на тот остров, мы не должны выходить из пирог, пока сам вождь не даст на это разрешения.
При свежем попутном ветре мы пересекли лагуну, которая здесь имела в ширину шесть миль. Мы с искренней грустью смотрели на знакомые пальмы острова Кон-Тики, покачивавшиеся верхушки которых посылали нам прощальный привет; но вскоре отдельных деревьев уже нельзя было различить, а затем и весь остров превратился в узкую полоску земли, похожую на все остальные островки, раскинувшиеся вдоль восточного рифа. А впереди все отчетливей вырисовывались более крупные острова. На одном из них мы увидели мол и дым, поднимавшийся над хижинами среди пальм.
Деревня казалась совершенно вымершей; не видно было ни одной души. Что там затевается? На берегу за молом из коралловых глыб стояли две одинокие фигуры: одна — высокая и худощавая, другая — огромная и толстая, как бочка. Когда мы приблизились, мы почтительно поздоровались с обоими. Это были вождь Тека и его заместитель Тупухое. Нам всем с первого взгляда понравилась широкая сердечная улыбка Тупухое. Тека был умница и дипломат, а Тупухое был чистейшее дитя природы, прямодушный человек, какие не часто встречаются, полный юмора и первобытного здравого смысла. Могучим телосложением и величественными чертами лица он в точности соответствовал образу полинезийского вождя, созданному нашим воображением. И в самом деле, Тупухое раньше был полновластным вождем острова, но постепенно Тека занял первенствующее положение, так как он умел говорить по-французски, считать и писать, и поэтому владельцы шхун, приходивших с Таити за копрой, больше не обсчитывали жителей деревни.
Тека объяснил нам, что мы должны все вместе проследовать в деревню к дому для собраний, и когда все сошли на берег, торжественная процессия отправилась туда; Герман шел впереди с флагом, развевавшимся на древке гарпуна, а за ним — я между двумя вождями.
В деревне все говорило о торговле копрой с Таити; доски и гофрированное железо было привезено на шхунах. Некоторые хижины были построены в причудливом старинном стиле из сучьев и сплетенных пальмовых листьев, другие были сколочены на гвоздях из досок и напоминали маленькие тропические бунгало. Большой дощатый дом, стоявший в стороне среди пальм, представлял собой новый дом для собраний; там должны были поселиться мы, шестеро европейцев. Через маленькую заднюю дверь мы с флагом вошли в дом и сразу вышли из него на широкие ступени перед фасадом. Перед нами на площадке стояли все жители деревни, способные двигаться, включая женщин и детей любого возраста. У всех был чрезвычайно серьезный вид; даже наши веселые приятели по острову Кон-Тики стояли в рядах вместе с остальными и делали вид, что не узнают нас.
Когда мы вышли на ступени, все собравшиеся одновременно раскрыли рты и запели… «Марсельезу»! Тека, знавший слова, запевал, и дело шло довольно гладко, несмотря на то, что несколько старух сильно фальшивили на высоких нотах. Жители деревни здорово поработали над разучиванием «Марсельезы». Французский и норвежский флаги были подняты перед террасой, и на этом закончился официальный прием нас вождем Текой; он медленно отошел в сторону, и теперь толстый Тупухое выступил вперед и стал руководить церемонией.
Тупухое быстро подал знак, по которому все с жаром запели новую песню. На этот раз дело шло лучше, так как мелодия была их собственная, да и слова были на их родном языке, а петь свои плясовые песни они умеют. Мелодия при всей своей трогательной простоте звучала так чарующе, что у нас пробежали мурашки по спине, словно само Южное море с рокотом надвигалось на нас. Несколько человек запевали, а через определенные интервалы вступал весь хор; мелодия менялась, но слова, все время оставались одни и те же:
«Добрый день, Тераи Матеата и твои люди, пришедшие по океану на пае-пае к нам на Рароиа; да, добрый день, оставайтесь подольше среди нас, и пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Нам пришлось попросить их спеть эту песню еще раз, и островитяне все больше и больше оживлялись, по мере того как они переставали стесняться. Затем Тупухое попросил меня рассказать в нескольких словах народу, почему мы прибыли из-за океана на пае-пае; все хотят услышать об этом. Я должен говорить по-французски, а Тека будет по частям переводить.
Предо мной стояла и ожидала моих слов толпа необразованных, но очень умных коричневых людей. Я рассказал им, что мне пришлось раньше побывать среди их соплеменников здесь, на островах Южного моря, и что я слышал об их первом вожде, Тики, который привел их предков на эти острова из какой-то таинственной страны, местонахождения которой теперь никто не знает. Но в далекой стране, называемой Перу, говорил я, правил когда-то могущественный вождь, носивший имя Тики. Народ называл его Кон-Тики или Солнце-Тики, потому что, по его словам, он был потомком солнца. В конце концов Тики и часть его сторонников покинули свою страну на больших пае-пае поэтому мы шестеро думали, что это был тот же самый Тики, который пришел на эти острова. Так как никто не поверил бы, что на пае-пае можно переплыть океан, мы сами отплыли на пае-пае из Перу; и вот мы здесь; значит, переплыть можно было. После того как Тека перевел мою краткую речь, Тупухое пришел в большое возбуждение и в каком-то экстазе выскочил вперед и стал перед толпою. Он громко кричал по-полинезийски, размахивал руками, указывал на небо и на нас, и в его стремительной речи все время повторялось слово Тики. Он говорил так быстро, что трудно было уследить за смыслом, но все собравшиеся ловили каждое слово и были явно взволнованы. Тека, напротив, имел весьма смущенный вид, когда ему пришлось приступить к переводу.
Тупухое говорил о том, что его отец, и дед, и прадеды рассказывали о Тики, и, по их словам, Тики был первым вождем, который теперь находится на небе.
Но потом пришли белые люди и сказали, что предания их предков ложь. Тики никогда не существовал. Он вовсе не на небе, так как там Иегова. Тики был языческим богом, и они больше не должны верить в него. А теперь мы шестеро приплыли к ним по океану на пае-пае. Мы первые белые люди, признающие, что их отцы говорили правду. Тики действительно жил, но теперь он умер и находится на небе.
Испуганный мыслью, что я могу разрушить все труды миссионеров, я поспешил выступить вперед и объяснил, что Тики действительно жил — в этом не может быть сомнений — и что он давно умер. Но находится ли он теперь на небе или в аду, знает один только Иегова, так как Иегова был всегда на небе, а Тики был смертным человеком, великим вождем, как Тека и Тупухое, может быть, даже еще более великим.
Мои слова развеселили и удовлетворили полинезийцев; они кивали головой, одобрительно бормотали, и это ясно показывало, что мое объяснение пришлось им по вкусу. Тики когда-то жил, это было главное. Если он теперь находится в аду, то больше всех печалиться этим должен он сам; Тупухое высказал даже предположение, что в этом случае, пожалуй, больше надежды встретиться с ним опять.
Три старика протолкались вперед и пожелали пожать нам руки. Без сомнения, это они сохраняли в народе воспоминания о Тики. Вождь сказал нам, что один из стариков знает бесчисленное множество преданий и исторических баллад из времен далеких предков. Я спросил старика, нет ли в преданиях каких-либо намеков на то, с какой стороны пришел Тики. Нет, ни один из стариков не мог вспомнить, чтобы ему приходилось слышать об этом. Но после долгого усердного размышления самый старый из трех сказал, что Тики сопровождал близкий родственник, по имени Мауи, а в балладе о Мауи говорилось, что он пришел на острова из Пура, а слово «пура» означает ту часть неба, где восходит солнце. Если Мауи пришел из Пура, сказал старик, то, конечно, и Тики пришел из того же места, а мы шестеро также пришли на пае-пае из Пура, это совершенно ясно.
Я рассказал старым островитянам, что на небольшом уединенном острове, называемом Мангарева, расположенном ближе к острову Пасхи, жители никогда не знали лодок и вплоть до наших дней продолжали плавать по океану на больших пае-пае. Об этом старики не слыхали, но они знали, что их предки также пользовались большими пае-пае, которые постепенно вышли из употребления и теперь известны только по названию и по преданиям. В отдаленные древние времена, добавил самый старый из островитян, они назывались «ронго-ронго», но теперь такого слова в языке больше не существует. Но название «ронго-ронго» упоминается в самых старинных легендах.
Это название заинтересовало меня, так как Ронго — на некоторых островах произносят Лоно — было имя одного из наиболее известных легендарных предков полинезийцев. В рассказах о нем подчеркивалось, что у него была белая кожа и светлые волосы. Когда капитан Кук впервые посетил Гавайские острова, жители встретили его с распростертыми объятиями, так как они приняли его за своего белого сородича Ронго, который отсутствовал много поколений, а теперь вернулся с родины их предков на этом большом парусном судне. А на острове Пасхи, словом «ронго-ронго» называли загадочные иероглифы, тайна которых была погребена вместе с последним «длинноухим», умевшим писать!
Между тем как старики хотели обсуждать вопрос о Тики и ронго-ронго, молодым не терпелось послушать о китовой акуле и путешествии по океану. Но угощение было уже готово, а Тека устал переводить.
Теперь всем жителям деревни было разрешено подойти и пожать руку каждому из нас. Мужчины бормотали «иа-ора-на» и чуть не вывихивали нам руку, девушки старались протиснуться вперед и здоровались с нами кокетливо и застенчиво, а старухи лепетали и хихикали, указывая на наши бороды и белую кожу. Все лица сияли дружеским расположением, так что всякие лингвистические недоразумения не имели никакого значения. Если островитяне говорили нам что-нибудь совершенно непонятное по-полинезийски, мы отвечали им тем же по-норвежски, и все очень веселились. Первое полинезийское слово, которое мы выучили, было «нравится»; если к тому же можно было указать на то, что нам нравилось, и рассчитывать сразу же получить это, то все было очень просто. Если же при слове «нравится» морщили нос, то это означало «не нравится», и на этой основе мы, могли вполне хорошо объясняться.
Как только мы перезнакомились со всеми 127 жителями деревни, был поставлен длинный стол для обоих вождей и нас, шестерых, и деревенские девушки стали приносить самые изысканные кушанья. Пока одни расставляли все на столе, подошли другие и повесили венки из цветов нам на шею, а венки поменьше надели нам на голову. Цветы испускали томный аромат, а их прохладное прикосновение в жару было очень приятно. Так начался праздник в нашу честь, который продолжался несколько недель, пока мы не покинули острова. Глаза у нас широко раскрылись и рот наполнился слюной при виде столов, заставленных жареными молочными поросятами, цыплятами, жареными утками, свежими омарами, полинезийскими рыбными блюдами, плодами хлебного и дынного дерева, молоком кокосовых орехов. И в то время как мы набросились на еду, толпа развлекала нас полинезийскими песнями, а молодые девушки танцевали вокруг стола. Мои товарищи смеялись и были в полном восторге; вид мы имели самый нелепый, когда сидели за столом с развевающимися бородами и с венками из цветов на голове, уписывая за обе щеки, как умирающие с голоду люди. Оба вождя, как и мы, не скрывали своего удовольствия.
После еды началась полинезийская пляска в грандиозном масштабе. Жители деревни хотели показать нам местные народные танцы. Нас, шестерых, Теку и Тупухое усадили на табуретки в первом ряду, затем появились два гитариста, присели на корточки и забренчали на своих инструментах настоящие мелодии Южного моря. Сквозь кольцо зрителей, также сидевших на корточках и певших, скользя и извиваясь, в круг вступили две цепи танцующих мужчин и женщин с шелестящими юбочками из пальмовых листьев вокруг бедер. Живым и энергичным запевалой была на редкость тучная вахине[152], у которой одна рука была откушена акулой. Вначале танцоры держались несколько театрально и напряженно; но когда они увидели, что белые люди с пае-пае не воротят носа от народных танцев их прародителей, пляска стала все больше и больше оживляться. К ней присоединилась и часть пожилых; у всех было великолепное чувство ритма, и они знали танцы, которых в обычных случаях уже, конечно, не танцуют. А когда солнце опустилось в Тихий океан, пляска среди пальм стала принимать еще более бурный характер, и аплодисменты зрителей становились все более дружными. Танцоры забыли, что на них смотрят шесть чужестранцев; теперь мы, шестеро, были людьми их народа, наслаждавшимися зрелищем вместе с ними.
Репертуар был бесконечным: одна очаровательная мимическая сцена следовала за другой. Наконец толпа юношей уселась на корточки, образовав тесный круг как раз перед нами, и по знаку Тупухое принялась ритмично отбивать такт ладонями по земле — сначала медленно, затем быстрее; когда ритм стал совершенно безупречным, неожиданно вступил барабанщик и принялся аккомпанировать им, с бешеной скоростью ударяя двумя палками по сухому выдолбленному чурбану, который издавал сильный резкий звук. После того как ритм достиг нужного темпа, раздалось пение и в круг стремительно прыгнула девушка с венком из цветов вокруг шеи и цветами за ухом. Босиком, согнув колени, она двигалась в такт музыке, ритмично покачивая бедрами и закинув руки над головой в настоящем полинезийском стиле. Она танцевала великолепно, и вскоре все зрители отбивали ритм, хлопая ладонями по земле. Еще одна девушка вскочила в круг, а за ней третья. Они двигались с изумительной гибкостью, строго следуя ритму, и скользили в танце одна вокруг другой, как грациозные тени. Глухие удары руками по земле, пение и веселый бой деревянного барабана одновременно убыстряли свой темп все больше и больше, а танец становился все более и более исступленным, а зрители завывали от восторга и отбивали такт, хлопая ладонями по земле.
Вождь Тека был высокий стройный полинезиец с глазами, говорившими о недюжинном уме. Он был знатным человеком, потомком старого королевского рода на Таити и являлся вождем обоих островов: и Рароиа и Такуме. Он учился в школе на Таити, знал французский язык и умел читать и писать. Он сказал мне, что столица Норвегии называется Христиания[150], и спросил, не знаю ли я Бинга Кросби[151]. Он сообщил нам также, что в течение последних десяти лет всего три иностранных судна заходили на Рароиа, но их деревню несколько раз в год посещают шхуны местных торговцев копрой с Гаити, которые привозят товары и забирают ядра кокосовых орехов. Они уже несколько недель поджидают такую шхуну, так что она может явиться в любое время.
Отчет Бенгта вкратце сводился к тому, что на Рароиа не было ни школы, ни радио, ни белых людей; но 127 полинезийцев, живущих в деревне, сделали все, что могли, чтобы устроить нас со всеми удобствами, и подготовили торжественный прием.
Первым делом вождь пожелал осмотреть судно, которое доставило нас живыми на риф. Мы отправились вброд к «Кон-Тики», сопровождаемые вереницей островитян. Когда мы приблизились, полинезийцы внезапно остановились и стали обмениваться замечаниями, громко крича все зараз. Теперь можно было ясно видеть бревна «Кон-Тики», и один из островитян воскликнул:
— Это не лодка, это пае-пае!
— Пае-пае! — повторили все его товарищи хором.
Поднимая брызги, они бросились бегом по рифу и взобрались на «Кон-Тики». Они лазили повсюду, возбужденные, как дети, ощупывали бревна, бамбуковое плетение и веревки. Вождь был в таком же приподнятом настроении, как и остальные; он вернулся к нам и несколько раз повторил:
— «Тики» не лодка, это пае-пае. — В его голосе звучало удивление и любопытство.
Пае-пае на полинезийском языке означает «плот» и «помост», а на острове Пасхи это же слово употребляется для обозначения местных лодок. Вождь рассказал нам, что теперь таких пае-пае больше не существует, но самые старые люди в деревне рассказывают древние предания о пае-пае. Все полинезийцы наперебой восхищались огромными бальсовыми бревнами, но от веревок они презрительно отворачивались. Такие веревки под действием соленой воды и солнца не выдержат и несколько месяцев. И островитяне с гордостью показывали нам снасти своих пирог; они сами сплели их из волокон кокосового ореха, и такие веревки безотказно служат пять лет.
Когда мы вернулись обратно на наш маленький остров, мы с общего согласия назвали его «Фенуа Кон-Тики», или «Остров Кон-Тики». Это название мы все могли произнести, но полинезийцам очень тяжело давалось произношение наших коротких северных имен. Они пришли в восторг, когда я сказал им, что они могут называть меня Тераи Матеата, так как великий вождь Таити дал мне это имя, «усыновив» меня во время моего первого путешествия в эти края.
Островитяне притащили из пирог домашнюю птицу, яйца и плоды хлебного дерева, другие с помощью трехзубой остроги набили в лагуне несколько крупных рыб, и вокруг лагерного костра началось пиршество. Мы должны были рассказать обо всех наших приключениях на пае-пае в океане, и рассказ о китовой акуле нам пришлось повторять все снова и снова. И каждый раз, когда дело доходило до того, как Эрик вонзил гарпун в череп акулы, слушатели издавали восторженные крики. Полинезийцы с первого взгляда узнавали всех рыб, зарисованных Эриком, и немедленно сообщали нам, как они называются на их языке. Но они никогда не видели ни китовой акулы, ни змеиной макрели и ничего не слышали о них.
Когда наступил вечер, мы, к величайшему удовольствию всех собравшихся, включили радио. Больше всего им понравилась церковная музыка, но затем, к нашему удивлению, мы поймали передававшуюся из Америки настоящую полинезийскую танцевальную музыку. Тогда самые веселые из островитян принялись покачивать руками, согнутыми над головой, и вскоре все наши гости вскочили на ноги и пустились в пляс в такт музыке. С наступлением ночи все улеглись на берегу вокруг костра. Для островитян это было такое же приключение, как и для нас.
Когда мы проснулись на следующее утро, полинезийцы уже встали и жарили свеженаловленную рыбу; шесть только что вскрытых кокосовых орехов были приготовлены для утоления нашей утренней жажды.
В этот день грохот у рифа был громче обычного; ветер усилился, и буруны высоко взлетали в воздух там, за остовом нашего судна.
— Сегодня «Тики» придет в лагуну, — сказал вождь, показывая на разбитый плот. — Прилив будет высокий.
Около одиннадцати часов вода, проходя мимо нас, стала проникать в лагуну. Лагуна начала наполняться, как огромный бассейн, и уровень воды вокруг всего острова поднимался. Позже из океана хлынули целые потоки. Вода шла валами, которые поднимались все выше, и покрыла большую часть рифа. Потоки воды проносились вдоль обеих сторон острова. Они отрывали крупные глыбы кораллов и наносили большие песчаные отмели, которые затем исчезали, подобно сдутой ветром муке, а в другом месте появлялись новые отмели. Отдельные бамбуковые жерди с разбитого плота проплыли мимо нас, и «Кон-Тики» стал шевелиться. Все, что лежало у берега, пришлось перетащить в глубь острова, чтобы спасти от прилива. Вскоре из-под воды виднелись лишь самые высокие выступы рифа, и все берега вокруг нашего острова исчезли, а океан подступал все ближе к лужайкам плоского, как блин, острова. Становилось жутковато. Казалось, весь океан наступает на нас. «Кон-Тики» повернулся на 180° и двинулся с места, но скоро опять застрял среди других коралловых глыб.
Полинезийцы бросились вводу и, то плывя, то идя вброд среди водоворотов, двигаясь от одной отмели до другой, добрались до плота. Кнут и Эрик сопровождали их. На плоту лежали приготовленные веревки, и когда он поднялся над последними коралловыми глыбами и сошел с рифа, островитяне прыгнули за борт и пытались удержать его. Они не знали «Кон-Тики» и его неукротимого стремления двигаться на запад. Плот тащил их за собой совершенно беспомощных, и вскоре он уже с приличной скоростью двигался через риф и дальше по лагуне. Достигнув более тихой воды, «Кон-Тики», казалось, слегка растерялся и стал оглядываться, как бы высматривая дальнейшие возможности. Прежде чем он двинулся дальше и обнаружил выход из лагуны, островитянам удалось обмотать конец веревки вокруг пальмы на берегу. И вот «Кон-Тики» остался в лагуне на крепкой привязи. Судно, которого не могли остановить никакие преграды, проложило себе путь через баррикаду и вступило во внутреннюю лагуну острова Рароиа.
Воодушевляемые воинственными кликами с бодрым припевом «ке-ке-те-хуру-хуру», мы соединенными усилиями подтащили «Кон-Тики» к берегу острова, носившего его имя. Прилив достиг высоты, которая на 120 сантиметров превышала нормальный уровень воды. Мы думали, что весь остров будет затоплен.
Подгоняемые ветром волны вздымались по всей лагуне, и в узкие, захлестываемые водой пироги мы смогли поместить лишь незначительную часть нашего снаряжения. Полинезийцам надо было как можно скорей возвращаться в деревню; Бенгт и Герман отправились с ними, чтобы попытаться помочь маленькому мальчику, который умирал в одной из хижин в деревне. У мальчика был гнойный нарыв на голове, а у нас имелся пенициллин.
Следующий день мы провели на острове Кон-Тики вчетвером. Восточный ветер дул теперь с такой силой, что островитяне не могли добраться до нас через лагуну, усеянную острыми коралловыми рифами и мелями. Вода за ночь несколько спала, но теперь волны опять яростно набегали длинными, мчавшимися уступами валами.
На следующий день ветер стал тише. Мы смогли нырнуть под плот и удостовериться, что девять бревен были в целости; острые выступы рифов лишь соскоблили несколько сантиметров с их нижней стороны. Веревки ушли так глубоко в пазы, что только четыре из них оказались перерезанными кораллами. Мы принялись наводить порядок на плоту. После того как мы убрали с палубы весь хлам, расправили, как гармонь, каюту, срастили и поставили мачту, наше гордое судно приобрело более приличный вид.
Днем на горизонте снова показались паруса; островитяне приехали за нами и за остальным грузом. Герман и Бенгт были с ними; они рассказали нам, что в деревне готовятся большие празднества. Когда мы прибудем на тот остров, мы не должны выходить из пирог, пока сам вождь не даст на это разрешения.
При свежем попутном ветре мы пересекли лагуну, которая здесь имела в ширину шесть миль. Мы с искренней грустью смотрели на знакомые пальмы острова Кон-Тики, покачивавшиеся верхушки которых посылали нам прощальный привет; но вскоре отдельных деревьев уже нельзя было различить, а затем и весь остров превратился в узкую полоску земли, похожую на все остальные островки, раскинувшиеся вдоль восточного рифа. А впереди все отчетливей вырисовывались более крупные острова. На одном из них мы увидели мол и дым, поднимавшийся над хижинами среди пальм.
Деревня казалась совершенно вымершей; не видно было ни одной души. Что там затевается? На берегу за молом из коралловых глыб стояли две одинокие фигуры: одна — высокая и худощавая, другая — огромная и толстая, как бочка. Когда мы приблизились, мы почтительно поздоровались с обоими. Это были вождь Тека и его заместитель Тупухое. Нам всем с первого взгляда понравилась широкая сердечная улыбка Тупухое. Тека был умница и дипломат, а Тупухое был чистейшее дитя природы, прямодушный человек, какие не часто встречаются, полный юмора и первобытного здравого смысла. Могучим телосложением и величественными чертами лица он в точности соответствовал образу полинезийского вождя, созданному нашим воображением. И в самом деле, Тупухое раньше был полновластным вождем острова, но постепенно Тека занял первенствующее положение, так как он умел говорить по-французски, считать и писать, и поэтому владельцы шхун, приходивших с Таити за копрой, больше не обсчитывали жителей деревни.
Тека объяснил нам, что мы должны все вместе проследовать в деревню к дому для собраний, и когда все сошли на берег, торжественная процессия отправилась туда; Герман шел впереди с флагом, развевавшимся на древке гарпуна, а за ним — я между двумя вождями.
В деревне все говорило о торговле копрой с Таити; доски и гофрированное железо было привезено на шхунах. Некоторые хижины были построены в причудливом старинном стиле из сучьев и сплетенных пальмовых листьев, другие были сколочены на гвоздях из досок и напоминали маленькие тропические бунгало. Большой дощатый дом, стоявший в стороне среди пальм, представлял собой новый дом для собраний; там должны были поселиться мы, шестеро европейцев. Через маленькую заднюю дверь мы с флагом вошли в дом и сразу вышли из него на широкие ступени перед фасадом. Перед нами на площадке стояли все жители деревни, способные двигаться, включая женщин и детей любого возраста. У всех был чрезвычайно серьезный вид; даже наши веселые приятели по острову Кон-Тики стояли в рядах вместе с остальными и делали вид, что не узнают нас.
Когда мы вышли на ступени, все собравшиеся одновременно раскрыли рты и запели… «Марсельезу»! Тека, знавший слова, запевал, и дело шло довольно гладко, несмотря на то, что несколько старух сильно фальшивили на высоких нотах. Жители деревни здорово поработали над разучиванием «Марсельезы». Французский и норвежский флаги были подняты перед террасой, и на этом закончился официальный прием нас вождем Текой; он медленно отошел в сторону, и теперь толстый Тупухое выступил вперед и стал руководить церемонией.
Тупухое быстро подал знак, по которому все с жаром запели новую песню. На этот раз дело шло лучше, так как мелодия была их собственная, да и слова были на их родном языке, а петь свои плясовые песни они умеют. Мелодия при всей своей трогательной простоте звучала так чарующе, что у нас пробежали мурашки по спине, словно само Южное море с рокотом надвигалось на нас. Несколько человек запевали, а через определенные интервалы вступал весь хор; мелодия менялась, но слова, все время оставались одни и те же:
«Добрый день, Тераи Матеата и твои люди, пришедшие по океану на пае-пае к нам на Рароиа; да, добрый день, оставайтесь подольше среди нас, и пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Нам пришлось попросить их спеть эту песню еще раз, и островитяне все больше и больше оживлялись, по мере того как они переставали стесняться. Затем Тупухое попросил меня рассказать в нескольких словах народу, почему мы прибыли из-за океана на пае-пае; все хотят услышать об этом. Я должен говорить по-французски, а Тека будет по частям переводить.
Предо мной стояла и ожидала моих слов толпа необразованных, но очень умных коричневых людей. Я рассказал им, что мне пришлось раньше побывать среди их соплеменников здесь, на островах Южного моря, и что я слышал об их первом вожде, Тики, который привел их предков на эти острова из какой-то таинственной страны, местонахождения которой теперь никто не знает. Но в далекой стране, называемой Перу, говорил я, правил когда-то могущественный вождь, носивший имя Тики. Народ называл его Кон-Тики или Солнце-Тики, потому что, по его словам, он был потомком солнца. В конце концов Тики и часть его сторонников покинули свою страну на больших пае-пае поэтому мы шестеро думали, что это был тот же самый Тики, который пришел на эти острова. Так как никто не поверил бы, что на пае-пае можно переплыть океан, мы сами отплыли на пае-пае из Перу; и вот мы здесь; значит, переплыть можно было. После того как Тека перевел мою краткую речь, Тупухое пришел в большое возбуждение и в каком-то экстазе выскочил вперед и стал перед толпою. Он громко кричал по-полинезийски, размахивал руками, указывал на небо и на нас, и в его стремительной речи все время повторялось слово Тики. Он говорил так быстро, что трудно было уследить за смыслом, но все собравшиеся ловили каждое слово и были явно взволнованы. Тека, напротив, имел весьма смущенный вид, когда ему пришлось приступить к переводу.
Тупухое говорил о том, что его отец, и дед, и прадеды рассказывали о Тики, и, по их словам, Тики был первым вождем, который теперь находится на небе.
Но потом пришли белые люди и сказали, что предания их предков ложь. Тики никогда не существовал. Он вовсе не на небе, так как там Иегова. Тики был языческим богом, и они больше не должны верить в него. А теперь мы шестеро приплыли к ним по океану на пае-пае. Мы первые белые люди, признающие, что их отцы говорили правду. Тики действительно жил, но теперь он умер и находится на небе.
Испуганный мыслью, что я могу разрушить все труды миссионеров, я поспешил выступить вперед и объяснил, что Тики действительно жил — в этом не может быть сомнений — и что он давно умер. Но находится ли он теперь на небе или в аду, знает один только Иегова, так как Иегова был всегда на небе, а Тики был смертным человеком, великим вождем, как Тека и Тупухое, может быть, даже еще более великим.
Мои слова развеселили и удовлетворили полинезийцев; они кивали головой, одобрительно бормотали, и это ясно показывало, что мое объяснение пришлось им по вкусу. Тики когда-то жил, это было главное. Если он теперь находится в аду, то больше всех печалиться этим должен он сам; Тупухое высказал даже предположение, что в этом случае, пожалуй, больше надежды встретиться с ним опять.
Три старика протолкались вперед и пожелали пожать нам руки. Без сомнения, это они сохраняли в народе воспоминания о Тики. Вождь сказал нам, что один из стариков знает бесчисленное множество преданий и исторических баллад из времен далеких предков. Я спросил старика, нет ли в преданиях каких-либо намеков на то, с какой стороны пришел Тики. Нет, ни один из стариков не мог вспомнить, чтобы ему приходилось слышать об этом. Но после долгого усердного размышления самый старый из трех сказал, что Тики сопровождал близкий родственник, по имени Мауи, а в балладе о Мауи говорилось, что он пришел на острова из Пура, а слово «пура» означает ту часть неба, где восходит солнце. Если Мауи пришел из Пура, сказал старик, то, конечно, и Тики пришел из того же места, а мы шестеро также пришли на пае-пае из Пура, это совершенно ясно.
Я рассказал старым островитянам, что на небольшом уединенном острове, называемом Мангарева, расположенном ближе к острову Пасхи, жители никогда не знали лодок и вплоть до наших дней продолжали плавать по океану на больших пае-пае. Об этом старики не слыхали, но они знали, что их предки также пользовались большими пае-пае, которые постепенно вышли из употребления и теперь известны только по названию и по преданиям. В отдаленные древние времена, добавил самый старый из островитян, они назывались «ронго-ронго», но теперь такого слова в языке больше не существует. Но название «ронго-ронго» упоминается в самых старинных легендах.
Это название заинтересовало меня, так как Ронго — на некоторых островах произносят Лоно — было имя одного из наиболее известных легендарных предков полинезийцев. В рассказах о нем подчеркивалось, что у него была белая кожа и светлые волосы. Когда капитан Кук впервые посетил Гавайские острова, жители встретили его с распростертыми объятиями, так как они приняли его за своего белого сородича Ронго, который отсутствовал много поколений, а теперь вернулся с родины их предков на этом большом парусном судне. А на острове Пасхи, словом «ронго-ронго» называли загадочные иероглифы, тайна которых была погребена вместе с последним «длинноухим», умевшим писать!
Между тем как старики хотели обсуждать вопрос о Тики и ронго-ронго, молодым не терпелось послушать о китовой акуле и путешествии по океану. Но угощение было уже готово, а Тека устал переводить.
Теперь всем жителям деревни было разрешено подойти и пожать руку каждому из нас. Мужчины бормотали «иа-ора-на» и чуть не вывихивали нам руку, девушки старались протиснуться вперед и здоровались с нами кокетливо и застенчиво, а старухи лепетали и хихикали, указывая на наши бороды и белую кожу. Все лица сияли дружеским расположением, так что всякие лингвистические недоразумения не имели никакого значения. Если островитяне говорили нам что-нибудь совершенно непонятное по-полинезийски, мы отвечали им тем же по-норвежски, и все очень веселились. Первое полинезийское слово, которое мы выучили, было «нравится»; если к тому же можно было указать на то, что нам нравилось, и рассчитывать сразу же получить это, то все было очень просто. Если же при слове «нравится» морщили нос, то это означало «не нравится», и на этой основе мы, могли вполне хорошо объясняться.
Как только мы перезнакомились со всеми 127 жителями деревни, был поставлен длинный стол для обоих вождей и нас, шестерых, и деревенские девушки стали приносить самые изысканные кушанья. Пока одни расставляли все на столе, подошли другие и повесили венки из цветов нам на шею, а венки поменьше надели нам на голову. Цветы испускали томный аромат, а их прохладное прикосновение в жару было очень приятно. Так начался праздник в нашу честь, который продолжался несколько недель, пока мы не покинули острова. Глаза у нас широко раскрылись и рот наполнился слюной при виде столов, заставленных жареными молочными поросятами, цыплятами, жареными утками, свежими омарами, полинезийскими рыбными блюдами, плодами хлебного и дынного дерева, молоком кокосовых орехов. И в то время как мы набросились на еду, толпа развлекала нас полинезийскими песнями, а молодые девушки танцевали вокруг стола. Мои товарищи смеялись и были в полном восторге; вид мы имели самый нелепый, когда сидели за столом с развевающимися бородами и с венками из цветов на голове, уписывая за обе щеки, как умирающие с голоду люди. Оба вождя, как и мы, не скрывали своего удовольствия.
После еды началась полинезийская пляска в грандиозном масштабе. Жители деревни хотели показать нам местные народные танцы. Нас, шестерых, Теку и Тупухое усадили на табуретки в первом ряду, затем появились два гитариста, присели на корточки и забренчали на своих инструментах настоящие мелодии Южного моря. Сквозь кольцо зрителей, также сидевших на корточках и певших, скользя и извиваясь, в круг вступили две цепи танцующих мужчин и женщин с шелестящими юбочками из пальмовых листьев вокруг бедер. Живым и энергичным запевалой была на редкость тучная вахине[152], у которой одна рука была откушена акулой. Вначале танцоры держались несколько театрально и напряженно; но когда они увидели, что белые люди с пае-пае не воротят носа от народных танцев их прародителей, пляска стала все больше и больше оживляться. К ней присоединилась и часть пожилых; у всех было великолепное чувство ритма, и они знали танцы, которых в обычных случаях уже, конечно, не танцуют. А когда солнце опустилось в Тихий океан, пляска среди пальм стала принимать еще более бурный характер, и аплодисменты зрителей становились все более дружными. Танцоры забыли, что на них смотрят шесть чужестранцев; теперь мы, шестеро, были людьми их народа, наслаждавшимися зрелищем вместе с ними.
Репертуар был бесконечным: одна очаровательная мимическая сцена следовала за другой. Наконец толпа юношей уселась на корточки, образовав тесный круг как раз перед нами, и по знаку Тупухое принялась ритмично отбивать такт ладонями по земле — сначала медленно, затем быстрее; когда ритм стал совершенно безупречным, неожиданно вступил барабанщик и принялся аккомпанировать им, с бешеной скоростью ударяя двумя палками по сухому выдолбленному чурбану, который издавал сильный резкий звук. После того как ритм достиг нужного темпа, раздалось пение и в круг стремительно прыгнула девушка с венком из цветов вокруг шеи и цветами за ухом. Босиком, согнув колени, она двигалась в такт музыке, ритмично покачивая бедрами и закинув руки над головой в настоящем полинезийском стиле. Она танцевала великолепно, и вскоре все зрители отбивали ритм, хлопая ладонями по земле. Еще одна девушка вскочила в круг, а за ней третья. Они двигались с изумительной гибкостью, строго следуя ритму, и скользили в танце одна вокруг другой, как грациозные тени. Глухие удары руками по земле, пение и веселый бой деревянного барабана одновременно убыстряли свой темп все больше и больше, а танец становился все более и более исступленным, а зрители завывали от восторга и отбивали такт, хлопая ладонями по земле.
 Это была жизнь Южного моря, какой ее знали в старые дни. Звезды мерцали, и пальмы покачивались. Ночь была теплая и длинная, наполненная запахом цветов и пением цикад. Тупухое широко улыбнулся и хлопнул меня поплечу.
— Маитаи? — спросил он.
— Да, маитаи, — ответил я.
— Маитаи? — спросил он всех остальных.
— Маитаи, — с энтузиазмом ответили все, и это было действительно так.
— Маитаи, — произнес Тупухое, кивая головой и указывая на себя; он также был очень доволен.
Даже Тека считал, что праздник вышел очень удачный; в первый раз, сказал он, белые люди присутствуют на их танцах на Рароиа. Быстрее и быстрее, быстрее и быстрее становилась дробь барабана, хлопанье в ладоши, пение и танцы. Но вот одна из танцевавших девушек перестала двигаться по кругу и, стоя на месте, начала вся извиваться в бешеном темпе, вытянув руки в сторону Германа. Герман посмеивался в бороду; он не знал, как ему следует к этому отнестись.
— Поддержите нашу марку, — шепнул я ему, — вы ведь хороший танцор.
И, к бесконечному восхищению толпы, Герман вскочил в круг и, согнувшись чуть не пополам, принялся добросовестно выделывать, извиваясь всем телом, сложные па полинезийского танца. Ликование стало всеобщим. Вскоре Бенгт и Торстейн пустились в пляс; пот струился по их лицам, когда они трудились изо всех сил, стараясь не отставать от аккомпанемента, ритм которого все ускорялся и ускорялся, темп стал таким бешеным, что теперь слышны были только звуки барабана, слившиеся в одно протяжное гудение, а три настоящие полинезийские танцовщицы в такт музыке дрожали как осиновые листья; наконец девушки опустились на землю и бой барабана резко оборвался.
Теперь героями вечера были мы. Энтузиазм зрителей не имел предела.
Следующим номером программы являлся танец птиц, представлявший собой одну из древнейших церемоний на Рароиа. Мужчины и женщины двумя рядами прыгали в ритмичном танце, изображая под руководством главного танцора стаи птиц. Главный танцор носил титул вождя птиц и делал забавные телодвижения, но в общем танце участия не принимал. Когда танец птиц окончился, Тупухое объяснил, что он был исполнен в честь нашего плота и что теперь его следует повторить, но главного танцора должен сменить я. Так как мне казалось, что основная задача главного танцора состояла в том, чтобы испускать дикие вопли и кружиться, виляя задом и размахивая руками над головой, я надвинул поглубже на голову свой венок, и вышел на сцену. Извиваясь в танце, я видел, как хохотал старый Тупухое, чуть не падая с табуретки; музыка стала ослабевать, так как певцы и музыканты последовали примеру Тупухое.
Теперь танцевать хотели все, старые и молодые, и вскоре барабанщик и музыканты, бившие руками по земле, снова оказались на своих местах и заиграли вступление к огненной полинезийской пляске. Сначала в круг вскочили девушки и принялись плясать, все ускоряя и ускоряя ритм; они приглашали всех нас по очереди принять участие в танце, к которому постепенно присоединялось все больше и больше мужчин и женщин, топавших ногами и извивавшихся все быстрей и быстрей.
Но Эрика никак не удавалось расшевелить. От ветра и сырости на плоту у него был рецидив прострела, и он сидел, как старый шкипер, бородатый и неподвижный, попыхивая трубкой. Его не могли сдвинуть с места девушки-танцовщицы, пытавшиеся заманить гостя в крут. На нем были широкие штаны из овчины, которые он надевал по ночам в самое холодное время, когда мы плыли в течении Гумбольдта; сидя под пальмами, обнаженный по пояс, с большой бородой, в овчинных штанах, он в точности походил на Робинзона Крузо. Одна хорошенькая девушка за другой старались снискать его расположение, но тщетно. Он продолжал сидеть с венком на лохматой голове, важно попыхивая трубкой.
Но вот зрелая матрона с могучими мышцами вступила в круг, проделала несколько более или менее грациозных па, а затем решительно двинулась к Эрику. Он с беспокойством смотрел на нее, но амазонка, обворожительно улыбаясь, решительно схватила его за руку и стащила с табуретки. Комические штаны Эрика были сшиты мехом внутрь, и сзади они немного распоролись, так что торчал белый клок шерсти, напоминавший кроличий хвост. Эрик шел за своей дамой очень неохотно и, прихрамывая, вступил в круг; в одной руке он держал трубку, а другую прижимал к тому месту, где у него болело от прострела. Когда он попытался сделать несколько прыжков, ему пришлось отпустить штаны, чтобы поправить угрожавший падением венок, а затем, с покосившимся на сторону венком, он должен был снова ухватиться за свои штаны, которые под собственной тяжестью стали соскальзывать с него. У его полной дамы, топтавшейся в танце перед ним, был не менее забавный вид, и мы смеялись так, что слезы стекали с наших бород. Вскоре все остальные танцоры остановились, и взрывы хохота разносились по пальмовой роще, а танцор Эрик и женщина-тяжеловес продолжали грациозно кружиться. Наконец и им пришлось остановиться, так как и певцы и музыканты не в силах были продолжать и держались за бока от смеха.
Праздник продолжался до утра, когда нам было разрешено немного отдохнуть; но прежде мы должны были снова пожать руки всем 127 островитянам. В течение всего нашего пребывания на острове мы каждое утро и каждый вечер пожимали руки всем жителям. Шесть постелей были собраны по всем хижинам деревни и положены рядом вдоль стены дома для собраний; на них мы спали, улегшись в ряд, как семь маленьких гномов из сказки[153], и над нашими головами висели сладко пахнувшие венки.
На следующий день состояние шестилетнего мальчика, у которого был нарыв на голове, сильно ухудшилось. Температура у него поднялась до 41 градуса, и нарыв на макушке головы стал величиной с мужской кулак и болезненно пульсировал.
Тека сообщил, что немало ребят уже погибло от этой болезни и что если никто из нас не сможет придумать какое-нибудь лечение, то мальчик не протянет и нескольких дней. У нас были новые препараты пенициллина в форме таблеток, но мы не знали, какую дозу надо давать маленькому ребенку. Если мы начнем лечить мальчика и он умрет, это, возможно, будет иметь серьезные последствия для всех нас.
Кнут и Торстейн снова распаковали радиостанцию и натянули антенну между самыми высокими кокосовыми пальмами. Когда наступил вечер, мы опять связались с нашими невидимыми друзьями, Галом и Френком, которые сидели у себя в комнате в Лос-Анжелосе. Френк соединился по телефону с врачом, и мы с помощью ключа Морзе передали все симптомы болезни мальчика и список лекарств, имевшихся у нас в аптечке. Френк передал нам ответ доктора, и в этот же вечер мы отправились в хижину, где метался в жару маленький Хаумата, а половина деревни плакала и причитала над ним.
Герман и Кнут должны были заняться лечением, а остальным хватало хлопот с жителями деревни, которые стремились попасть в хижину. Когда мы пришли с острым ножом и попросили вскипятить воду, мать мальчика впала в истерику. Волосы на голове мальчика были сбриты и нарыв вскрыт. Гной брызнул чуть не под потолок, и несколько взволнованных островитян ворвались в хижину; их пришлось выгнать. Тут было не до шуток. После того как рана была очищена и продезинфицирована, на голову мальчика наложили повязку, и мы приступили к лечению пенициллином. В течение двух суток мальчику давали пенициллин каждые четыре часа; температура держалась очень высокая, и выделение гноя не прекращалось. И каждый вечер мы консультировались с врачом из Лос-Анжелоса. Затем температура у мальчика сразу упала, гной сменился плазмой, и начался процесс заживления; мальчик улыбался и просил показать ему картинки с изображением необыкновенного мира белых людей, в котором существовали автомобили, коровы и дома в несколько этажей.
Неделю спустя Хаумата играл на берегу с другими детьми; первое время на голове у него была большая повязка, а затем ему разрешили ее снять.
Теперь, когда все кончилось удачно, в деревне без конца обнаруживались больные. У всех болели зубы или было расстройство желудка, и у всех, старых и молодых, были чирьи в самых различных местах. Мы отсылали больных к доктору Кнуту и доктору Герману, которые назначали диеты и щедро раздавали пилюли и мази, имевшиеся в нашей аптечке. Некоторые вылечились, хуже никому не стало, и когда аптечка оказалась пустой, мы приготовляли кашицу из какао и овсяной муки, которая чудесно помогала истеричным женщинам.
Мы прожили среди наших коричневых поклонников несколько дней, и праздничные торжества достигли своего апогея, вылившись в новую церемонию. Мы должны были стать почетными гражданами Рароиа и получить полинезийские имена. Сам я не должен больше оставаться Тераи Матеата: так могли меня называть на Таити, но не здесь, среди них.
Посреди площади для нас поставили шесть табуреток, и вся деревня собралась пораньше, чтобы занять хорошие места вокруг нас. Тека с важным видом сидел вместе со всеми; он был настоящим вождем, но только не в тех случаях, когда дело шло о старинных местных церемониях. Тогда на первый план выступал Тупухое.
Все сидели в ожидании молча и с очень серьезным видом, между тем как огромный тучный Тупухое торжественно и медленно приближался с крепкой узловатой дубинкой в руке. Он был весь проникнут торжественностью этого момента, и все не спускали с него глаз, когда он, погруженный в размышления, подошел и занял свое место перед нами. Он был прирожденным вождем, блестящим оратором и актером.
Он обернулся к главным певцам, барабанщикам и руководителям танцев, взмахом своей узловатой дубинки указал на каждого из них по очереди и тихим размеренным голосом отдал им короткие приказания. Затем он повернулся опять к нам и вдруг широко раскрыл свои большие глаза; огромные белки сверкали на его выразительном медно-коричневом лице так же ярко, как и зубы. Он поднял свою узловатую дубинку, и с его губ посыпались слова, как горох из мешка; он произносил древние обрядовые формулы на старинном, забытом диалекте, который понимали только старики.
Затем он сообщил нам, пользуясь услугами Теки для перевода, что имя первого короля, обосновавшегося на их острове, было Тикароа и что он царствовал над этим же атоллом с севера до юга, с востока до запада и вверх до неба, расстилающегося над головами людей. И пока хор исполнял старинную балладу о короле Тикароа, Тупухое положил свою большую руку мне на грудь и, поворачивая меня к зрителям, объявил, что даст мне имя Вароа Тикароа, то есть Дух Тикароа.
Когда пение стихло, наступила очередь Германа и Бенгта.
Большая коричневая рука коснулась поочередно их груди, и они получили имена Тупухое-Итетахуа и Топакино. Так звали двух древних героев, которые вступили в бой с морским чудовищем и убили его у прохода в рифе Рароиа.
Барабанщик несколько раз энергично ударил в барабан, и двое здоровенных мужчин выскочили вперед с повязкой вокруг бедер и с длинным копьем в каждой руке. Высоко поднимая колени к самой груди, держа копья острием вверх, поворачивая голову из стороны в сторону, они принялись быстро маршировать, отбивая ногами такт. Когда снова раздался бой барабана, они высоко подпрыгнули и, строго соблюдая ритм, принялись изображать легендарную битву по всем правилам балетного искусства. Вся интермедия была короткой и быстрой и изображала битву героев с морским чудовищем. Затем с пением и церемониями было дано имя Торстейну; его назвали Мароаке — по имени древнего короля этой деревни, а Эрик и Кнут получили имена Тане-Матарау и Тефаунуи в честь двух мореплавателей и морских героев древности. Длинная монотонная речь, сопровождавшая присвоение им имен, произносилась с головокружительной быстротой; безостановочный поток слов был рассчитан одновременно на то, чтобы произвести впечатление и позабавить.
Церемония была закончена. Среди полинезийцев на Рароиа опять появились белые бородатые вожди. Из толпы выступили две цепи танцовщиков и танцовщиц в плетеных соломенных юбочках, с покачивающимися лубяными коронами на голове. Танцуя, они приблизились к нам и переложили короны со своих голов на наши; нам пришлось также надеть на себя шелестящие соломенные юбочки, и празднества продолжались.
Однажды ночью увенчанные цветами радисты связались с радиолюбителем на Раротонге, который передал нам сообщение с Таити. Это был сердечный привет от губернатора французских тихоокеанских колоний.
По распоряжению из Парижа он послал правительственную шхуну «Тамара», которая должна доставить нас на Таити, так что нам не придется ждать копровой шхуны, срока прихода которой никто не знал. Таити был центрам французских колоний и единственным островом, имевшим постоянную связь с внешним миром. Мы должны добраться до Таити и там сесть на пароход, совершающий регулярные рейсы, который доставит нас домой, на родину.
На Рароиа продолжались празднества. Как-то вечером с океана донеслись какие-то странные завывания; дозорные спустились с вершин пальм и сообщили, что у входа в лагуну находится какое-то судно. Мы бросились бегом через пальмовый лес к берегу с подветренной стороны острова. Там мы стали смотреть на океан в направлении, противоположном тому, откуда мы пришли на «Кон-Тики». С этой стороны, защищенной от ветра всем атоллом и рифом, буруны были значительно ниже.
Как раз у входа в лагуну со стороны океана мы увидели огни корабля. Небо было ясное и звездное, и мы могли различить очертания широкой двухмачтовой шхуны. Это и есть судно губернатора, пришедшее за нами? Почему оно не входит?
Островитяне проявляли признаки все возраставшего беспокойства. Теперь увидели и мы, что судно имело большой крен и ему грозила опасность опрокинуться. Оно сидело на мели на невидимом подводном рифе.
Торстейн схватил фонарь и просигналил:
— Que bateau?[154]
— «Маоае», — передали нам в ответ.
«Маоае» была копровая шхуна, курсировавшая между островами. Она держала путь на Рароиа за копрой. Капитан и команда шхуны были полинезийцы, и они знали о рифах на подступах к лагуне. Но в темноте их подвело течение. Счастье было, что шхуна находилась с подветренной стороны острова и что погода была тихая, но течение за пределами лагуны было достаточно коварным. Крен «Маоае» увеличивался и увеличивался, и команда спустила шлюпку. Матросы закрепили крепкие канаты на верхушках мачт, а свободные концы канатов доставили в шлюпке на берег, где островитяне обвязали их вокруг стволов кокосовых пальм, чтобы шхуна не опрокинулась. Матросы с другими канатами остановились на шлюпке за проходом в рифе в надежде, что им удастся снять «Маоае» с мели, когда начнется прилив и вода устремится из лагуны. Жители деревни спустили на воду все свои пироги и принялись спасать груз копры. На борту шхуны было девяносто тонн этого ценного товара. Мешки с копрой партия за партией перевозились с раскачивавшейся шхуны на берег.
Вода поднялась, но «Маоае» все еще сидела на мели, раскачиваясь и ударяясь о коралловые рифы, пока не получила пробоины. Когда наступил рассвет, шхуна находилась еще в худшем положении, чем раньше. Команда ничего не могла поделать; не стоило и пытаться стащить с рифа тяжелое судно, водоизмещением в 150 тонн, с помощью шлюпки и пирог островитян. Если шхуна будет и дальше лежать там же, ударяясь о риф, она развалится на части; а если переменится погода, ее унесет к атоллу, и в прибое разобьет в щепу.
На «Маоае» радио не было, но у нас оно имелось. Однако если бы мы и вызвали спасательное судно с Таити, то к тому времени, когда оно пришло бы, «Маоае» давно превратилось бы в обломки. И все же второй раз в течение месяца, риф Рароиа упустил свою добычу.
В тот же день около полудня шхуна «Тамара» показалась на горизонте на западе. Она была послана за нами, чтобы забрать нас с Рароиа, и находившиеся на ее борту были немало удивлены, увидев вместо плота две мачты большой шхуны, которая беспомощно сидела на рифе, накренившись и раскачиваясь.
На борту «Тамары» был французский чиновник, управляющий островами Туамоту и Тубуаи, Фредерик Анн, которого губернатор направил с Таити встретить нас. На «Тамаре» находились также француз-кинооператор и француз-радист, но капитан и команда были полинезийцы. Сам Анн, француз по происхождению, родился на Таити и был великолепным моряком. Он принял на себя командование судном с согласия капитана-таитянина, который был рад освободиться от ответственности в этих опасных водах. Пока «Тамара» ловко лавировала среди бесчисленных подводных рифов и водоворотов, обе шхуны были соединены прочными канатами, и Анн приступил к искусным и рискованным маневрам, а прибой между тем грозил выбросить оба судна на один и тот же коралловый риф.
Когда прилив достиг наибольшей высоты, «Маоае» сошла с рифа, и «Тамара» отбуксировала ее на глубокое место. Но теперь через пробоину вода стала заливать «Маоае», и ее пришлось как можно скорей увести в лагуну на мелководье. В течение трех дней «Маоае» стояла у деревни полузатопленная, и все помпы работали круглые сутки. Лучшие искатели жемчуга из числа наших друзей-островитян ныряли под шхуну со свинцовыми листами и гвоздями и заделали самые большие пробоины, так что «Маоае» с работающими помпами могла в сопровождении «Тамары» добраться до дока на Таити.
Когда «Маоае» была готова к отплытию, Анн провел «Тамару» между покрытыми кораллами мелководьями в лагунах к острову Кон-Тики. Плот был взят на буксир, а затем «Тамара» отправилась обратно к выходу с «Кон-Тики» на буксире; а «Маоае» шла вслед за ней на таком близком расстоянии, чтобы можно было снять команду, если в океане прибыль воды в трюме возьмет верх над помпами.
Наше прощание с Рароиа было более чем грустным. Все, кто мог двигаться, были на молу; они играли и пели наши любимые мелодии, когда судовая шлюпка увозила нас на «Тамару».
Огромный Тупухое возвышался в центре, держа за руку маленького Хаумата. Хаумата плакал, слезы текли и по щекам могучего вождя. У всех стоявших на молу были слезы на глазах, но они продолжали петь и играть еще долго-долго после того, как шум бурунов, набегавших на риф, заглушил для нас все остальные звуки.
Эти чистые сердцем люди, которые стояли на молу и пели, теряли шестерых друзей, а мы, безмолвно стоявшие на борту «Тамары», пока мол не скрылся за пальмами, а пальмы не исчезли в океане, теряли 127 друзей. В ушах у нас продолжала звенеть прихотливая мелодия:
«…пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Через четыре дня перед нами возник из океана остров Таити. Он не походил на нить жемчужин с кронами пальм. Дикие зубчатые синие горы вздымались к небу, и вершины их были окутаны облаками, напоминавшими венки.
По мере того как мы приближались, на синих горах обнаружились зеленые склоны. Пышная растительность юга зелеными пятнами сбегала по рыже-красным холмам и утесам, которые переходили в глубокие ущелья и долины, спускавшиеся к морю. Когда берег был уже совсем близко, мы увидели стройные пальмы, плотно обступавшие все долины и весь берег позади золотистого пляжа. Остров Таити был когда-то образован вулканами. Теперь они потухли, и коралловые полипы постепенно воздвигли защитный риф вокруг острова, чтобы океан не мог разрушить его.
Рано утром мы прошли пролив между рифами и очутились в бухте Папеэте. Перед нами возвышались церковные шпили и красные крыши домов, наполовину скрытые листвой гигантских деревьев и верхушками пальм. Папеэте — столица Таити, единственный город во французских владениях в Океании. Это был город развлечений, резиденция правительства и центр всех морских путей в восточной части Тихого океана.
Когда мы вошли в бухту, жители Таити стояли на берегу плотной яркой живой стеной и ожидали нас. Новости распространяются на Таити с быстротой ветра, и каждому хотелось посмотреть на пае-пае, который прибыл из Америки.
«Кон-Тики» было отведено почетное место у морского бульвара; мэр Папеэте приветствовал нас, а маленькая полинезийская девочка преподнесла нам от имени Полинезийского общества огромный букет таитянских полевых цветов. Затем подошли молодые девушки и надели нам на шею сладко пахнувшие венки из белых цветов, приветствуя нас с прибытием на Таити, жемчужину Южного моря.
Я искал в толпе знакомое лицо, лицо моего приемного отца на Таити, вождя Терииероо, являвшегося главой 17 местных вождей острова. Конечно, он был тут. Высокий и грузный, живой и веселый, как в старые дни, он вынырнул из толпы, крича «Тераи Матеата!» и улыбаясь всем своим широким лицом. Он стал стариком, но у него был все тот же представительный вид прирожденного вождя.
— Поздно ты явился, — сказал он, улыбаясь, — но ты явился с хорошими новостями. Твой пае-пае поистине принес на Таити синее небо (тераи матеата), так как мы теперь знаем, откуда пришли наши отцы.
Губернатор устроил прием в своем дворце, был званый вечер в городской ратуше, приглашения сыпались на нас со всех концов гостеприимного острова.
Как и в прежние дни, вождь Терииероо устроил большое празднество у себя в доме в долине Папено, который я так хорошо знал; и так как Таити не Рароиа, то здесь была проделана новая церемония наделения таитянскими именами тех, кто раньше их не имел.
Это были баззаботные дни; солнце ярко светило, в небе медленно проплывали легкие облака. Мы купались в лагуне, лазили по горам и танцевали полинезийские танцы на траве под пальмами. Дни проходили и превращались в недели. Похоже было на то, что недели превратятся в месяцы, прежде чем придет корабль, который отвезет нас домой к ожидавшим нас делам.
Затем была получена радиограмма из Норвегии, в которой сообщалось, что судовладелец Ларс Кристенсен дал предписание судну «Тор I» водоизмещением в 4 тысячи тонн направиться с Самоа на Таити, чтобы захватить участников экспедиции и доставить их в Америку.
Однажды рано утром большой норвежский пароход вошел в бухту Папеэте, и французский военный катер отбуксировал «Кон-Тики» к борту его огромного соотечественника; тот протянул длинную стальную руку и поднял своего маленького родственника на палубу. Громкие завывания сирены разнеслись по поросшему пальмами острову. Коричневые и белые люди толпились на набережной Папеэте и бесконечной вереницей взбирались на борт корабля с прощальными подарками и венками. Мы стояли у поручней и вытягивали, как жирафы, шеи, чтобы высвободить подбородок из венков, которые один за другим надевали на нас.
— Если вы хотите вернуться на Таити, — прокричал вождь Терииероо, когда над островом разнесся последний гудок, — вы должны, после того как пароход тронется, бросить венок в лагуну!
Концы были отданы, заревели двигатели, винт забурлил в воде, ставшей зеленой, и мы медленно отошли от набережной.
Красные крыши вскоре исчезли за пальмами, пальмы растворились в синеве гор, которые постепенно, как тени, опускались за горизонтом в океан.
Волны ходили по синему океану. Теперь до них было далеко. Белые пассатные облака проплывали по синему небу. Мы уже не двигались в одну сторону с ними. Теперь мы не повиновались природе. Мы находились на пути к XX веку, до которого было так далеко.
Но мы, шестеро, стоявшие на палубе около наших девяти огромных бальсовых бревен, были все живы. А на лагуне в Таити шесть белых венков лежали на воде, и ласковые волны то прибивали их к берегу, то относили назад.
Это была жизнь Южного моря, какой ее знали в старые дни. Звезды мерцали, и пальмы покачивались. Ночь была теплая и длинная, наполненная запахом цветов и пением цикад. Тупухое широко улыбнулся и хлопнул меня поплечу.
— Маитаи? — спросил он.
— Да, маитаи, — ответил я.
— Маитаи? — спросил он всех остальных.
— Маитаи, — с энтузиазмом ответили все, и это было действительно так.
— Маитаи, — произнес Тупухое, кивая головой и указывая на себя; он также был очень доволен.
Даже Тека считал, что праздник вышел очень удачный; в первый раз, сказал он, белые люди присутствуют на их танцах на Рароиа. Быстрее и быстрее, быстрее и быстрее становилась дробь барабана, хлопанье в ладоши, пение и танцы. Но вот одна из танцевавших девушек перестала двигаться по кругу и, стоя на месте, начала вся извиваться в бешеном темпе, вытянув руки в сторону Германа. Герман посмеивался в бороду; он не знал, как ему следует к этому отнестись.
— Поддержите нашу марку, — шепнул я ему, — вы ведь хороший танцор.
И, к бесконечному восхищению толпы, Герман вскочил в круг и, согнувшись чуть не пополам, принялся добросовестно выделывать, извиваясь всем телом, сложные па полинезийского танца. Ликование стало всеобщим. Вскоре Бенгт и Торстейн пустились в пляс; пот струился по их лицам, когда они трудились изо всех сил, стараясь не отставать от аккомпанемента, ритм которого все ускорялся и ускорялся, темп стал таким бешеным, что теперь слышны были только звуки барабана, слившиеся в одно протяжное гудение, а три настоящие полинезийские танцовщицы в такт музыке дрожали как осиновые листья; наконец девушки опустились на землю и бой барабана резко оборвался.
Теперь героями вечера были мы. Энтузиазм зрителей не имел предела.
Следующим номером программы являлся танец птиц, представлявший собой одну из древнейших церемоний на Рароиа. Мужчины и женщины двумя рядами прыгали в ритмичном танце, изображая под руководством главного танцора стаи птиц. Главный танцор носил титул вождя птиц и делал забавные телодвижения, но в общем танце участия не принимал. Когда танец птиц окончился, Тупухое объяснил, что он был исполнен в честь нашего плота и что теперь его следует повторить, но главного танцора должен сменить я. Так как мне казалось, что основная задача главного танцора состояла в том, чтобы испускать дикие вопли и кружиться, виляя задом и размахивая руками над головой, я надвинул поглубже на голову свой венок, и вышел на сцену. Извиваясь в танце, я видел, как хохотал старый Тупухое, чуть не падая с табуретки; музыка стала ослабевать, так как певцы и музыканты последовали примеру Тупухое.
Теперь танцевать хотели все, старые и молодые, и вскоре барабанщик и музыканты, бившие руками по земле, снова оказались на своих местах и заиграли вступление к огненной полинезийской пляске. Сначала в круг вскочили девушки и принялись плясать, все ускоряя и ускоряя ритм; они приглашали всех нас по очереди принять участие в танце, к которому постепенно присоединялось все больше и больше мужчин и женщин, топавших ногами и извивавшихся все быстрей и быстрей.
Но Эрика никак не удавалось расшевелить. От ветра и сырости на плоту у него был рецидив прострела, и он сидел, как старый шкипер, бородатый и неподвижный, попыхивая трубкой. Его не могли сдвинуть с места девушки-танцовщицы, пытавшиеся заманить гостя в крут. На нем были широкие штаны из овчины, которые он надевал по ночам в самое холодное время, когда мы плыли в течении Гумбольдта; сидя под пальмами, обнаженный по пояс, с большой бородой, в овчинных штанах, он в точности походил на Робинзона Крузо. Одна хорошенькая девушка за другой старались снискать его расположение, но тщетно. Он продолжал сидеть с венком на лохматой голове, важно попыхивая трубкой.
Но вот зрелая матрона с могучими мышцами вступила в круг, проделала несколько более или менее грациозных па, а затем решительно двинулась к Эрику. Он с беспокойством смотрел на нее, но амазонка, обворожительно улыбаясь, решительно схватила его за руку и стащила с табуретки. Комические штаны Эрика были сшиты мехом внутрь, и сзади они немного распоролись, так что торчал белый клок шерсти, напоминавший кроличий хвост. Эрик шел за своей дамой очень неохотно и, прихрамывая, вступил в круг; в одной руке он держал трубку, а другую прижимал к тому месту, где у него болело от прострела. Когда он попытался сделать несколько прыжков, ему пришлось отпустить штаны, чтобы поправить угрожавший падением венок, а затем, с покосившимся на сторону венком, он должен был снова ухватиться за свои штаны, которые под собственной тяжестью стали соскальзывать с него. У его полной дамы, топтавшейся в танце перед ним, был не менее забавный вид, и мы смеялись так, что слезы стекали с наших бород. Вскоре все остальные танцоры остановились, и взрывы хохота разносились по пальмовой роще, а танцор Эрик и женщина-тяжеловес продолжали грациозно кружиться. Наконец и им пришлось остановиться, так как и певцы и музыканты не в силах были продолжать и держались за бока от смеха.
Праздник продолжался до утра, когда нам было разрешено немного отдохнуть; но прежде мы должны были снова пожать руки всем 127 островитянам. В течение всего нашего пребывания на острове мы каждое утро и каждый вечер пожимали руки всем жителям. Шесть постелей были собраны по всем хижинам деревни и положены рядом вдоль стены дома для собраний; на них мы спали, улегшись в ряд, как семь маленьких гномов из сказки[153], и над нашими головами висели сладко пахнувшие венки.
На следующий день состояние шестилетнего мальчика, у которого был нарыв на голове, сильно ухудшилось. Температура у него поднялась до 41 градуса, и нарыв на макушке головы стал величиной с мужской кулак и болезненно пульсировал.
Тека сообщил, что немало ребят уже погибло от этой болезни и что если никто из нас не сможет придумать какое-нибудь лечение, то мальчик не протянет и нескольких дней. У нас были новые препараты пенициллина в форме таблеток, но мы не знали, какую дозу надо давать маленькому ребенку. Если мы начнем лечить мальчика и он умрет, это, возможно, будет иметь серьезные последствия для всех нас.
Кнут и Торстейн снова распаковали радиостанцию и натянули антенну между самыми высокими кокосовыми пальмами. Когда наступил вечер, мы опять связались с нашими невидимыми друзьями, Галом и Френком, которые сидели у себя в комнате в Лос-Анжелосе. Френк соединился по телефону с врачом, и мы с помощью ключа Морзе передали все симптомы болезни мальчика и список лекарств, имевшихся у нас в аптечке. Френк передал нам ответ доктора, и в этот же вечер мы отправились в хижину, где метался в жару маленький Хаумата, а половина деревни плакала и причитала над ним.
Герман и Кнут должны были заняться лечением, а остальным хватало хлопот с жителями деревни, которые стремились попасть в хижину. Когда мы пришли с острым ножом и попросили вскипятить воду, мать мальчика впала в истерику. Волосы на голове мальчика были сбриты и нарыв вскрыт. Гной брызнул чуть не под потолок, и несколько взволнованных островитян ворвались в хижину; их пришлось выгнать. Тут было не до шуток. После того как рана была очищена и продезинфицирована, на голову мальчика наложили повязку, и мы приступили к лечению пенициллином. В течение двух суток мальчику давали пенициллин каждые четыре часа; температура держалась очень высокая, и выделение гноя не прекращалось. И каждый вечер мы консультировались с врачом из Лос-Анжелоса. Затем температура у мальчика сразу упала, гной сменился плазмой, и начался процесс заживления; мальчик улыбался и просил показать ему картинки с изображением необыкновенного мира белых людей, в котором существовали автомобили, коровы и дома в несколько этажей.
Неделю спустя Хаумата играл на берегу с другими детьми; первое время на голове у него была большая повязка, а затем ему разрешили ее снять.
Теперь, когда все кончилось удачно, в деревне без конца обнаруживались больные. У всех болели зубы или было расстройство желудка, и у всех, старых и молодых, были чирьи в самых различных местах. Мы отсылали больных к доктору Кнуту и доктору Герману, которые назначали диеты и щедро раздавали пилюли и мази, имевшиеся в нашей аптечке. Некоторые вылечились, хуже никому не стало, и когда аптечка оказалась пустой, мы приготовляли кашицу из какао и овсяной муки, которая чудесно помогала истеричным женщинам.
Мы прожили среди наших коричневых поклонников несколько дней, и праздничные торжества достигли своего апогея, вылившись в новую церемонию. Мы должны были стать почетными гражданами Рароиа и получить полинезийские имена. Сам я не должен больше оставаться Тераи Матеата: так могли меня называть на Таити, но не здесь, среди них.
Посреди площади для нас поставили шесть табуреток, и вся деревня собралась пораньше, чтобы занять хорошие места вокруг нас. Тека с важным видом сидел вместе со всеми; он был настоящим вождем, но только не в тех случаях, когда дело шло о старинных местных церемониях. Тогда на первый план выступал Тупухое.
Все сидели в ожидании молча и с очень серьезным видом, между тем как огромный тучный Тупухое торжественно и медленно приближался с крепкой узловатой дубинкой в руке. Он был весь проникнут торжественностью этого момента, и все не спускали с него глаз, когда он, погруженный в размышления, подошел и занял свое место перед нами. Он был прирожденным вождем, блестящим оратором и актером.
Он обернулся к главным певцам, барабанщикам и руководителям танцев, взмахом своей узловатой дубинки указал на каждого из них по очереди и тихим размеренным голосом отдал им короткие приказания. Затем он повернулся опять к нам и вдруг широко раскрыл свои большие глаза; огромные белки сверкали на его выразительном медно-коричневом лице так же ярко, как и зубы. Он поднял свою узловатую дубинку, и с его губ посыпались слова, как горох из мешка; он произносил древние обрядовые формулы на старинном, забытом диалекте, который понимали только старики.
Затем он сообщил нам, пользуясь услугами Теки для перевода, что имя первого короля, обосновавшегося на их острове, было Тикароа и что он царствовал над этим же атоллом с севера до юга, с востока до запада и вверх до неба, расстилающегося над головами людей. И пока хор исполнял старинную балладу о короле Тикароа, Тупухое положил свою большую руку мне на грудь и, поворачивая меня к зрителям, объявил, что даст мне имя Вароа Тикароа, то есть Дух Тикароа.
Когда пение стихло, наступила очередь Германа и Бенгта.
Большая коричневая рука коснулась поочередно их груди, и они получили имена Тупухое-Итетахуа и Топакино. Так звали двух древних героев, которые вступили в бой с морским чудовищем и убили его у прохода в рифе Рароиа.
Барабанщик несколько раз энергично ударил в барабан, и двое здоровенных мужчин выскочили вперед с повязкой вокруг бедер и с длинным копьем в каждой руке. Высоко поднимая колени к самой груди, держа копья острием вверх, поворачивая голову из стороны в сторону, они принялись быстро маршировать, отбивая ногами такт. Когда снова раздался бой барабана, они высоко подпрыгнули и, строго соблюдая ритм, принялись изображать легендарную битву по всем правилам балетного искусства. Вся интермедия была короткой и быстрой и изображала битву героев с морским чудовищем. Затем с пением и церемониями было дано имя Торстейну; его назвали Мароаке — по имени древнего короля этой деревни, а Эрик и Кнут получили имена Тане-Матарау и Тефаунуи в честь двух мореплавателей и морских героев древности. Длинная монотонная речь, сопровождавшая присвоение им имен, произносилась с головокружительной быстротой; безостановочный поток слов был рассчитан одновременно на то, чтобы произвести впечатление и позабавить.
Церемония была закончена. Среди полинезийцев на Рароиа опять появились белые бородатые вожди. Из толпы выступили две цепи танцовщиков и танцовщиц в плетеных соломенных юбочках, с покачивающимися лубяными коронами на голове. Танцуя, они приблизились к нам и переложили короны со своих голов на наши; нам пришлось также надеть на себя шелестящие соломенные юбочки, и празднества продолжались.
Однажды ночью увенчанные цветами радисты связались с радиолюбителем на Раротонге, который передал нам сообщение с Таити. Это был сердечный привет от губернатора французских тихоокеанских колоний.
По распоряжению из Парижа он послал правительственную шхуну «Тамара», которая должна доставить нас на Таити, так что нам не придется ждать копровой шхуны, срока прихода которой никто не знал. Таити был центрам французских колоний и единственным островом, имевшим постоянную связь с внешним миром. Мы должны добраться до Таити и там сесть на пароход, совершающий регулярные рейсы, который доставит нас домой, на родину.
На Рароиа продолжались празднества. Как-то вечером с океана донеслись какие-то странные завывания; дозорные спустились с вершин пальм и сообщили, что у входа в лагуну находится какое-то судно. Мы бросились бегом через пальмовый лес к берегу с подветренной стороны острова. Там мы стали смотреть на океан в направлении, противоположном тому, откуда мы пришли на «Кон-Тики». С этой стороны, защищенной от ветра всем атоллом и рифом, буруны были значительно ниже.
Как раз у входа в лагуну со стороны океана мы увидели огни корабля. Небо было ясное и звездное, и мы могли различить очертания широкой двухмачтовой шхуны. Это и есть судно губернатора, пришедшее за нами? Почему оно не входит?
Островитяне проявляли признаки все возраставшего беспокойства. Теперь увидели и мы, что судно имело большой крен и ему грозила опасность опрокинуться. Оно сидело на мели на невидимом подводном рифе.
Торстейн схватил фонарь и просигналил:
— Que bateau?[154]
— «Маоае», — передали нам в ответ.
«Маоае» была копровая шхуна, курсировавшая между островами. Она держала путь на Рароиа за копрой. Капитан и команда шхуны были полинезийцы, и они знали о рифах на подступах к лагуне. Но в темноте их подвело течение. Счастье было, что шхуна находилась с подветренной стороны острова и что погода была тихая, но течение за пределами лагуны было достаточно коварным. Крен «Маоае» увеличивался и увеличивался, и команда спустила шлюпку. Матросы закрепили крепкие канаты на верхушках мачт, а свободные концы канатов доставили в шлюпке на берег, где островитяне обвязали их вокруг стволов кокосовых пальм, чтобы шхуна не опрокинулась. Матросы с другими канатами остановились на шлюпке за проходом в рифе в надежде, что им удастся снять «Маоае» с мели, когда начнется прилив и вода устремится из лагуны. Жители деревни спустили на воду все свои пироги и принялись спасать груз копры. На борту шхуны было девяносто тонн этого ценного товара. Мешки с копрой партия за партией перевозились с раскачивавшейся шхуны на берег.
Вода поднялась, но «Маоае» все еще сидела на мели, раскачиваясь и ударяясь о коралловые рифы, пока не получила пробоины. Когда наступил рассвет, шхуна находилась еще в худшем положении, чем раньше. Команда ничего не могла поделать; не стоило и пытаться стащить с рифа тяжелое судно, водоизмещением в 150 тонн, с помощью шлюпки и пирог островитян. Если шхуна будет и дальше лежать там же, ударяясь о риф, она развалится на части; а если переменится погода, ее унесет к атоллу, и в прибое разобьет в щепу.
На «Маоае» радио не было, но у нас оно имелось. Однако если бы мы и вызвали спасательное судно с Таити, то к тому времени, когда оно пришло бы, «Маоае» давно превратилось бы в обломки. И все же второй раз в течение месяца, риф Рароиа упустил свою добычу.
В тот же день около полудня шхуна «Тамара» показалась на горизонте на западе. Она была послана за нами, чтобы забрать нас с Рароиа, и находившиеся на ее борту были немало удивлены, увидев вместо плота две мачты большой шхуны, которая беспомощно сидела на рифе, накренившись и раскачиваясь.
На борту «Тамары» был французский чиновник, управляющий островами Туамоту и Тубуаи, Фредерик Анн, которого губернатор направил с Таити встретить нас. На «Тамаре» находились также француз-кинооператор и француз-радист, но капитан и команда были полинезийцы. Сам Анн, француз по происхождению, родился на Таити и был великолепным моряком. Он принял на себя командование судном с согласия капитана-таитянина, который был рад освободиться от ответственности в этих опасных водах. Пока «Тамара» ловко лавировала среди бесчисленных подводных рифов и водоворотов, обе шхуны были соединены прочными канатами, и Анн приступил к искусным и рискованным маневрам, а прибой между тем грозил выбросить оба судна на один и тот же коралловый риф.
Когда прилив достиг наибольшей высоты, «Маоае» сошла с рифа, и «Тамара» отбуксировала ее на глубокое место. Но теперь через пробоину вода стала заливать «Маоае», и ее пришлось как можно скорей увести в лагуну на мелководье. В течение трех дней «Маоае» стояла у деревни полузатопленная, и все помпы работали круглые сутки. Лучшие искатели жемчуга из числа наших друзей-островитян ныряли под шхуну со свинцовыми листами и гвоздями и заделали самые большие пробоины, так что «Маоае» с работающими помпами могла в сопровождении «Тамары» добраться до дока на Таити.
Когда «Маоае» была готова к отплытию, Анн провел «Тамару» между покрытыми кораллами мелководьями в лагунах к острову Кон-Тики. Плот был взят на буксир, а затем «Тамара» отправилась обратно к выходу с «Кон-Тики» на буксире; а «Маоае» шла вслед за ней на таком близком расстоянии, чтобы можно было снять команду, если в океане прибыль воды в трюме возьмет верх над помпами.
Наше прощание с Рароиа было более чем грустным. Все, кто мог двигаться, были на молу; они играли и пели наши любимые мелодии, когда судовая шлюпка увозила нас на «Тамару».
Огромный Тупухое возвышался в центре, держа за руку маленького Хаумата. Хаумата плакал, слезы текли и по щекам могучего вождя. У всех стоявших на молу были слезы на глазах, но они продолжали петь и играть еще долго-долго после того, как шум бурунов, набегавших на риф, заглушил для нас все остальные звуки.
Эти чистые сердцем люди, которые стояли на молу и пели, теряли шестерых друзей, а мы, безмолвно стоявшие на борту «Тамары», пока мол не скрылся за пальмами, а пальмы не исчезли в океане, теряли 127 друзей. В ушах у нас продолжала звенеть прихотливая мелодия:
«…пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе — даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день».
Через четыре дня перед нами возник из океана остров Таити. Он не походил на нить жемчужин с кронами пальм. Дикие зубчатые синие горы вздымались к небу, и вершины их были окутаны облаками, напоминавшими венки.
По мере того как мы приближались, на синих горах обнаружились зеленые склоны. Пышная растительность юга зелеными пятнами сбегала по рыже-красным холмам и утесам, которые переходили в глубокие ущелья и долины, спускавшиеся к морю. Когда берег был уже совсем близко, мы увидели стройные пальмы, плотно обступавшие все долины и весь берег позади золотистого пляжа. Остров Таити был когда-то образован вулканами. Теперь они потухли, и коралловые полипы постепенно воздвигли защитный риф вокруг острова, чтобы океан не мог разрушить его.
Рано утром мы прошли пролив между рифами и очутились в бухте Папеэте. Перед нами возвышались церковные шпили и красные крыши домов, наполовину скрытые листвой гигантских деревьев и верхушками пальм. Папеэте — столица Таити, единственный город во французских владениях в Океании. Это был город развлечений, резиденция правительства и центр всех морских путей в восточной части Тихого океана.
Когда мы вошли в бухту, жители Таити стояли на берегу плотной яркой живой стеной и ожидали нас. Новости распространяются на Таити с быстротой ветра, и каждому хотелось посмотреть на пае-пае, который прибыл из Америки.
«Кон-Тики» было отведено почетное место у морского бульвара; мэр Папеэте приветствовал нас, а маленькая полинезийская девочка преподнесла нам от имени Полинезийского общества огромный букет таитянских полевых цветов. Затем подошли молодые девушки и надели нам на шею сладко пахнувшие венки из белых цветов, приветствуя нас с прибытием на Таити, жемчужину Южного моря.
Я искал в толпе знакомое лицо, лицо моего приемного отца на Таити, вождя Терииероо, являвшегося главой 17 местных вождей острова. Конечно, он был тут. Высокий и грузный, живой и веселый, как в старые дни, он вынырнул из толпы, крича «Тераи Матеата!» и улыбаясь всем своим широким лицом. Он стал стариком, но у него был все тот же представительный вид прирожденного вождя.
— Поздно ты явился, — сказал он, улыбаясь, — но ты явился с хорошими новостями. Твой пае-пае поистине принес на Таити синее небо (тераи матеата), так как мы теперь знаем, откуда пришли наши отцы.
Губернатор устроил прием в своем дворце, был званый вечер в городской ратуше, приглашения сыпались на нас со всех концов гостеприимного острова.
Как и в прежние дни, вождь Терииероо устроил большое празднество у себя в доме в долине Папено, который я так хорошо знал; и так как Таити не Рароиа, то здесь была проделана новая церемония наделения таитянскими именами тех, кто раньше их не имел.
Это были баззаботные дни; солнце ярко светило, в небе медленно проплывали легкие облака. Мы купались в лагуне, лазили по горам и танцевали полинезийские танцы на траве под пальмами. Дни проходили и превращались в недели. Похоже было на то, что недели превратятся в месяцы, прежде чем придет корабль, который отвезет нас домой к ожидавшим нас делам.
Затем была получена радиограмма из Норвегии, в которой сообщалось, что судовладелец Ларс Кристенсен дал предписание судну «Тор I» водоизмещением в 4 тысячи тонн направиться с Самоа на Таити, чтобы захватить участников экспедиции и доставить их в Америку.
Однажды рано утром большой норвежский пароход вошел в бухту Папеэте, и французский военный катер отбуксировал «Кон-Тики» к борту его огромного соотечественника; тот протянул длинную стальную руку и поднял своего маленького родственника на палубу. Громкие завывания сирены разнеслись по поросшему пальмами острову. Коричневые и белые люди толпились на набережной Папеэте и бесконечной вереницей взбирались на борт корабля с прощальными подарками и венками. Мы стояли у поручней и вытягивали, как жирафы, шеи, чтобы высвободить подбородок из венков, которые один за другим надевали на нас.
— Если вы хотите вернуться на Таити, — прокричал вождь Терииероо, когда над островом разнесся последний гудок, — вы должны, после того как пароход тронется, бросить венок в лагуну!
Концы были отданы, заревели двигатели, винт забурлил в воде, ставшей зеленой, и мы медленно отошли от набережной.
Красные крыши вскоре исчезли за пальмами, пальмы растворились в синеве гор, которые постепенно, как тени, опускались за горизонтом в океан.
Волны ходили по синему океану. Теперь до них было далеко. Белые пассатные облака проплывали по синему небу. Мы уже не двигались в одну сторону с ними. Теперь мы не повиновались природе. Мы находились на пути к XX веку, до которого было так далеко.
Но мы, шестеро, стоявшие на палубе около наших девяти огромных бальсовых бревен, были все живы. А на лагуне в Таити шесть белых венков лежали на воде, и ласковые волны то прибивали их к берегу, то относили назад.
 Ветер качает тростинку.
Мы обламываем ее.
Она лежит на воде и не тонет. Посади лягушку – выдержит.
Ветер колышет 200 тысяч тростинок, вдоль берега простерся сплошной зеленый луг.
Мы срезаем тростинки. Вяжем большие снопы. Кладем на воду. И становимся на них. Русский, уроженец Чада, мексиканец, египтянин, американец, итальянец и я – норвежец. С нами обезьянка и тьма кудахтающих кур. Мы пойдем в Америку. Пока что мы в Египте. Ветер несет песок, кругом сушь, кругом Сахара.
Абдулла заверяет меня, что снопы будут держаться на воде. Я объясняю ему, что до Америки далеко. Он слышал, что в Америке не любят черную кожу. Я стараюсь его убедить, что это не так. Он не знает, в какой стороне Америка. Но мы до нее доберемся, если ветер дует туда. Снопы нас не подведут, только бы веревки выдержали, говорит он. Только бы веревки выдержали. Выдержат или нет?
Кто-то потряс меня за плечо, я проснулся. Абдулла.
– Три часа, – докладывает он. – Мы опять начинаем работать.
Палатка горячая от солнца. Я сел и, прищурив глаза, выглянул наружу. Там владычествовал сухой зной и слепящее солнце Сахары. Солнце, солнце, солнце. Накаленная солнцем плоскость смыкалась со сводом несравненной синевы, косые лучи озаряли сухое безоблачное небо над миром золотисто-серого песка. На фоне неба акульими зубами торчали три большие и две малые пирамиды. Незыблемые, неизменные, стоят они так с той далекой поры, когда человек был неотъемлемым от природы и созидал природу.
А в пологой ложбине, на песке около пирамид, желтело нечто, вырванное из тока времени, созданное вчера, созданное пять тысяч лет назад: корабль в песках, этакий Ноев ковчег, севший на мель в сахарской пустыне, далеко от водорослей и волн. Рядом стояли два верблюда. Они что-то жевали. Что? Может быть, обрезки нашей ладьи, «бумажной» ладьи. Ведь ее сделали из папируса[155]. Золотистые стебли связали в снопы, из этих снопов собрали лодку – вот она, с высоким носом и кормой, словно лунный серп на фоне неба.
Абдулла уже спускался в лощину. Два чернущих будума в просторных белых тогах карабкались на ладью, ярко одетые египтяне волокли снопы папируса. Работать так работать!
– Бут! Бут! – кричал Абдулла. – Еще папируса!
Я вышел на горячий песок, пошатываясь, как будто очнулся после тысячелетнего сна. Все эти люди работали для меня, это мне взбрело в голову возродить искусство строительства лодок, которые фараон Хеопс и его потомки уже начали забывать, когда возводили могучие пирамиды – те самые, что теперь, будто горная гряда, отделяли возникшую из тьмы веков строительную площадку от бурлящих водоворотов двадцатого века на улицах Каира, раскинувшегося в зеленой нильской долине.
Нас окружал сплошной песок. Жаркий песок, пирамиды, снова песок и стога просушенной солнцем травы – хрупкого, горючего папируса; рабочие тащили его к смоляно-черным африканцам и те, сидя на желтом полумесяце, затягивали веревочные петли руками, зубами и ногами. Они строили лодку, папирусную лодку. Кадай называли ее на своем языке – языке племени будума – эти ребята. Ловкие пальцы и крепкие зубы вязали узлы так, что сразу видно мастеров своего дела.
Бумажным корабликом назвали нашу лодку сотрудники Института папируса в Каире, которые размачивают эти растения в воде и превращают колотушками в хрупкую бумагу, чтобы туристы и научные работники могли своими глазами увидеть, на чем писали иероглифами свои труды первые в истории человечества ученые.
Стебель папируса – сочный и мягкий, ребенок может его согнуть и сломать. Высушенный, он обламывается, как спичка, и горит, как бумага.
На песке у моих ног лежал безжалостно скрученный, весь изломанный сухой стебель. Его швырнул здесь старый араб, сперва возмущенно смял, потом бросил, плюнул и презрительно показал на него пальцем. Дескать, что это за материал, он не держит гвоздя, как к нему мачты крепить! Искушенный лодочный мастер, этот араб приехал на автобусе из Порт-Саида, чтобы принять заказ на мачту и такелаж для нашей лодки. И до того осерчал, что следующим же автобусом укатил обратно к морю. Что за насмешки над честным тружеником! Или нынешние совсем уже не знают, что нужно для настоящей лодки? Напрасно ему объясняли, что именно такие лодки в большом количестве изображены в склепах древних строителей пирамид, похороненных в здешней пустыне.
– Ну и что?! Там и не такое намалевано, есть и люди с птичьей головой, и крылатые змеи! А папирус, сами убедитесь, – это же трава, мягкие стебли, ни гвоздь вколотить, ни шуруп завинтить. Стог сена. Бумажная ладья. Попрошу оплатить обратный проезд.
Ветер качает тростинку.
Мы обламываем ее.
Она лежит на воде и не тонет. Посади лягушку – выдержит.
Ветер колышет 200 тысяч тростинок, вдоль берега простерся сплошной зеленый луг.
Мы срезаем тростинки. Вяжем большие снопы. Кладем на воду. И становимся на них. Русский, уроженец Чада, мексиканец, египтянин, американец, итальянец и я – норвежец. С нами обезьянка и тьма кудахтающих кур. Мы пойдем в Америку. Пока что мы в Египте. Ветер несет песок, кругом сушь, кругом Сахара.
Абдулла заверяет меня, что снопы будут держаться на воде. Я объясняю ему, что до Америки далеко. Он слышал, что в Америке не любят черную кожу. Я стараюсь его убедить, что это не так. Он не знает, в какой стороне Америка. Но мы до нее доберемся, если ветер дует туда. Снопы нас не подведут, только бы веревки выдержали, говорит он. Только бы веревки выдержали. Выдержат или нет?
Кто-то потряс меня за плечо, я проснулся. Абдулла.
– Три часа, – докладывает он. – Мы опять начинаем работать.
Палатка горячая от солнца. Я сел и, прищурив глаза, выглянул наружу. Там владычествовал сухой зной и слепящее солнце Сахары. Солнце, солнце, солнце. Накаленная солнцем плоскость смыкалась со сводом несравненной синевы, косые лучи озаряли сухое безоблачное небо над миром золотисто-серого песка. На фоне неба акульими зубами торчали три большие и две малые пирамиды. Незыблемые, неизменные, стоят они так с той далекой поры, когда человек был неотъемлемым от природы и созидал природу.
А в пологой ложбине, на песке около пирамид, желтело нечто, вырванное из тока времени, созданное вчера, созданное пять тысяч лет назад: корабль в песках, этакий Ноев ковчег, севший на мель в сахарской пустыне, далеко от водорослей и волн. Рядом стояли два верблюда. Они что-то жевали. Что? Может быть, обрезки нашей ладьи, «бумажной» ладьи. Ведь ее сделали из папируса[155]. Золотистые стебли связали в снопы, из этих снопов собрали лодку – вот она, с высоким носом и кормой, словно лунный серп на фоне неба.
Абдулла уже спускался в лощину. Два чернущих будума в просторных белых тогах карабкались на ладью, ярко одетые египтяне волокли снопы папируса. Работать так работать!
– Бут! Бут! – кричал Абдулла. – Еще папируса!
Я вышел на горячий песок, пошатываясь, как будто очнулся после тысячелетнего сна. Все эти люди работали для меня, это мне взбрело в голову возродить искусство строительства лодок, которые фараон Хеопс и его потомки уже начали забывать, когда возводили могучие пирамиды – те самые, что теперь, будто горная гряда, отделяли возникшую из тьмы веков строительную площадку от бурлящих водоворотов двадцатого века на улицах Каира, раскинувшегося в зеленой нильской долине.
Нас окружал сплошной песок. Жаркий песок, пирамиды, снова песок и стога просушенной солнцем травы – хрупкого, горючего папируса; рабочие тащили его к смоляно-черным африканцам и те, сидя на желтом полумесяце, затягивали веревочные петли руками, зубами и ногами. Они строили лодку, папирусную лодку. Кадай называли ее на своем языке – языке племени будума – эти ребята. Ловкие пальцы и крепкие зубы вязали узлы так, что сразу видно мастеров своего дела.
Бумажным корабликом назвали нашу лодку сотрудники Института папируса в Каире, которые размачивают эти растения в воде и превращают колотушками в хрупкую бумагу, чтобы туристы и научные работники могли своими глазами увидеть, на чем писали иероглифами свои труды первые в истории человечества ученые.
Стебель папируса – сочный и мягкий, ребенок может его согнуть и сломать. Высушенный, он обламывается, как спичка, и горит, как бумага.
На песке у моих ног лежал безжалостно скрученный, весь изломанный сухой стебель. Его швырнул здесь старый араб, сперва возмущенно смял, потом бросил, плюнул и презрительно показал на него пальцем. Дескать, что это за материал, он не держит гвоздя, как к нему мачты крепить! Искушенный лодочный мастер, этот араб приехал на автобусе из Порт-Саида, чтобы принять заказ на мачту и такелаж для нашей лодки. И до того осерчал, что следующим же автобусом укатил обратно к морю. Что за насмешки над честным тружеником! Или нынешние совсем уже не знают, что нужно для настоящей лодки? Напрасно ему объясняли, что именно такие лодки в большом количестве изображены в склепах древних строителей пирамид, похороненных в здешней пустыне.
– Ну и что?! Там и не такое намалевано, есть и люди с птичьей головой, и крылатые змеи! А папирус, сами убедитесь, – это же трава, мягкие стебли, ни гвоздь вколотить, ни шуруп завинтить. Стог сена. Бумажная ладья. Попрошу оплатить обратный проезд.

 Это было на острове Пасхи в 1955 году. Восточный берег. Под рокот прибоя четыре брата, четыре старика с кожей, похожей на сморщенный табачный лист, мелкими шажками вбежали в бурлящую воду, неся маленькое суденышко, формой близкое к банану. Солнце рассыпало блики на синих волнах, позолотило лодчонку. Престарелые крепыши вытолкнули лодку за вспененную полосу, вскочили на нее и, часто-часто работая веслами, рассекли обрушившийся гребень. Не успела вырасти новая волна, как они перевалили через нее, словно на качелях, и через следующую тоже, и вот уже вышли за прибой. В лодке было так же сухо, как до встречи с валами. Вся вода в ту же минуту ушла через тысячу щелей в днище. Ни высоких бортов, ни полого корпуса. Толстые связки, на которых сидели гребцы, образовали плоскую палубу, только впереди и сзади лодка-плот, сужаясь, загибалась вверх, чтобы лучше справляться с волной. Золотистым лебедем она переваливала через гребни.
Сто лет на острове Пасхи не спускали на воду таких лодок. Старики связали ее, чтобы показать нам, на чем их деды выходили в море ловить рыбу. Миниатюрная модель известных по изображениям огромных судов поры расцвета культуры острова Пасхи. И весьма внушительная, если сравнить с похожими на бивень одноместными пора, на которых состязались кандидаты на звание птицечеловека.
Островитяне благоговейно смотрели, как четыре старых рыбака идут в океан на лодке, так хорошо всем знакомой по сказаниям предков, лодке, означающей для здешних людей примерно то же, что для американцев «Мэйфлауэр» или для нас, северян, ладья викингов.
Утлое суденышко извивалось, будто надувной матрас, вверх-вниз, вправо-влево, применяясь к волнам и не давая им намочить команду. И когда смуглая четверка на золотистой лодке обогнула мыс, на котором мы в эти дни поднимали первого из поверженных каменных исполинов острова Пасхи, можно было слышать, как люди постарше с горящими глазами говорят о том, что вот, мол, оживает далекое прошлое острова.
А для меня ожили суда далекой страны за горизонтом на востоке... Лодки острова Пасхи поразительно напоминали лодки озера Титикака, но еще больше – серповидные суда из камыша, реалистически воспроизведенные в керамике древней культуры мочика на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Волны, которые разбивались о берег у наших ног, шли с той стороны. И ведь я сам пересек здесь океан с востока на запад, влекомый постоянным круговоротом воды. Как тут не призадуматься...
В мертвом кратере вулкана Рано Рараку шесть человек погрузили в кромку озерной трясины восьмиметровый стальной бур. Множество незавершенных статуй на склонах вокруг кратерного озера свидетельствовало о том, что ваятели неожиданно прервали работу. Некоторые истуканы были почти готовы, только спина прочно соединялась с коренной породой. Они лежали с закрытыми глазами, сложив руки на животе, будто их заколдовала недобрая фея из сказки про принцессу Шиповничек. Другие каменные богатыри были отделены от породы и воздвигнуты стоймя, чтобы ваятели могли обтесать спину, сделать ее такой же изящной и гладкой, как остальные части статуи. Так и стоят они по карнизам, некоторые по подбородок в осколочном материале из каменоломен. Чуть наклонясь, сжав тонкие губы, они словно критически поглядывали, что там творят на берегу озера шесть гномов из живой плоти.
Длинное стальное копье дюйм за дюймом уходило в вязкую кашицу. Десятки тысяч лет на дне потухшего вулкана скапливались дождевая вода и ил, и возникло голубое зеркальное озеро, в котором отражается небо. И кажется, что белые пассатные облака вечной чередой скользят через кратер с востока на запад, исчезая в зеленых зарослях камыша. Три кратерных озера в камышовом венке – единственные источники пресной воды на острове Пасхи. Пасхальцы добывают в них питьевую воду с тех самых пор, как свели огнем первичный лес и превратили весь край в голую степь, после чего ручьи один за другим ушли в пористую вулканическую породу и пропали.
Об этом поведала кашица, извлеченная нами из озерной трясины. Бур заканчивался вращающимся ножом и маленькой полостью, которая захватывала ил, глину или песок, смотря по тому, из чего состоял очередной пласт. Чем глубже погружался бур, тем дальше мы проникали в прошлое.
Кромка трясины была словно книга, лежащая последней страницей вверх, а первой – вниз. Потом начиналась затвердевшая лава и вулканический шлак – свидетели той поры, когда остров поднялся со дна океана, извергая пламя. На эту безжизненную подстилку ложилась глина и ил, когда вулкан потух и края кратера начали разрушаться. Постепенно в донных осадках собиралось все больше цветочной пыльцы. Она герметически сохранялась, и теперь специалист-палинолог, изучая структуру отложений, может рассказать, в какой последовательности на новорожденный остров с помощью течений, ветров, птиц и людей попадали папоротники, кустарники и деревья. Ведь у каждого растения своя пыльца; под микроскопом ее крупинки напоминают причудливейшие плоды и ягоды.
Детективы укрываются под разными прозвищами. Некоторые, чтобы им не докучали любопытные, называют себя палеоботаниками. Они сидят и анализируют крупинки пыльцы так же тщательно, как другие детективы – отпечатки пальцев. Добытые нами комочки грязи мы раскладывали по нумерованным пробиркам, чтобы потом передать их в отдел ботанического сыска в Стокгольме. Так нам удалось кое-что разузнать о забытом прошлом острова Пасхи, о том, откуда мог прийти загадочный народ, который на заре истории неприметно для всех воздвиг здесь свои исполинские монументы.
Пыльца рассказала, что этот голый и бесплодный в представлении европейцев остров, богатый лишь истуканами и каменоломнями, от природы был наделен пышной растительностью – кустами, пальмами и другими деревьями. Но затем сюда задолго до европейцев прибыли мастера каменотесного дела. Они подожгли лес. Зола и копоть сыпались на кратерное озеро, оставив след в донных отложениях. Выше этого слоя пыльца лесных деревьев резко идет на убыль. Пришельцы сводили лес, расчищая место для американского батата, составлявшего их главную пищу. Им нужно было также место для их каменных домов и для широких культовых площадок, где сооружали ступенчатые платформы из огромных обтесанных плит, напоминающие культовые сооружения древнего Перу и египетского масштаба. Они уничтожали пальмы на склонах вулканов, снимали дерн и землю, добираясь до корневой породы, чтобы вытесывать из нее гладкие плиты и монолитные статуи покойных правителей-жрецов. Срубленные деревья их не интересовали, потому что первые обитатели острова Пасхи привыкли строить из камня, камень был для них привычным материалом, тяжеленные плиты весом в шесть, восемь, десять слонов и высотой с дом тащили через весь остров, ставили на торец, укладывали друг на друга и подгоняли, сооружая замечательные мегалитические стены, подобные которым можно увидеть только в Перу, Мексике да в странах древних солнцепоклонников Внутреннего Средиземноморья, на другом конце земного шара.
И не только об этом рассказали детективы, изучив доставленные нами комочки грязи. Усердные покорители целины, хотя истребили изначальную растительность острова, привезли взамен батат, который был неизвестен в нашей части света, пока Колумб не обнаружил его в Америке. Об этом мы знали и раньше. Островитяне называют батат «кумара», как и коренные жители значительной части древней инкской империи. Но лепешечки ила сохранили следы другого растения, еще более важного для морского народа.
Камыш. Камыш тотора.
Выше слоев с золой от лесных пожаров идут другие слои, желтые от спрессованной пыльцы камыша тотора, перемешанной с прочными волокнами стеблей. Большие участки кратерного озера покрыты сплошным плавучим ковром из сгнившего камыша. Кроме тоторы только одно водное растение оставило свою пыльцу в донных отложениях, начиная с пласта, в котором пепел знаменует прибытие людей на остров. Глубже пыльца пресноводных растений не встречена. До прихода человека в кратерных озерах Пасхи ничего не росло, поверхность их была совершенно чистой.
Чем не материал для детектива! Нетрудно догадаться, что оба пресноводных растения попали сюда из-за океана вместе с человеком. Ведь речь идет о важных культурах, одна из которых применялась в медицине, другая использовалась как строительный материал, и ни та, ни другая не могла быть принесена морскими течениями, ветрами или птицами, потому что обе размножаются только корневыми отростками. Чтобы они могли появиться в трех кратерных озерах на уединенном острове Пасхи, их должны были посадить там люди, которые привезли корневища из своего родного края. Теперь оставалось лишь пройти по следу. Оба вида встречаются только на американском материке, их нет больше нигде на свете. Камыш тотора – Scirpus tatora – был одной из главных культур в хозяйстве древних обитателей засушливого приморья инкской империи; они разводили его на орошаемых участках и применяли для лодок, кровли, циновок, корзин и веревок. Второе растение, горец – Polygonum acuminatum, – использовалось индейцами Южной Америки как лекарство. И для островитян оба растения играли такую же роль.
Держа в руке кусок легкого, высушенного солнцем камыша тотора, я смотрел на четырех полинезийцев, которые перемахивали через волны в открытом море так же лихо, как скакали верхом на конях по суше. Присутствие этого американского пресноводного растения в трех кратерных озерах на самом уединенном острове мира давно считалось одной из великих загадок ботаники Тихого океана. А загадка, похоже, решается очень просто. Может быть, древние мореплаватели из Перу пересекли океан не только на бальсовых плотах, может быть, среди них были мастера вязать камышовые лодки, и они привезли корневища, чтобы обеспечить себя строительным материалом.
Когда мы помогли старикам вытащить на берег их серповидную лодку, я окончательно утвердился в мысли, что люди древнейшей культуры острова унаследовали свои характерные суда от древних строителей перуанских пирамид.
Пять лет спустя я встретился на конгрессе в Гавайском университете с ведущими специалистами по археологии Тихоокеанской области. Пять лет мои товарищи по экспедиции, эксперты в разных областях науки обрабатывали материал, собранный в ходе наших раскопок на Пасхе. Скелеты и каменные орудия, образцы крови, пыльца и остатки костров – все было важно для детективов от науки, которые пытались выяснить, что происходило на самом уединенном острове в мире задолго до того, как Колумб приплыл в Америку и тем самым открыл европейцам путь в Тихий океан. Мои сотрудники доложили конгрессу итоги наших работ на острове Пасхи.
И вот я сижу за одним столом с другими учеными и вместе с ними подписываю документ, резолюцию конгресса. А в резолюции говорится, что наряду с Юго-Восточной Азией Южная Америка была родиной народов и культур, которые до европейцев пришли на острова Тихого океана. Никаких возражений с моей стороны. Ведь своим плаванием на плоту из Перу я как раз хотел показать, что Полинезия могла быть заселена с двух сторон. Такая догадка родилась у меня задолго до «Кон-Тики», еще когда я приехал на Маркизские острова, чтобы пожить на полинезийский лад, и на восточном берегу Фату-Хивы слушал у костра рассказы старика Теи Тетуа под гул могучих волн, которые вместе с облаками день и ночь, день и ночь шли в одну сторону – от Америки к островам.
Три тысячи ученых заслушали резолюцию и единогласно одобрили ее. Я покидал X Международный тихоокеанский конгресс с поручением содействовать дальнейшим раскопкам на ближних к Южной Америке островах. В свою очередь археологи-тихоокеанисты впервые включили в круг своих интересов приморье Южной Америки. Открылись ворота между Перу и Полинезией, кончился однобокий взгляд на Тихий океан.
Но камышовая лодка снова была забыта.
И вдруг ее извлекли из забвения самым неожиданным образом, в самой неожиданной связи. В январском номере научного журнала «Американская древность» за 1966 год один известный исследователь из Калифорнийского университета указал, что камышовые лодки древнего Перу похожи на папирусные лодки древнего Египта. Причем лодки не единственная черта, позволяющая говорить о поразительном сходстве этих двух культур. В статье приводился список шестидесяти очень специфических черт, не имеющих широкого мирового распространения, но одинаково характерных для древнейших культур Восточного Средиземноморья (включая Месопотамию и Египет), с одной стороны, и доколумбовых культур Перу – с другой. Камышовая лодка была лишь одним из шестидесяти перечисленных элементов.
Обычно, когда в культуре далеких друг от друга обособленных районов обнаруживают одну или две однотипных черты, наука называет это случайностью, ведь люди во всех концах света настолько схожи, что вполне естественно, если какие-то их изобретения совпадут. Но когда налицо целый набор разнообразнейших совпадений, притом настолько специфичных, что этот комплекс встречается только в двух определенных районах земного шара, опасно совсем исключать возможность контакта между этими двумя центрами культуры. Список шестидесяти специфических параллелей в журнале был как раз таким случаем, сигналом, призывающим к осторожности.
Статья в «Американской древности» поразила не только меня. И не только потому, что перечень элементов выглядел внушительно и давал пищу для размышлений. Больше всего удивляло, что его составил изоляционист. Автор статьи прослыл одним из самых рьяных поборников гипотезы о полной изоляции Америки до Колумба, полагающих, что люди могли попасть в Новый Свет только по льду на севере. И он вдруг публикует перечень, которому позавидовал бы Перси Смит и вся его старая школа диффузионистов. Шестьдесят специфических культурных параллелей между древним Перу и Египтом.
Напрашивался вывод. И автор статьи делал его. Дескать, Египет лежит в Восточной Африке, а Перу – на западе Южной Америки, их разделяют два материка и Атлантический океан. Два народа, которые делали лодки из камыша, не могли сообщаться через океан, из чего следует, что шестьдесят культурных параллелей должны были возникнуть независимо, из чисто практических соображений они не могли явиться следствием морских плаваний человека. Мораль: уважаемые диффузионисты, верящие, что Америка получала импульсы извне до 1492 года, прекратите поиски параллелей, ибо сим доказано, что эти параллели ничего не доказывают.
Научные противники изоляционистов, то есть диффузионисты, возмутились. Их коробило от такой логики. Они были твердо убеждены, что Центральная Америка и Перу еще в древности восприняли импульсы через океан. Но через какой именно? И на каких лодках? Волны дискуссии продолжали бушевать. Вопрос оставался открытым.
В том же 1966 году устроители XXXVII Международного конгресса американистов решили свести для научного единоборства представителей обоих спорящих лагерей. Каждые два года съезжаются специалисты по древней истории Америки; очередной конгресс должен был собраться в Аргентине, и меня попросили организовать симпозиум по вопросу: были или не были контакты через океан с Америкой до Колумба?
Двери аудитории закрываются, симпозиум открывается. Составитель перечня шестидесяти параллелей приглашен, но не явился. Диффузионисты, считающие, что контакт был, представлены докладчиками с трех континентов. Изоляционисты тоже хорошо представлены, но только среди слушателей. У них такая тактика: сначала выслушать противника, потом сокрушать его аргументы. Они предпочитают оборону, мудро предоставляя собирать доказательства тем, кто считает, что люди достигли Америки морским путем до Колумба. У диффузионистов никогда не было недостатка в аргументах, но доказательства отсутствовали. Значит, заключали изоляционисты, океан не был преодолен.
Одним из яблок раздора были исландские королевские саги, сказания викингов, подробно записанные их историками задолго до рождения Колумба. Никто не отрицал, что норвежские викинги заселили сперва Исландию, потом все юго-западное побережье Гренландии. К тому времени, когда Колумб поднял паруса, они жили там постоянно 500 лет. Это подтверждают многочисленные могилы и развалины хуторов, шестнадцати церквей, двух монастырей и усадьбы епископа, который поддерживал связь с папой римским, используя регулярное морское сообщение с Норвегией. Колония платила дань норвежскому королю.
Путь от Норвегии до поселений викингов в Гренландии через Северную Атлантику равен пути от Африки до Бразилии через Южную Атлантику. От Гренландии оставалось совсем немного до американского материка. Изоляционисты говорили, что этот последний отрезок не удалось одолеть.
Он был преодолен, утверждали древние саги. Бьярне Херюлфссон первым пересек пролив на своей ладье, пересек нечаянно, сбившись с курса в тумане. Однако он не стал причаливать к неведомым берегам, а повернул назад, в Гренландию. Вскоре его корабль купил Лейв Эйрикссон, сын Эйрика Рыжего, того самого, который открыл Гренландию. Около 1002 года Лейв с командой из тридцати пяти человек вышел из Гренландии на юго-запад. Отряд Лейва первым высадился на берег новой земли, названной ими Винландом, построил там дома, перезимовал и только потом вернулся в Гренландию. На следующий год брат Лейва, Турвалд Эйрикссон, пересек пролив и поселился со своими людьми в домах, оставленных Лейвом. Через два года, исследуя лесистые берега, он был убит стрелой в схватке с коренными жителями. Тридцать дружинников похоронили его в Винланде и ушли домой, в Гренландию. Затем в Винланд на двух кораблях отправился Турфинн Карлсэвне вместе со своей женой Гюдрид и многочисленной командой. С ними была дочь Эйрика Рыжего, Фрейдис; на этот раз норманны взяли с собой скот, намереваясь прочно обосноваться в новом краю. Гюдрид родила в Винланде сына – Снорре. Однако участившиеся нападения многочисленных отрядов «скрелингов» (индейцев) в конце концов вынудили поселенцев уйти. Понеся большие потери, они бросили свои усадьбы и вернулись кто в Гренландию, кто в Европу.
Рукописные саги изобилуют реалистичными деталями. Берега и пути кораблей описаны так подробно, что нельзя сомневаться: да, викинги открыли Винланд и пытались обжить новую страну в первые десять-пятнадцать лет после 1000 года.
Но где находился Винланд? Докажите, что Винланд – это Америка, твердили изоляционисты много лет. И вот – сенсация: XXXVII Конгресс американистов получил доказательства.
Место, где викинги около 1000 года высадились на берег и построили свои дома, – Ланс-о-Мидоуз на северной оконечности Ньюфаундленда. Здесь до наших дней под дерном сохранились следы типичного норманнского жилья. Остатки древесного угля позволили произвести радиоуглеродную датировку с десятикратной проверкой. Она показала, что дома появились как раз в то время, о котором говорится в сагах.
Индейцы не знали до Колумба железа, а здесь нашли остатки железных гвоздей, нашли болотную руду в примитивной кузнице. Северные индейцы не знали ткачества, а тут лежало под дерном типично норманнское пряслице из стеатита.
Открыл все это известный норвежский специалист по Гренландии, историк Хельге Ингстад. Он отыскал заветное место, тщательно изучив древние исландские записи. А раскопками руководила его жена, археолог Анна Стина Ингстад; ей помогали видные американские археологи. Против фактов нечего было возразить. Викинги побывали на Ньюфаундленде. Они первыми дошли до Америки через Атлантический океан.
Но, говорили изоляционисты, викинги пришли и ушли, не оставив никакого следа, кроме обросших травой земляных валов. Их посещение никак не повлияло на ход истории, индейцы прогнали норманнов и зажили по-старому. Согласно сагам, они успели получить от викингов лишь несколько кусков красной материи раньше, чем кровавые схватки положили конец всякой меновой торговле.
Да, норманны не осели прочно в Америке. И все-таки на севере человек достиг Нового Света и с востока, и с запада до того, как Колумб прошел через океан в тропических широтах.
В Южной Атлантике изоляционисты взяли верх. Здесь развернулась главная баталия. Никто не мог предъявить осязаемых доказательств того, что мореплаватели достигали Мексики до испанцев. К письменным источникам коренных жителей Мексики относились еще более пренебрежительно, чем к сагам викингов. Их сказания о доколумбовых пришельцах – белых бородатых людях – нельзя было подтвердить. И штурм диффузионистов был отбит так же легко, как прежде. Культурные параллели на востоке я западе были для их противников пустым звуком. Поединок закончился тем, что изоляционисты сохранили прочные позиции. И ведь у них был важный аргумент, с которым нельзя было не соглашаться: если народ древней культуры с мореходным опытом пересек океан и научил индейцев писать на бумаге и строить дома из кирпича, он должен был также научить их строить суда. Невозможно, чтобы люди, умеющие воздвигать пирамиды, одолели океан, не умея строить кораблей. Египтяне за 2700 лет до нашей эры уже строили настоящие деревянные корабли с полым корпусом, палубным настилом и каютами из струганных досок, а индейцы до этого так и не додумались. Во всем Новом Свете до Колумба делали только камышовые лодки, плоты, долбленки да каноэ из кожи. Против этого факта нечего было возразить. Настоящее судостроение возникло в Новом Свете только с появлением Колумба и его товарищей.
Камышовые лодки, плоты, долбленки. Опять они... Бальсовый плот вполне мореходен, но на нем можно было плыть только из Америки, а не в нее, потому что до прихода испанцев бальса не росла в других частях света. Зато камыш, осока, тростник росли повсюду. И уж, конечно, на Ниле и в Малой Азии.
– Ивон, – сказал я жене, – надо будет отправиться в Анды, еще раз посмотреть на американские камышовые лодки.
Мы пригласили с собой супругов Ингстад: пусть убедятся, что не одни викинги умели строить изящные суда. Не успел закрыться конгресс, как мы вылетели в Ла-Пас в Боливии и на следующий день уже были на берегу Титикаки, небесно-голубого озера на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря, вокруг которого еще на две с лишним тысячи метров вздымаются вверх снежные пики. На прилегающем к озеру плато лежали развалины Тиауанако, культурного центра и самой могущественной столицы Южной Америки доинкской поры: пирамида Акапана, мегалитические стены, огромные каменные статуи неведомых священных правителей. А на озере, маневрируя на сильном ветру, ходили лодки рыбаков из племени аймара. Издали виден лишь наполненный ветром парус, на большинстве лодок – из ветхой парусины, но кое-кто, оставшись верным старой традиции, поднял на двуногой мачте большую циновку из золотистого камыша тотора. Три лодки шли полным ходом прямо на нас, вот уже видно индейцев в полосатых остроконечных шапочках, и можно рассмотреть конструкцию лодки. Изумительно. Мастерская работа. Каждая камышинка уложена предельно тщательно, симметрия безупречная, изящные, плавные обводы; сигары из камыша связаны настолько туго, что больше похожи на надутые воздухом понтоны или позолоченные бревна, у которых оба конца заострены и загнуты вверх, будто носок деревянного башмака. Стремительно рассекая воду, лодки вошли в просвет в камышах и с ходу врезались в илистое дно. Причалив таким способом, индейцы вброд дошли до берега со своим уловом.
Лодки этого своеобразного типа и в наши дни вяжут тысячами во всех концах огромного внутреннего моря. Точно так же они выглядели 400 лет назад, когда сюда пришли испанцы и обнаружили заброшенные развалины Тиауанако, увидели сориентированную по Солнцу пирамиду и каменных истуканов, созданных, по словам индейцев аймара, на заре времен народом виракоча, белокожими бородатыми людьми под предводительством Кон-Тики-Виракочи, солнечного наместника на земле. Сперва виракоча поселились на острове Солнца. Предание сообщает, что они связали первые камышовые лодки. Легенда, записанная испанцами четыре века назад, по-прежнему жива среди индейцев озера Титикака. Сколько раз меня тут величали «виракоча» – так аймара здесь по сей день называют белых.
Как же все это понимать?..
Это было на острове Пасхи в 1955 году. Восточный берег. Под рокот прибоя четыре брата, четыре старика с кожей, похожей на сморщенный табачный лист, мелкими шажками вбежали в бурлящую воду, неся маленькое суденышко, формой близкое к банану. Солнце рассыпало блики на синих волнах, позолотило лодчонку. Престарелые крепыши вытолкнули лодку за вспененную полосу, вскочили на нее и, часто-часто работая веслами, рассекли обрушившийся гребень. Не успела вырасти новая волна, как они перевалили через нее, словно на качелях, и через следующую тоже, и вот уже вышли за прибой. В лодке было так же сухо, как до встречи с валами. Вся вода в ту же минуту ушла через тысячу щелей в днище. Ни высоких бортов, ни полого корпуса. Толстые связки, на которых сидели гребцы, образовали плоскую палубу, только впереди и сзади лодка-плот, сужаясь, загибалась вверх, чтобы лучше справляться с волной. Золотистым лебедем она переваливала через гребни.
Сто лет на острове Пасхи не спускали на воду таких лодок. Старики связали ее, чтобы показать нам, на чем их деды выходили в море ловить рыбу. Миниатюрная модель известных по изображениям огромных судов поры расцвета культуры острова Пасхи. И весьма внушительная, если сравнить с похожими на бивень одноместными пора, на которых состязались кандидаты на звание птицечеловека.
Островитяне благоговейно смотрели, как четыре старых рыбака идут в океан на лодке, так хорошо всем знакомой по сказаниям предков, лодке, означающей для здешних людей примерно то же, что для американцев «Мэйфлауэр» или для нас, северян, ладья викингов.
Утлое суденышко извивалось, будто надувной матрас, вверх-вниз, вправо-влево, применяясь к волнам и не давая им намочить команду. И когда смуглая четверка на золотистой лодке обогнула мыс, на котором мы в эти дни поднимали первого из поверженных каменных исполинов острова Пасхи, можно было слышать, как люди постарше с горящими глазами говорят о том, что вот, мол, оживает далекое прошлое острова.
А для меня ожили суда далекой страны за горизонтом на востоке... Лодки острова Пасхи поразительно напоминали лодки озера Титикака, но еще больше – серповидные суда из камыша, реалистически воспроизведенные в керамике древней культуры мочика на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Волны, которые разбивались о берег у наших ног, шли с той стороны. И ведь я сам пересек здесь океан с востока на запад, влекомый постоянным круговоротом воды. Как тут не призадуматься...
В мертвом кратере вулкана Рано Рараку шесть человек погрузили в кромку озерной трясины восьмиметровый стальной бур. Множество незавершенных статуй на склонах вокруг кратерного озера свидетельствовало о том, что ваятели неожиданно прервали работу. Некоторые истуканы были почти готовы, только спина прочно соединялась с коренной породой. Они лежали с закрытыми глазами, сложив руки на животе, будто их заколдовала недобрая фея из сказки про принцессу Шиповничек. Другие каменные богатыри были отделены от породы и воздвигнуты стоймя, чтобы ваятели могли обтесать спину, сделать ее такой же изящной и гладкой, как остальные части статуи. Так и стоят они по карнизам, некоторые по подбородок в осколочном материале из каменоломен. Чуть наклонясь, сжав тонкие губы, они словно критически поглядывали, что там творят на берегу озера шесть гномов из живой плоти.
Длинное стальное копье дюйм за дюймом уходило в вязкую кашицу. Десятки тысяч лет на дне потухшего вулкана скапливались дождевая вода и ил, и возникло голубое зеркальное озеро, в котором отражается небо. И кажется, что белые пассатные облака вечной чередой скользят через кратер с востока на запад, исчезая в зеленых зарослях камыша. Три кратерных озера в камышовом венке – единственные источники пресной воды на острове Пасхи. Пасхальцы добывают в них питьевую воду с тех самых пор, как свели огнем первичный лес и превратили весь край в голую степь, после чего ручьи один за другим ушли в пористую вулканическую породу и пропали.
Об этом поведала кашица, извлеченная нами из озерной трясины. Бур заканчивался вращающимся ножом и маленькой полостью, которая захватывала ил, глину или песок, смотря по тому, из чего состоял очередной пласт. Чем глубже погружался бур, тем дальше мы проникали в прошлое.
Кромка трясины была словно книга, лежащая последней страницей вверх, а первой – вниз. Потом начиналась затвердевшая лава и вулканический шлак – свидетели той поры, когда остров поднялся со дна океана, извергая пламя. На эту безжизненную подстилку ложилась глина и ил, когда вулкан потух и края кратера начали разрушаться. Постепенно в донных осадках собиралось все больше цветочной пыльцы. Она герметически сохранялась, и теперь специалист-палинолог, изучая структуру отложений, может рассказать, в какой последовательности на новорожденный остров с помощью течений, ветров, птиц и людей попадали папоротники, кустарники и деревья. Ведь у каждого растения своя пыльца; под микроскопом ее крупинки напоминают причудливейшие плоды и ягоды.
Детективы укрываются под разными прозвищами. Некоторые, чтобы им не докучали любопытные, называют себя палеоботаниками. Они сидят и анализируют крупинки пыльцы так же тщательно, как другие детективы – отпечатки пальцев. Добытые нами комочки грязи мы раскладывали по нумерованным пробиркам, чтобы потом передать их в отдел ботанического сыска в Стокгольме. Так нам удалось кое-что разузнать о забытом прошлом острова Пасхи, о том, откуда мог прийти загадочный народ, который на заре истории неприметно для всех воздвиг здесь свои исполинские монументы.
Пыльца рассказала, что этот голый и бесплодный в представлении европейцев остров, богатый лишь истуканами и каменоломнями, от природы был наделен пышной растительностью – кустами, пальмами и другими деревьями. Но затем сюда задолго до европейцев прибыли мастера каменотесного дела. Они подожгли лес. Зола и копоть сыпались на кратерное озеро, оставив след в донных отложениях. Выше этого слоя пыльца лесных деревьев резко идет на убыль. Пришельцы сводили лес, расчищая место для американского батата, составлявшего их главную пищу. Им нужно было также место для их каменных домов и для широких культовых площадок, где сооружали ступенчатые платформы из огромных обтесанных плит, напоминающие культовые сооружения древнего Перу и египетского масштаба. Они уничтожали пальмы на склонах вулканов, снимали дерн и землю, добираясь до корневой породы, чтобы вытесывать из нее гладкие плиты и монолитные статуи покойных правителей-жрецов. Срубленные деревья их не интересовали, потому что первые обитатели острова Пасхи привыкли строить из камня, камень был для них привычным материалом, тяжеленные плиты весом в шесть, восемь, десять слонов и высотой с дом тащили через весь остров, ставили на торец, укладывали друг на друга и подгоняли, сооружая замечательные мегалитические стены, подобные которым можно увидеть только в Перу, Мексике да в странах древних солнцепоклонников Внутреннего Средиземноморья, на другом конце земного шара.
И не только об этом рассказали детективы, изучив доставленные нами комочки грязи. Усердные покорители целины, хотя истребили изначальную растительность острова, привезли взамен батат, который был неизвестен в нашей части света, пока Колумб не обнаружил его в Америке. Об этом мы знали и раньше. Островитяне называют батат «кумара», как и коренные жители значительной части древней инкской империи. Но лепешечки ила сохранили следы другого растения, еще более важного для морского народа.
Камыш. Камыш тотора.
Выше слоев с золой от лесных пожаров идут другие слои, желтые от спрессованной пыльцы камыша тотора, перемешанной с прочными волокнами стеблей. Большие участки кратерного озера покрыты сплошным плавучим ковром из сгнившего камыша. Кроме тоторы только одно водное растение оставило свою пыльцу в донных отложениях, начиная с пласта, в котором пепел знаменует прибытие людей на остров. Глубже пыльца пресноводных растений не встречена. До прихода человека в кратерных озерах Пасхи ничего не росло, поверхность их была совершенно чистой.
Чем не материал для детектива! Нетрудно догадаться, что оба пресноводных растения попали сюда из-за океана вместе с человеком. Ведь речь идет о важных культурах, одна из которых применялась в медицине, другая использовалась как строительный материал, и ни та, ни другая не могла быть принесена морскими течениями, ветрами или птицами, потому что обе размножаются только корневыми отростками. Чтобы они могли появиться в трех кратерных озерах на уединенном острове Пасхи, их должны были посадить там люди, которые привезли корневища из своего родного края. Теперь оставалось лишь пройти по следу. Оба вида встречаются только на американском материке, их нет больше нигде на свете. Камыш тотора – Scirpus tatora – был одной из главных культур в хозяйстве древних обитателей засушливого приморья инкской империи; они разводили его на орошаемых участках и применяли для лодок, кровли, циновок, корзин и веревок. Второе растение, горец – Polygonum acuminatum, – использовалось индейцами Южной Америки как лекарство. И для островитян оба растения играли такую же роль.
Держа в руке кусок легкого, высушенного солнцем камыша тотора, я смотрел на четырех полинезийцев, которые перемахивали через волны в открытом море так же лихо, как скакали верхом на конях по суше. Присутствие этого американского пресноводного растения в трех кратерных озерах на самом уединенном острове мира давно считалось одной из великих загадок ботаники Тихого океана. А загадка, похоже, решается очень просто. Может быть, древние мореплаватели из Перу пересекли океан не только на бальсовых плотах, может быть, среди них были мастера вязать камышовые лодки, и они привезли корневища, чтобы обеспечить себя строительным материалом.
Когда мы помогли старикам вытащить на берег их серповидную лодку, я окончательно утвердился в мысли, что люди древнейшей культуры острова унаследовали свои характерные суда от древних строителей перуанских пирамид.
Пять лет спустя я встретился на конгрессе в Гавайском университете с ведущими специалистами по археологии Тихоокеанской области. Пять лет мои товарищи по экспедиции, эксперты в разных областях науки обрабатывали материал, собранный в ходе наших раскопок на Пасхе. Скелеты и каменные орудия, образцы крови, пыльца и остатки костров – все было важно для детективов от науки, которые пытались выяснить, что происходило на самом уединенном острове в мире задолго до того, как Колумб приплыл в Америку и тем самым открыл европейцам путь в Тихий океан. Мои сотрудники доложили конгрессу итоги наших работ на острове Пасхи.
И вот я сижу за одним столом с другими учеными и вместе с ними подписываю документ, резолюцию конгресса. А в резолюции говорится, что наряду с Юго-Восточной Азией Южная Америка была родиной народов и культур, которые до европейцев пришли на острова Тихого океана. Никаких возражений с моей стороны. Ведь своим плаванием на плоту из Перу я как раз хотел показать, что Полинезия могла быть заселена с двух сторон. Такая догадка родилась у меня задолго до «Кон-Тики», еще когда я приехал на Маркизские острова, чтобы пожить на полинезийский лад, и на восточном берегу Фату-Хивы слушал у костра рассказы старика Теи Тетуа под гул могучих волн, которые вместе с облаками день и ночь, день и ночь шли в одну сторону – от Америки к островам.
Три тысячи ученых заслушали резолюцию и единогласно одобрили ее. Я покидал X Международный тихоокеанский конгресс с поручением содействовать дальнейшим раскопкам на ближних к Южной Америке островах. В свою очередь археологи-тихоокеанисты впервые включили в круг своих интересов приморье Южной Америки. Открылись ворота между Перу и Полинезией, кончился однобокий взгляд на Тихий океан.
Но камышовая лодка снова была забыта.
И вдруг ее извлекли из забвения самым неожиданным образом, в самой неожиданной связи. В январском номере научного журнала «Американская древность» за 1966 год один известный исследователь из Калифорнийского университета указал, что камышовые лодки древнего Перу похожи на папирусные лодки древнего Египта. Причем лодки не единственная черта, позволяющая говорить о поразительном сходстве этих двух культур. В статье приводился список шестидесяти очень специфических черт, не имеющих широкого мирового распространения, но одинаково характерных для древнейших культур Восточного Средиземноморья (включая Месопотамию и Египет), с одной стороны, и доколумбовых культур Перу – с другой. Камышовая лодка была лишь одним из шестидесяти перечисленных элементов.
Обычно, когда в культуре далеких друг от друга обособленных районов обнаруживают одну или две однотипных черты, наука называет это случайностью, ведь люди во всех концах света настолько схожи, что вполне естественно, если какие-то их изобретения совпадут. Но когда налицо целый набор разнообразнейших совпадений, притом настолько специфичных, что этот комплекс встречается только в двух определенных районах земного шара, опасно совсем исключать возможность контакта между этими двумя центрами культуры. Список шестидесяти специфических параллелей в журнале был как раз таким случаем, сигналом, призывающим к осторожности.
Статья в «Американской древности» поразила не только меня. И не только потому, что перечень элементов выглядел внушительно и давал пищу для размышлений. Больше всего удивляло, что его составил изоляционист. Автор статьи прослыл одним из самых рьяных поборников гипотезы о полной изоляции Америки до Колумба, полагающих, что люди могли попасть в Новый Свет только по льду на севере. И он вдруг публикует перечень, которому позавидовал бы Перси Смит и вся его старая школа диффузионистов. Шестьдесят специфических культурных параллелей между древним Перу и Египтом.
Напрашивался вывод. И автор статьи делал его. Дескать, Египет лежит в Восточной Африке, а Перу – на западе Южной Америки, их разделяют два материка и Атлантический океан. Два народа, которые делали лодки из камыша, не могли сообщаться через океан, из чего следует, что шестьдесят культурных параллелей должны были возникнуть независимо, из чисто практических соображений они не могли явиться следствием морских плаваний человека. Мораль: уважаемые диффузионисты, верящие, что Америка получала импульсы извне до 1492 года, прекратите поиски параллелей, ибо сим доказано, что эти параллели ничего не доказывают.
Научные противники изоляционистов, то есть диффузионисты, возмутились. Их коробило от такой логики. Они были твердо убеждены, что Центральная Америка и Перу еще в древности восприняли импульсы через океан. Но через какой именно? И на каких лодках? Волны дискуссии продолжали бушевать. Вопрос оставался открытым.
В том же 1966 году устроители XXXVII Международного конгресса американистов решили свести для научного единоборства представителей обоих спорящих лагерей. Каждые два года съезжаются специалисты по древней истории Америки; очередной конгресс должен был собраться в Аргентине, и меня попросили организовать симпозиум по вопросу: были или не были контакты через океан с Америкой до Колумба?
Двери аудитории закрываются, симпозиум открывается. Составитель перечня шестидесяти параллелей приглашен, но не явился. Диффузионисты, считающие, что контакт был, представлены докладчиками с трех континентов. Изоляционисты тоже хорошо представлены, но только среди слушателей. У них такая тактика: сначала выслушать противника, потом сокрушать его аргументы. Они предпочитают оборону, мудро предоставляя собирать доказательства тем, кто считает, что люди достигли Америки морским путем до Колумба. У диффузионистов никогда не было недостатка в аргументах, но доказательства отсутствовали. Значит, заключали изоляционисты, океан не был преодолен.
Одним из яблок раздора были исландские королевские саги, сказания викингов, подробно записанные их историками задолго до рождения Колумба. Никто не отрицал, что норвежские викинги заселили сперва Исландию, потом все юго-западное побережье Гренландии. К тому времени, когда Колумб поднял паруса, они жили там постоянно 500 лет. Это подтверждают многочисленные могилы и развалины хуторов, шестнадцати церквей, двух монастырей и усадьбы епископа, который поддерживал связь с папой римским, используя регулярное морское сообщение с Норвегией. Колония платила дань норвежскому королю.
Путь от Норвегии до поселений викингов в Гренландии через Северную Атлантику равен пути от Африки до Бразилии через Южную Атлантику. От Гренландии оставалось совсем немного до американского материка. Изоляционисты говорили, что этот последний отрезок не удалось одолеть.
Он был преодолен, утверждали древние саги. Бьярне Херюлфссон первым пересек пролив на своей ладье, пересек нечаянно, сбившись с курса в тумане. Однако он не стал причаливать к неведомым берегам, а повернул назад, в Гренландию. Вскоре его корабль купил Лейв Эйрикссон, сын Эйрика Рыжего, того самого, который открыл Гренландию. Около 1002 года Лейв с командой из тридцати пяти человек вышел из Гренландии на юго-запад. Отряд Лейва первым высадился на берег новой земли, названной ими Винландом, построил там дома, перезимовал и только потом вернулся в Гренландию. На следующий год брат Лейва, Турвалд Эйрикссон, пересек пролив и поселился со своими людьми в домах, оставленных Лейвом. Через два года, исследуя лесистые берега, он был убит стрелой в схватке с коренными жителями. Тридцать дружинников похоронили его в Винланде и ушли домой, в Гренландию. Затем в Винланд на двух кораблях отправился Турфинн Карлсэвне вместе со своей женой Гюдрид и многочисленной командой. С ними была дочь Эйрика Рыжего, Фрейдис; на этот раз норманны взяли с собой скот, намереваясь прочно обосноваться в новом краю. Гюдрид родила в Винланде сына – Снорре. Однако участившиеся нападения многочисленных отрядов «скрелингов» (индейцев) в конце концов вынудили поселенцев уйти. Понеся большие потери, они бросили свои усадьбы и вернулись кто в Гренландию, кто в Европу.
Рукописные саги изобилуют реалистичными деталями. Берега и пути кораблей описаны так подробно, что нельзя сомневаться: да, викинги открыли Винланд и пытались обжить новую страну в первые десять-пятнадцать лет после 1000 года.
Но где находился Винланд? Докажите, что Винланд – это Америка, твердили изоляционисты много лет. И вот – сенсация: XXXVII Конгресс американистов получил доказательства.
Место, где викинги около 1000 года высадились на берег и построили свои дома, – Ланс-о-Мидоуз на северной оконечности Ньюфаундленда. Здесь до наших дней под дерном сохранились следы типичного норманнского жилья. Остатки древесного угля позволили произвести радиоуглеродную датировку с десятикратной проверкой. Она показала, что дома появились как раз в то время, о котором говорится в сагах.
Индейцы не знали до Колумба железа, а здесь нашли остатки железных гвоздей, нашли болотную руду в примитивной кузнице. Северные индейцы не знали ткачества, а тут лежало под дерном типично норманнское пряслице из стеатита.
Открыл все это известный норвежский специалист по Гренландии, историк Хельге Ингстад. Он отыскал заветное место, тщательно изучив древние исландские записи. А раскопками руководила его жена, археолог Анна Стина Ингстад; ей помогали видные американские археологи. Против фактов нечего было возразить. Викинги побывали на Ньюфаундленде. Они первыми дошли до Америки через Атлантический океан.
Но, говорили изоляционисты, викинги пришли и ушли, не оставив никакого следа, кроме обросших травой земляных валов. Их посещение никак не повлияло на ход истории, индейцы прогнали норманнов и зажили по-старому. Согласно сагам, они успели получить от викингов лишь несколько кусков красной материи раньше, чем кровавые схватки положили конец всякой меновой торговле.
Да, норманны не осели прочно в Америке. И все-таки на севере человек достиг Нового Света и с востока, и с запада до того, как Колумб прошел через океан в тропических широтах.
В Южной Атлантике изоляционисты взяли верх. Здесь развернулась главная баталия. Никто не мог предъявить осязаемых доказательств того, что мореплаватели достигали Мексики до испанцев. К письменным источникам коренных жителей Мексики относились еще более пренебрежительно, чем к сагам викингов. Их сказания о доколумбовых пришельцах – белых бородатых людях – нельзя было подтвердить. И штурм диффузионистов был отбит так же легко, как прежде. Культурные параллели на востоке я западе были для их противников пустым звуком. Поединок закончился тем, что изоляционисты сохранили прочные позиции. И ведь у них был важный аргумент, с которым нельзя было не соглашаться: если народ древней культуры с мореходным опытом пересек океан и научил индейцев писать на бумаге и строить дома из кирпича, он должен был также научить их строить суда. Невозможно, чтобы люди, умеющие воздвигать пирамиды, одолели океан, не умея строить кораблей. Египтяне за 2700 лет до нашей эры уже строили настоящие деревянные корабли с полым корпусом, палубным настилом и каютами из струганных досок, а индейцы до этого так и не додумались. Во всем Новом Свете до Колумба делали только камышовые лодки, плоты, долбленки да каноэ из кожи. Против этого факта нечего было возразить. Настоящее судостроение возникло в Новом Свете только с появлением Колумба и его товарищей.
Камышовые лодки, плоты, долбленки. Опять они... Бальсовый плот вполне мореходен, но на нем можно было плыть только из Америки, а не в нее, потому что до прихода испанцев бальса не росла в других частях света. Зато камыш, осока, тростник росли повсюду. И уж, конечно, на Ниле и в Малой Азии.
– Ивон, – сказал я жене, – надо будет отправиться в Анды, еще раз посмотреть на американские камышовые лодки.
Мы пригласили с собой супругов Ингстад: пусть убедятся, что не одни викинги умели строить изящные суда. Не успел закрыться конгресс, как мы вылетели в Ла-Пас в Боливии и на следующий день уже были на берегу Титикаки, небесно-голубого озера на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря, вокруг которого еще на две с лишним тысячи метров вздымаются вверх снежные пики. На прилегающем к озеру плато лежали развалины Тиауанако, культурного центра и самой могущественной столицы Южной Америки доинкской поры: пирамида Акапана, мегалитические стены, огромные каменные статуи неведомых священных правителей. А на озере, маневрируя на сильном ветру, ходили лодки рыбаков из племени аймара. Издали виден лишь наполненный ветром парус, на большинстве лодок – из ветхой парусины, но кое-кто, оставшись верным старой традиции, поднял на двуногой мачте большую циновку из золотистого камыша тотора. Три лодки шли полным ходом прямо на нас, вот уже видно индейцев в полосатых остроконечных шапочках, и можно рассмотреть конструкцию лодки. Изумительно. Мастерская работа. Каждая камышинка уложена предельно тщательно, симметрия безупречная, изящные, плавные обводы; сигары из камыша связаны настолько туго, что больше похожи на надутые воздухом понтоны или позолоченные бревна, у которых оба конца заострены и загнуты вверх, будто носок деревянного башмака. Стремительно рассекая воду, лодки вошли в просвет в камышах и с ходу врезались в илистое дно. Причалив таким способом, индейцы вброд дошли до берега со своим уловом.
Лодки этого своеобразного типа и в наши дни вяжут тысячами во всех концах огромного внутреннего моря. Точно так же они выглядели 400 лет назад, когда сюда пришли испанцы и обнаружили заброшенные развалины Тиауанако, увидели сориентированную по Солнцу пирамиду и каменных истуканов, созданных, по словам индейцев аймара, на заре времен народом виракоча, белокожими бородатыми людьми под предводительством Кон-Тики-Виракочи, солнечного наместника на земле. Сперва виракоча поселились на острове Солнца. Предание сообщает, что они связали первые камышовые лодки. Легенда, записанная испанцами четыре века назад, по-прежнему жива среди индейцев озера Титикака. Сколько раз меня тут величали «виракоча» – так аймара здесь по сей день называют белых.
Как же все это понимать?..

 Море. Кактусы. Клочок моря в просвете между колючими исполинами. Сказочный мир. Стою, словно лилипутик, и, задрав голову, рассматриваю макушки зеленых великанов. То словно органные трубы, то многорукие подсвечники возвышаются над царством раскормленных толстяков и дородных верзил. Аведь почва у меня под ногами – всего лишь сухая корка спекшегося, бесплодного песка. Ни травы, ни цветов, если не считать красные и желтые соцветия между шипами на могучих мускулах зеленых богатырей. Планета кактусов... У ног великанов стояли, лежали, извивались колючие шары, колбасы, коленчатые валы. В лучах вечернего солнца они напоминали то балансирующие друг на друге тарелки и вилки эквилибриста, то ощетинившиеся гвоздями старые подметки, то куски колючей проволоки, то извивающиеся кошачьи хвосты. Лес был безмолвен и недвижим. Не шуршали даже листья на единичных экземплярах узловатого железного дерева, которые изгибались и так и сяк, спасаясь от вездесущих шипов.
Пустынный заяц беззвучно выскочил из густых теней на солнце, посидел, подняв торчком длинные уши, поглядел в одну, в другую сторону и поспешил дальше. Крохотный полосатый бурундучок стремглав пересек его путь, вдруг замер на месте, подняв кверху хвостик, и тут же засеменил прочь через заколдованный лес, – будто косматый мячик покатился. На самой высокой ветке зеленого тройного канделябра, вознесенный над всем светом, сидел орел. Он сидел неподвижно, пока я не подошел вплотную к стволу, и только тогда тихо расправил крылья и поплыл над волшебным лесом. Казалось, не орел скользит по воздуху – я вместе с кактусами ухожу назад, а он теряется вдали, пригвожденный к небосводу. И тишина кругом, лишь мои подошвы хрустят, давя песчаную корку и проваливаясь в потайные норки земляных крыс, змей и прочих тварей пустыни. Только что в этом царстве безмолвия мой слух уловил другой звук, совсем негромкий, однако не менее впечатляющий, чем грозное рыканье льва. Словно кто-то тряхнул коробку со спичками. Зловещий сигнал тревоги на универсальном языке самой природы. Услышав его, даже тот, кто никогда не видел гремучей змеи, живо отскочит в сторону. С трепещущим в воздухе языком и сверкающими глазами змея приготовилась к атаке и покачивала поднятым вверх хвостом. Сухие, будто сделанные из светлого пластика кольца трещотки сердито подрагивали. Я лихорадочно искал взглядом палку или хотя бы ветку, чтобы расправиться с гадиной. Но кругом стояли одни кактусы, а их колючие мясистые побеги ломались, как огурец, когда я пытался ими пришибить извивающуюся гадину. Я основательно наплясался, прежде чем нашел твердый высохший стебель и смог оглушить змею. Не давая ей очнуться, я довел расправу до конца, и только хвост гремучей змеи продолжал судорожно вздрагивать.
В этом краю кактусов мы очутились в поисках лодочных мастеров. Хоть бы одно настоящее дерево, чтобы с него можно было высмотреть дорогу! Мой мексиканский друг Рамон Браво ушел куда-то налево искать скалу для обзора, а его жена Анжелика и наш друг Герман Карраско остались ждать в джипе, там, где мы – в который раз! – потеряли колею. Мне посчастливилось: я наконец-то увидел море. Место приметное, рядом со мной высился этакий живой монумент – кактус в виде трезубца Нептуна, толстенный, хоть прячься за него. Это на нем сидел орел. Ему сверху, наверно, были видны и берег, и в другой стороне – иссеченные рыжие скалы, вдоль которых мы тряслись на нашей машине, пока поминутно разветвляющаяся колея не затерялась совсем в кактусовом лесу. А я видел только серебристые блики солнца на водной глади да голубеющие вдали горы за заливом. Вполне достаточно, чтобы наметить курс. И мы покатили дальше по заколдованному лесу, спеша достичь цели до захода солнца.
Неожиданно кактусы расступились, сменившись низким вечнозеленым кустарником, и нашему взору предстало море и открытый девственный пляж с бахромой тихо плещущихся волн. Пять черных китовых спин, стремительно рассекая воду, шли прямо на нас. В последнюю секунду они нырнули, зато в воздух взмыл целый каскад мелкой рыбешки, и с минуту вода у берега буквально кипела, пока серебристая мелюзга не рассеялась.
Нас окружала нетронутая природа. Впереди – Калифорнийский залив, сзади и по бокам – Сонорская пустыня.
Волнистая голубая полоска гор по ту сторону залива обозначала протянувшийся на тысячу с лишним километров полуостров Нижняя Калифорния. На нашем берегу, сколько хватало глаз, не было видно ни построек, ни еще каких-либо следов человека, и мы вернулись в кактусовый лес. Поищем севернее...
Наконец в ту самую минуту, когда солнце укрылось за горами на западе и на море легла черная тень, нашим глазам предстала индейская деревушка. Архитектурный стиль, который утвердился здесь, когда последние представители некогда могущественного племени сери приобщились к европейской культуре, никак нельзя было назвать романтическим. Человек шестьдесят, примерно десяток семей, обосновались на голом песчаном мысу Пунта-Хуэка, украсив его соответственным количеством лачуг из железа и толя. Размеры жилья только-только позволяли лечь навытяжку на песчаном полу. Строительный материал, как и горы битого стекла и жестяных банок за лачугами, позволяли судить, что получают индейцы за черепах, которых ловят живьем и держат в садке на берегу.
Наше появление никого особенно не взволновало. Большинство продолжало заниматься своими делами: одни сидели, переговариваясь, другие прогуливались между лачугами в нарядах из ярких лент, самодельных брошей и покупных, по-цыгански пестрых тканей, скомпонованных на индейский лад. У мужчин до самого крестца свисали черные косицы. Лица женщин были симметрично расписаны узорами из черточек и точек, сочетающими дикую пикантность и вечную красоту. Так красились в далеком прошлом, а теперь этот грим, похоже, может стать ультрасовременной модой.
Миловидная женщина в длинном платье сидела в окружении своих подруг; они растирали в чашечках естественные краски, а одна вооружилась обыкновенной губной помадой, которая очень подходила для того, чтобы рисовать черточки на подбородке. Жену Рамона, восхищенно смотревшую на всю эту процедуру, решительно поманили рукой, усадили на песок и украсили ее лицо таким же узором. К нам подошли два старика в сопровождении гурьбы ребятишек. Они узнали Рамона, тотчас ребятишки сбегали за Чучу, который был переводчиком и проводником Рамона в прошлый раз, когда тот приезжал сюда снимать тюленей и прочих животных в заливе. Чучу явился со всей семьей, и радости не было конца.
Рамон привез друга, который хочет посмотреть на их камышовые лодки? Но никто из племени сери больше не вяжет аскам. Где лодка, которую Рамон видел два года назад? Эта как раз была последняя. В соседней деревне теперь тоже нет аскам, власти выделили на каждую деревню по деревянной лодке с подвесным мотором. Какой-то голый карапуз, внимательно слушавший наш разговор, убежал и вернулся с игрушечной моделью торпедного катера из желтого пластика.
Спустилась ночь, нам одолжили несколько картонок, и мы сделали себе из них постель на полу сарая, где хранились рыболовные снасти. Ворочаясь на жестком ложе, я слышал монотонные голоса индейцев, они всю ночь о чем-то толковали у своих костров и легли спать лишь под утро, за час до того, как мы поднялись.
Еще не зарделись на солнце макушки кактусов, а наша четверка уже сидела в кольце индейцев, глядя на тихий залив. Никто не произносил ни слова. Все только смотрели. Наконец Чучу неторопливо встал, спустился к воде и забросил небольшую сеть. В две закидки он прямо у берега поймал четыре крупных рыбы. Два мальчугана с острогами в одно мгновение удвоили улов. Завтрак обеспечен. Остальные продолжали сидеть. Других событий в этот день явно не предвиделось.
– Вы не сделаете для меня аскам? – осторожно спросил я.
– Мучо травахо («Много работы»), – последовал дружный ответ.
Их знание испанского явно исчерпывалось этими словами, дальше требовался переводчик. Чучу пришел на помощь.
– Я заплачу, – пообещал я. – Получите товары или песо.
– Мучо травахо, – повторили они.
Я надбавил цену. Индейцы промолчали. Надбавил еще.
– Далеко идти за камышом, – нерешительно сказал Чучу.
– Мы пойдем с вами, – я встал.
Четверо индейцев согласились отправиться за камышом: Чучу, двое из его братьев и сын одного из них. Только старший брат, Каитано, знал, где растет камыш: на озере. На Исла-Тибурон, Акульем острове, вон он в лучах восходящего солнца, по ту сторону залива.
Пригодился подвесной мотор, предоставленный властями. И вот мы уже идем к горизонту, рассекая мелкую волну. Я недоумевал: неужели ближе нет камыша?
– Это камыш пресноводный, – объяснил Каитано. – Он на здешнем берегу не может расти. Надо добираться до озера.
Впереди из воды выросли крутые пики Исла-Тибурон. Остров изрядный, площадь больше тысячи квадратных километров, его даже на карте мира видно. Мы причалили к белому песчаному пляжу, дальше до розовеющих гор простиралась ровная полоса земли с кустарником и единичными кактусами-великанами. На берегу, глядя на нас, неподвижно стоял олень-беррендо с горделиво поднятой головой, увенчанной великолепными рогами. Скорей камеру сюда, только без шума, чтобы увековечить его, пока он не обратился в бегство! Олень продолжал стоять недвижимо. Мы подкрались ближе. Еще ближе. Я шел первым, держась в кадре. Только бы не спугнуть... В эту минуту олень тронулся с места. Гордо, решительно он пошел вперед, нагнул шею и легонько уперся мне головой в живот, просунув рога у меня под мышками. Я попробовал его оттолкнуть, чтобы можно было снять путные кадры. Куда там, олень хотел сниматься именно так, и сколько я его ни толкал, как ни силился прекратить этот унизительный спектакль, все напрасно, ласковый олень то отступал, то снова напирал, ни на секунду не отпуская меня, но и не причиняя мне боли. Дурацкое положение, неожиданный оборот нашей киноохоты. И лишь когда я почесал оленя за ухом, он от удивления отнял голову и воззрился на меня огромными глазами. Воспользовавшись случаем, я шаг за шагом отступил к двуногим, вместе с которыми сошел на берег.
Мы вытащили лодку на песок подальше от воды и зашагали по равнине. Где же озеро в рамке из камыша? Увы, кругом был только песок с лабиринтом из вечнозеленого кустарника и кактусов. Никакого намека на тропу. Одни лишь олени, зайцы, ящерицы, змеи и всякие мелкие твари оставили свой след. Акулий остров необитаем с той поры, как индейцев сери принудительно переселили на материк.
Каитано еще помнил, как это было.
Мы шли, шли... Направо, налево, прямо, отыскивая проходы в зарослях, курсом на горы.
– Где же озеро? – спрашивал то один, то другой из нас.
– Вон там, – показывал носом Каитано. Мы продолжали шагать дальше. Море осталось где-то далеко позади. Зато горы подступали все ближе. Вот и подножие. Полдень, солнце печет макушку, а у нас ни воды, ни продуктов.
– Ну где озеро, пить хочется, – пробурчал Герман.
– Вон там, – Каитано показал носом вверх.
Мы начали карабкаться по заполненному каменной осыпью кулуару в рыжеватом склоне. Внизу нам встречались одни зайцы да ящерицы, здесь же мы то и дело спугивали баранов и оленей, которые явно не были нам рады в отличие от чудака на пляже. Несколько раз мне попались черепки от индейских кувшинов. Не иначе, тут споткнулся кто-то из ходивших по воду.
Выше, выше... Даже не верилось, что на сухой-пресухой горе, где растет один кактус, может быть озеро.
Вдруг Каитано остановился и показал вперед, теперь уже рукой. Мы стояли на скатившихся сверху глыбах, перед нами простиралась заваленная камнем выемка, а на противоположном склоне расщелина в красной породе вела в котлован, где в лучах солнца выделялось зеленое пятно, которое сочностью и яркостью тона превосходило все кактусы и прочие растения засушливой прибрежной полосы. Камыш!
Усталые, мучимые жаждой, мы прибавили шагу. Море синело далеко внизу, и мы мечтали поскорее нырнуть в озеро и вдоволь напиться. Я приметил искусственную кладку на двух-трех карнизах – это поработали люди. Добравшись до зеленой чащи, Каитано начал прорубать себе путь секачом, и вскоре его смуглая спина с черной косичкой пропала в высоком, выше человеческого роста, камыше.
– Где озеро? – спросил я, догнав его.
В густых зарослях было видно не дальше вытянутой руки. Каитано стоял, глядя себе под ноги. Он показал носом вниз, на черный влажный перегной. Мы подтолкнули его, спеша поскорее выйти к озеру. Каитано нехотя пригнулся и нырнул в темный туннель, проложенный в чаще животными, которые ходили здесь на водопой. Туннель заканчивался полостью, достаточно большой, чтобы вместить почти всех нас. Чувствовалась близость воды. Мшистые камни были словно холодные губки, а между ними, в ямке шириной с умывальный таз, поблескивала лужица, затянутая зеленой ряской. Я уже хотел присесть в лужицу, чтобы немного освежиться, но меня вдруг осенила догадка... Кажется, лучше не мутить эту воду!
– Где озеро? – спросил я.
– Здесь, – сказал Каитано, показывая на лужу. Мы промолчали. Все мы вдруг ощутили страшную жажду теперь, когда обещанное озеро вдруг растаяло, как мираж. Осторожно выловив ряску, набрали горстью воды – только-только всем смочить горло. Оставшейся мутной жижей смазали воспаленную кожу, потом погрузили ноги в ил, чтобы использовать всю влагу до последней капли.
Что ни говори, здесь, в тени, было на диво свежо и приятно, и жизнь сразу стала восхитительной. Наибольшую радость доставляют сильные контрасты: капелька ила и клочок тени после перехода по пескам подарили нам больше блаженства, чем обед с шампанским после поездки на трамвае.
Индейцы поглядывали, щурясь, на солнечный диск, который едва просвечивал сквозь плотный полог стеблей над нами. Они думали о долгом пути домой, и двое из них, отойдя от лужи, начали срезать своими секачами самые длинные стебли. Тем временем мы прилегли на траву отдохнуть.
Поучительный поход! Ведь я, подобно другим ученым, думал, что для индейцев сери было естественно строить лодки из камыша. Считал, что в Сонорской пустыне не хватало древесины, зато камыша в приморье видимо-невидимо. А выходит совсем другое. Индейцы сери делали такие лодки вовсе не потому, что камыш был у них под рукой. Вон куда им пришлось забираться, на гору на далеком острове, чтобы по берегам родника высадить растение, стебли которого служили материалом для лодок. Видно, строительство камышовых лодок было в племени давней традицией, собственной или заимствованной извне. Без этого зачем им ходить сюда за камышом, они вполне могли делать каркасы для лодок из веток железного дерева и обтягивать их кожей. Тюленьи шкуры превосходный материал для лодки, а на южном, скалистом берегу Акульего острова тюленей видимо-невидимо. Кто-то другой, пришедший из области, где было много камыша, надоумил индейцев сери строить камышовые лодки. Кто?
Мы пошли вниз; четверо индейцев – впереди, каждый с кипой камыша на плече, за ними остальные, неся штативы и киноаппаратуру. Спускаясь по каменистому склону, я то и дело замечал оброненные индейцами стебли. Внизу наши проводники разбрелись, а затем мы почему-то оказались впереди. Чтобы не заблудиться, я отыскал наши старые следы и зашагал по ним, выписывая зигзаги. Индейцы упорно шли сзади, ссылаясь на тяжелую ношу, хотя мне показалось, что охапки уже стали меньше...
День подошел к концу, когда мы отыскали лодку. Зная, что после захода солнца увидим костры на Пунта-Хуэка, мы терпеливо ждали четверку индейцев. А вот и они тишком вышли на берег. Последним, смущенно улыбаясь, брел Чучу, неся на плече 3 (три) стебля камыша. Остальные ничего не несли.
– Мучо травахо, – пробормотал один из индейцев. Другой одобрительно кивнул и вытер лицо косичкой. Чучу осторожно положил в лодку свои три стебля. Каитано, четвертый индеец, уже сидел в лодке и ждал, когда его повезут домой.
Мои мексиканские друзья были страшно огорчены и откровенно возмущались. Три стебля – итог целого дня голодного странствия по безводному острову. Мы-то рассчитывали найти камыш на самом берегу. Но я отчасти был даже доволен. Из трех камышинок не свяжешь лодки, зато они рассказали мне кое-что поважней. Я узнал, что не в Сонорской пустыне надо искать родину камышовых лодок.
Старики обрушили град насмешек на Чучу и его помощников, когда он сбросил свой груз на землю около лачуги. Особенно негодовала одна голосистая древняя бабуся. Отведя душу, она доковыляла до своей лачуги и что-то крикнула, стоя лицом к двери. Через минуту на пороге показался дряхлый слепец в синих очках. Подчиняясь властной супруге, он нехотя вышел, разогнул спину, и мы поняли, что некогда это был статный богатырь с красивым лицом. Индейцы сери выделяются среди других племен Мексики; после первой встречи с жителями Акульего острова испанцы описывали их как великанов.
Старик со старухой зашли за лачугу – здесь, на куче мусора, лежала камышовая лодка! Похожие на бамбук тонкие стебли посерели от старости, от них осталась почти одна труха, веревки сгнили, но лодка еще сохраняла свою форму. Мы помогли отнести ее к двери: старик решил показать, что настоящий сын племени сери умеет вязать аскам. Нам объяснили, что этот ветеран – бывший вождь племени.
На другой день он на рассвете приступил к работе, вооружившись веревкой собственного изготовления и длинной деревянной иглой, отполированной долгим употреблением. Этой иглой слепец ощупью сшил свою лодку заново, придав изящный изгиб поникшему носу. Это ли не удача – мусорная куча подарила нам то самое, ради чего мы сюда добирались.
Последнюю камышовую лодку племени сери, – а то и всей Мексики, – отнесли к заливу. Каитано с сыном, захватив весла и деревянное копье с веревкой, вскочили на нее и уселись поудобнее. Оба умели обращаться с веслами, и смуглые спины с черными косицами быстро исчезли вдали. Когда длинная, узкая лодка вернулась, между гребцами лежала, размахивая ластами, здоровенная морская черепаха. Сухой, прелый камыш пропитался водой, и мелкие волны захлестывали лодку, но она продолжала держаться на поверхности.
Итак, Мексика. Кто научил индейцев сери специфическому искусству вязать камышовые лодки? Кто-то из их многочисленных соседей. Некогда такие лодки окружали их со всех сторон, от инкской империи на юге до Калифорнии на севере, они были даже на озерах самой Мексики. Еще в начале прошлого века французский художник Л. Шори зарисовал трех индейцев с веслами на камышовой лодке у лесистого берега в гавани Сан-Франциско. Лодки из камыша были известны в восьми штатах Мексики.
С грустью я смотрел, как улов Каитано отнесли в черепаший садок, а последнюю аскам индейцев сери отправили на свалку за лачугой бывшего вождя. Там она и осталась, знаменуя конец последней главы в ненаписанной книге о безвозвратно забытой истории камышовых лодок Средней Америки.
Море. Кактусы. Клочок моря в просвете между колючими исполинами. Сказочный мир. Стою, словно лилипутик, и, задрав голову, рассматриваю макушки зеленых великанов. То словно органные трубы, то многорукие подсвечники возвышаются над царством раскормленных толстяков и дородных верзил. Аведь почва у меня под ногами – всего лишь сухая корка спекшегося, бесплодного песка. Ни травы, ни цветов, если не считать красные и желтые соцветия между шипами на могучих мускулах зеленых богатырей. Планета кактусов... У ног великанов стояли, лежали, извивались колючие шары, колбасы, коленчатые валы. В лучах вечернего солнца они напоминали то балансирующие друг на друге тарелки и вилки эквилибриста, то ощетинившиеся гвоздями старые подметки, то куски колючей проволоки, то извивающиеся кошачьи хвосты. Лес был безмолвен и недвижим. Не шуршали даже листья на единичных экземплярах узловатого железного дерева, которые изгибались и так и сяк, спасаясь от вездесущих шипов.
Пустынный заяц беззвучно выскочил из густых теней на солнце, посидел, подняв торчком длинные уши, поглядел в одну, в другую сторону и поспешил дальше. Крохотный полосатый бурундучок стремглав пересек его путь, вдруг замер на месте, подняв кверху хвостик, и тут же засеменил прочь через заколдованный лес, – будто косматый мячик покатился. На самой высокой ветке зеленого тройного канделябра, вознесенный над всем светом, сидел орел. Он сидел неподвижно, пока я не подошел вплотную к стволу, и только тогда тихо расправил крылья и поплыл над волшебным лесом. Казалось, не орел скользит по воздуху – я вместе с кактусами ухожу назад, а он теряется вдали, пригвожденный к небосводу. И тишина кругом, лишь мои подошвы хрустят, давя песчаную корку и проваливаясь в потайные норки земляных крыс, змей и прочих тварей пустыни. Только что в этом царстве безмолвия мой слух уловил другой звук, совсем негромкий, однако не менее впечатляющий, чем грозное рыканье льва. Словно кто-то тряхнул коробку со спичками. Зловещий сигнал тревоги на универсальном языке самой природы. Услышав его, даже тот, кто никогда не видел гремучей змеи, живо отскочит в сторону. С трепещущим в воздухе языком и сверкающими глазами змея приготовилась к атаке и покачивала поднятым вверх хвостом. Сухие, будто сделанные из светлого пластика кольца трещотки сердито подрагивали. Я лихорадочно искал взглядом палку или хотя бы ветку, чтобы расправиться с гадиной. Но кругом стояли одни кактусы, а их колючие мясистые побеги ломались, как огурец, когда я пытался ими пришибить извивающуюся гадину. Я основательно наплясался, прежде чем нашел твердый высохший стебель и смог оглушить змею. Не давая ей очнуться, я довел расправу до конца, и только хвост гремучей змеи продолжал судорожно вздрагивать.
В этом краю кактусов мы очутились в поисках лодочных мастеров. Хоть бы одно настоящее дерево, чтобы с него можно было высмотреть дорогу! Мой мексиканский друг Рамон Браво ушел куда-то налево искать скалу для обзора, а его жена Анжелика и наш друг Герман Карраско остались ждать в джипе, там, где мы – в который раз! – потеряли колею. Мне посчастливилось: я наконец-то увидел море. Место приметное, рядом со мной высился этакий живой монумент – кактус в виде трезубца Нептуна, толстенный, хоть прячься за него. Это на нем сидел орел. Ему сверху, наверно, были видны и берег, и в другой стороне – иссеченные рыжие скалы, вдоль которых мы тряслись на нашей машине, пока поминутно разветвляющаяся колея не затерялась совсем в кактусовом лесу. А я видел только серебристые блики солнца на водной глади да голубеющие вдали горы за заливом. Вполне достаточно, чтобы наметить курс. И мы покатили дальше по заколдованному лесу, спеша достичь цели до захода солнца.
Неожиданно кактусы расступились, сменившись низким вечнозеленым кустарником, и нашему взору предстало море и открытый девственный пляж с бахромой тихо плещущихся волн. Пять черных китовых спин, стремительно рассекая воду, шли прямо на нас. В последнюю секунду они нырнули, зато в воздух взмыл целый каскад мелкой рыбешки, и с минуту вода у берега буквально кипела, пока серебристая мелюзга не рассеялась.
Нас окружала нетронутая природа. Впереди – Калифорнийский залив, сзади и по бокам – Сонорская пустыня.
Волнистая голубая полоска гор по ту сторону залива обозначала протянувшийся на тысячу с лишним километров полуостров Нижняя Калифорния. На нашем берегу, сколько хватало глаз, не было видно ни построек, ни еще каких-либо следов человека, и мы вернулись в кактусовый лес. Поищем севернее...
Наконец в ту самую минуту, когда солнце укрылось за горами на западе и на море легла черная тень, нашим глазам предстала индейская деревушка. Архитектурный стиль, который утвердился здесь, когда последние представители некогда могущественного племени сери приобщились к европейской культуре, никак нельзя было назвать романтическим. Человек шестьдесят, примерно десяток семей, обосновались на голом песчаном мысу Пунта-Хуэка, украсив его соответственным количеством лачуг из железа и толя. Размеры жилья только-только позволяли лечь навытяжку на песчаном полу. Строительный материал, как и горы битого стекла и жестяных банок за лачугами, позволяли судить, что получают индейцы за черепах, которых ловят живьем и держат в садке на берегу.
Наше появление никого особенно не взволновало. Большинство продолжало заниматься своими делами: одни сидели, переговариваясь, другие прогуливались между лачугами в нарядах из ярких лент, самодельных брошей и покупных, по-цыгански пестрых тканей, скомпонованных на индейский лад. У мужчин до самого крестца свисали черные косицы. Лица женщин были симметрично расписаны узорами из черточек и точек, сочетающими дикую пикантность и вечную красоту. Так красились в далеком прошлом, а теперь этот грим, похоже, может стать ультрасовременной модой.
Миловидная женщина в длинном платье сидела в окружении своих подруг; они растирали в чашечках естественные краски, а одна вооружилась обыкновенной губной помадой, которая очень подходила для того, чтобы рисовать черточки на подбородке. Жену Рамона, восхищенно смотревшую на всю эту процедуру, решительно поманили рукой, усадили на песок и украсили ее лицо таким же узором. К нам подошли два старика в сопровождении гурьбы ребятишек. Они узнали Рамона, тотчас ребятишки сбегали за Чучу, который был переводчиком и проводником Рамона в прошлый раз, когда тот приезжал сюда снимать тюленей и прочих животных в заливе. Чучу явился со всей семьей, и радости не было конца.
Рамон привез друга, который хочет посмотреть на их камышовые лодки? Но никто из племени сери больше не вяжет аскам. Где лодка, которую Рамон видел два года назад? Эта как раз была последняя. В соседней деревне теперь тоже нет аскам, власти выделили на каждую деревню по деревянной лодке с подвесным мотором. Какой-то голый карапуз, внимательно слушавший наш разговор, убежал и вернулся с игрушечной моделью торпедного катера из желтого пластика.
Спустилась ночь, нам одолжили несколько картонок, и мы сделали себе из них постель на полу сарая, где хранились рыболовные снасти. Ворочаясь на жестком ложе, я слышал монотонные голоса индейцев, они всю ночь о чем-то толковали у своих костров и легли спать лишь под утро, за час до того, как мы поднялись.
Еще не зарделись на солнце макушки кактусов, а наша четверка уже сидела в кольце индейцев, глядя на тихий залив. Никто не произносил ни слова. Все только смотрели. Наконец Чучу неторопливо встал, спустился к воде и забросил небольшую сеть. В две закидки он прямо у берега поймал четыре крупных рыбы. Два мальчугана с острогами в одно мгновение удвоили улов. Завтрак обеспечен. Остальные продолжали сидеть. Других событий в этот день явно не предвиделось.
– Вы не сделаете для меня аскам? – осторожно спросил я.
– Мучо травахо («Много работы»), – последовал дружный ответ.
Их знание испанского явно исчерпывалось этими словами, дальше требовался переводчик. Чучу пришел на помощь.
– Я заплачу, – пообещал я. – Получите товары или песо.
– Мучо травахо, – повторили они.
Я надбавил цену. Индейцы промолчали. Надбавил еще.
– Далеко идти за камышом, – нерешительно сказал Чучу.
– Мы пойдем с вами, – я встал.
Четверо индейцев согласились отправиться за камышом: Чучу, двое из его братьев и сын одного из них. Только старший брат, Каитано, знал, где растет камыш: на озере. На Исла-Тибурон, Акульем острове, вон он в лучах восходящего солнца, по ту сторону залива.
Пригодился подвесной мотор, предоставленный властями. И вот мы уже идем к горизонту, рассекая мелкую волну. Я недоумевал: неужели ближе нет камыша?
– Это камыш пресноводный, – объяснил Каитано. – Он на здешнем берегу не может расти. Надо добираться до озера.
Впереди из воды выросли крутые пики Исла-Тибурон. Остров изрядный, площадь больше тысячи квадратных километров, его даже на карте мира видно. Мы причалили к белому песчаному пляжу, дальше до розовеющих гор простиралась ровная полоса земли с кустарником и единичными кактусами-великанами. На берегу, глядя на нас, неподвижно стоял олень-беррендо с горделиво поднятой головой, увенчанной великолепными рогами. Скорей камеру сюда, только без шума, чтобы увековечить его, пока он не обратился в бегство! Олень продолжал стоять недвижимо. Мы подкрались ближе. Еще ближе. Я шел первым, держась в кадре. Только бы не спугнуть... В эту минуту олень тронулся с места. Гордо, решительно он пошел вперед, нагнул шею и легонько уперся мне головой в живот, просунув рога у меня под мышками. Я попробовал его оттолкнуть, чтобы можно было снять путные кадры. Куда там, олень хотел сниматься именно так, и сколько я его ни толкал, как ни силился прекратить этот унизительный спектакль, все напрасно, ласковый олень то отступал, то снова напирал, ни на секунду не отпуская меня, но и не причиняя мне боли. Дурацкое положение, неожиданный оборот нашей киноохоты. И лишь когда я почесал оленя за ухом, он от удивления отнял голову и воззрился на меня огромными глазами. Воспользовавшись случаем, я шаг за шагом отступил к двуногим, вместе с которыми сошел на берег.
Мы вытащили лодку на песок подальше от воды и зашагали по равнине. Где же озеро в рамке из камыша? Увы, кругом был только песок с лабиринтом из вечнозеленого кустарника и кактусов. Никакого намека на тропу. Одни лишь олени, зайцы, ящерицы, змеи и всякие мелкие твари оставили свой след. Акулий остров необитаем с той поры, как индейцев сери принудительно переселили на материк.
Каитано еще помнил, как это было.
Мы шли, шли... Направо, налево, прямо, отыскивая проходы в зарослях, курсом на горы.
– Где же озеро? – спрашивал то один, то другой из нас.
– Вон там, – показывал носом Каитано. Мы продолжали шагать дальше. Море осталось где-то далеко позади. Зато горы подступали все ближе. Вот и подножие. Полдень, солнце печет макушку, а у нас ни воды, ни продуктов.
– Ну где озеро, пить хочется, – пробурчал Герман.
– Вон там, – Каитано показал носом вверх.
Мы начали карабкаться по заполненному каменной осыпью кулуару в рыжеватом склоне. Внизу нам встречались одни зайцы да ящерицы, здесь же мы то и дело спугивали баранов и оленей, которые явно не были нам рады в отличие от чудака на пляже. Несколько раз мне попались черепки от индейских кувшинов. Не иначе, тут споткнулся кто-то из ходивших по воду.
Выше, выше... Даже не верилось, что на сухой-пресухой горе, где растет один кактус, может быть озеро.
Вдруг Каитано остановился и показал вперед, теперь уже рукой. Мы стояли на скатившихся сверху глыбах, перед нами простиралась заваленная камнем выемка, а на противоположном склоне расщелина в красной породе вела в котлован, где в лучах солнца выделялось зеленое пятно, которое сочностью и яркостью тона превосходило все кактусы и прочие растения засушливой прибрежной полосы. Камыш!
Усталые, мучимые жаждой, мы прибавили шагу. Море синело далеко внизу, и мы мечтали поскорее нырнуть в озеро и вдоволь напиться. Я приметил искусственную кладку на двух-трех карнизах – это поработали люди. Добравшись до зеленой чащи, Каитано начал прорубать себе путь секачом, и вскоре его смуглая спина с черной косичкой пропала в высоком, выше человеческого роста, камыше.
– Где озеро? – спросил я, догнав его.
В густых зарослях было видно не дальше вытянутой руки. Каитано стоял, глядя себе под ноги. Он показал носом вниз, на черный влажный перегной. Мы подтолкнули его, спеша поскорее выйти к озеру. Каитано нехотя пригнулся и нырнул в темный туннель, проложенный в чаще животными, которые ходили здесь на водопой. Туннель заканчивался полостью, достаточно большой, чтобы вместить почти всех нас. Чувствовалась близость воды. Мшистые камни были словно холодные губки, а между ними, в ямке шириной с умывальный таз, поблескивала лужица, затянутая зеленой ряской. Я уже хотел присесть в лужицу, чтобы немного освежиться, но меня вдруг осенила догадка... Кажется, лучше не мутить эту воду!
– Где озеро? – спросил я.
– Здесь, – сказал Каитано, показывая на лужу. Мы промолчали. Все мы вдруг ощутили страшную жажду теперь, когда обещанное озеро вдруг растаяло, как мираж. Осторожно выловив ряску, набрали горстью воды – только-только всем смочить горло. Оставшейся мутной жижей смазали воспаленную кожу, потом погрузили ноги в ил, чтобы использовать всю влагу до последней капли.
Что ни говори, здесь, в тени, было на диво свежо и приятно, и жизнь сразу стала восхитительной. Наибольшую радость доставляют сильные контрасты: капелька ила и клочок тени после перехода по пескам подарили нам больше блаженства, чем обед с шампанским после поездки на трамвае.
Индейцы поглядывали, щурясь, на солнечный диск, который едва просвечивал сквозь плотный полог стеблей над нами. Они думали о долгом пути домой, и двое из них, отойдя от лужи, начали срезать своими секачами самые длинные стебли. Тем временем мы прилегли на траву отдохнуть.
Поучительный поход! Ведь я, подобно другим ученым, думал, что для индейцев сери было естественно строить лодки из камыша. Считал, что в Сонорской пустыне не хватало древесины, зато камыша в приморье видимо-невидимо. А выходит совсем другое. Индейцы сери делали такие лодки вовсе не потому, что камыш был у них под рукой. Вон куда им пришлось забираться, на гору на далеком острове, чтобы по берегам родника высадить растение, стебли которого служили материалом для лодок. Видно, строительство камышовых лодок было в племени давней традицией, собственной или заимствованной извне. Без этого зачем им ходить сюда за камышом, они вполне могли делать каркасы для лодок из веток железного дерева и обтягивать их кожей. Тюленьи шкуры превосходный материал для лодки, а на южном, скалистом берегу Акульего острова тюленей видимо-невидимо. Кто-то другой, пришедший из области, где было много камыша, надоумил индейцев сери строить камышовые лодки. Кто?
Мы пошли вниз; четверо индейцев – впереди, каждый с кипой камыша на плече, за ними остальные, неся штативы и киноаппаратуру. Спускаясь по каменистому склону, я то и дело замечал оброненные индейцами стебли. Внизу наши проводники разбрелись, а затем мы почему-то оказались впереди. Чтобы не заблудиться, я отыскал наши старые следы и зашагал по ним, выписывая зигзаги. Индейцы упорно шли сзади, ссылаясь на тяжелую ношу, хотя мне показалось, что охапки уже стали меньше...
День подошел к концу, когда мы отыскали лодку. Зная, что после захода солнца увидим костры на Пунта-Хуэка, мы терпеливо ждали четверку индейцев. А вот и они тишком вышли на берег. Последним, смущенно улыбаясь, брел Чучу, неся на плече 3 (три) стебля камыша. Остальные ничего не несли.
– Мучо травахо, – пробормотал один из индейцев. Другой одобрительно кивнул и вытер лицо косичкой. Чучу осторожно положил в лодку свои три стебля. Каитано, четвертый индеец, уже сидел в лодке и ждал, когда его повезут домой.
Мои мексиканские друзья были страшно огорчены и откровенно возмущались. Три стебля – итог целого дня голодного странствия по безводному острову. Мы-то рассчитывали найти камыш на самом берегу. Но я отчасти был даже доволен. Из трех камышинок не свяжешь лодки, зато они рассказали мне кое-что поважней. Я узнал, что не в Сонорской пустыне надо искать родину камышовых лодок.
Старики обрушили град насмешек на Чучу и его помощников, когда он сбросил свой груз на землю около лачуги. Особенно негодовала одна голосистая древняя бабуся. Отведя душу, она доковыляла до своей лачуги и что-то крикнула, стоя лицом к двери. Через минуту на пороге показался дряхлый слепец в синих очках. Подчиняясь властной супруге, он нехотя вышел, разогнул спину, и мы поняли, что некогда это был статный богатырь с красивым лицом. Индейцы сери выделяются среди других племен Мексики; после первой встречи с жителями Акульего острова испанцы описывали их как великанов.
Старик со старухой зашли за лачугу – здесь, на куче мусора, лежала камышовая лодка! Похожие на бамбук тонкие стебли посерели от старости, от них осталась почти одна труха, веревки сгнили, но лодка еще сохраняла свою форму. Мы помогли отнести ее к двери: старик решил показать, что настоящий сын племени сери умеет вязать аскам. Нам объяснили, что этот ветеран – бывший вождь племени.
На другой день он на рассвете приступил к работе, вооружившись веревкой собственного изготовления и длинной деревянной иглой, отполированной долгим употреблением. Этой иглой слепец ощупью сшил свою лодку заново, придав изящный изгиб поникшему носу. Это ли не удача – мусорная куча подарила нам то самое, ради чего мы сюда добирались.
Последнюю камышовую лодку племени сери, – а то и всей Мексики, – отнесли к заливу. Каитано с сыном, захватив весла и деревянное копье с веревкой, вскочили на нее и уселись поудобнее. Оба умели обращаться с веслами, и смуглые спины с черными косицами быстро исчезли вдали. Когда длинная, узкая лодка вернулась, между гребцами лежала, размахивая ластами, здоровенная морская черепаха. Сухой, прелый камыш пропитался водой, и мелкие волны захлестывали лодку, но она продолжала держаться на поверхности.
Итак, Мексика. Кто научил индейцев сери специфическому искусству вязать камышовые лодки? Кто-то из их многочисленных соседей. Некогда такие лодки окружали их со всех сторон, от инкской империи на юге до Калифорнии на севере, они были даже на озерах самой Мексики. Еще в начале прошлого века французский художник Л. Шори зарисовал трех индейцев с веслами на камышовой лодке у лесистого берега в гавани Сан-Франциско. Лодки из камыша были известны в восьми штатах Мексики.
С грустью я смотрел, как улов Каитано отнесли в черепаший садок, а последнюю аскам индейцев сери отправили на свалку за лачугой бывшего вождя. Там она и осталась, знаменуя конец последней главы в ненаписанной книге о безвозвратно забытой истории камышовых лодок Средней Америки.
 Африка... У какого еще материка такое живописное имя! Слышишь его, и сразу представляется край: зеленая стена тропического леса, огромные листья, они раздвигаются, и в кадр входит караван, статные африканцы с ношей на голове. Плавными скачками пересекают экран жирафы и павианы. Рокочут тамтамы. Рыкают львы. Я никогда не бывал в глубине Африки, видел ее как бы через иллюминатор, сидя в темном зале кино, да засушенной между переплетами книг.
И вот я сам очутился в Африке. В сердце Центральной Африки. Маленький номер гостиницы в Форт-Лами – столице республики Чад. Предельно далеко от океана. Этакий парадокс, ведь мой приезд сюда – первый этап в подготовке задуманного мной плавания через Атлантику на лодке древнего типа. А какая здесь вода, только тихая река. Вон она, из окна видно. Зеленые берега, красная глина отмелей, бурый поток. Солнце играло свои цветовые гаммы. Мокрые рыбаки с черно-лаковой кожей тянули сеть, стоя по колено в воде; ловушки для рыбы были сделаны из воткнутых в дно тонких пластин бамбука.
Накануне я видел на отмели выше по течению семерку ленивых бегемотов. Здесь, около столицы, они охраняются законом. Крокодилы почти истреблены, так как их кожа шла на экспорт. Вот уже полгода, с конца дождевого сезона, не выпадало дождей, и река обмелела настолько, что сейчас по ней ходили только плоскодонные долбленки.
Мерно течет на север рожденная в лесах Шари, но ее тихие воды не доходят до океана. Выйдя из необозримых дебрей на юге, река пересекает саванну и полупустыню и вливается у южных рубежей Сахары в обширное озеро Чад. А тут зной такой, что вода испаряется так же быстро, как прибывает. Разные реки впадают в Чад, а стока нет, из озера воде путь один – вверх, к безоблачному голубому небосводу, который жадно впитывает незримые испарения.
Туда-то, на это озеро, я и хотел попасть. Но если найти его на карте легко, то добраться к нему куда труднее. Озеро Чад все равно что голубое сердце Африки, хотя на всех картах оно выглядит по-разному: то круглое, как тарелка, то кривое, как рыболовный крючок, то изрезанное, будто дубовый лист. Наиболее добросовестные карты обозначают его пунктиром, ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого внутреннего моря. Тысячи плавучих островов беспорядочно дрейфуют по его поверхности, сталкиваются друг с другом, срастаются, причаливают к берегу, образуя полуострова, снова распадаются, и плывут в разные концы, к неведомой цели. Средняя площадь озера – 25 тысяч квадратных километров, но нередко оно усыхает наполовину, ведь вся-то глубина его от одного до пяти, самое большее шести метров. В северной части озеро местами такое мелкое, что обширные участки поросли осокой, вернее, папирусом. Папирусом обросло и большинство островов, участвующих в вечной гонке по озеру.
В республике Чад нет железной дороги. Нет и шоссе, действующего круглый год. Здесь рай для охотников и для тех, кто мечтает увидеть клочок земли, который не был бы зеркалом наших собственных вездесущих будней. В столице есть первоклассные отели, аптеки, бары и современные административные здания, где корпят клерки, большинство с параллельными шрамами на щеках или на лбу – знак племенной принадлежности. Широкие асфальтированные проспекты (по бокам – садики с французскими бунгало колониальной поры, которая кончилась в 1960 году), достигнув арабских домишек предместья, переходят в изрытые колдобинами песчаные улочки, а их в свою очередь сменяют караванные дороги, теряющиеся вдали между единичными негритянскими хижинами. Когда начинаются дожди, нужен конь или самолет, чтобы попасть в глубинные области. Зато по реке тогда можно дойти на лодках вплоть до торговых факторий по соседству с устьем Шари.
Три дня назад я пролетел над Средиземным морем и Сахарой на французском самолете, который следует на юг Африки, а раз в неделю делает посадку в Форт-Лами. Самолеты доставляют в республику то, чего нельзя везти на верблюдах. Автомашины, экскаваторы, холодильники, бензин, даже омары и свежая говядина для шеф-повара в «Ла Чадиенн» – все прибывает по воздуху.
И мы тоже вышли из самолета – три путника, нагруженные киноаппаратурой и меновыми товарами для африканских лодочных мастеров, с которыми надеялись познакомиться. Меня сопровождали два кинооператора: француз Мишель и итальянец Джианфранко. Мы собирались изучать и снимать, как здесь вяжут лодки. В путевых очерках о Центральной Африке мне попалась интересная фотография: несколько африканцев у воды, и рядом своеобразное суденышко такого же типа, как хорошо знакомые мне по Южной Америке и острову Пасхи камышовые лодки. Снимок был сделан на озере Чад, и автор статьи подчеркивал разительное сходство лодки из Африки с лодками, которые с незапамятных времен вяжут индейцы озера Титикака в горах Перу. В Египте древнейший вид африканской лодки давно исчез, здесь же, в сердце материка, он дожил до наших дней.
Из области Верхнего Нила проходит через горы древний караванный путь в Чад, известный также как трансафриканский работорговый путь. Я знал, что антропологи по ряду признаков связывали некоторые группы жителей Чадской области с обитателями Нильской долины. Чад – африканский тигель, жгучие лучи тропического солнца освещают тут причудливую смесь народов, и только специалист не запутается в местных племенах и языках. Но не надо быть специалистом, чтобы видеть, что Чад образует не только географический, но и этнический переход между песчаными дюнами Сахары на севере и глухими тропическими лесами на юге. Если северную часть страны занимают бедуины и другие арабы, то южная населена негроидами. А встречаются они на центральных равнинах и в столице Форт-Лами, где вместе стараются создать единую нацию из племен, волей случая временно оказавшихся в пределах одной французской колонии.
Освежившись под душем в кондиционированных номерах отеля, мы влезли в раскаленное такси и поехали в Управление туризма. Широкая главная улица кишела машинами, велосипедами, пешеходами. В сплошном потоке африканцев мелькали белые лица французских чиновников и поселенцев, которые решили остаться в Форт-Лами после провозглашения республики.
Начальник Управления туризма был белый. Мы объяснили ему, что хотели бы узнать, как лучше добраться до озера Чад, ведь на карте нет ни железной дороги, ни шоссе. Начальник управления развернул свою красочную карту, разложил на столе снимки львов и всякого зверья и сообщил, что вся эта дичь – в нашем распоряжении за умеренную мзду, правда, для охоты надо выехать на юг, в другую сторону от озера Чад. Мы возразили, что нам нужно озеро, только там мы сможем увидеть папирусные лодки. Начальник сложил карту. Если нас не устраивает то, что он нам предложил, он ничем не может помочь. С этими словами он бесстрастно развернул свое пузо в сторону внутреннего кабинета и ретировался туда. Я вынул из паспорта пестрящее печатями рекомендательное письмо норвежского министра иностранных дел и попросил чернокожего клерка отнести его шефу. Снова в дверях показался начальственный живот, и нас любезно осведомили, что до озера невозможно добраться, пока не поднимется уровень воды в реке. К тому же папирус растет около Бола на северо-восточном берегу, а туда и вовсе можно попасть лишь самолетом. Может быть, я согласен взять напрокат самолет?
Да, согласен, если нет другого выхода.
Начальник управления схватил телефонную трубку. В стране было два одномоторных самолета, и оба стояли в ангаре на ремонте. Имелся еще один пассажирский самолет, двухмоторный, но ему требовалась для посадки 800-метровая дорожка, а посадочная полоса в Боле – всего 600 метров. К тому же, добавил начальник, чтобы снимать, нужно разрешение властей. Да еще в республике в эти дни неспокойно. Арабы в областях на пути к Болу – мусульмане, они не в ладах с возглавляющими правительство христианами. Так что сейчас опасно лететь на север. Чтобы мы не сомневались в его доброжелательности к нам, начальник Управления туризма дал нам машину и водителя: можно объехать Форт-Лами и разузнать у сведущих людей про обстановку у озера.
Мы получили от него адрес веселого плечистого француза с татуировкой на руках, который изучал возможности пополнения запасов рыбы и развития современного промысла на озере Чад. Он рассказал, что к болским зарослям папируса можно добраться только на джипе через пустыню с восточной стороны озера. То же самое сказал врач-француз, он же укротитель зверей и заядлый путешественник. И оба они подтвердили слова начальника Управления туризма о том, что в том краю неспокойно. Выяснилось, что на озере есть большой катер, который объезжает берега, скупая один местный злак, но где этот катер сейчас, неизвестно.
Франция – одна из немногих стран, поддерживающих дипломатические отношения с республикой Чад. Мишель представил нас в посольстве, но посол был новый, приехал всего месяц назад, и никто из его сотрудников не бывал на озере.
Третий день в Форт-Лами, а мы все ходим из конторы в контору, из бунгало в бунгало, знакомимся с любезными людьми, они потчуют нас кофе, холодным пивом или виски и дают адреса других людей, которые, может быть, сумеют нам помочь. И вот круг замкнулся, нас уже снова направляют к начальнику Управления туризма и всем тем, к кому мы обращались в первый день.
Ладно, попробуем сами добраться до Бола на джипе... Власти дали официальное разрешение. В Боле находилась единственная на все озеро радиостанция, и министерство внутренних дел обещало на всякий случай предупредить о нашем визите болского шерифа. Оставалось получить в министерстве информации справку, что нам разрешено снимать. Как и в других ведомствах, главные посты здесь занимали преимущественно местные жители. Прочтя бумагу, которую секретарша написала под диктовку, министр схватился за голову и громко расхохотался.
– Этот человек археолог, ар-хе-о-лог, – он кивнул на меня и вернул ей бумагу. – Исправьте на ар-хе-о-лог, не то мусульмане там отрубят ему голову!
Я осторожно заглянул через плечо курчавой красавицы. Официальный язык в республике – общий для всех здешних племен – французский. И девушка ухитрилась из «археолога» сделать «архиепископа», хотя эти слова не так уж и похожи во французском языке.
Ошибку исправили, а министр лишний раз пояснил нам, что лучше не впутываться в местные религиозные распри.
Получив надлежащие документы и двух чернокожих шоферов, один из которых, Баба, по его словам, бывал в Боле, мы рано утром, до восхода солнца двинулись в путь. Ехали на двух джипах – мало ли что случится в пустыне, – и эта мера себя вполне оправдала. В первой машине у нас была сплошь желтая карта с красными черточками под названиями Форт-Лами, Массакори, Али-фари, Каир, Нгура, Иссеир, Бол. Первые деревни мы отыскали без труда. У обочины стояли надежные указатели, а плотно утрамбованный песок позволял развивать больше 100 километров в час; правда, и такая скорость не спасала нас от пыли, облака которой вздымались из-под колес до самых звезд.
На ближайших к столице участках трудились машины и бригады рабочих, они прокладывали настоящее шоссе на твердой основе, чтобы и в дождь можно было проехать.
Километров 200 мы уже отмахали, когда взошло солнце. Дальше дорога с каждым поворотом становилась все уже, и вскоре все следы двадцатого века остались далеко позади.
Как только мы выехали из столицы, городская застройка сменилась круглыми хижинами с соломенной кровлей, по большей части заброшенными, потом пошли соединенные малоезженной колеей и караванными тропами редкие деревни, глинобитные арабские лачуги, где вместе ютились люди, козы, верблюды и ослы. А там и вовсе пошло сплошное безлюдье.
Это началась пустыня. Южная кромка Сахары. Последний виденный нами термометр показывал около 50° в тени. Здесь же на десятки километров вокруг не было ни градусников, ни тени. Позади осталась саванна с веерными пальмами и сухими деревьями, остались настоящие рощицы, где газели, кабаны и обезьяны бросались наутек при виде машины, и разлетались пестрые тропические птицы, и только жирные цесарки нехотя освобождали колею. Теперь кругом лежал песок, будто снег на голом нагорье, плавные складки рельефа были занесены песчаными сугробами, дюнами, и только жидкие кустики тут и там пропороли иссушенную солнцем безбрежную гладь.
Солнце. Оно стояло прямо над нами, высекая блеск из металла. Джип до того накалился, что страшно прикоснуться к дверцам. От зноя слипались ноздри. Мельчайшая вездесущая пыль насытила жаркий воздух пустыни.
Мы поминутно увязали в глубоких дюнах, и тогда один джип тянул другой стальным тросом, а под колеса мы клали горячие листы железа. Моторы не выдержали жары, сначала один забастовал, за ним второй. Но Баба и его приятель были отличные механики, в их руках отвертка и гаечный ключ справлялись с любыми неполадками.
Где песок поплотнее, мы мчались с головокружительной скоростью. Нередко все следы колеи исчезали, и мы описывали большие дуги, пока Баба не заключал, что выбрался опять на верный путь. Так мы натолкнулись на глухую деревушку, не показанную на нашей карте. В глубокой рытвине около первых домиков оба джипа забуксовали, пришлось нам снова вылезать и браться за лопаты.
С разных концов медленно, не торопясь, подходили один за другим закутанные в серое арабы в белых чалмах. Они пристально глядели на нас, и, никому не приходило в голову поздороваться и предложить свою помощь.
Никакой реакции на наши улыбки и приветствия. Ни одной женщины. Суровые мужчины с орлиным взглядом окружили нас плотным кольцом. Кожа темная, как у негроидов, но четкие черты лица, изогнутый нос и тонкие губы выдавали арабов. Трудная жизнь в пустыне наложила свой отпечаток на облик и душу здешних людей. Похоже, милости тут не жди. И телефона нет... Внешний мир был представлен только нашими джипами, которые прочно увязли в песке.
Подложены железные листы. Баба и его приятель сидят за рулем и без толку гоняют моторы, из-под буксующих колес летит песок. Арабы стоят неподвижно, затаились в себе, словно напряженно ждут чего-то. Кажется, лучше не мешкать, самому сделать первый шаг. У одного из них был начальственный вид, я вежливо протянул ему две лопаты и знаком попросил выделить нам кого-нибудь в помощь. Он на секунду опешил, потом схватил лопаты и крикнул что-то двоим. Мы сделали жест остальным, чтобы подтолкнули, и вот уже главарь рядом со мной уперся плечом в джип, и со всех сторон напирают желающие помочь.
Мы пожали руки, сказали «спасибо» и ринулись дальше во всю прыть наших колес, волоча за собой через деревню и по верблюжьей тропе густое облако пыли.
Под вечер мы неожиданно увидели в пустыне еще одну, с виду столь же нелюбезную деревню. Наши джипы с трудом протискивались через толпы людей и скопление верблюдов, ослов и коз на рыночной площади. Угрюмые, молчаливые арабы напирали на машины, сверля нас взглядом, как будто хотели прочитать наши мысли и выяснить, не присланы ли мы властями вводить христианство или собирать налог. Чувствуя, что мы отнюдь не желанные гости, мы, не задерживаясь, понеслись дальше.
Хотя дело шло к вечеру, нас душила жара. Баба жаловался на головную боль, пассажиры второго джипа наглотались пыли и все больше отставали. Вода в канистре только обжигала губы и вызывала тошноту, вместо того чтобы утолять жажду.
В виденных нами деревнях фруктов не было, только калебасы с бурой оазисной водой да кувшины с козьим молоком. За целый день мы не приметили на своем пути ни пустой бутылки, ни консервной банки, ни клочка бумаги. Лишь на выезде из столицы в одном месте около шоссе лежали осколки стекла. Все здесь собственного изготовления: одежда, упряжь, постройки. На дорогах длинные вереницы тяжело нагруженных осликов, арабы верхом на высоких верблюдах, да семенящие за верблюдами женщины с кувшинами и корзинами на голове. Излишки домашнего производства отправляют на рынок в соседнюю деревню. Мы словно попали в другой, обособленный мир, нетронутый, независимый, обеспечивающий себя всем необходимым. Пропади наша цивилизация, а они знай себе будут жить дальше так же безбедно, так же скромно и неприхотливо, – верные традиции, тесно связанные с природой.
И вот вдали показалось озеро. Голубое, с холодным стальным отливом зеркало неба за кромкой ярко-зеленой поросли сочного папируса. С гребня песчаной дюны оно смотрелось, как мираж, хотелось выскочить из машины, побежать туда, пробиться сквозь зеленый барьер, броситься в эту немыслимо голубую воду, сделать добрый глоток и нырнуть, освежить воспаленную кожу, отмыть от насохших корок песка уши, ноздри, веки, поры, отмыться с головы до ног и снова пить, пить, пить... Тринадцать часов в джипе, мы с трудом разогнули затекшие ноги и уже хотели ступить на землю, но Баба нас остановил. Лучше не покидать машину. Лучше подождать до Бола. Деревня лежит на самом берегу; если поспешим, поспеем туда засветло. В пустыне ночью небезопасно.
До чего же нам трудно было удержаться! Вода, рукой подать, небесно-голубая вода, такая соблазнительно прекрасная в своей холодной наготе за зеленой шторой. А ты садись на место, давясь пылью, и трясись дальше в раскаленном джипе. Баба развернул железную коробку кругом, скатился с дюны вниз, и снова потянулся песок, песок... Снова пустыня.
А Баба сделал доброе дело. Когда наши джипы уже перед самым закатом по утрамбованной караванами дороге, связывающей Бол с деревнями на востоке, въехали в городишко, пересекли безлюдную базарную площадь и остановились на берегу за домами и мы приготовились прямо в одежде прыгнуть в воду, послышался чей-то предостерегающий возглас. Молодой серьезный француз с бородкой, член работающего на озере исследовательского отряда, сухо довел до нашего сведения, что здесь не стоит купаться: озеро кишит паразитами, они в несколько минут пробуравят нам кожу.
Мы посмотрели на Бабу. Он пожал плечами, на которых тоже лежал слой пыли, и вернулся к машине.
Да, упоительно красивое озеро Чад – обитель одной из самых коварных тварей Африки – шистозомы. Так называют крохотное чудовище, точнее его личинку, представляющую собой тонкого, почти невидимого червячка длиной с миллиметр, который с ходу пробуравливает кожу, поселяется в организме и буквально пожирает человека изнутри.
Мы поблагодарили за предупреждение и спросили, где же можно помыться. Он сокрушенно покачал головой. Здесь всю воду берут в озере, ее надо кипятить или хотя бы несколько дней выдержать, прежде чем употреблять.
Местные жители держались поодаль, пока из белого домика не вышел человек богатырского роста, который в сопровождении маленького эскорта направился к нам. Сразу было видно начальника; это и в самом деле оказался исполняющий обязанности шерифа. Сам шериф куда-то выехал по делам, и никто в Боле не был предупрежден о нашем визите. Кто мы, где наши документы? Вице-шериф Адум Рамадан мучился зубной болью и явно был не в духе. К тому же на его попечении находилось все население Бола, две тысячи человек, и каждый десятый считал себя вождем. Словом, хлопот полон рот.
Мишель дал ему аспирина и объяснил, что нам нужно где-то устроиться на ночь, мы приехали из самого Форт-Лами и нигде в пути не отдыхали.
– Быстро ехали, – сухо заметил Адум Рамадан, пропустив мимо ушей слова о ночлеге.
Его интересовало другое: почему же все-таки не было радиограммы из Форт-Лами, ведь радиостанция в порядке?
Велев одному из своих людей проводить нас в стоящий на берегу цементный сарай, жертва зубной боли исчез с остальным эскортом в сгущающемся мраке.
Мы вошли в сарай. Это была местная общедоступная гостиница: заходи и устраивайся, как можешь. Длинный коридор, по бокам – каморки, похожие на открытые стойла и набитые спящими людьми, через которых нам приходилось перешагивать.
В одном конце коридора помещался умывальник, правда, без воды, если не считать мыльную жидкость в двадцатисантиметровой ямке в земляном полу. Мы хотели было накачать чистой воды, но передумали, когда увидели, что труба проведена из озера, зараженного шистозомой. Пришлось ложиться, так и не смыв с себя желтый налет.
Только наш проводник подмел пол, на котором мы собирались расстелить спальные мешки, как снова появился вице-шериф, и на этот раз его широкое лицо освещала добродушная улыбка. Зуб прошел. Если Мишель отдаст ему остаток лекарства, нам принесут из дома шерифа три кровати!
Едва озеро осветили лучи восходящего солнца, как нас разбудили негромкие голоса арабов, которые, стоя на коленях лицом к Мекке и касаясь челом земли, читали свои молитвы. Другие постояльцы развели маленькие костры из сухого папируса и молча готовили себе чай. Нас пригласили на завтрак к вице-шерифу. Он пребывал в отличном настроении и запретил нам трогать свои припасы: пока мы гостим в Боле, будем есть у него. Надо сказать, что у него была превосходная в своем роде кухня, только жевать надо было осмотрительно, чтобы на зубах не скрипел вездесущии песок.
В этот день я впервые в жизни увидел папирусную лодку. Она плавно прошла мимо меня по зеркальной глади заколдованного озера, которое за ночь уже успело изменить свой вид. Когда мы приехали накануне, прямо напротив сарая темнел большой низкий остров, теперь он бесследно исчез, зато появилось сразу три других острова. Меньший из них у меня на глазах скользил вправо, и за ним даже тянулось что-то вроде кильватерной струи. Он напоминал аранжированную искусной рукой цветочную корзину с толстым букетом пушистых золотых соцветий – посередине длинные цветки, по краям стебли покороче, изящно склоненные над голубой водой, отражающей нежные желтые метелки и зеленые цветоножки. Эстетическую законченность композиции придавали торчащие из дерновины цветочки, листики и вьюнки. Плавучий остров из сплетенных корней и волокон двигался степенно и бесшумно без всяких там весел и моторов. А рядом, легко обгоняя эту цветочную корзину, уверенно шла папирусная лодка с двумя африканцами в белых тогах. Они стояли прямо, как оловянные солдатики, работая длинными шестами. Желтая лодка и стройные мужчины тоже отражались в озере, и опрокинутая картинка напомнила мне другие камышовые лодки, которые и впрямь плыли вверх ногами по отношению к нам на противоположном конце земного шара, на озере Титикака в Южной Америке. Причем лодки Титикаки так похожи на чадские, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения.
Я жаждал сам походить на такой лодке и узнать, как их делают. Ведь мало просто связать вместе папирус, как бог на душу положит, надо знать секрет, чтобы получилась нужная форма.
Шериф устроил нам торжественную аудиенцию у султана М'Булу М'Бами, местного религиозного главы и самого могущественного человека на много километров вокруг. Сам шериф и его заместитель были с юга страны, их прислали из Форт-Лами для охраны политических интересов христианского правительства, а султан из местного племени будума опирался на мусульманское население области.
Плечистый шериф поражал своим могучим телосложением; султан же был худой и долговязый, полных два метра росту, закутанный в белый бурнус, только и видно, что орлиный нос да острые глаза.
Каждый из местных вождей сбрасывал сандалии, прежде чем ступить на площадку перед глинобитным домиком султана, где происходила аудиенция. Затем участники торжественного приема выстроились по краям большой песчаной площади посередине деревни – парадного манежа, где султан должен был гарцевать на своем пылком белом коне в честь гостей. Двое, держа коня под уздцы, все время заставляли его дыбиться, сам султан сидел неподвижно в седле, а кругом, обмахивая повелителя легкими шалями, бегали девицы в ярких нарядах. Когда кончился этот хоровод, сопровождаемый барабанным боем и пением рожков, мимо нас лихим галопом промчались всадники. Они размахивали мечами и издавали хриплые вопли, а один изних несколько раз проскакал перед нами совсем близко, чуть не по нашим ногам, с грозными ужимками и завыванием вращая саблей у нас над головой. Я осторожно спросил шерифа, как это понимать. Он ответил, что всадник просто куражится. Но Баба добавил, что воин выражает свою антипатию к нам, не мусульманам. Правда, султан такого чувства не выказывал, напротив, он очень заинтересовался, когда услышал, что мы хотим научиться делать папирусные лодки. И направил нас к своему родственнику, статному африканцу по имени Умар М'Булу, который жил в одной из конусовидных соломенных хижин квартала будума. Только шериф и его заместитель занимали белые бунгало, увитые красными цветами бугенвиллеи. Будума и канембу жили в круглых хижинах из соломы, а арабы, составляющие большинство населения районного центра Бол, – в низких глинобитных домиках.
Бритоголовый Умар был черный, как ночь, высокий и стройный, со сверкающими в улыбке глазищами и большими зубами. Кроме родного языка он говорил на арабском, голос у него был приветливый и негромкий, и разговаривая, он почти все время улыбался. Рыбак по профессии, он не стал мешкать ни минуты, когда Баба, обратившись к нему по-арабски, попросил его связать лодку из папируса. Выдернул из стены своей хижины длинный нож-мачете, забросил на плечо полу голубой тоги и зашагал впереди нас к озеру. Вот он нагнулся, и под черной кожей заиграли мышцы, когда длинный нож стал подсекать высокий папирус у самого корня. Один за другим ложились на край трясины длинные мягкие стебли. К Умару присоединился добровольный помощник, его сводный брат Мусса Булуми. Он был постарше, поменьше ростом, тоже бритоголовый, однако без королевской осанки Умара. Мусса знал лишь язык будума, но одинаково весело улыбался, когда Баба обращался к нему по-арабски, Мишель по-французски, Джианфранко по-итальянски или я по-норвежски. И он еще проворнее Умара косил папирус.
Заготовив большущие охапки зеленых стеблей, их оттащили от воды и сложили на земле. Предстоял урок вязки лодок.
Поблизости стояли две больших папирусных лодки человек на двенадцать. Мы начертили на песке лодку поменьше, метра на четыре, чтобы можно было погрузить ее на крышу джипа. На помощь были призваны еще два соплеменника Умара и Муссы. Они сели на песок под деревом и принялись соскребать мякоть с кожистых листьев пальмы дум. Тугие белые жилки разделялись при этом на тонкие нити, из этих нитей между ладонью и бедром скручивали веревочки, а из веревочек потом сплетали толстые веревки. И вот уже Умар и Мусса начали вязку; остальные двое едва поспевали снабжать их веревками.
Длина стеблей была два метра с лишком, толщина у корня – четыре-пять сантиметров. В разрезе папирус представляет треугольник с закругленными углами; он не пустотелый и не коленчатый, как бамбук, сплошной стебель состоит из напоминающей белый пенопласт губчатой массы, обтянутой гладкой кожицей.
Для начала Умар взял стебель и расщепил его вдоль на четыре части, но не до конца. В развилок он всунул комлем вперед четыре целых стебля и продолжал затем вставлять между ними новые стебли, получалась утолщающаяся сигара. Стебли туго-натуго перевязывали веревками; Умар и Мусса, держа в зубах каждый свой конец петли, затягивали ее руками и зубами, так что мышцы на руках и шее вздувались черными буграми. Очевидно, сжать губчатый срез стеблей так плотно нужно было, чтобы закрылись все поры. Достигнув в диаметре примерно полуметра, конус переходил в ровный цилиндр, получился этакий огромный карандаш. Его положили острым концом на чурбан, и мастера стали прыгать по снопу и притаптывать его, пока он не изогнулся вроде слонового бивня. Так была придана нужная форма носу, после этого первый конус нарастили с боков еще двумя, покороче, причем привязывали стебли по одному, так что все три конуса были очень плотно сращены между собой.
Когда лодка достигла в длину черты, которую мы провели на земле, она, по сути дела, была готова и представляла собой вполне симметричную конструкцию, кроме кормы, где папирус торчал, как прутья в метле; при желании ее можно было бы наращивать до бесконечности. Проблему с кормой Умар и Мусса решили простейшим способом. Взяли нож подлинней и отсекли все лишнее, как обрезают горбушку у колбасы. После чего папирусная лодка с загнутым вверх острым носом и широкой обрубленной кормой была готова к спуску на воду. Строители управились с работой в один день.
– Кадай, – улыбнулся Мусса и погладил готовое изделие своих рук.
Так будума называют лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить. Может быть, сами додумались. А может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила. Так или иначе на Чаде древняя конструкция сохранилась всюду, где только есть папирус, даже в тех частях озера, которые принадлежат республикам Нигер и Нигерия. Традиционные приемы строительства везде одни и те же, и везде лодка выглядит одинаково, разница может быть только в длине и ширине.
В просвете среди папируса, где мы спустили на воду нашу лодку цвета зеленой травы, были также причалены к берегу четыре долбленки из могучих стволов, очевидно, принесенных из леса рекой Шари во время паводка. Мы воспользовались ими, как мостками, проходя к своей кадай. Умар презрительным жестом выразил свое отношение к неустойчивым долбленкам, похожим на длинные полузатопленные корыта. Дескать, канембу не будума, не умеют вязать кадай...
Африка... У какого еще материка такое живописное имя! Слышишь его, и сразу представляется край: зеленая стена тропического леса, огромные листья, они раздвигаются, и в кадр входит караван, статные африканцы с ношей на голове. Плавными скачками пересекают экран жирафы и павианы. Рокочут тамтамы. Рыкают львы. Я никогда не бывал в глубине Африки, видел ее как бы через иллюминатор, сидя в темном зале кино, да засушенной между переплетами книг.
И вот я сам очутился в Африке. В сердце Центральной Африки. Маленький номер гостиницы в Форт-Лами – столице республики Чад. Предельно далеко от океана. Этакий парадокс, ведь мой приезд сюда – первый этап в подготовке задуманного мной плавания через Атлантику на лодке древнего типа. А какая здесь вода, только тихая река. Вон она, из окна видно. Зеленые берега, красная глина отмелей, бурый поток. Солнце играло свои цветовые гаммы. Мокрые рыбаки с черно-лаковой кожей тянули сеть, стоя по колено в воде; ловушки для рыбы были сделаны из воткнутых в дно тонких пластин бамбука.
Накануне я видел на отмели выше по течению семерку ленивых бегемотов. Здесь, около столицы, они охраняются законом. Крокодилы почти истреблены, так как их кожа шла на экспорт. Вот уже полгода, с конца дождевого сезона, не выпадало дождей, и река обмелела настолько, что сейчас по ней ходили только плоскодонные долбленки.
Мерно течет на север рожденная в лесах Шари, но ее тихие воды не доходят до океана. Выйдя из необозримых дебрей на юге, река пересекает саванну и полупустыню и вливается у южных рубежей Сахары в обширное озеро Чад. А тут зной такой, что вода испаряется так же быстро, как прибывает. Разные реки впадают в Чад, а стока нет, из озера воде путь один – вверх, к безоблачному голубому небосводу, который жадно впитывает незримые испарения.
Туда-то, на это озеро, я и хотел попасть. Но если найти его на карте легко, то добраться к нему куда труднее. Озеро Чад все равно что голубое сердце Африки, хотя на всех картах оно выглядит по-разному: то круглое, как тарелка, то кривое, как рыболовный крючок, то изрезанное, будто дубовый лист. Наиболее добросовестные карты обозначают его пунктиром, ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого внутреннего моря. Тысячи плавучих островов беспорядочно дрейфуют по его поверхности, сталкиваются друг с другом, срастаются, причаливают к берегу, образуя полуострова, снова распадаются, и плывут в разные концы, к неведомой цели. Средняя площадь озера – 25 тысяч квадратных километров, но нередко оно усыхает наполовину, ведь вся-то глубина его от одного до пяти, самое большее шести метров. В северной части озеро местами такое мелкое, что обширные участки поросли осокой, вернее, папирусом. Папирусом обросло и большинство островов, участвующих в вечной гонке по озеру.
В республике Чад нет железной дороги. Нет и шоссе, действующего круглый год. Здесь рай для охотников и для тех, кто мечтает увидеть клочок земли, который не был бы зеркалом наших собственных вездесущих будней. В столице есть первоклассные отели, аптеки, бары и современные административные здания, где корпят клерки, большинство с параллельными шрамами на щеках или на лбу – знак племенной принадлежности. Широкие асфальтированные проспекты (по бокам – садики с французскими бунгало колониальной поры, которая кончилась в 1960 году), достигнув арабских домишек предместья, переходят в изрытые колдобинами песчаные улочки, а их в свою очередь сменяют караванные дороги, теряющиеся вдали между единичными негритянскими хижинами. Когда начинаются дожди, нужен конь или самолет, чтобы попасть в глубинные области. Зато по реке тогда можно дойти на лодках вплоть до торговых факторий по соседству с устьем Шари.
Три дня назад я пролетел над Средиземным морем и Сахарой на французском самолете, который следует на юг Африки, а раз в неделю делает посадку в Форт-Лами. Самолеты доставляют в республику то, чего нельзя везти на верблюдах. Автомашины, экскаваторы, холодильники, бензин, даже омары и свежая говядина для шеф-повара в «Ла Чадиенн» – все прибывает по воздуху.
И мы тоже вышли из самолета – три путника, нагруженные киноаппаратурой и меновыми товарами для африканских лодочных мастеров, с которыми надеялись познакомиться. Меня сопровождали два кинооператора: француз Мишель и итальянец Джианфранко. Мы собирались изучать и снимать, как здесь вяжут лодки. В путевых очерках о Центральной Африке мне попалась интересная фотография: несколько африканцев у воды, и рядом своеобразное суденышко такого же типа, как хорошо знакомые мне по Южной Америке и острову Пасхи камышовые лодки. Снимок был сделан на озере Чад, и автор статьи подчеркивал разительное сходство лодки из Африки с лодками, которые с незапамятных времен вяжут индейцы озера Титикака в горах Перу. В Египте древнейший вид африканской лодки давно исчез, здесь же, в сердце материка, он дожил до наших дней.
Из области Верхнего Нила проходит через горы древний караванный путь в Чад, известный также как трансафриканский работорговый путь. Я знал, что антропологи по ряду признаков связывали некоторые группы жителей Чадской области с обитателями Нильской долины. Чад – африканский тигель, жгучие лучи тропического солнца освещают тут причудливую смесь народов, и только специалист не запутается в местных племенах и языках. Но не надо быть специалистом, чтобы видеть, что Чад образует не только географический, но и этнический переход между песчаными дюнами Сахары на севере и глухими тропическими лесами на юге. Если северную часть страны занимают бедуины и другие арабы, то южная населена негроидами. А встречаются они на центральных равнинах и в столице Форт-Лами, где вместе стараются создать единую нацию из племен, волей случая временно оказавшихся в пределах одной французской колонии.
Освежившись под душем в кондиционированных номерах отеля, мы влезли в раскаленное такси и поехали в Управление туризма. Широкая главная улица кишела машинами, велосипедами, пешеходами. В сплошном потоке африканцев мелькали белые лица французских чиновников и поселенцев, которые решили остаться в Форт-Лами после провозглашения республики.
Начальник Управления туризма был белый. Мы объяснили ему, что хотели бы узнать, как лучше добраться до озера Чад, ведь на карте нет ни железной дороги, ни шоссе. Начальник управления развернул свою красочную карту, разложил на столе снимки львов и всякого зверья и сообщил, что вся эта дичь – в нашем распоряжении за умеренную мзду, правда, для охоты надо выехать на юг, в другую сторону от озера Чад. Мы возразили, что нам нужно озеро, только там мы сможем увидеть папирусные лодки. Начальник сложил карту. Если нас не устраивает то, что он нам предложил, он ничем не может помочь. С этими словами он бесстрастно развернул свое пузо в сторону внутреннего кабинета и ретировался туда. Я вынул из паспорта пестрящее печатями рекомендательное письмо норвежского министра иностранных дел и попросил чернокожего клерка отнести его шефу. Снова в дверях показался начальственный живот, и нас любезно осведомили, что до озера невозможно добраться, пока не поднимется уровень воды в реке. К тому же папирус растет около Бола на северо-восточном берегу, а туда и вовсе можно попасть лишь самолетом. Может быть, я согласен взять напрокат самолет?
Да, согласен, если нет другого выхода.
Начальник управления схватил телефонную трубку. В стране было два одномоторных самолета, и оба стояли в ангаре на ремонте. Имелся еще один пассажирский самолет, двухмоторный, но ему требовалась для посадки 800-метровая дорожка, а посадочная полоса в Боле – всего 600 метров. К тому же, добавил начальник, чтобы снимать, нужно разрешение властей. Да еще в республике в эти дни неспокойно. Арабы в областях на пути к Болу – мусульмане, они не в ладах с возглавляющими правительство христианами. Так что сейчас опасно лететь на север. Чтобы мы не сомневались в его доброжелательности к нам, начальник Управления туризма дал нам машину и водителя: можно объехать Форт-Лами и разузнать у сведущих людей про обстановку у озера.
Мы получили от него адрес веселого плечистого француза с татуировкой на руках, который изучал возможности пополнения запасов рыбы и развития современного промысла на озере Чад. Он рассказал, что к болским зарослям папируса можно добраться только на джипе через пустыню с восточной стороны озера. То же самое сказал врач-француз, он же укротитель зверей и заядлый путешественник. И оба они подтвердили слова начальника Управления туризма о том, что в том краю неспокойно. Выяснилось, что на озере есть большой катер, который объезжает берега, скупая один местный злак, но где этот катер сейчас, неизвестно.
Франция – одна из немногих стран, поддерживающих дипломатические отношения с республикой Чад. Мишель представил нас в посольстве, но посол был новый, приехал всего месяц назад, и никто из его сотрудников не бывал на озере.
Третий день в Форт-Лами, а мы все ходим из конторы в контору, из бунгало в бунгало, знакомимся с любезными людьми, они потчуют нас кофе, холодным пивом или виски и дают адреса других людей, которые, может быть, сумеют нам помочь. И вот круг замкнулся, нас уже снова направляют к начальнику Управления туризма и всем тем, к кому мы обращались в первый день.
Ладно, попробуем сами добраться до Бола на джипе... Власти дали официальное разрешение. В Боле находилась единственная на все озеро радиостанция, и министерство внутренних дел обещало на всякий случай предупредить о нашем визите болского шерифа. Оставалось получить в министерстве информации справку, что нам разрешено снимать. Как и в других ведомствах, главные посты здесь занимали преимущественно местные жители. Прочтя бумагу, которую секретарша написала под диктовку, министр схватился за голову и громко расхохотался.
– Этот человек археолог, ар-хе-о-лог, – он кивнул на меня и вернул ей бумагу. – Исправьте на ар-хе-о-лог, не то мусульмане там отрубят ему голову!
Я осторожно заглянул через плечо курчавой красавицы. Официальный язык в республике – общий для всех здешних племен – французский. И девушка ухитрилась из «археолога» сделать «архиепископа», хотя эти слова не так уж и похожи во французском языке.
Ошибку исправили, а министр лишний раз пояснил нам, что лучше не впутываться в местные религиозные распри.
Получив надлежащие документы и двух чернокожих шоферов, один из которых, Баба, по его словам, бывал в Боле, мы рано утром, до восхода солнца двинулись в путь. Ехали на двух джипах – мало ли что случится в пустыне, – и эта мера себя вполне оправдала. В первой машине у нас была сплошь желтая карта с красными черточками под названиями Форт-Лами, Массакори, Али-фари, Каир, Нгура, Иссеир, Бол. Первые деревни мы отыскали без труда. У обочины стояли надежные указатели, а плотно утрамбованный песок позволял развивать больше 100 километров в час; правда, и такая скорость не спасала нас от пыли, облака которой вздымались из-под колес до самых звезд.
На ближайших к столице участках трудились машины и бригады рабочих, они прокладывали настоящее шоссе на твердой основе, чтобы и в дождь можно было проехать.
Километров 200 мы уже отмахали, когда взошло солнце. Дальше дорога с каждым поворотом становилась все уже, и вскоре все следы двадцатого века остались далеко позади.
Как только мы выехали из столицы, городская застройка сменилась круглыми хижинами с соломенной кровлей, по большей части заброшенными, потом пошли соединенные малоезженной колеей и караванными тропами редкие деревни, глинобитные арабские лачуги, где вместе ютились люди, козы, верблюды и ослы. А там и вовсе пошло сплошное безлюдье.
Это началась пустыня. Южная кромка Сахары. Последний виденный нами термометр показывал около 50° в тени. Здесь же на десятки километров вокруг не было ни градусников, ни тени. Позади осталась саванна с веерными пальмами и сухими деревьями, остались настоящие рощицы, где газели, кабаны и обезьяны бросались наутек при виде машины, и разлетались пестрые тропические птицы, и только жирные цесарки нехотя освобождали колею. Теперь кругом лежал песок, будто снег на голом нагорье, плавные складки рельефа были занесены песчаными сугробами, дюнами, и только жидкие кустики тут и там пропороли иссушенную солнцем безбрежную гладь.
Солнце. Оно стояло прямо над нами, высекая блеск из металла. Джип до того накалился, что страшно прикоснуться к дверцам. От зноя слипались ноздри. Мельчайшая вездесущая пыль насытила жаркий воздух пустыни.
Мы поминутно увязали в глубоких дюнах, и тогда один джип тянул другой стальным тросом, а под колеса мы клали горячие листы железа. Моторы не выдержали жары, сначала один забастовал, за ним второй. Но Баба и его приятель были отличные механики, в их руках отвертка и гаечный ключ справлялись с любыми неполадками.
Где песок поплотнее, мы мчались с головокружительной скоростью. Нередко все следы колеи исчезали, и мы описывали большие дуги, пока Баба не заключал, что выбрался опять на верный путь. Так мы натолкнулись на глухую деревушку, не показанную на нашей карте. В глубокой рытвине около первых домиков оба джипа забуксовали, пришлось нам снова вылезать и браться за лопаты.
С разных концов медленно, не торопясь, подходили один за другим закутанные в серое арабы в белых чалмах. Они пристально глядели на нас, и, никому не приходило в голову поздороваться и предложить свою помощь.
Никакой реакции на наши улыбки и приветствия. Ни одной женщины. Суровые мужчины с орлиным взглядом окружили нас плотным кольцом. Кожа темная, как у негроидов, но четкие черты лица, изогнутый нос и тонкие губы выдавали арабов. Трудная жизнь в пустыне наложила свой отпечаток на облик и душу здешних людей. Похоже, милости тут не жди. И телефона нет... Внешний мир был представлен только нашими джипами, которые прочно увязли в песке.
Подложены железные листы. Баба и его приятель сидят за рулем и без толку гоняют моторы, из-под буксующих колес летит песок. Арабы стоят неподвижно, затаились в себе, словно напряженно ждут чего-то. Кажется, лучше не мешкать, самому сделать первый шаг. У одного из них был начальственный вид, я вежливо протянул ему две лопаты и знаком попросил выделить нам кого-нибудь в помощь. Он на секунду опешил, потом схватил лопаты и крикнул что-то двоим. Мы сделали жест остальным, чтобы подтолкнули, и вот уже главарь рядом со мной уперся плечом в джип, и со всех сторон напирают желающие помочь.
Мы пожали руки, сказали «спасибо» и ринулись дальше во всю прыть наших колес, волоча за собой через деревню и по верблюжьей тропе густое облако пыли.
Под вечер мы неожиданно увидели в пустыне еще одну, с виду столь же нелюбезную деревню. Наши джипы с трудом протискивались через толпы людей и скопление верблюдов, ослов и коз на рыночной площади. Угрюмые, молчаливые арабы напирали на машины, сверля нас взглядом, как будто хотели прочитать наши мысли и выяснить, не присланы ли мы властями вводить христианство или собирать налог. Чувствуя, что мы отнюдь не желанные гости, мы, не задерживаясь, понеслись дальше.
Хотя дело шло к вечеру, нас душила жара. Баба жаловался на головную боль, пассажиры второго джипа наглотались пыли и все больше отставали. Вода в канистре только обжигала губы и вызывала тошноту, вместо того чтобы утолять жажду.
В виденных нами деревнях фруктов не было, только калебасы с бурой оазисной водой да кувшины с козьим молоком. За целый день мы не приметили на своем пути ни пустой бутылки, ни консервной банки, ни клочка бумаги. Лишь на выезде из столицы в одном месте около шоссе лежали осколки стекла. Все здесь собственного изготовления: одежда, упряжь, постройки. На дорогах длинные вереницы тяжело нагруженных осликов, арабы верхом на высоких верблюдах, да семенящие за верблюдами женщины с кувшинами и корзинами на голове. Излишки домашнего производства отправляют на рынок в соседнюю деревню. Мы словно попали в другой, обособленный мир, нетронутый, независимый, обеспечивающий себя всем необходимым. Пропади наша цивилизация, а они знай себе будут жить дальше так же безбедно, так же скромно и неприхотливо, – верные традиции, тесно связанные с природой.
И вот вдали показалось озеро. Голубое, с холодным стальным отливом зеркало неба за кромкой ярко-зеленой поросли сочного папируса. С гребня песчаной дюны оно смотрелось, как мираж, хотелось выскочить из машины, побежать туда, пробиться сквозь зеленый барьер, броситься в эту немыслимо голубую воду, сделать добрый глоток и нырнуть, освежить воспаленную кожу, отмыть от насохших корок песка уши, ноздри, веки, поры, отмыться с головы до ног и снова пить, пить, пить... Тринадцать часов в джипе, мы с трудом разогнули затекшие ноги и уже хотели ступить на землю, но Баба нас остановил. Лучше не покидать машину. Лучше подождать до Бола. Деревня лежит на самом берегу; если поспешим, поспеем туда засветло. В пустыне ночью небезопасно.
До чего же нам трудно было удержаться! Вода, рукой подать, небесно-голубая вода, такая соблазнительно прекрасная в своей холодной наготе за зеленой шторой. А ты садись на место, давясь пылью, и трясись дальше в раскаленном джипе. Баба развернул железную коробку кругом, скатился с дюны вниз, и снова потянулся песок, песок... Снова пустыня.
А Баба сделал доброе дело. Когда наши джипы уже перед самым закатом по утрамбованной караванами дороге, связывающей Бол с деревнями на востоке, въехали в городишко, пересекли безлюдную базарную площадь и остановились на берегу за домами и мы приготовились прямо в одежде прыгнуть в воду, послышался чей-то предостерегающий возглас. Молодой серьезный француз с бородкой, член работающего на озере исследовательского отряда, сухо довел до нашего сведения, что здесь не стоит купаться: озеро кишит паразитами, они в несколько минут пробуравят нам кожу.
Мы посмотрели на Бабу. Он пожал плечами, на которых тоже лежал слой пыли, и вернулся к машине.
Да, упоительно красивое озеро Чад – обитель одной из самых коварных тварей Африки – шистозомы. Так называют крохотное чудовище, точнее его личинку, представляющую собой тонкого, почти невидимого червячка длиной с миллиметр, который с ходу пробуравливает кожу, поселяется в организме и буквально пожирает человека изнутри.
Мы поблагодарили за предупреждение и спросили, где же можно помыться. Он сокрушенно покачал головой. Здесь всю воду берут в озере, ее надо кипятить или хотя бы несколько дней выдержать, прежде чем употреблять.
Местные жители держались поодаль, пока из белого домика не вышел человек богатырского роста, который в сопровождении маленького эскорта направился к нам. Сразу было видно начальника; это и в самом деле оказался исполняющий обязанности шерифа. Сам шериф куда-то выехал по делам, и никто в Боле не был предупрежден о нашем визите. Кто мы, где наши документы? Вице-шериф Адум Рамадан мучился зубной болью и явно был не в духе. К тому же на его попечении находилось все население Бола, две тысячи человек, и каждый десятый считал себя вождем. Словом, хлопот полон рот.
Мишель дал ему аспирина и объяснил, что нам нужно где-то устроиться на ночь, мы приехали из самого Форт-Лами и нигде в пути не отдыхали.
– Быстро ехали, – сухо заметил Адум Рамадан, пропустив мимо ушей слова о ночлеге.
Его интересовало другое: почему же все-таки не было радиограммы из Форт-Лами, ведь радиостанция в порядке?
Велев одному из своих людей проводить нас в стоящий на берегу цементный сарай, жертва зубной боли исчез с остальным эскортом в сгущающемся мраке.
Мы вошли в сарай. Это была местная общедоступная гостиница: заходи и устраивайся, как можешь. Длинный коридор, по бокам – каморки, похожие на открытые стойла и набитые спящими людьми, через которых нам приходилось перешагивать.
В одном конце коридора помещался умывальник, правда, без воды, если не считать мыльную жидкость в двадцатисантиметровой ямке в земляном полу. Мы хотели было накачать чистой воды, но передумали, когда увидели, что труба проведена из озера, зараженного шистозомой. Пришлось ложиться, так и не смыв с себя желтый налет.
Только наш проводник подмел пол, на котором мы собирались расстелить спальные мешки, как снова появился вице-шериф, и на этот раз его широкое лицо освещала добродушная улыбка. Зуб прошел. Если Мишель отдаст ему остаток лекарства, нам принесут из дома шерифа три кровати!
Едва озеро осветили лучи восходящего солнца, как нас разбудили негромкие голоса арабов, которые, стоя на коленях лицом к Мекке и касаясь челом земли, читали свои молитвы. Другие постояльцы развели маленькие костры из сухого папируса и молча готовили себе чай. Нас пригласили на завтрак к вице-шерифу. Он пребывал в отличном настроении и запретил нам трогать свои припасы: пока мы гостим в Боле, будем есть у него. Надо сказать, что у него была превосходная в своем роде кухня, только жевать надо было осмотрительно, чтобы на зубах не скрипел вездесущии песок.
В этот день я впервые в жизни увидел папирусную лодку. Она плавно прошла мимо меня по зеркальной глади заколдованного озера, которое за ночь уже успело изменить свой вид. Когда мы приехали накануне, прямо напротив сарая темнел большой низкий остров, теперь он бесследно исчез, зато появилось сразу три других острова. Меньший из них у меня на глазах скользил вправо, и за ним даже тянулось что-то вроде кильватерной струи. Он напоминал аранжированную искусной рукой цветочную корзину с толстым букетом пушистых золотых соцветий – посередине длинные цветки, по краям стебли покороче, изящно склоненные над голубой водой, отражающей нежные желтые метелки и зеленые цветоножки. Эстетическую законченность композиции придавали торчащие из дерновины цветочки, листики и вьюнки. Плавучий остров из сплетенных корней и волокон двигался степенно и бесшумно без всяких там весел и моторов. А рядом, легко обгоняя эту цветочную корзину, уверенно шла папирусная лодка с двумя африканцами в белых тогах. Они стояли прямо, как оловянные солдатики, работая длинными шестами. Желтая лодка и стройные мужчины тоже отражались в озере, и опрокинутая картинка напомнила мне другие камышовые лодки, которые и впрямь плыли вверх ногами по отношению к нам на противоположном конце земного шара, на озере Титикака в Южной Америке. Причем лодки Титикаки так похожи на чадские, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения.
Я жаждал сам походить на такой лодке и узнать, как их делают. Ведь мало просто связать вместе папирус, как бог на душу положит, надо знать секрет, чтобы получилась нужная форма.
Шериф устроил нам торжественную аудиенцию у султана М'Булу М'Бами, местного религиозного главы и самого могущественного человека на много километров вокруг. Сам шериф и его заместитель были с юга страны, их прислали из Форт-Лами для охраны политических интересов христианского правительства, а султан из местного племени будума опирался на мусульманское население области.
Плечистый шериф поражал своим могучим телосложением; султан же был худой и долговязый, полных два метра росту, закутанный в белый бурнус, только и видно, что орлиный нос да острые глаза.
Каждый из местных вождей сбрасывал сандалии, прежде чем ступить на площадку перед глинобитным домиком султана, где происходила аудиенция. Затем участники торжественного приема выстроились по краям большой песчаной площади посередине деревни – парадного манежа, где султан должен был гарцевать на своем пылком белом коне в честь гостей. Двое, держа коня под уздцы, все время заставляли его дыбиться, сам султан сидел неподвижно в седле, а кругом, обмахивая повелителя легкими шалями, бегали девицы в ярких нарядах. Когда кончился этот хоровод, сопровождаемый барабанным боем и пением рожков, мимо нас лихим галопом промчались всадники. Они размахивали мечами и издавали хриплые вопли, а один изних несколько раз проскакал перед нами совсем близко, чуть не по нашим ногам, с грозными ужимками и завыванием вращая саблей у нас над головой. Я осторожно спросил шерифа, как это понимать. Он ответил, что всадник просто куражится. Но Баба добавил, что воин выражает свою антипатию к нам, не мусульманам. Правда, султан такого чувства не выказывал, напротив, он очень заинтересовался, когда услышал, что мы хотим научиться делать папирусные лодки. И направил нас к своему родственнику, статному африканцу по имени Умар М'Булу, который жил в одной из конусовидных соломенных хижин квартала будума. Только шериф и его заместитель занимали белые бунгало, увитые красными цветами бугенвиллеи. Будума и канембу жили в круглых хижинах из соломы, а арабы, составляющие большинство населения районного центра Бол, – в низких глинобитных домиках.
Бритоголовый Умар был черный, как ночь, высокий и стройный, со сверкающими в улыбке глазищами и большими зубами. Кроме родного языка он говорил на арабском, голос у него был приветливый и негромкий, и разговаривая, он почти все время улыбался. Рыбак по профессии, он не стал мешкать ни минуты, когда Баба, обратившись к нему по-арабски, попросил его связать лодку из папируса. Выдернул из стены своей хижины длинный нож-мачете, забросил на плечо полу голубой тоги и зашагал впереди нас к озеру. Вот он нагнулся, и под черной кожей заиграли мышцы, когда длинный нож стал подсекать высокий папирус у самого корня. Один за другим ложились на край трясины длинные мягкие стебли. К Умару присоединился добровольный помощник, его сводный брат Мусса Булуми. Он был постарше, поменьше ростом, тоже бритоголовый, однако без королевской осанки Умара. Мусса знал лишь язык будума, но одинаково весело улыбался, когда Баба обращался к нему по-арабски, Мишель по-французски, Джианфранко по-итальянски или я по-норвежски. И он еще проворнее Умара косил папирус.
Заготовив большущие охапки зеленых стеблей, их оттащили от воды и сложили на земле. Предстоял урок вязки лодок.
Поблизости стояли две больших папирусных лодки человек на двенадцать. Мы начертили на песке лодку поменьше, метра на четыре, чтобы можно было погрузить ее на крышу джипа. На помощь были призваны еще два соплеменника Умара и Муссы. Они сели на песок под деревом и принялись соскребать мякоть с кожистых листьев пальмы дум. Тугие белые жилки разделялись при этом на тонкие нити, из этих нитей между ладонью и бедром скручивали веревочки, а из веревочек потом сплетали толстые веревки. И вот уже Умар и Мусса начали вязку; остальные двое едва поспевали снабжать их веревками.
Длина стеблей была два метра с лишком, толщина у корня – четыре-пять сантиметров. В разрезе папирус представляет треугольник с закругленными углами; он не пустотелый и не коленчатый, как бамбук, сплошной стебель состоит из напоминающей белый пенопласт губчатой массы, обтянутой гладкой кожицей.
Для начала Умар взял стебель и расщепил его вдоль на четыре части, но не до конца. В развилок он всунул комлем вперед четыре целых стебля и продолжал затем вставлять между ними новые стебли, получалась утолщающаяся сигара. Стебли туго-натуго перевязывали веревками; Умар и Мусса, держа в зубах каждый свой конец петли, затягивали ее руками и зубами, так что мышцы на руках и шее вздувались черными буграми. Очевидно, сжать губчатый срез стеблей так плотно нужно было, чтобы закрылись все поры. Достигнув в диаметре примерно полуметра, конус переходил в ровный цилиндр, получился этакий огромный карандаш. Его положили острым концом на чурбан, и мастера стали прыгать по снопу и притаптывать его, пока он не изогнулся вроде слонового бивня. Так была придана нужная форма носу, после этого первый конус нарастили с боков еще двумя, покороче, причем привязывали стебли по одному, так что все три конуса были очень плотно сращены между собой.
Когда лодка достигла в длину черты, которую мы провели на земле, она, по сути дела, была готова и представляла собой вполне симметричную конструкцию, кроме кормы, где папирус торчал, как прутья в метле; при желании ее можно было бы наращивать до бесконечности. Проблему с кормой Умар и Мусса решили простейшим способом. Взяли нож подлинней и отсекли все лишнее, как обрезают горбушку у колбасы. После чего папирусная лодка с загнутым вверх острым носом и широкой обрубленной кормой была готова к спуску на воду. Строители управились с работой в один день.
– Кадай, – улыбнулся Мусса и погладил готовое изделие своих рук.
Так будума называют лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить. Может быть, сами додумались. А может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила. Так или иначе на Чаде древняя конструкция сохранилась всюду, где только есть папирус, даже в тех частях озера, которые принадлежат республикам Нигер и Нигерия. Традиционные приемы строительства везде одни и те же, и везде лодка выглядит одинаково, разница может быть только в длине и ширине.
В просвете среди папируса, где мы спустили на воду нашу лодку цвета зеленой травы, были также причалены к берегу четыре долбленки из могучих стволов, очевидно, принесенных из леса рекой Шари во время паводка. Мы воспользовались ими, как мостками, проходя к своей кадай. Умар презрительным жестом выразил свое отношение к неустойчивым долбленкам, похожим на длинные полузатопленные корыта. Дескать, канембу не будума, не умеют вязать кадай...

 Чтобы связать лодку, нужен материал. Мне нужен был необычный материал – папирус. Где он есть? На озере Чад. Но сердце Африки не связано с внешним миром никакими артериями, ни рекой, ни шоссе, ни железной дорогой. Самолет? На нем можно вывезти мастеров, но не вывезешь столько папируса, сколько надо для большой ладьи. Да и как его доставишь из Бола до аэродрома в Форт-Лами?
В Египте? Ну конечно же. На каменных стенах гробницы фараона нарисованы лодки из папируса. Камень и папирус. Камень в пустыне, папирус по берегам Нила. Природа даровала древнейшим жителям Нильского поречья камень и папирус. Да еще ил с Эфиопских гор, который откладывался на берегах реки. Ил кормил крестьянина, из папируса вязал себе лодку рыбак, камень нужен был фараону, беспокоившемуся о своей загробной жизни. На бумаге из папируса ученые-египтяне записывали события древнейшей истории человечества. На папирусе перевозили камень, на камне увековечивали папирусную лодку. Цветок папируса – обычный мотив в искусстве Древнего Египта. Он служил государственным знаком Верхнего Египта, и в одном из мифов птицечеловек Гор, сын солнечного бога Ра, связывает его вместе с цветком лотоса Нижнего Египта, объединяя весь Египет в одно царство.
Если вам нужен бальсовый плот, делайте, как делали инки: отправляйтесь в лесные дебри Эквадора и срубите стволы, полные природного сока. Если вам нужна папирусная лодка, делайте, как делали люди фараона: отправляйтесь на заболоченные берега Нила и нарежьте зеленого папируса. Когда фараону нужна была лодка, задача решалась просто. К его услугам были вооруженные многовековым опытом искуснейшие корабелы, которые знали все о папирусе и папирусных ладьях, он имел сколько угодно рабочих рук, и строительный материал рос в изобилии прямо у ворот его дворца. Заросли папируса тянулись по обоим берегам Нила на десятки километров от Средиземного моря на юг, в глубину страны. Но так было при фараонах.
– Теперь в Египте папирус больше не растет, – объяснил мне Жорж Сориал, египетский аквалангист, знающий Нил как свои пять пальцев. – Камня предостаточно, если тебе захочется построить пирамиду, но папируса не наберется даже на игрушечную лодку.
И он подвел катер поближе к берегу, чтобы я мог убедиться в его правоте.
Множество парусов скользило вверх и вниз по Нилу между пальмами, песчаными отмелями и возделанными полями, но ни один золотоволосый стебель папируса не склонял больше своей косматой головы над бурой нильской водой, чтобы покрасоваться перед зеркалом. Папирус перевелся в Египте еще в прошлом веке. Никто не знает, почему. Боги забрали обратно один из своих древних даров, буквально выдернули его с корнем. Камень есть – остались горы, остались пирамиды, но ила тоже поубавилось с появлением плотин. И вместе с папирусом с берегов Нила исчез последний египтянин, который владел искусством строить папирусные лодки.
Мы странствовали по живописному Нильскому поречью верхом на конях и верблюдах, на автомашинах, поездах и катерах. Приходили на рыбачьи шаланды и грузовые баржи, сидели под солнцем на серых досках и ели арабские лепешки с липнущим к палубе мягким сыром, надеясь получить какие-то сведения от речников, которые не знали, что такое обувь, и редко сходили на берег. Они родились на борту, и все: жена, дети, скот, скарб – находилось тут же. Сто раз чиненная деревянная лодка с каютой-шатром – родной дом нильского рыбака, его деревня, его мир. И мы немало узнали от них. О том, как люди ухитряются жить в трудиться там, где, казалось бы, и повернуться-то негде. Как стряпают на легковоспламеняющейся палубе над глиняным очагом. Как заготавливают провиант, который не боится никакого солнца. Но о папирусе они нам ничего не могли рассказать, тут скорее мы их могли поучить. Рыбаки в жизни не видели папирусного цветка, не видели даже маленького пучка этой травы, посаженного для туристов у фонтана перед входом в Каирский музей. Они не заходили внутрь гробниц. И отцы им не говорили, что некогда по Нилу ходили совсем другие лодки, а не те, на которых они сами выросли.
Однако Нил велик. Он тянется на юг через Египет и Судан до своих истоков в Уганде и Эфиопии. И вот там-то, по берегам озер в его верховьях, папирус уцелел. Я услышал даже, будто бы он там растет так же пышно, как на озере Чад.
Должно быть, древние любили странствовать по свету, ведь многие из фараонов, правивших Египтом, родились в далекой Эфиопии, где начинается Голубой Нил. Но в средние века нильский путь был забыт, и легенда помещала истоки великой реки в таинственных, неведомых Лунных горах. Лишь после того как европейцы во времена Колумба тоже пустились в странствия, итальянцы и португальцы вновь открыли верховья Нила. И люди нашей эпохи узнали, что Голубой Нил вытекает из озера Тана, лежащего высоко в горах Эфиопии. В Марокко и на Сицилии тоже есть папирус, но очень мало, на большую ладью сразу не соберешь.
Итак, отправляйся за папирусом к истокам второй по длине реки земного шара; позавидуешь фараонам... К тому же в Судане были какие-то осложнения, и власти косо смотрели на туристов, да еще таких, которые уверяли, что цель их поездки – связать лодку из цветков папируса! Зато Эфиопия не стала чинить препятствий, и рейсовый самолет доставил нас в Аддис-Абебу, столицу древнего королевства, расположенную на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, посреди зеленого нагорья с россыпью желтых цветов.
Моим спутником был начинающий кинооператор, итальянец Тоси, худой и такой долговязый, что мы насилу втиснули его в маленький самолет местной линии, который ходит на озеро Тана. И вот уже нас качает на воздушных ухабах над зелеными холмами Эфиопии. Внизу на склонах и вершинах жались в кучу живописные круглые соломенные хижины. Долго ландшафт напоминал волнистую, всех оттенков зелени площадку для игры в гольф. Потом пошли изборожденные ущельями горы. На дне глубоких диких каньонов пенились белые ручьи. А вот и верхнее течение Нила – красно-бурая лента на дне судорожно извивающейся теснины между обрывистыми скалами. Эти извивы были словно рисуночное письмо самой природы, повествующее о том, как древняя река в союзе с всесильным временем тысячелетиями вгрызалась в горный массив, выплевывая пережеванные ею скалы Эфиопии в виде миллионов тонн ила на засушливые равнины Судана и Египта. С незапамятных времен Нил без устали перемалывает горы Эфиопии в удобрение для полей Египта. Вот уж подлинно исторический ландшафт, ведь из этих борозд возникла почва, питавшая один из корней мировой культуры.
Мои размышления были нарушены. Пилот взял ручку на себя, самолет резко пошел вниз и чуть не сбрил крылом макушки деревьев на скальном ребре в одном из зигзагов реки. Нил исчез, мы видели только деревья и скалы. И в ту же секунду вдруг услышали со всех сторон громоподобный гул, в котором совершенно тонул рокот мотора. Руки вцепились в сиденье, живот стал невероятно тяжелым, дыхание на миг остановилось. Тут же впереди снова показалось русло Нила, но это была картина безумного хаоса. Великая река была разорвана поперек во всю свою ширину и могучей стеной уходила отвесно вниз. Впереди нас, по бокам, вверху, внизу падали с уступа на уступ беснующиеся белые каскады, вода бурлила, рокотала, кипела, пенилась, курилась. Мрачные утесы заслонили солнце...
Ручку на себя, нас вдавило в кресла, высотный руль вкупе с сильной восходящей струей воздуха бросил машину вверх, мы влетели в изумительную радугу на фоне голубого неба и пронеслись над самым краем бушующего кратера, там, где идущий нам навстречу лоснящийся поток, как бы надломившись, обрывался в пропасть. И опять под нами Нил, но уже этажом выше, волшебно изменившийся – бурого цвета, степенный, неторопливый, неслышный. И никаких круч или барьеров, ровное зеленое плато, ничем не заслоненный вид на отлогие холмы, блестящую воду и вечнозеленый лиственный лес.
– Хотите еще раз посмотреть? – спросил летчик. Не дожидаясь ответа, он развернулся, прошел над обрывом и опять бросил машину вниз, в клокочущее ущелье.
– Водопад Тиссисат, – бесстрастно сообщил он, когда остался позади оглушительный рев. – Здесь Нил срывается отвесно вниз с плато. Местные называют водопад Тис Аббай. Аббай – имя Нила, а «тис» означает «дым». Получается «курящийся Нил».
Мы обернулись – в самом деле, там, где великий Нил исчезал в преисподней, к безоблачному небу, словно дым исполинского костра, поднималась завеса из мельчайших капелек.
Самолет приземлился в Бахар-Даре, и вскоре мы уже снимали тот же водопад с земли. Здесь пролегала грань между двумя мирами – или этажами двухэтажного мира. Мы знали, что совсем близко люди по-прежнему, как во времена фараонов, плавают на папирусных лодках: всего один дневной переход отделяет Тиссисат от озера Тана, в котором берет начало Голубой Нил и на котором мы рассчитывали найти папирус в неограниченном количестве.
И вот мифические Лунные горы, вот начало реки, и серебряная с чернью гладь озера Тана отражает вечерние тучки, контуры гор и макушки деревьев. В заливе что-то двигалось, словно какие-то животные с загнутым вверх хвостом беззвучно пересекали серебристую дорожку. Нырнут в тень – пропадут, выйдут опять на отливающий серебром клин – отчетливо видно длинные силуэты. Я насчитал шесть силуэтов; шесть папирусных лодок бесшумно скользили по воде там, где два лесистых мыса сдавливают озеро Тана и рождается поток, который медленно катится к водопаду.
На каждой лодке сидели люди – где один, где двое, где трое, – и гребли тонкими шестами, как двухлопастным веслом. Может быть, они ловили рыбу в протоке, а может быть, просто тешились на досуге, бороздя тихие струи, с которых начинается Нил. Пониже чья-то лодка лихо неслась по белым перекатам в опасной близости от могучего водопада, но черный гребец искусно вывел легкое суденышко из бурлящей стремнины и пошел обратно к озеру, держась в тени у самого берега.
Лунные горы. Горы, вздымающиеся к Луне. Так рисовался здешний край путешественникам средневековья, карабкавшимся вверх с берегов Красного моря или с египетских равнин. Озеро Тана лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря, а горы кругом достигают 3-4 тысяч метров. Озеро большое – с одного берега другой не видно. На нем нашли себе приют черные монахи. Лесистые острова стали их обителью, и сотни лет только папирусная лодка связывает их с внешним миром.
Хотя уже смеркалось, я даже на таком расстоянии рассмотрел интересную особенность здешних лодок. Если на кадай на уединенном озере Чад корма обрезана прямо, и только нос загнут вверх красивой дугой, то папирусная лодка, дожившая до наших дней в истоках Нила, сохранила исконную египетскую форму. Не только нос, но и корма изогнута вверх, причем ахтерштевень еще загибается внутрь, образуя характерный древнеегипетский завиток. И в этот тихий вечерний час я мысленно перенесся вниз по течению Нила, перенесся в далекое прошлое, когда занималась безмятежная заря истории.
Краешек тропического солнца провалился за далекие лесные кроны, и свет медленно померк, как в кинозале. Горы и озеро, скрывшись во тьме, растворились во времени. Теплый ночной ветерок принес сладкий запах благовоний и веяние нетленных тайн – дыхание островов, где календарь застыл на месте, где в наши дни живет средневековье, лелеемое и сберегаемое монахами, которые пронесли сквозь столетия образ жизни, одежду, ритуалы и веру, доставленные сюда их святыми предшественниками в ту далекую пору, когда средневековье для всех еще было явью.
Хотя на островах высятся могучие деревья, монахи по сей день не делают ни долбленок, ни дощанок. Предки провели папирусную лодку из седой древности в средневековье, потомки невозмутимо ведут ее дальше, в атомный век. Вот мы и приехали к ним за наукой: им ли не знать, как вяжут папирусные лодки и где найти нужное нам количество папируса!
Откуда пришли учителя черных монахов? Древние народы, обитавшие в разных концах Нила, делились друг с другом не только папирусными лодками и фараонами. Зарождающееся христианство проникло в Эфиопию из Египта за тысячу лет до того, как в спячке средневековья заглохли естественные связи между равнинами в устье Нила и нагорьем в его истоках. Уже около 330 года, задолго до прихода христианского учения на север Европы, в Эфиопии распространилась коптская вера. Первые христиане поселились севернее озера Тана, в древнем королевстве Аксум высоко в эфиопских горах. Позже многие из них бежали от преследований на юг, на затерявшиеся в просторах озер Тана и Звай острова. Черные монахи, нашедшие убежище на Тане, живут там уже семьсот лет, а преемственность обеспечивают, привозя на своих папирусных лодках молодежь с побережья.
Чтобы познакомиться с монахами и разведать участки папируса, мы взяли напрокат железную моторку с папирусной лодчонкой на буксире. Один предприимчивый итальянец привез две таких моторки на Тану и конкурировал с ладьями из папируса, забирая зерно на мелких пристанях и доставляя его на два центральных базара в северной и южной частях озера.
Густой лес покрывал откосы первого острова, к которому мы подошли, корни деревьев переплелись даже в воде. Мы протиснулись к суше на папирусной лодчонке и спрыгнули на берег под сень листвы. Между стволами начиналась узкая тропка, здесь стояли два монаха, словно поджидали нас. В длинных облачениях с опущенным клобуком, босые, темно-коричневая кожа, черная борода. Придерживая рукой коптский крест на груди, они молча поклонились и учтивым жестом указали нам путь к стоящей наверху часовне.
У солнечной стены сушились поставленные на ребро папирусные лодки, лежали снопы сухого папируса. Часовня стояла в высшей точке острова, такая же, как разбросанные по откосу скромные лачуги монахов, только размером побольше. Круглая постройка из жердей под толстой соломенной крышей конусом.
Раздались низкие мелодичные звуки гонга – подвешенной каменной плиты, по которой колотили дубинкой, и к часовне потянулись монахи. Красивые, статные люди, как большинство эфиопов: темная кожа, чеканное лицо, орлиный нос, острая черная бородка. Тут и юноши, и зрелые мужи, и согбенные седобородые старцы. Все в грубых облачениях, босые или в открытых сандалиях; я приметил несколько апатичных, изможденных лиц. Кормились эти бедняки тем, что им давали жалкие клочки земли, да рыбой из озера. Дни проходили в молитвах, псалмопениях и раздумье.
Нас приняли как желанных гостей; можно было надеяться, что мы здесь получим важные сведения. Два старика в чалмах приволокли похожие на бочонок барабаны и, колотя по ним ладонями, затянули надтреснутыми голосами диковинные церковные песни, явно унаследованные от древнейших эфиопских христиан. Должно быть, так же пели учредители их церкви, когда пришли сюда из королевства Аксум.
Остров называется Ковран Гавриил, и архангел Гавриил богатырского роста, с мечом в руке встретил нас, когда монахи предложили нам войти в их часовню с соломенной крышей. Его изображение, обрамленное многокрасочными библейскими сценами, украшало своего рода алтарь, который занимал всю среднюю часть часовни от пола до потолка, оставляя круговой проход вдоль стен с выходами на все стороны. По этому принципу устроены все коптские церкви на озере Тана.
Цветная роспись алтаря позволяла проследить всю библейскую историю. По словам монахов, которые подтверждаются очаровательно наивной трактовкой, алтари были расписаны лет двести-триста назад, а то и раньше. На картинке, изображающей, как фараон со своим египетским войском тонет в Красном море, только блестящие рыцарские шлемы и ружейные дула торчат из воды...
Нас попросили разуться у входа в часовню, и когда мы вышли, то вынесли с собой полчища блох, которые долго постились на церковных коврах. Я еще легко отделался, а вот порывистые движения кинооператора говорили о том, что передовые блошиные отряды быстро добрались до его подмышек и головы. Бегом спустившись к лодке, он, к великому замешательству монахов, затеял что-то вроде стриптиза с дезинфекцией при помощи пульверизатора.
К тому времени я уже успелвыведать у монахов то немногое, что они могли рассказать о плавучести папируса. Хотя для этих островитян папирусная лодка то же, что для жителя пустыни лошадь и верблюд, никто из них не пользовался ею больше одного дня подряд. Походят день – непременно вытащат на берег и поставят ее сушиться, не то очень сильно намокнет. А намокший папирус хоть и не тонет, но грузоподъемность совсем не та. Чем больше лодка, тем дольше она сохраняет плавучесть, но чересчур большие делать нет смысла, слишком тяжело вытаскивать из воды и сушить.
Да, не густо.
Следующий остров назывался Нарга. Он был плоский, с папирусом в мелких заливах, но это растение нужно было самим монахам для пополнения своего флота. Они говорили, что папирус как-никак гниет; сколько ни просушивай лодки, раз в год приходится вязать новые. А в старинной каменной башне сидел монах, который вообще ничего не говорил. И не двигался с места. Только и видно темный силуэт на фоне облаков. Башня была построена царицей Ментуаб 250 лет назад, монах же уселся на верхней площадке лишь несколько лет назад, зато дал богу обет неподвижно просидеть там всю жизнь. До самой смерти. Его собратья смотрели на него как на живого святого.
Мы поспешили к соседнему острову, Дага Стефано, его лесистые взгорья высоко вздымаются над водой. Это самый священный остров на всем озере, до того священный, что ни одной женщине, будь она хоть царица, не дозволяется сходить здесь на берег. Последний раз такая попытка была сделана 250 лет назад. Царица Эфиопии Ментуаб со своей свитой подошла к острову на большой папирусной лодке, но ее учтиво спровадили. И пришлось ей продолжить путь до Нарга, где она и соорудила храм и башню.
Дага Стефано благодаря пышной растительности очень красив. На вершине острова между древесными кронами мы различили соломенную крышу с крестом. У единственного причала стоял на страже оборванный монах с явными признаками слоновой болезни; к деревьям позади него были прислонены маленькие папирусные лодки. Волнуясь, мы ступили на священные камни: что последует? Но монах позволил нам осмотреть лодки и не стал нас останавливать, когда мы пошли по широкой тропе вверх. Могучие деревья, соломенные лачуги, монахи... Немые поклоны, рот бормочет молитву, рука придерживает маленький крест... Папирус? Они дружно показали через озеро. Вон там. Там его сколько угодно. Они сами его там берут. Сколько держится на воде? Восемь дней. От силы две недели. К тому времени он, если не затонет под тяжестью груза, все равно сгниет и развалится на волне. Папирус надо сушить. Вытаскивать лодки на берег. Больше они ничего не могли нам сказать.
В храм нас не пустили. Его овальные стены из камня, бамбука и соломы грозили вот-вот рассыпаться. Но рядом было что-то вроде каменного грота с множеством реликвий. Два улыбающихся монаха любезно ввели нас в этакий кабинет ужасов. В полумраке на полках лежали белые черепа, старинные кресты и священные предметы, принадлежавшие покойным отцам церкви. Главной святыней были накрытые материей длинные стеклянные гробы. Покрывала сдвинули, и мы увидели мощи, бальзамированные тела четырех эфиопских царей со скрещенными на груди руками. Здесь, на священном острове, они обрели вечный покой. Их привезли сюда на папирусных лодках через бурное озеро Тана, как некогда траурные процессии сопровождали мумии фараонов по тихому Нилу.
Выйдя из темного грота на волю, мы устроили монахам маленький сюрприз: они услышали собственные голоса, записанные на портативном магнитофоне. Другим тоже захотелось услышать себя. И вот все монахи сидят в ряд на широкой лестнице и хором поют в микрофон. Звучат древние коптские псалмы. Я сижу на корточках перед ними и регулирую запись. Позади меня стоит долговязый кинооператор, согнувшись в три погибели над штативом. Вдруг я услышал страшное ругательство, от которого стрелка индикатора на магнитофоне ударилась в край шкалы, после чего откачнулась на ноль и застыла. Монахи закрыли рты и вытаращили глаза. Я обернулся и увидел, что мой итальянский товарищ исполняет какой-то лихой воинственный танец. Штатив он уже сшиб ногой и теперь торопливо стаскивал с себя рубаху. Отбросив ее, он взялся за брючный ремень.
– Стой! – яростно прошипел я. – Ты что, рехнулся?!
Мои слова не возымели никакого действия. Штаны последовали за рубахой, и Тоси, завершив стриптиз, обеими руками схватился за корму.
– Оса! – вопил он. – У меня в штанах оса!
Эх, оператор, оператор, так испортить нам последние минуты на острове Дага Стефано. Я не мог его простить, хоть и жалко было смотреть на беднягу, который не был в состоянии даже сидеть, когда мы вернулись в моторку. Монахов с лестницы как ветром сдуло, осталось лишь несколько человек; впрочем, они с признательностью приняли от нас скромную лепту в благодарность за содействие и во искупление греха, совершенного кинооператором.
В общем визит к черным монахам нас огорчил. Послушать их, так главное – делать папирусную лодку поменьше, чтобы легче было вытаскивать ее на берег и просушивать. Не очень-то это подходит для Атлантического океана... Как только лодка освобождалась, ее немедленно выносили на берег.
Чтобы упростить сушку, лодки побольше здесь делают из двух частей, которые можно выносить на берег отдельно: тонкий, так сказать, корпус с загнутыми вверх носом и кормой, а внутри корпуса – пригнанный к нему толстый папирусный матрац. Чадские кадай куда массивнее. Если монахи озера Тана стараются делать лодки легкими, ревностно сохраняя исконную древнюю форму, то для будума на озере Чад важнее всего капитальность конструкции.
Идя дальше через озеро, мы миновали несколько островков, ставших вотчиной бегемотов. Наше появление вызвало переполох, могучие звери, покинув свою обитель, погружались в воду и выныривали около нас. Нам объяснили, что они ненавидят папирусные лодки и всегда норовят их опрокинуть, потому что с таких лодок исстари били гарпунами бегемотов. Но когда мы столкнули в воду нашу папирусную лодчонку, бегемоты, окружив ее со всех сторон, только фыркали и таращили любопытные глаза.
В юго-западной части озера, где берег едва выдается над водой, раскинулись обширные заросли папируса.
В одном месте сквозь папирус пробивается мутный поток, и по озеру словно расплывается бурая краска. Здесь в Тану впадает речушка, ее устье сразу и не отыщешь в густом папирусе, где прячется много крупных болотных птиц. И так как озеро питает Голубой Нил, эту речку назвали Малым Нилом.
Как правило, Малый Нил настолько мелок, что на моторке по нему можно пройти всего несколько сот метров, но необычно высокий уровень воды позволил нам подняться вверх по реке до маленькой деревушки племени абайдар, лежащей в 3 километрах от озера. При появлении нашей моторки из крытых соломой круглых хижин высыпали на берег местные жители. Как нам объяснил Али, впервые одна из двух принадлежащих его итальянскому боссу моторок зашла в Малый Нил.
Встречающие спустили на воду лодки из папируса, сушившиеся возле хижин, и направились к нам, кто на веслах, кто толкаясь шестом. Самые маленькие здешние лодочки – по сути дела, поплавки, смахивающие на бивень слона; нам сказали, что они называются коба. Вяжут и применяют их точно так же, как в Центральной Африке, в Южной Америке и на острове Пасхи. Лодка побольше на одного человека, называется тароча, а наиболее обычная для Таны разъемная лодка на двух и больше гребцов – танкуа. Мы видели танкуа с экипажем в девять человек, но нам говорили, что есть лодки, на которых перевозят через озеро до 2-3 тонн зерна. Был случай, сильный ветер унес груженую танкуа, и она целую неделю дрейфовала по озеру, прежде чем ее удалось пригнать к берегу, даже зерно успело прорасти.
Абайдары, как и черные монахи, считали, что две недели – крайний срок, после которого танкуа, пропитавшись водой, неизбежно развалится. Корпус этой лодки настолько тонок, что она извивается на малой волне, будто змея.
Все это подтверждало мои первые впечатления. Хотя танкуа с загнутой вверх кормой больше похожи на лодки древнего Египта, чем чадская кадай, они уступают ей в прочности. И поскольку в нынешнем Египте нет ни папируса, ни строителей папирусных лодок, напрашивалось решение: взять папирус с озера Тана, строителей – с озера Чад, а образец для задуманной мной реконструкции – с древнеегипетских фресок.
Ночью разразилась жуткая гроза. Мы привязали моторку за дерево на берегу и накрылись папирусной лодкой. Гром гремел так, как это бывает, когда низкие тучи идут над самой водой. Ослепительный блеск молний и оглушительные залпы говорили о том, что центр грозы над нами. Молнии били в озеро, ударяли в берег. Вспышка, удар грома, толчок воздушной волны – и совсем рядом с нами раскололось огромное дерево! Дождь лил как из ведра. Наше имущество плавало в лодке вместе с дневным уловом рыбаков. А кинооператор крепко спал, в такую погоду он был избавлен от необходимости сражаться с насекомыми.
...На самом юге Эфиопии, с севера на юг параллельно Красному морю, протянулась в сторону Кении Рифт-Валли. Геологи полагают, что эта широкая долина, зажатая между двумя горными грядами, образовалась при медленном смещении Африки на запад за много миллионов лет. На дне рифта, словно бусины, лежат в ряд большие озера. На одном из них, озере Звай, вяжут папирусные лодки. Есть отличная автомобильная дорога, и большинство озер – излюбленное место отдыха; из столицы, Аддис-Абебы, сюда приезжают охотиться, ловить рыбу и купаться. Только Звай, хотя оно самое красивое, не посещается туристами. Сюда не доходит шоссе, и здесь растет папирус, прибежище улитки, в которой вырастает личинка шистозомы, гроза любителей купанья.
В Аддис-Абебе я встретил двух шведов, от которых кое-что узнал про Звай. Один из них, этнограф, изучал по литературе жителей тамошних островов. Другой – он кормится ловлей птиц в Эфиопии – сам побывал на озере.
Я взял напрокат джип, погрузил на него продукты и полевое снаряжение, мы покинули нашу базу в столице и помчались сперва по отличной, потом по хорошей, потом по посредственной и, наконец, по отвратительной дороге. Первый ночлег – у гостеприимных шведских миссионеров на высоком восточном склоне Рифт-Валли. На другое утро вместе с переводчиком – эфиопским учителем Асеффа – и «знающим дорогу» молодым парнем из племени галла мы двинулись дальше к озеру Звай.
Глубокое ущелье с порожистой рекой, секущее равнину к западу от озера, преградило нам путь, и в поисках переправы пришлось проехать 25 километров на юг по строящейся дороге, увязая в сыром грунте. Наконец мы пересекли реку по мощному каменному мосту, после чего километров пятьдесят ехали на северо-запад вовсе без дороги, где по конной, где по звериной тропе, где просто в просветах между редкими деревьями. Часто кому-нибудь из нас приходилось идти впереди джипа, отыскивая путь. «Проводник» сидел смирно, не раскрывая рта, а если и пытался что-то нам подсказать, то весьма неудачно. Дикие звери не попадались, зато мы видели много старых могильников. То и дело встречались нам галла – на плече копье, по пятам трусит собака. Хотели мы спросить у одного парня про дорогу, но он так перепугался, когда мы развернули джип в его сторону, что поднял копье для защиты, потом пустился наутек и мигом исчез среди акаций.
Вечерело, когда мы выехали на высокий утес, с которого открывается великолепный вид на восточный берег озера Звай и два ближних острова. На утесе стоял дощатый домик и большая палатка – шведская миссионерская поликлиника. Заведовала поликлиникой медицинская сестра, но она уехала в отпуск в Швецию, и мы застали только сторожа, живущего с семьей в шалаше по соседству. Он позволил нам разместиться в палатке.
От подножия утеса на юг и на север тянулись камышовые заросли, а на воде в лучах вечернего солнца поблескивало желтое зернышко: папирусная лодчонка возвращалась на свой остров.
День угас быстро, как и должно быть в восьми градусах от экватора. И тотчас начался спектакль. На деревьях тараторили обезьяны. Грузные бегемоты выбирались на берег и шли лакомиться кукурузой на поля. Все ближе и ближе скулили и выли гиены. Откуда-то с озера доносилась далекая барабанная дробь. Из палатки были видны костры на островах. Асеффа объяснил, что это копты готовятся встретить свой праздник маскал. Я вышел, чтобы полюбоваться всей панорамой, и у самых дверей наткнулся на две темных фигуры с копьями. Это сторож с одним из своих родичей пришел спросить, не хотим ли мы посмотреть на гиен, которые нашли околевшего мула и устроили пир.
Мы крадучись вошли в рощу. Где-то впереди звучали дикие вопли, тявканье, рычание, щелкали челюсти. В кустах со всех сторон сверкали, словно стоп-сигналы, бдительные глаза гиен. Но стоило мне включить фонарик, и обладатели глаз беззвучно улетучились, как будто по волшебству. Видно только лежащую на земле истерзанную тушу. Выключаю фонарик и жду. Опять кругом пара за парой вспыхивают глаза, опять зверье воет, скулит и рвет мясо, трещат кусты и сучья. Зажигаю фонарик... Половины туши как не бывало, осталась только передняя часть, да и та разодрана на куски. Мы поискали в кустарнике, идя по кровавым следам, но задние ноги мула канули в ночь.
На другое утро мы спустились к озеру. Маленькое кукурузное поле у подножия утеса подверглось за ночь основательному опустошению, вторгшийся сюда бегемот сжевал не одну сотню початков. Мы застали хозяина, когда он разгонял обезьян, которые задумали доесть то, что осталось после вылазки озерного исполина.
Вдали показалось несколько маленьких папирусных лодок, они шли от островов прямо к нам. Мы стояли там, где расчищенный в папирусе проход от причала встречался с тропой, спускающейся сверху. У нас были припасены топоры, веревки и два толстых сука в рост человека. Мы задумали один план и ждали, когда подойдут лодки.
Вот и они. Похожи на чадские: корма обрезана прямо, только нос заострен и изгибается кверху. Правда, совсем маленькие, на одного человека.
Островитяне пересекли озеро для меновой торговли с галла. Один привез буроватое кукурузное пиво в кувшине и в калебасе. У другого была свежая рыба. Подошел третий и начал вытаскивать свою лодку на берег. Мы перехватили их и предложили сделку. Взяв напрокат все три лодки, мы поставили их рядом и связали вместе. Только так можно было осуществить наш план и попасть на острова, к людям племени лаки. На всем озере Звай лишь они делают лодки, притом такие маленькие, что никто посторонний не может воспользоваться ими, чтобы проникнуть в древнее пристанище этого племени.
Лаки не состоят в родстве с галла, обитающими на берегах Звай. Галла – типичные африканцы, кормятся земледелием и скотоводством, они прочно приросли к суше, им в голову не приходило связать лодку или плот, чтобы выйти на озеро. А в жизни лаки папирусная лодка играет важную роль, ведь они не только земледельцы, но и рыбаки, и торговцы. Несмотря на черную кожу, лаки не негроиды, у них, как у большинства эфиопов, узкие лица, четкий рисунок которых наводит на мысль о жителях библейских стран. Как и монахи озера Тана, они пришли из области верховий Нила и принесли с собой искусство строительства лодок из папируса. Уже в 1520-1535 годах, они, спасаясь от гонений, после долгого странствия достигли Рифт-Валли и уединились на глухих островах озера Звай со всеми своими церковными сокровищами и древними коптскими рукописями. Мне говорили, что рукописи сохраняются до сих пор, ведь галла ни разу не смогли проникнуть на острова, несмотря на четырехвековую вражду с лаки. Правда, в последние годы розни пришел конец, наладилась меновая торговля, некоторые семьи лаки даже перебрались на берег, но по-прежнему на озере делают только такие лодки, что на них кроме гребца может поместиться от силы один человек. Да и то он рискует перевернуть тонкую связку папируса, если не будет сидеть тихонько, вытянув ноги вперед или свесив их по колено в воду.
Вот почему мы смотрели с торжеством на свое произведение – устойчивый плот из трех связанных вместе лодок. Мы уже собрали снаряжение и хотели занять места на плоту, чтобы переправиться на заманчивые острова, когда увидели, что один из лодочников потихоньку развязывает узлы. Объяснив Асеффе, что он пришел за дровами для большого праздничного костра, но теперь вспомнил, что самые хорошие дрова не здесь, а в другом месте, островитянин учтиво попрощался с нами и поспешно удалился на одной трети нашего тримарана.
Лишь под вечер нам удалось наконец зазвать еще одного лаки. Он шел вдоль камышей, забрасывая в воду небольшую сеть, и чуть не всякий раз в его сети трепетало живое серебро. Мы купили весь улов, двадцать одну тулуму с нежнейшим мясом, испекли на углях по рыбе на человека, а остальное вернули рыбаку. В нашу сделку с ним входил также прокат лодки, и на этот раз мы поспешили отчалить, как только связали плот. Он легко выдерживал вес троих пассажиров и кинокамеры с треногой, и Асеффа нерешительно присоединился к нам, когда я напомнил ему, что мне понадобится переводчик.
Берег был оторочен густыми зарослями низкого камыша, но папируса мы здесь не увидели. Небольшая волна заставила всех взяться за весла. Постепенно берег озера ушел вдаль, а над нами поднялись зеленые холмы ближайшего острова. Между деревьями на склонах отчетливо различались живописные круглые хижины из соломы. В это время из-за мыса вышла маленькая лодчонка и направилась прямо к нам. Верхом на папирусе, спустив ноги в воду, сидел суровый человек в похожем на мундир костюме защитного цвета. Умело работая веслами, он развернул свою лодку и стал поперек нашего курса. Асеффа сообщил, что этот человек называет себя не то шерифом, не то шефом острова Тадеча и требует, чтобы мы предъявили ему документы, прежде чем он пустит нас на берег.
Асеффа спросил, нет ли у меня какой-нибудь официальной бумаги. Я достал из нагрудного кармашка написанное по-французски письмо норвежского министра иностранных дел, адресованное властям Республики Чад. Асеффа ни слова не знал по-французски, но это не помешало ему, стоя на плоту, торжественно произнести на языке галла долгую тираду, в которой я разобрал только поминутно повторяемое имя императора Хайле Селассие. Что уж он там сочинил, знают лишь сам Асеффа да шериф; во всяком случае суровый чиновник растерянно отдал честь, освободил нам путь задним ходом и возвратился к мысу, а мы взяли курс на ближайший залив.
Остров был изумительно красив. Яркая зелень, пологие холмы, аккуратные кукурузные поля... В заливе голые ребятишки удили рыбу, сверху спускались к причалу женщины с кувшинами на голове, в платьях из домотканой материи, навстречу им поднимался мужчина, неся на плече свою папирусную лодку. Кругом сновали куры, порхали красочные птицы. На открытом гребне холма примостилась чистенькая деревушка, горстка хижин с конической соломенной крышей, стены – из камня и обмазанного глиной плетня, расписанные незамысловатым узором. Около большинства хижин сушились на солнце остроносые лодки, где одна, где две, а то и три. Нас учтиво пригласила к себе в дом симпатичная супружеская чета и предложила свежего кукурузного пива айдар. Его звали Дагага, ее – Хелу. В доме было уютно и чисто.
На утрамбованном глиняном полу стоял ткацкий станок и большие запечатанные кувшины. На каркасе стен висели калебасы и нехитрые орудия труда, постелью служили шкуры, подушкой – кривая деревянная скамеечка вроде древнеегипетских. Дагага и Хелу жили без забот, вещей у них было очень мало, зато бездна времени, чтобы получать от них радость. Нет холодильника, зато нет и счета за электричество. Нет автомобиля, но ведь и спешить некуда. Они отлично обходятся без того, чего у них нет, и что мы привыкли считать необходимым. И у них есть все, что им необходимо и чем охотно обходимся мы, расставаясь с городом на время долгожданного отпуска. Когда наш современный мир вскорости проникнет к ним, они многое у нас переймут, а мы у них – ничего, но это будет бедой и для них, и для нас, ведь обе стороны считают, что умнее, лучше, счастливее мы, раз у нас больше всякой всячины. Так ли это?
Пока я философствовал, сидя на холодке у двери, красавица Хелу с мудрыми глазами потчевала незнакомых гостей. Дагага сидел и поглаживал козленка, от души радуясь, что может угостить нас пивом и жареной кукурузой. До чего же вкусно! И до чего хорош вид из двери на зеленые холмы. Вот бы, лежа на шкурах, полюбоваться озером на закате, когда пойдут домой последние папирусные лодки... В эту минуту что-то сверкнуло на горизонте, потом донесся глухой рокот. По небу ползли черные тучи. Кинокамера! И все наше имущество в незастегнутой палатке на том берегу!.. Надо поторопиться, если мы хотим пересечь озеро до грозы. Солнце склонилось совсем низко. Я глянул на свои часы: ого! В доме Хелу и Дагаги часов не было, время здесь не дефицитный товар и нет нужды его мерить.
Мы сбежали вниз по склону и оттолкнули от причала папирусный тримаран. И вот уже остров уходит назад, растворяясь в вечерней мгле. Последнее, что мы видели, раньше чем дождь все заслонил, были тусклые огоньки на гребне холма. Наши лакские друзья, надежно укрытые в своих уютных хижинах, зажгли фитили масляных светильников...
Наступил маскал, главный коптский праздник, когда все эфиопы-христиане празднуют так называемое «открытие истинного креста». С нашего утеса мы видели большие костры на островах. Мы собирались еще раз навестить лаки, расспросить их о папирусных лодках, но не тут-то было. В этот день ни одна лодка не вышла на озеро. На следующий день мы увидели две лодки с рыбаками, но они держались вдали от берега. Может быть, им так велел шериф, чтобы избежать повторных визитов.
Мы погрузились в джип и покатили обратно. Ориентироваться было нетрудно. Несмотря на прошедший ливень, отпечатки наших колес сохранились. Мы уже приближались к ущелью, когда заметили между деревьями другой джип. Он тоже ехал по нашему следу, но навстречу нам. В машине сидели эфиопы. Выйдя из джипа, чтобы поздороваться, мы обратили внимание на одного из них, который был почти на голову выше остальных. На нем была роскошная ряса с шитьем, ниже косматой седой бороды на животе болтался огромный коптский крест на цепочке. Асеффа поцеловал крест и объяснил нам, что этот богатырь с благодушным лицом – глава эфиопской церкви, епископ Лука. Он направляется к озеру Звай, чтобы навестить своих единоверцев лаки. Епископ лукаво сказал, что знает способ вызвать лодки. И если мы сможем приехать на следующей неделе, он нас примет на главном острове – Девра Зионе. Но для этого надо спуститься к озеру с другой стороны, там есть небольшой лепрозорий, а при нем – пластмассовая лодка.
Возвращаемся в Аддис-Абебу. Нагружаем джип свежими запасами. Через несколько дней едем на юг по туристской магистрали вдоль западной кромки Рифт-Валли. Отсюда совсем просто спуститься к Звай, но в этом конце озера нет ни папируса, ни островов. Лепрозорий оказался закрытым, окна заколочены. Сидевший на крыльце галла с распухшими от слоновой болезни ногами сообщил нам, что лодку увезли на ремонт в Аддис-Абебу. А других лодок тут нет, только маленькие евелла, которые лаки вяжут из папируса.
Попытались проехать вдоль берега на север. Сплошное бездорожье. На юг... Заросшая тропа привела нас к монастырской школе. Школа тоже закрыта. Дальше путь нам преградила глубокая река. Сонный монах, кутаясь в рясу, сидел на траве и глядел на бегемота, который нежился у другого берега в тени могучих деревьев, высунув голову из воды. Ниже по течению начинались пороги.
Лодка? Откуда ей быть. Здесь никто не вяжет лодок: слишком много бегемотов, которые недолюбливают их еще с той поры, когда на них охотились люди с папирусных лодок. Автомобильная дорога? Нету. Здесь нету.
Возвращаемся к шоссе. Едем по нему на юг. Озеро Лангана среди каменистой равнины. Островов нет, папируса нет, шистозомы нет. Есть пляж, туристский отель, пиво, лимонад. Пластмассовая лодка? (Мы надеялись взять ее напрокат.) Увы. Она в Аддис-Абебе, ремонтируется. Едем обратно по шоссе. Ночь, тропический ливень. В деревне Ада-митуллу мы нашли приют. В дощатом сарае женщина галла торговала пивом и эфиопскими чебуреками. А во дворе за сараем мы увидели две конурки с постелями, ничем не огороженную выгребную яму и бочку с водой для тех, кто привык умываться.
Кинооператор приоткрыл дверь своей будки и просунул внутрь руку, в которой держал распылитель с дезинсекталем. Потом распахнул дверь настежь и вымел веником богатую коллекцию дохлых насекомых. Он так и уснул, лежа поверх покрывала с распылителем в руке. Я отыскал одного галла и поставил сторожить машину, снабдив его фонариком, затем вынес из своей будки все, оставил только голую железную кровать, и развел на полу костерок из взятых у хозяйки благовонных палочек. Всю ночь из окошка струился ароматный дымок.
Только я задремал, как в соседней конурке послышалось ругательство, и оператор с грохотом выскочил на волю и исчез в ночи. Утром я обнаружил его в нашем джипе, он лежал поверх багажа, свернувшись калачиком. Мало того что его чуть не сожрали паразиты, он всю ночь глаз не сомкнул из-за какого-то человека, который все время светил ему в лицо. Сторож гордо доложил, что это он следил за тем, чтобы верзила, явившийся откуда-то среди ночи, ничего не стащил.
Этот сторож нас здорово выручил. Уроженец деревушки, лежащей у южной оконечности озера, он сказал нам, что туда очень легко проехать, он охотно покажет нам путь. С проводником и переводчиком мы покатили через рощи и перелески, пока не уперлись в уже знакомую нам порожистую речку, правда, в другом месте, здесь через стремнину было переброшено для перегона скота несколько кривых бревен, присыпанных камнями и землей. Дюйм за дюймом мы форсировали этот мост и покатили дальше по конным тропам, сухим руслам, просекам и глинистым полям от одной идиллической деревни галла к другой. Километр за километром нас сопровождали веселые ребятишки, они живо разбирали изгороди на нашем пути, засыпали камнями и сучьями канавы. Природа тут красивая, разнообразная, птиц словно в зоопарке. Галла к югу от Звай образуют свой замкнутый мир, ни о чем не просят, ничего не получают и не нуждаются ни в чем. Никто не вмешивается в их жизнь, никто им не докучает, никто их не совершенствует и не портит. Они привязаны к земле, и никому из них не приходило в голову связать себе лодку.
Продолжая движение, мы под вечер увидели совсем близко самый большой из островов лаки. Его зеленые вершины вздымались выше, чем холмы на берегу. И вот уже только широкий пролив отделяет нас от Девра Зиона, куда направлялся епископ Лука. Мы выехали на ровное поле, к очередному селению галла. Ни у кого не было лодки, зато все знали, что епископ Лука сейчас на острове. За ним приходила оттуда большая оболу – так лаки называют лодки из трех снопов папируса, связанных плугом. Мы до сих пор видели обычные, узкие лодчонки, которые опрокидываются при малейшем неверном движении. Лаки называют их шафат, галла – евелла.
Поблагодарив за информацию, мы съехали по крутому спуску к самой воде и сигналили до тех пор, пока к нам с той стороны не подошел какой-то любопытный лаки на маленькой шафат. До острова здесь было всего 2 километра, и мы попросили лодочника вернуться и передать, что мы приглашены епископом Лукой и нам нужна оболу. Вскоре кинооператор вместе с переводчиком и лакским гребцом уже сидел в широкой лодке епископа. Сам я уселся на обычной шафат, спина к спине с гребцом, который объяснил мне, что нельзя сгибать ноги в коленях и надо плотнее прижиматься к нему, чтобы не опрокинуться. Съемочную аппаратуру мы погрузили на другую шафат.
Моя лодка была кое-как связана полусгнившим лубом. Я оперся рукой, чтобы не сидеть в шистозомной воде, в ту же минуту две лубяные петли лопнули и шафат начал разваливаться. Гребцы не на шутку переполошились, все трое что-то кричали друг другу и нам на своем языке. На всякий случай соседи подогнали к нам свои лодки, хотя было очевидно, что спасаться у них, если наша лодка распадется, бесполезно, только опрокинемся все вместе.
Чувствуя, как мои штаны все глубже погружаются в теплую воду, где резвились микроскопические чудовища, я сидел будто вкопанный и судорожно сжимал руками стебли папируса, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Может быть, эти твари уже прокладывают себе путь через тонкую ткань шортов? Раньше до острова было рукой подать, теперь он вдруг отодвинулся куда-то страшно далеко. Никогда еще двадцать минут не казались мне такими долгими.
Когда мы вытащили на берег растрепанный сноп папируса, было очевидно, что этот шафат отслужил свой срок. Но мы добрались до Девра Зиона, а это все окупало.
От прибрежного папируса до скал внутри острова простирался поистине парковый ландшафт, на зеленых склонах высились старые деревья-исполины. Источенные ветрами утесы напоминали колонны и террасы разрушенного замка, который оброс цветущими кустами, лианами, кактусами и диковинными деревьями.
Мы шли очень быстро по горной тропе, не встречая ни полей, ни хижин, ни людей, лишь обезьян да многоцветных птиц. Наконец у наших ног простерлась глубокая долина в виде подковы. Ее ложе представляло собой сплошное зеленое болото с папирусом и зарослями камыша, в которых кишели длиннохвостые обезьяны и крупные болотные птицы.
От устья долины в озеро вдавалась песчаная коса, здесь мы застали епископа. Под его руководством два десятка лаки сооружали из только что срубленных сучьев нечто странное, больше всего похожее на двухэтажную клетку для птиц. Епископ Лука, явно удивленный нашим появлением, приветливо объяснил, что каркас обмажут глиной и получится дом для гостей с большой земли. Мы посмотрели на безлюдную заболоченную долину, на курящийся паром горячий источник, который впадал в озеро по соседству с косой.
А епископ тем временем уже развернул свои припасы и настаивал, чтобы мы ели его печенье и превосходные фрукты. Мы еще не успели опомниться от смущения, когда святой отец с тревогой в голосе добавил, что, закусив, мы сразу должны отправляться обратно, дескать, ночью озеро опасно из-за бегемотов. Мы ответили, что собираемся ночевать на острове. Ни в коем случае! При всей учтивости епископа Луки было очевидно, что ему не терпится нас спровадить.
– А пергаментные рукописи? Можно их посмотреть?
Рядом с епископом стоял высокий худощавый человек с орлиным носом, острой бородкой и проницательными глазами. Они посовещались и кивнули. Можно, только поскорей, сейчас нас проводят в церковь, а оттуда к лодкам.
Епископ быстро, но сердечно попрощался с нами, и так же быстро нам представили нашего проводника. Это был высокий спутник епископа, по имени Брю Мачинью, верховный вождь всех лаки, обитающих на пяти островах озера Звай, общим числом две с половиной тысячи. Следом за Брю, сопровождаемые вереницей его подданных, мы, тяжело дыша, затрусили вверх по склону между валунами и кактусоподобными деревьями. Подъем продолжался не один километр, наконец мы, совершенно измотанные, шатаясь на ходу, ступили на вершину острова. Отсюда открывался великолепный вид на озеро, соседние острова, дальний берег и горы. Прямо под нами, метрах в трехстах над озером, вырисовывались круглые соломенные крыши небольшой деревушки, прилепившейся на уступах склона. На самой вершине стоял сине-зеленого цвета квадратный домик из досок. Брю объяснил нам, что это новый монастырь и временная обитель епископа Луки.
Монах впустил нас в домик, и мы увидели на пыльной полке беспорядочную груду пожелтевших старинных рукописей и пергаментных книг. Брю гордо сообщил, что все это привезли с собой прадеды, пришедшие с севера много сотен лет назад. Я протянул руку наугад и вытащил огромную книгу длиной в полметра, с изумительно разрисованными страницами из кожи козлят. Картинки изображали древних патриархов в красочных облачениях и с крохотными ногами. Текст – черная с красными завитушками вязь непонятных эфиопских письмен – тоже смотрелся как произведение искусства. В любой библиотеке мира такая книга хранилась бы под стеклом в ряду самых дорогих реликвий.
Монах извлек откуда-то два огромных серебряных блюда с гравированным изображением апостолов – старинные изделия, также доставленные на остров предками. В эту минуту осмотр был прерван, нам напомнили, что пора бежать дальше, к причалу, скоро стемнеет. А мы хотели переночевать на Девра Зионе и всячески тянули время. Нельзя ли послать на другой берег шафат за продуктами и спальными мешками для нас? Это исключено. Никто из лаки не согласится возвращаться в темноте. Мы должны переночевать у галла, а завтра утром можем приехать опять.
Меня разбирало любопытство. Что тут такое происходит, почему никто из посторонних, кроме епископа Луки, не должен ночевать на острове? Начало смеркаться. Я шепнул несколько слов кинооператору и, когда все ринулись вниз по склону, незаметно спрятался за большим камнем. Вскоре вся компания исчезла и воцарилась тишина. Только ветер шелестел в листве, оттеняя мое одиночество. Я чувствовал себя так, словно сидел на крыше Африки. Вот наши лодки отчалили и пошли навстречу тени, ползущей но равнине. Озеро поглотило солнце, и поверхность воды превратилась в раскаленный металл. Медленно остывая, она стала темно-синей, потом почернела, а ночь уже катила дальше, через леса, горы и долы туда, где кончается земля.
Африка ночью... Исчезли во мраке круглые крыши, ничего не видно, только слышны какие-то странные звуки, сплетение тирольских трелей с религиозным песнопением. Было так темно, что я не рисковал трогаться с места. Лучше уж буду сидеть здесь, воспринимая мир на слух и на запах. Летучая мышь? Трава шуршит... Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Это был вождь Брю. Он молча взял меня под руку и повел, будто слепого, по невидимой тропе между огромными валунами и каменными террасами. Мы шли молчком, все равно мы не поняли бы друг друга без переводчика. На всем острове не было человека, с которым я мог бы объясниться.
Вождь знал тут каждый камень и следил в оба, чтобы со мной ничего не случилось.
Мы миновали первые хижины, прошли через две-три террасы и очутились перед домом собраний, который заметно выделялся своими размерами. Из низенькой двери падал наружу свет. Так вот откуда доносилось странное пение! Брю подвел меня к старейшинам, сидевшим на колодах и скамеечках у двери.
В плошке с растительным маслом горел фитиль, и глиняная штукатурка стен была расписана множеством огромных колышущихся мужских силуэтов. В глубине помещения стояли в ряд молодые женщины в белых одеяниях, они кланялись и ритмично хлопали в ладоши, одна выводила голосом переливы, остальные что-то монотонно пели. В полумраке за этими нимфами я разглядел круглые кувшины, такие большие, что в каждом свободно поместилось бы два человека. Несмотря на тлеющие головешки в глиняном очаге, дым не скапливался под высоким потолком, который покоился на столбе с распорками вроде зонтичных спиц.
Вместе с самым почтенным старцем, этаким белобородым Моисеем из Библии, меня и Брю посадили на резные скамеечки в полукруге мужчин. По эфиопскому обычаю, перед нами поставили столик, накрытый конической плетеной крышкой. Под ней лежали в два слоя огромные, мягкие, словно губчатая резина, лепешки с кусочками жареной рыбы и горкой коричневатого порошка, после которого обычный перец показался бы сахаром. Оторвал кусок лепешки – макни в этот порошок. Но прежде чем началась общая трапеза, каждый ополоснул пальцы в миске с водой. Брю старательно выбирал для чужестранца самые лучшие куски. И молчаливый перебежчик сразу ощутил себя почетным гостем. Под звуки необычного женского хора виночерпий наполнил наши кружки сперва сладким кукурузным пивом, потом крепчайшим самогоном. Мужчины оживились, зазвучали торжественные монологи на языке лаки. Один я сидел, как немой. Тут я вспомнил, что у меня на плече висит магнитофон... Не успели женщины устроить перерыв, как откуда-то полились тирольские трели. И не один мужчина поперхнулся пивом: только приложишься к кружке, в это время раздается твой собственный голос! В первую минуту воцарилось полное смятение, но затем магнитофон стал гвоздем вечера. С ним я превратился в чревовещателя, свободно болтал на языке лаки и громко хохотал, как будто понимал все шутки, все, что пелось и говорилось в доме собраний.
Наконец старейший встал в знак того, что пора расходиться по домам. К выходу потянулась вереница поющих женщин, и тирольский хор стал распадаться на отдельные голоса в ночи, смолкающие по мере того, как их обладательницы исчезали в своих хижинах.
Вождь взял меня под руку и отвел к себе. Его лачуга была устроена в точности, как дом собраний, только поменьше. В тусклом свете коптилки я различил несколько фигур, они свернули и вынесли покрывала, освобождая для меня единственную кровать, такую же, как древнеегипетские кровати в Каирском музее, с сеткой из узких кожаных ремней. Спорить было бесполезно, хозяева перетащили свои одеяла и подголовники в другую хижину, а мне знаком предложили располагаться на кровати, постелив чистые шкуры и домотканое покрывало. Пока я разувался, вождь велел своему сыну принести таз и вымыть мне ноги. Закончив омовение, мальчик отвесил глубокий поклон и облобызал пальцы моих ног, после чего ему и другим было велено покинуть дом. Поистине, на Девра Зионе еще живы библейские времена.
Я лег не раздеваясь, а Брю с женой затеяли вполголоса какое-то совещание. При этом они то и дело поглядывали на меня, как бы проверяя, всем ли я доволен, или они что-нибудь упустили. Не совсем понимая, что происходит, я вдруг заметил, что они стоят не одни, с другой стороны кровати смутно виднелась еще какая-то фигура. Скрытая столбом коптилка позволяла только различить, что это молодая женщина. Вот она чуть-чуть повернулась, и я рассмотрел очерченный тусклым светом красивый профиль. Наверное, одна из дочерей Брю... Наконец родители вышли, пригнувшись в дверях. Светильник был при последнем издыхании. Кажется, таинственная фигура исчезла? Нет, вон она по-прежнему стоит в ногах. Хорошее дело. Я занял кровать вождя, его сын вымыл мне ноги, теперь дочь исполняет роль ангела-хранителя... Вдруг я услышал, как чей-то далекий голос в ночи зовет меня. Это был кинооператор. Я не стал отзываться, боясь нарушить очарование. Но мой товарищ не унимался, голос его звучал все ближе, и вот он уже входит в комнату вместе с Брю и его женой. Кинооператор объяснил, что тревога за меня заставила его вернуться с переводчиком на остров на епископской оболу. Хозяева принесли кукурузного пива и лепешки с рыбой, постелили новым гостям шкуры на полу.
Мы остались гостить у вождя еще на день и с помощью переводчика узнали все, что нас интересовало.
Папирус на Звай рос в труднодоступном месте, нечего было и думать о том, чтобы вывезти его в большом количестве. Только болота озера Тана могли нас выручить. Но мы выяснили на земле лаки еще кое-что. Лакские шафат и оболу скорее походили на лодки Чада, Мексики и Перу, чем на связанные эфиопскими сородичами лаков танкуа с озера Тана. Лаки вяжут лодки из папируса не потому, что на озере нет леса, напротив, древесину здесь заготовить легче, чем папирус. Еще мы убедились в том, что не всякий народ, обосновавшись на берегу озера, непременно начинает делать папирусные лодки. Это явствовало уже из того, как сложно нам было попасть на острова из области галла. Искусство вязания лодок из папируса передавалось по наследству. Это древний обычай, который сопровождал определенные народы в их скитаниях. Однако лаки отмечали тот же недостаток, что монахи озера Тана: папирусные лодки надо каждый день вытаскивать на берег и просушивать. Если оболу или шафат оставлять в воде, она придет в негодность через восемь – десять, самое большее четырнадцать дней.
Уезжая назад в Египет, я колебался. Стоит ли отваживаться на такой лодке пересекать Атлантический океан?
Чтобы связать лодку, нужен материал. Мне нужен был необычный материал – папирус. Где он есть? На озере Чад. Но сердце Африки не связано с внешним миром никакими артериями, ни рекой, ни шоссе, ни железной дорогой. Самолет? На нем можно вывезти мастеров, но не вывезешь столько папируса, сколько надо для большой ладьи. Да и как его доставишь из Бола до аэродрома в Форт-Лами?
В Египте? Ну конечно же. На каменных стенах гробницы фараона нарисованы лодки из папируса. Камень и папирус. Камень в пустыне, папирус по берегам Нила. Природа даровала древнейшим жителям Нильского поречья камень и папирус. Да еще ил с Эфиопских гор, который откладывался на берегах реки. Ил кормил крестьянина, из папируса вязал себе лодку рыбак, камень нужен был фараону, беспокоившемуся о своей загробной жизни. На бумаге из папируса ученые-египтяне записывали события древнейшей истории человечества. На папирусе перевозили камень, на камне увековечивали папирусную лодку. Цветок папируса – обычный мотив в искусстве Древнего Египта. Он служил государственным знаком Верхнего Египта, и в одном из мифов птицечеловек Гор, сын солнечного бога Ра, связывает его вместе с цветком лотоса Нижнего Египта, объединяя весь Египет в одно царство.
Если вам нужен бальсовый плот, делайте, как делали инки: отправляйтесь в лесные дебри Эквадора и срубите стволы, полные природного сока. Если вам нужна папирусная лодка, делайте, как делали люди фараона: отправляйтесь на заболоченные берега Нила и нарежьте зеленого папируса. Когда фараону нужна была лодка, задача решалась просто. К его услугам были вооруженные многовековым опытом искуснейшие корабелы, которые знали все о папирусе и папирусных ладьях, он имел сколько угодно рабочих рук, и строительный материал рос в изобилии прямо у ворот его дворца. Заросли папируса тянулись по обоим берегам Нила на десятки километров от Средиземного моря на юг, в глубину страны. Но так было при фараонах.
– Теперь в Египте папирус больше не растет, – объяснил мне Жорж Сориал, египетский аквалангист, знающий Нил как свои пять пальцев. – Камня предостаточно, если тебе захочется построить пирамиду, но папируса не наберется даже на игрушечную лодку.
И он подвел катер поближе к берегу, чтобы я мог убедиться в его правоте.
Множество парусов скользило вверх и вниз по Нилу между пальмами, песчаными отмелями и возделанными полями, но ни один золотоволосый стебель папируса не склонял больше своей косматой головы над бурой нильской водой, чтобы покрасоваться перед зеркалом. Папирус перевелся в Египте еще в прошлом веке. Никто не знает, почему. Боги забрали обратно один из своих древних даров, буквально выдернули его с корнем. Камень есть – остались горы, остались пирамиды, но ила тоже поубавилось с появлением плотин. И вместе с папирусом с берегов Нила исчез последний египтянин, который владел искусством строить папирусные лодки.
Мы странствовали по живописному Нильскому поречью верхом на конях и верблюдах, на автомашинах, поездах и катерах. Приходили на рыбачьи шаланды и грузовые баржи, сидели под солнцем на серых досках и ели арабские лепешки с липнущим к палубе мягким сыром, надеясь получить какие-то сведения от речников, которые не знали, что такое обувь, и редко сходили на берег. Они родились на борту, и все: жена, дети, скот, скарб – находилось тут же. Сто раз чиненная деревянная лодка с каютой-шатром – родной дом нильского рыбака, его деревня, его мир. И мы немало узнали от них. О том, как люди ухитряются жить в трудиться там, где, казалось бы, и повернуться-то негде. Как стряпают на легковоспламеняющейся палубе над глиняным очагом. Как заготавливают провиант, который не боится никакого солнца. Но о папирусе они нам ничего не могли рассказать, тут скорее мы их могли поучить. Рыбаки в жизни не видели папирусного цветка, не видели даже маленького пучка этой травы, посаженного для туристов у фонтана перед входом в Каирский музей. Они не заходили внутрь гробниц. И отцы им не говорили, что некогда по Нилу ходили совсем другие лодки, а не те, на которых они сами выросли.
Однако Нил велик. Он тянется на юг через Египет и Судан до своих истоков в Уганде и Эфиопии. И вот там-то, по берегам озер в его верховьях, папирус уцелел. Я услышал даже, будто бы он там растет так же пышно, как на озере Чад.
Должно быть, древние любили странствовать по свету, ведь многие из фараонов, правивших Египтом, родились в далекой Эфиопии, где начинается Голубой Нил. Но в средние века нильский путь был забыт, и легенда помещала истоки великой реки в таинственных, неведомых Лунных горах. Лишь после того как европейцы во времена Колумба тоже пустились в странствия, итальянцы и португальцы вновь открыли верховья Нила. И люди нашей эпохи узнали, что Голубой Нил вытекает из озера Тана, лежащего высоко в горах Эфиопии. В Марокко и на Сицилии тоже есть папирус, но очень мало, на большую ладью сразу не соберешь.
Итак, отправляйся за папирусом к истокам второй по длине реки земного шара; позавидуешь фараонам... К тому же в Судане были какие-то осложнения, и власти косо смотрели на туристов, да еще таких, которые уверяли, что цель их поездки – связать лодку из цветков папируса! Зато Эфиопия не стала чинить препятствий, и рейсовый самолет доставил нас в Аддис-Абебу, столицу древнего королевства, расположенную на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, посреди зеленого нагорья с россыпью желтых цветов.
Моим спутником был начинающий кинооператор, итальянец Тоси, худой и такой долговязый, что мы насилу втиснули его в маленький самолет местной линии, который ходит на озеро Тана. И вот уже нас качает на воздушных ухабах над зелеными холмами Эфиопии. Внизу на склонах и вершинах жались в кучу живописные круглые соломенные хижины. Долго ландшафт напоминал волнистую, всех оттенков зелени площадку для игры в гольф. Потом пошли изборожденные ущельями горы. На дне глубоких диких каньонов пенились белые ручьи. А вот и верхнее течение Нила – красно-бурая лента на дне судорожно извивающейся теснины между обрывистыми скалами. Эти извивы были словно рисуночное письмо самой природы, повествующее о том, как древняя река в союзе с всесильным временем тысячелетиями вгрызалась в горный массив, выплевывая пережеванные ею скалы Эфиопии в виде миллионов тонн ила на засушливые равнины Судана и Египта. С незапамятных времен Нил без устали перемалывает горы Эфиопии в удобрение для полей Египта. Вот уж подлинно исторический ландшафт, ведь из этих борозд возникла почва, питавшая один из корней мировой культуры.
Мои размышления были нарушены. Пилот взял ручку на себя, самолет резко пошел вниз и чуть не сбрил крылом макушки деревьев на скальном ребре в одном из зигзагов реки. Нил исчез, мы видели только деревья и скалы. И в ту же секунду вдруг услышали со всех сторон громоподобный гул, в котором совершенно тонул рокот мотора. Руки вцепились в сиденье, живот стал невероятно тяжелым, дыхание на миг остановилось. Тут же впереди снова показалось русло Нила, но это была картина безумного хаоса. Великая река была разорвана поперек во всю свою ширину и могучей стеной уходила отвесно вниз. Впереди нас, по бокам, вверху, внизу падали с уступа на уступ беснующиеся белые каскады, вода бурлила, рокотала, кипела, пенилась, курилась. Мрачные утесы заслонили солнце...
Ручку на себя, нас вдавило в кресла, высотный руль вкупе с сильной восходящей струей воздуха бросил машину вверх, мы влетели в изумительную радугу на фоне голубого неба и пронеслись над самым краем бушующего кратера, там, где идущий нам навстречу лоснящийся поток, как бы надломившись, обрывался в пропасть. И опять под нами Нил, но уже этажом выше, волшебно изменившийся – бурого цвета, степенный, неторопливый, неслышный. И никаких круч или барьеров, ровное зеленое плато, ничем не заслоненный вид на отлогие холмы, блестящую воду и вечнозеленый лиственный лес.
– Хотите еще раз посмотреть? – спросил летчик. Не дожидаясь ответа, он развернулся, прошел над обрывом и опять бросил машину вниз, в клокочущее ущелье.
– Водопад Тиссисат, – бесстрастно сообщил он, когда остался позади оглушительный рев. – Здесь Нил срывается отвесно вниз с плато. Местные называют водопад Тис Аббай. Аббай – имя Нила, а «тис» означает «дым». Получается «курящийся Нил».
Мы обернулись – в самом деле, там, где великий Нил исчезал в преисподней, к безоблачному небу, словно дым исполинского костра, поднималась завеса из мельчайших капелек.
Самолет приземлился в Бахар-Даре, и вскоре мы уже снимали тот же водопад с земли. Здесь пролегала грань между двумя мирами – или этажами двухэтажного мира. Мы знали, что совсем близко люди по-прежнему, как во времена фараонов, плавают на папирусных лодках: всего один дневной переход отделяет Тиссисат от озера Тана, в котором берет начало Голубой Нил и на котором мы рассчитывали найти папирус в неограниченном количестве.
И вот мифические Лунные горы, вот начало реки, и серебряная с чернью гладь озера Тана отражает вечерние тучки, контуры гор и макушки деревьев. В заливе что-то двигалось, словно какие-то животные с загнутым вверх хвостом беззвучно пересекали серебристую дорожку. Нырнут в тень – пропадут, выйдут опять на отливающий серебром клин – отчетливо видно длинные силуэты. Я насчитал шесть силуэтов; шесть папирусных лодок бесшумно скользили по воде там, где два лесистых мыса сдавливают озеро Тана и рождается поток, который медленно катится к водопаду.
На каждой лодке сидели люди – где один, где двое, где трое, – и гребли тонкими шестами, как двухлопастным веслом. Может быть, они ловили рыбу в протоке, а может быть, просто тешились на досуге, бороздя тихие струи, с которых начинается Нил. Пониже чья-то лодка лихо неслась по белым перекатам в опасной близости от могучего водопада, но черный гребец искусно вывел легкое суденышко из бурлящей стремнины и пошел обратно к озеру, держась в тени у самого берега.
Лунные горы. Горы, вздымающиеся к Луне. Так рисовался здешний край путешественникам средневековья, карабкавшимся вверх с берегов Красного моря или с египетских равнин. Озеро Тана лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря, а горы кругом достигают 3-4 тысяч метров. Озеро большое – с одного берега другой не видно. На нем нашли себе приют черные монахи. Лесистые острова стали их обителью, и сотни лет только папирусная лодка связывает их с внешним миром.
Хотя уже смеркалось, я даже на таком расстоянии рассмотрел интересную особенность здешних лодок. Если на кадай на уединенном озере Чад корма обрезана прямо, и только нос загнут вверх красивой дугой, то папирусная лодка, дожившая до наших дней в истоках Нила, сохранила исконную египетскую форму. Не только нос, но и корма изогнута вверх, причем ахтерштевень еще загибается внутрь, образуя характерный древнеегипетский завиток. И в этот тихий вечерний час я мысленно перенесся вниз по течению Нила, перенесся в далекое прошлое, когда занималась безмятежная заря истории.
Краешек тропического солнца провалился за далекие лесные кроны, и свет медленно померк, как в кинозале. Горы и озеро, скрывшись во тьме, растворились во времени. Теплый ночной ветерок принес сладкий запах благовоний и веяние нетленных тайн – дыхание островов, где календарь застыл на месте, где в наши дни живет средневековье, лелеемое и сберегаемое монахами, которые пронесли сквозь столетия образ жизни, одежду, ритуалы и веру, доставленные сюда их святыми предшественниками в ту далекую пору, когда средневековье для всех еще было явью.
Хотя на островах высятся могучие деревья, монахи по сей день не делают ни долбленок, ни дощанок. Предки провели папирусную лодку из седой древности в средневековье, потомки невозмутимо ведут ее дальше, в атомный век. Вот мы и приехали к ним за наукой: им ли не знать, как вяжут папирусные лодки и где найти нужное нам количество папируса!
Откуда пришли учителя черных монахов? Древние народы, обитавшие в разных концах Нила, делились друг с другом не только папирусными лодками и фараонами. Зарождающееся христианство проникло в Эфиопию из Египта за тысячу лет до того, как в спячке средневековья заглохли естественные связи между равнинами в устье Нила и нагорьем в его истоках. Уже около 330 года, задолго до прихода христианского учения на север Европы, в Эфиопии распространилась коптская вера. Первые христиане поселились севернее озера Тана, в древнем королевстве Аксум высоко в эфиопских горах. Позже многие из них бежали от преследований на юг, на затерявшиеся в просторах озер Тана и Звай острова. Черные монахи, нашедшие убежище на Тане, живут там уже семьсот лет, а преемственность обеспечивают, привозя на своих папирусных лодках молодежь с побережья.
Чтобы познакомиться с монахами и разведать участки папируса, мы взяли напрокат железную моторку с папирусной лодчонкой на буксире. Один предприимчивый итальянец привез две таких моторки на Тану и конкурировал с ладьями из папируса, забирая зерно на мелких пристанях и доставляя его на два центральных базара в северной и южной частях озера.
Густой лес покрывал откосы первого острова, к которому мы подошли, корни деревьев переплелись даже в воде. Мы протиснулись к суше на папирусной лодчонке и спрыгнули на берег под сень листвы. Между стволами начиналась узкая тропка, здесь стояли два монаха, словно поджидали нас. В длинных облачениях с опущенным клобуком, босые, темно-коричневая кожа, черная борода. Придерживая рукой коптский крест на груди, они молча поклонились и учтивым жестом указали нам путь к стоящей наверху часовне.
У солнечной стены сушились поставленные на ребро папирусные лодки, лежали снопы сухого папируса. Часовня стояла в высшей точке острова, такая же, как разбросанные по откосу скромные лачуги монахов, только размером побольше. Круглая постройка из жердей под толстой соломенной крышей конусом.
Раздались низкие мелодичные звуки гонга – подвешенной каменной плиты, по которой колотили дубинкой, и к часовне потянулись монахи. Красивые, статные люди, как большинство эфиопов: темная кожа, чеканное лицо, орлиный нос, острая черная бородка. Тут и юноши, и зрелые мужи, и согбенные седобородые старцы. Все в грубых облачениях, босые или в открытых сандалиях; я приметил несколько апатичных, изможденных лиц. Кормились эти бедняки тем, что им давали жалкие клочки земли, да рыбой из озера. Дни проходили в молитвах, псалмопениях и раздумье.
Нас приняли как желанных гостей; можно было надеяться, что мы здесь получим важные сведения. Два старика в чалмах приволокли похожие на бочонок барабаны и, колотя по ним ладонями, затянули надтреснутыми голосами диковинные церковные песни, явно унаследованные от древнейших эфиопских христиан. Должно быть, так же пели учредители их церкви, когда пришли сюда из королевства Аксум.
Остров называется Ковран Гавриил, и архангел Гавриил богатырского роста, с мечом в руке встретил нас, когда монахи предложили нам войти в их часовню с соломенной крышей. Его изображение, обрамленное многокрасочными библейскими сценами, украшало своего рода алтарь, который занимал всю среднюю часть часовни от пола до потолка, оставляя круговой проход вдоль стен с выходами на все стороны. По этому принципу устроены все коптские церкви на озере Тана.
Цветная роспись алтаря позволяла проследить всю библейскую историю. По словам монахов, которые подтверждаются очаровательно наивной трактовкой, алтари были расписаны лет двести-триста назад, а то и раньше. На картинке, изображающей, как фараон со своим египетским войском тонет в Красном море, только блестящие рыцарские шлемы и ружейные дула торчат из воды...
Нас попросили разуться у входа в часовню, и когда мы вышли, то вынесли с собой полчища блох, которые долго постились на церковных коврах. Я еще легко отделался, а вот порывистые движения кинооператора говорили о том, что передовые блошиные отряды быстро добрались до его подмышек и головы. Бегом спустившись к лодке, он, к великому замешательству монахов, затеял что-то вроде стриптиза с дезинфекцией при помощи пульверизатора.
К тому времени я уже успелвыведать у монахов то немногое, что они могли рассказать о плавучести папируса. Хотя для этих островитян папирусная лодка то же, что для жителя пустыни лошадь и верблюд, никто из них не пользовался ею больше одного дня подряд. Походят день – непременно вытащат на берег и поставят ее сушиться, не то очень сильно намокнет. А намокший папирус хоть и не тонет, но грузоподъемность совсем не та. Чем больше лодка, тем дольше она сохраняет плавучесть, но чересчур большие делать нет смысла, слишком тяжело вытаскивать из воды и сушить.
Да, не густо.
Следующий остров назывался Нарга. Он был плоский, с папирусом в мелких заливах, но это растение нужно было самим монахам для пополнения своего флота. Они говорили, что папирус как-никак гниет; сколько ни просушивай лодки, раз в год приходится вязать новые. А в старинной каменной башне сидел монах, который вообще ничего не говорил. И не двигался с места. Только и видно темный силуэт на фоне облаков. Башня была построена царицей Ментуаб 250 лет назад, монах же уселся на верхней площадке лишь несколько лет назад, зато дал богу обет неподвижно просидеть там всю жизнь. До самой смерти. Его собратья смотрели на него как на живого святого.
Мы поспешили к соседнему острову, Дага Стефано, его лесистые взгорья высоко вздымаются над водой. Это самый священный остров на всем озере, до того священный, что ни одной женщине, будь она хоть царица, не дозволяется сходить здесь на берег. Последний раз такая попытка была сделана 250 лет назад. Царица Эфиопии Ментуаб со своей свитой подошла к острову на большой папирусной лодке, но ее учтиво спровадили. И пришлось ей продолжить путь до Нарга, где она и соорудила храм и башню.
Дага Стефано благодаря пышной растительности очень красив. На вершине острова между древесными кронами мы различили соломенную крышу с крестом. У единственного причала стоял на страже оборванный монах с явными признаками слоновой болезни; к деревьям позади него были прислонены маленькие папирусные лодки. Волнуясь, мы ступили на священные камни: что последует? Но монах позволил нам осмотреть лодки и не стал нас останавливать, когда мы пошли по широкой тропе вверх. Могучие деревья, соломенные лачуги, монахи... Немые поклоны, рот бормочет молитву, рука придерживает маленький крест... Папирус? Они дружно показали через озеро. Вон там. Там его сколько угодно. Они сами его там берут. Сколько держится на воде? Восемь дней. От силы две недели. К тому времени он, если не затонет под тяжестью груза, все равно сгниет и развалится на волне. Папирус надо сушить. Вытаскивать лодки на берег. Больше они ничего не могли нам сказать.
В храм нас не пустили. Его овальные стены из камня, бамбука и соломы грозили вот-вот рассыпаться. Но рядом было что-то вроде каменного грота с множеством реликвий. Два улыбающихся монаха любезно ввели нас в этакий кабинет ужасов. В полумраке на полках лежали белые черепа, старинные кресты и священные предметы, принадлежавшие покойным отцам церкви. Главной святыней были накрытые материей длинные стеклянные гробы. Покрывала сдвинули, и мы увидели мощи, бальзамированные тела четырех эфиопских царей со скрещенными на груди руками. Здесь, на священном острове, они обрели вечный покой. Их привезли сюда на папирусных лодках через бурное озеро Тана, как некогда траурные процессии сопровождали мумии фараонов по тихому Нилу.
Выйдя из темного грота на волю, мы устроили монахам маленький сюрприз: они услышали собственные голоса, записанные на портативном магнитофоне. Другим тоже захотелось услышать себя. И вот все монахи сидят в ряд на широкой лестнице и хором поют в микрофон. Звучат древние коптские псалмы. Я сижу на корточках перед ними и регулирую запись. Позади меня стоит долговязый кинооператор, согнувшись в три погибели над штативом. Вдруг я услышал страшное ругательство, от которого стрелка индикатора на магнитофоне ударилась в край шкалы, после чего откачнулась на ноль и застыла. Монахи закрыли рты и вытаращили глаза. Я обернулся и увидел, что мой итальянский товарищ исполняет какой-то лихой воинственный танец. Штатив он уже сшиб ногой и теперь торопливо стаскивал с себя рубаху. Отбросив ее, он взялся за брючный ремень.
– Стой! – яростно прошипел я. – Ты что, рехнулся?!
Мои слова не возымели никакого действия. Штаны последовали за рубахой, и Тоси, завершив стриптиз, обеими руками схватился за корму.
– Оса! – вопил он. – У меня в штанах оса!
Эх, оператор, оператор, так испортить нам последние минуты на острове Дага Стефано. Я не мог его простить, хоть и жалко было смотреть на беднягу, который не был в состоянии даже сидеть, когда мы вернулись в моторку. Монахов с лестницы как ветром сдуло, осталось лишь несколько человек; впрочем, они с признательностью приняли от нас скромную лепту в благодарность за содействие и во искупление греха, совершенного кинооператором.
В общем визит к черным монахам нас огорчил. Послушать их, так главное – делать папирусную лодку поменьше, чтобы легче было вытаскивать ее на берег и просушивать. Не очень-то это подходит для Атлантического океана... Как только лодка освобождалась, ее немедленно выносили на берег.
Чтобы упростить сушку, лодки побольше здесь делают из двух частей, которые можно выносить на берег отдельно: тонкий, так сказать, корпус с загнутыми вверх носом и кормой, а внутри корпуса – пригнанный к нему толстый папирусный матрац. Чадские кадай куда массивнее. Если монахи озера Тана стараются делать лодки легкими, ревностно сохраняя исконную древнюю форму, то для будума на озере Чад важнее всего капитальность конструкции.
Идя дальше через озеро, мы миновали несколько островков, ставших вотчиной бегемотов. Наше появление вызвало переполох, могучие звери, покинув свою обитель, погружались в воду и выныривали около нас. Нам объяснили, что они ненавидят папирусные лодки и всегда норовят их опрокинуть, потому что с таких лодок исстари били гарпунами бегемотов. Но когда мы столкнули в воду нашу папирусную лодчонку, бегемоты, окружив ее со всех сторон, только фыркали и таращили любопытные глаза.
В юго-западной части озера, где берег едва выдается над водой, раскинулись обширные заросли папируса.
В одном месте сквозь папирус пробивается мутный поток, и по озеру словно расплывается бурая краска. Здесь в Тану впадает речушка, ее устье сразу и не отыщешь в густом папирусе, где прячется много крупных болотных птиц. И так как озеро питает Голубой Нил, эту речку назвали Малым Нилом.
Как правило, Малый Нил настолько мелок, что на моторке по нему можно пройти всего несколько сот метров, но необычно высокий уровень воды позволил нам подняться вверх по реке до маленькой деревушки племени абайдар, лежащей в 3 километрах от озера. При появлении нашей моторки из крытых соломой круглых хижин высыпали на берег местные жители. Как нам объяснил Али, впервые одна из двух принадлежащих его итальянскому боссу моторок зашла в Малый Нил.
Встречающие спустили на воду лодки из папируса, сушившиеся возле хижин, и направились к нам, кто на веслах, кто толкаясь шестом. Самые маленькие здешние лодочки – по сути дела, поплавки, смахивающие на бивень слона; нам сказали, что они называются коба. Вяжут и применяют их точно так же, как в Центральной Африке, в Южной Америке и на острове Пасхи. Лодка побольше на одного человека, называется тароча, а наиболее обычная для Таны разъемная лодка на двух и больше гребцов – танкуа. Мы видели танкуа с экипажем в девять человек, но нам говорили, что есть лодки, на которых перевозят через озеро до 2-3 тонн зерна. Был случай, сильный ветер унес груженую танкуа, и она целую неделю дрейфовала по озеру, прежде чем ее удалось пригнать к берегу, даже зерно успело прорасти.
Абайдары, как и черные монахи, считали, что две недели – крайний срок, после которого танкуа, пропитавшись водой, неизбежно развалится. Корпус этой лодки настолько тонок, что она извивается на малой волне, будто змея.
Все это подтверждало мои первые впечатления. Хотя танкуа с загнутой вверх кормой больше похожи на лодки древнего Египта, чем чадская кадай, они уступают ей в прочности. И поскольку в нынешнем Египте нет ни папируса, ни строителей папирусных лодок, напрашивалось решение: взять папирус с озера Тана, строителей – с озера Чад, а образец для задуманной мной реконструкции – с древнеегипетских фресок.
Ночью разразилась жуткая гроза. Мы привязали моторку за дерево на берегу и накрылись папирусной лодкой. Гром гремел так, как это бывает, когда низкие тучи идут над самой водой. Ослепительный блеск молний и оглушительные залпы говорили о том, что центр грозы над нами. Молнии били в озеро, ударяли в берег. Вспышка, удар грома, толчок воздушной волны – и совсем рядом с нами раскололось огромное дерево! Дождь лил как из ведра. Наше имущество плавало в лодке вместе с дневным уловом рыбаков. А кинооператор крепко спал, в такую погоду он был избавлен от необходимости сражаться с насекомыми.
...На самом юге Эфиопии, с севера на юг параллельно Красному морю, протянулась в сторону Кении Рифт-Валли. Геологи полагают, что эта широкая долина, зажатая между двумя горными грядами, образовалась при медленном смещении Африки на запад за много миллионов лет. На дне рифта, словно бусины, лежат в ряд большие озера. На одном из них, озере Звай, вяжут папирусные лодки. Есть отличная автомобильная дорога, и большинство озер – излюбленное место отдыха; из столицы, Аддис-Абебы, сюда приезжают охотиться, ловить рыбу и купаться. Только Звай, хотя оно самое красивое, не посещается туристами. Сюда не доходит шоссе, и здесь растет папирус, прибежище улитки, в которой вырастает личинка шистозомы, гроза любителей купанья.
В Аддис-Абебе я встретил двух шведов, от которых кое-что узнал про Звай. Один из них, этнограф, изучал по литературе жителей тамошних островов. Другой – он кормится ловлей птиц в Эфиопии – сам побывал на озере.
Я взял напрокат джип, погрузил на него продукты и полевое снаряжение, мы покинули нашу базу в столице и помчались сперва по отличной, потом по хорошей, потом по посредственной и, наконец, по отвратительной дороге. Первый ночлег – у гостеприимных шведских миссионеров на высоком восточном склоне Рифт-Валли. На другое утро вместе с переводчиком – эфиопским учителем Асеффа – и «знающим дорогу» молодым парнем из племени галла мы двинулись дальше к озеру Звай.
Глубокое ущелье с порожистой рекой, секущее равнину к западу от озера, преградило нам путь, и в поисках переправы пришлось проехать 25 километров на юг по строящейся дороге, увязая в сыром грунте. Наконец мы пересекли реку по мощному каменному мосту, после чего километров пятьдесят ехали на северо-запад вовсе без дороги, где по конной, где по звериной тропе, где просто в просветах между редкими деревьями. Часто кому-нибудь из нас приходилось идти впереди джипа, отыскивая путь. «Проводник» сидел смирно, не раскрывая рта, а если и пытался что-то нам подсказать, то весьма неудачно. Дикие звери не попадались, зато мы видели много старых могильников. То и дело встречались нам галла – на плече копье, по пятам трусит собака. Хотели мы спросить у одного парня про дорогу, но он так перепугался, когда мы развернули джип в его сторону, что поднял копье для защиты, потом пустился наутек и мигом исчез среди акаций.
Вечерело, когда мы выехали на высокий утес, с которого открывается великолепный вид на восточный берег озера Звай и два ближних острова. На утесе стоял дощатый домик и большая палатка – шведская миссионерская поликлиника. Заведовала поликлиникой медицинская сестра, но она уехала в отпуск в Швецию, и мы застали только сторожа, живущего с семьей в шалаше по соседству. Он позволил нам разместиться в палатке.
От подножия утеса на юг и на север тянулись камышовые заросли, а на воде в лучах вечернего солнца поблескивало желтое зернышко: папирусная лодчонка возвращалась на свой остров.
День угас быстро, как и должно быть в восьми градусах от экватора. И тотчас начался спектакль. На деревьях тараторили обезьяны. Грузные бегемоты выбирались на берег и шли лакомиться кукурузой на поля. Все ближе и ближе скулили и выли гиены. Откуда-то с озера доносилась далекая барабанная дробь. Из палатки были видны костры на островах. Асеффа объяснил, что это копты готовятся встретить свой праздник маскал. Я вышел, чтобы полюбоваться всей панорамой, и у самых дверей наткнулся на две темных фигуры с копьями. Это сторож с одним из своих родичей пришел спросить, не хотим ли мы посмотреть на гиен, которые нашли околевшего мула и устроили пир.
Мы крадучись вошли в рощу. Где-то впереди звучали дикие вопли, тявканье, рычание, щелкали челюсти. В кустах со всех сторон сверкали, словно стоп-сигналы, бдительные глаза гиен. Но стоило мне включить фонарик, и обладатели глаз беззвучно улетучились, как будто по волшебству. Видно только лежащую на земле истерзанную тушу. Выключаю фонарик и жду. Опять кругом пара за парой вспыхивают глаза, опять зверье воет, скулит и рвет мясо, трещат кусты и сучья. Зажигаю фонарик... Половины туши как не бывало, осталась только передняя часть, да и та разодрана на куски. Мы поискали в кустарнике, идя по кровавым следам, но задние ноги мула канули в ночь.
На другое утро мы спустились к озеру. Маленькое кукурузное поле у подножия утеса подверглось за ночь основательному опустошению, вторгшийся сюда бегемот сжевал не одну сотню початков. Мы застали хозяина, когда он разгонял обезьян, которые задумали доесть то, что осталось после вылазки озерного исполина.
Вдали показалось несколько маленьких папирусных лодок, они шли от островов прямо к нам. Мы стояли там, где расчищенный в папирусе проход от причала встречался с тропой, спускающейся сверху. У нас были припасены топоры, веревки и два толстых сука в рост человека. Мы задумали один план и ждали, когда подойдут лодки.
Вот и они. Похожи на чадские: корма обрезана прямо, только нос заострен и изгибается кверху. Правда, совсем маленькие, на одного человека.
Островитяне пересекли озеро для меновой торговли с галла. Один привез буроватое кукурузное пиво в кувшине и в калебасе. У другого была свежая рыба. Подошел третий и начал вытаскивать свою лодку на берег. Мы перехватили их и предложили сделку. Взяв напрокат все три лодки, мы поставили их рядом и связали вместе. Только так можно было осуществить наш план и попасть на острова, к людям племени лаки. На всем озере Звай лишь они делают лодки, притом такие маленькие, что никто посторонний не может воспользоваться ими, чтобы проникнуть в древнее пристанище этого племени.
Лаки не состоят в родстве с галла, обитающими на берегах Звай. Галла – типичные африканцы, кормятся земледелием и скотоводством, они прочно приросли к суше, им в голову не приходило связать лодку или плот, чтобы выйти на озеро. А в жизни лаки папирусная лодка играет важную роль, ведь они не только земледельцы, но и рыбаки, и торговцы. Несмотря на черную кожу, лаки не негроиды, у них, как у большинства эфиопов, узкие лица, четкий рисунок которых наводит на мысль о жителях библейских стран. Как и монахи озера Тана, они пришли из области верховий Нила и принесли с собой искусство строительства лодок из папируса. Уже в 1520-1535 годах, они, спасаясь от гонений, после долгого странствия достигли Рифт-Валли и уединились на глухих островах озера Звай со всеми своими церковными сокровищами и древними коптскими рукописями. Мне говорили, что рукописи сохраняются до сих пор, ведь галла ни разу не смогли проникнуть на острова, несмотря на четырехвековую вражду с лаки. Правда, в последние годы розни пришел конец, наладилась меновая торговля, некоторые семьи лаки даже перебрались на берег, но по-прежнему на озере делают только такие лодки, что на них кроме гребца может поместиться от силы один человек. Да и то он рискует перевернуть тонкую связку папируса, если не будет сидеть тихонько, вытянув ноги вперед или свесив их по колено в воду.
Вот почему мы смотрели с торжеством на свое произведение – устойчивый плот из трех связанных вместе лодок. Мы уже собрали снаряжение и хотели занять места на плоту, чтобы переправиться на заманчивые острова, когда увидели, что один из лодочников потихоньку развязывает узлы. Объяснив Асеффе, что он пришел за дровами для большого праздничного костра, но теперь вспомнил, что самые хорошие дрова не здесь, а в другом месте, островитянин учтиво попрощался с нами и поспешно удалился на одной трети нашего тримарана.
Лишь под вечер нам удалось наконец зазвать еще одного лаки. Он шел вдоль камышей, забрасывая в воду небольшую сеть, и чуть не всякий раз в его сети трепетало живое серебро. Мы купили весь улов, двадцать одну тулуму с нежнейшим мясом, испекли на углях по рыбе на человека, а остальное вернули рыбаку. В нашу сделку с ним входил также прокат лодки, и на этот раз мы поспешили отчалить, как только связали плот. Он легко выдерживал вес троих пассажиров и кинокамеры с треногой, и Асеффа нерешительно присоединился к нам, когда я напомнил ему, что мне понадобится переводчик.
Берег был оторочен густыми зарослями низкого камыша, но папируса мы здесь не увидели. Небольшая волна заставила всех взяться за весла. Постепенно берег озера ушел вдаль, а над нами поднялись зеленые холмы ближайшего острова. Между деревьями на склонах отчетливо различались живописные круглые хижины из соломы. В это время из-за мыса вышла маленькая лодчонка и направилась прямо к нам. Верхом на папирусе, спустив ноги в воду, сидел суровый человек в похожем на мундир костюме защитного цвета. Умело работая веслами, он развернул свою лодку и стал поперек нашего курса. Асеффа сообщил, что этот человек называет себя не то шерифом, не то шефом острова Тадеча и требует, чтобы мы предъявили ему документы, прежде чем он пустит нас на берег.
Асеффа спросил, нет ли у меня какой-нибудь официальной бумаги. Я достал из нагрудного кармашка написанное по-французски письмо норвежского министра иностранных дел, адресованное властям Республики Чад. Асеффа ни слова не знал по-французски, но это не помешало ему, стоя на плоту, торжественно произнести на языке галла долгую тираду, в которой я разобрал только поминутно повторяемое имя императора Хайле Селассие. Что уж он там сочинил, знают лишь сам Асеффа да шериф; во всяком случае суровый чиновник растерянно отдал честь, освободил нам путь задним ходом и возвратился к мысу, а мы взяли курс на ближайший залив.
Остров был изумительно красив. Яркая зелень, пологие холмы, аккуратные кукурузные поля... В заливе голые ребятишки удили рыбу, сверху спускались к причалу женщины с кувшинами на голове, в платьях из домотканой материи, навстречу им поднимался мужчина, неся на плече свою папирусную лодку. Кругом сновали куры, порхали красочные птицы. На открытом гребне холма примостилась чистенькая деревушка, горстка хижин с конической соломенной крышей, стены – из камня и обмазанного глиной плетня, расписанные незамысловатым узором. Около большинства хижин сушились на солнце остроносые лодки, где одна, где две, а то и три. Нас учтиво пригласила к себе в дом симпатичная супружеская чета и предложила свежего кукурузного пива айдар. Его звали Дагага, ее – Хелу. В доме было уютно и чисто.
На утрамбованном глиняном полу стоял ткацкий станок и большие запечатанные кувшины. На каркасе стен висели калебасы и нехитрые орудия труда, постелью служили шкуры, подушкой – кривая деревянная скамеечка вроде древнеегипетских. Дагага и Хелу жили без забот, вещей у них было очень мало, зато бездна времени, чтобы получать от них радость. Нет холодильника, зато нет и счета за электричество. Нет автомобиля, но ведь и спешить некуда. Они отлично обходятся без того, чего у них нет, и что мы привыкли считать необходимым. И у них есть все, что им необходимо и чем охотно обходимся мы, расставаясь с городом на время долгожданного отпуска. Когда наш современный мир вскорости проникнет к ним, они многое у нас переймут, а мы у них – ничего, но это будет бедой и для них, и для нас, ведь обе стороны считают, что умнее, лучше, счастливее мы, раз у нас больше всякой всячины. Так ли это?
Пока я философствовал, сидя на холодке у двери, красавица Хелу с мудрыми глазами потчевала незнакомых гостей. Дагага сидел и поглаживал козленка, от души радуясь, что может угостить нас пивом и жареной кукурузой. До чего же вкусно! И до чего хорош вид из двери на зеленые холмы. Вот бы, лежа на шкурах, полюбоваться озером на закате, когда пойдут домой последние папирусные лодки... В эту минуту что-то сверкнуло на горизонте, потом донесся глухой рокот. По небу ползли черные тучи. Кинокамера! И все наше имущество в незастегнутой палатке на том берегу!.. Надо поторопиться, если мы хотим пересечь озеро до грозы. Солнце склонилось совсем низко. Я глянул на свои часы: ого! В доме Хелу и Дагаги часов не было, время здесь не дефицитный товар и нет нужды его мерить.
Мы сбежали вниз по склону и оттолкнули от причала папирусный тримаран. И вот уже остров уходит назад, растворяясь в вечерней мгле. Последнее, что мы видели, раньше чем дождь все заслонил, были тусклые огоньки на гребне холма. Наши лакские друзья, надежно укрытые в своих уютных хижинах, зажгли фитили масляных светильников...
Наступил маскал, главный коптский праздник, когда все эфиопы-христиане празднуют так называемое «открытие истинного креста». С нашего утеса мы видели большие костры на островах. Мы собирались еще раз навестить лаки, расспросить их о папирусных лодках, но не тут-то было. В этот день ни одна лодка не вышла на озеро. На следующий день мы увидели две лодки с рыбаками, но они держались вдали от берега. Может быть, им так велел шериф, чтобы избежать повторных визитов.
Мы погрузились в джип и покатили обратно. Ориентироваться было нетрудно. Несмотря на прошедший ливень, отпечатки наших колес сохранились. Мы уже приближались к ущелью, когда заметили между деревьями другой джип. Он тоже ехал по нашему следу, но навстречу нам. В машине сидели эфиопы. Выйдя из джипа, чтобы поздороваться, мы обратили внимание на одного из них, который был почти на голову выше остальных. На нем была роскошная ряса с шитьем, ниже косматой седой бороды на животе болтался огромный коптский крест на цепочке. Асеффа поцеловал крест и объяснил нам, что этот богатырь с благодушным лицом – глава эфиопской церкви, епископ Лука. Он направляется к озеру Звай, чтобы навестить своих единоверцев лаки. Епископ лукаво сказал, что знает способ вызвать лодки. И если мы сможем приехать на следующей неделе, он нас примет на главном острове – Девра Зионе. Но для этого надо спуститься к озеру с другой стороны, там есть небольшой лепрозорий, а при нем – пластмассовая лодка.
Возвращаемся в Аддис-Абебу. Нагружаем джип свежими запасами. Через несколько дней едем на юг по туристской магистрали вдоль западной кромки Рифт-Валли. Отсюда совсем просто спуститься к Звай, но в этом конце озера нет ни папируса, ни островов. Лепрозорий оказался закрытым, окна заколочены. Сидевший на крыльце галла с распухшими от слоновой болезни ногами сообщил нам, что лодку увезли на ремонт в Аддис-Абебу. А других лодок тут нет, только маленькие евелла, которые лаки вяжут из папируса.
Попытались проехать вдоль берега на север. Сплошное бездорожье. На юг... Заросшая тропа привела нас к монастырской школе. Школа тоже закрыта. Дальше путь нам преградила глубокая река. Сонный монах, кутаясь в рясу, сидел на траве и глядел на бегемота, который нежился у другого берега в тени могучих деревьев, высунув голову из воды. Ниже по течению начинались пороги.
Лодка? Откуда ей быть. Здесь никто не вяжет лодок: слишком много бегемотов, которые недолюбливают их еще с той поры, когда на них охотились люди с папирусных лодок. Автомобильная дорога? Нету. Здесь нету.
Возвращаемся к шоссе. Едем по нему на юг. Озеро Лангана среди каменистой равнины. Островов нет, папируса нет, шистозомы нет. Есть пляж, туристский отель, пиво, лимонад. Пластмассовая лодка? (Мы надеялись взять ее напрокат.) Увы. Она в Аддис-Абебе, ремонтируется. Едем обратно по шоссе. Ночь, тропический ливень. В деревне Ада-митуллу мы нашли приют. В дощатом сарае женщина галла торговала пивом и эфиопскими чебуреками. А во дворе за сараем мы увидели две конурки с постелями, ничем не огороженную выгребную яму и бочку с водой для тех, кто привык умываться.
Кинооператор приоткрыл дверь своей будки и просунул внутрь руку, в которой держал распылитель с дезинсекталем. Потом распахнул дверь настежь и вымел веником богатую коллекцию дохлых насекомых. Он так и уснул, лежа поверх покрывала с распылителем в руке. Я отыскал одного галла и поставил сторожить машину, снабдив его фонариком, затем вынес из своей будки все, оставил только голую железную кровать, и развел на полу костерок из взятых у хозяйки благовонных палочек. Всю ночь из окошка струился ароматный дымок.
Только я задремал, как в соседней конурке послышалось ругательство, и оператор с грохотом выскочил на волю и исчез в ночи. Утром я обнаружил его в нашем джипе, он лежал поверх багажа, свернувшись калачиком. Мало того что его чуть не сожрали паразиты, он всю ночь глаз не сомкнул из-за какого-то человека, который все время светил ему в лицо. Сторож гордо доложил, что это он следил за тем, чтобы верзила, явившийся откуда-то среди ночи, ничего не стащил.
Этот сторож нас здорово выручил. Уроженец деревушки, лежащей у южной оконечности озера, он сказал нам, что туда очень легко проехать, он охотно покажет нам путь. С проводником и переводчиком мы покатили через рощи и перелески, пока не уперлись в уже знакомую нам порожистую речку, правда, в другом месте, здесь через стремнину было переброшено для перегона скота несколько кривых бревен, присыпанных камнями и землей. Дюйм за дюймом мы форсировали этот мост и покатили дальше по конным тропам, сухим руслам, просекам и глинистым полям от одной идиллической деревни галла к другой. Километр за километром нас сопровождали веселые ребятишки, они живо разбирали изгороди на нашем пути, засыпали камнями и сучьями канавы. Природа тут красивая, разнообразная, птиц словно в зоопарке. Галла к югу от Звай образуют свой замкнутый мир, ни о чем не просят, ничего не получают и не нуждаются ни в чем. Никто не вмешивается в их жизнь, никто им не докучает, никто их не совершенствует и не портит. Они привязаны к земле, и никому из них не приходило в голову связать себе лодку.
Продолжая движение, мы под вечер увидели совсем близко самый большой из островов лаки. Его зеленые вершины вздымались выше, чем холмы на берегу. И вот уже только широкий пролив отделяет нас от Девра Зиона, куда направлялся епископ Лука. Мы выехали на ровное поле, к очередному селению галла. Ни у кого не было лодки, зато все знали, что епископ Лука сейчас на острове. За ним приходила оттуда большая оболу – так лаки называют лодки из трех снопов папируса, связанных плугом. Мы до сих пор видели обычные, узкие лодчонки, которые опрокидываются при малейшем неверном движении. Лаки называют их шафат, галла – евелла.
Поблагодарив за информацию, мы съехали по крутому спуску к самой воде и сигналили до тех пор, пока к нам с той стороны не подошел какой-то любопытный лаки на маленькой шафат. До острова здесь было всего 2 километра, и мы попросили лодочника вернуться и передать, что мы приглашены епископом Лукой и нам нужна оболу. Вскоре кинооператор вместе с переводчиком и лакским гребцом уже сидел в широкой лодке епископа. Сам я уселся на обычной шафат, спина к спине с гребцом, который объяснил мне, что нельзя сгибать ноги в коленях и надо плотнее прижиматься к нему, чтобы не опрокинуться. Съемочную аппаратуру мы погрузили на другую шафат.
Моя лодка была кое-как связана полусгнившим лубом. Я оперся рукой, чтобы не сидеть в шистозомной воде, в ту же минуту две лубяные петли лопнули и шафат начал разваливаться. Гребцы не на шутку переполошились, все трое что-то кричали друг другу и нам на своем языке. На всякий случай соседи подогнали к нам свои лодки, хотя было очевидно, что спасаться у них, если наша лодка распадется, бесполезно, только опрокинемся все вместе.
Чувствуя, как мои штаны все глубже погружаются в теплую воду, где резвились микроскопические чудовища, я сидел будто вкопанный и судорожно сжимал руками стебли папируса, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Может быть, эти твари уже прокладывают себе путь через тонкую ткань шортов? Раньше до острова было рукой подать, теперь он вдруг отодвинулся куда-то страшно далеко. Никогда еще двадцать минут не казались мне такими долгими.
Когда мы вытащили на берег растрепанный сноп папируса, было очевидно, что этот шафат отслужил свой срок. Но мы добрались до Девра Зиона, а это все окупало.
От прибрежного папируса до скал внутри острова простирался поистине парковый ландшафт, на зеленых склонах высились старые деревья-исполины. Источенные ветрами утесы напоминали колонны и террасы разрушенного замка, который оброс цветущими кустами, лианами, кактусами и диковинными деревьями.
Мы шли очень быстро по горной тропе, не встречая ни полей, ни хижин, ни людей, лишь обезьян да многоцветных птиц. Наконец у наших ног простерлась глубокая долина в виде подковы. Ее ложе представляло собой сплошное зеленое болото с папирусом и зарослями камыша, в которых кишели длиннохвостые обезьяны и крупные болотные птицы.
От устья долины в озеро вдавалась песчаная коса, здесь мы застали епископа. Под его руководством два десятка лаки сооружали из только что срубленных сучьев нечто странное, больше всего похожее на двухэтажную клетку для птиц. Епископ Лука, явно удивленный нашим появлением, приветливо объяснил, что каркас обмажут глиной и получится дом для гостей с большой земли. Мы посмотрели на безлюдную заболоченную долину, на курящийся паром горячий источник, который впадал в озеро по соседству с косой.
А епископ тем временем уже развернул свои припасы и настаивал, чтобы мы ели его печенье и превосходные фрукты. Мы еще не успели опомниться от смущения, когда святой отец с тревогой в голосе добавил, что, закусив, мы сразу должны отправляться обратно, дескать, ночью озеро опасно из-за бегемотов. Мы ответили, что собираемся ночевать на острове. Ни в коем случае! При всей учтивости епископа Луки было очевидно, что ему не терпится нас спровадить.
– А пергаментные рукописи? Можно их посмотреть?
Рядом с епископом стоял высокий худощавый человек с орлиным носом, острой бородкой и проницательными глазами. Они посовещались и кивнули. Можно, только поскорей, сейчас нас проводят в церковь, а оттуда к лодкам.
Епископ быстро, но сердечно попрощался с нами, и так же быстро нам представили нашего проводника. Это был высокий спутник епископа, по имени Брю Мачинью, верховный вождь всех лаки, обитающих на пяти островах озера Звай, общим числом две с половиной тысячи. Следом за Брю, сопровождаемые вереницей его подданных, мы, тяжело дыша, затрусили вверх по склону между валунами и кактусоподобными деревьями. Подъем продолжался не один километр, наконец мы, совершенно измотанные, шатаясь на ходу, ступили на вершину острова. Отсюда открывался великолепный вид на озеро, соседние острова, дальний берег и горы. Прямо под нами, метрах в трехстах над озером, вырисовывались круглые соломенные крыши небольшой деревушки, прилепившейся на уступах склона. На самой вершине стоял сине-зеленого цвета квадратный домик из досок. Брю объяснил нам, что это новый монастырь и временная обитель епископа Луки.
Монах впустил нас в домик, и мы увидели на пыльной полке беспорядочную груду пожелтевших старинных рукописей и пергаментных книг. Брю гордо сообщил, что все это привезли с собой прадеды, пришедшие с севера много сотен лет назад. Я протянул руку наугад и вытащил огромную книгу длиной в полметра, с изумительно разрисованными страницами из кожи козлят. Картинки изображали древних патриархов в красочных облачениях и с крохотными ногами. Текст – черная с красными завитушками вязь непонятных эфиопских письмен – тоже смотрелся как произведение искусства. В любой библиотеке мира такая книга хранилась бы под стеклом в ряду самых дорогих реликвий.
Монах извлек откуда-то два огромных серебряных блюда с гравированным изображением апостолов – старинные изделия, также доставленные на остров предками. В эту минуту осмотр был прерван, нам напомнили, что пора бежать дальше, к причалу, скоро стемнеет. А мы хотели переночевать на Девра Зионе и всячески тянули время. Нельзя ли послать на другой берег шафат за продуктами и спальными мешками для нас? Это исключено. Никто из лаки не согласится возвращаться в темноте. Мы должны переночевать у галла, а завтра утром можем приехать опять.
Меня разбирало любопытство. Что тут такое происходит, почему никто из посторонних, кроме епископа Луки, не должен ночевать на острове? Начало смеркаться. Я шепнул несколько слов кинооператору и, когда все ринулись вниз по склону, незаметно спрятался за большим камнем. Вскоре вся компания исчезла и воцарилась тишина. Только ветер шелестел в листве, оттеняя мое одиночество. Я чувствовал себя так, словно сидел на крыше Африки. Вот наши лодки отчалили и пошли навстречу тени, ползущей но равнине. Озеро поглотило солнце, и поверхность воды превратилась в раскаленный металл. Медленно остывая, она стала темно-синей, потом почернела, а ночь уже катила дальше, через леса, горы и долы туда, где кончается земля.
Африка ночью... Исчезли во мраке круглые крыши, ничего не видно, только слышны какие-то странные звуки, сплетение тирольских трелей с религиозным песнопением. Было так темно, что я не рисковал трогаться с места. Лучше уж буду сидеть здесь, воспринимая мир на слух и на запах. Летучая мышь? Трава шуршит... Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Это был вождь Брю. Он молча взял меня под руку и повел, будто слепого, по невидимой тропе между огромными валунами и каменными террасами. Мы шли молчком, все равно мы не поняли бы друг друга без переводчика. На всем острове не было человека, с которым я мог бы объясниться.
Вождь знал тут каждый камень и следил в оба, чтобы со мной ничего не случилось.
Мы миновали первые хижины, прошли через две-три террасы и очутились перед домом собраний, который заметно выделялся своими размерами. Из низенькой двери падал наружу свет. Так вот откуда доносилось странное пение! Брю подвел меня к старейшинам, сидевшим на колодах и скамеечках у двери.
В плошке с растительным маслом горел фитиль, и глиняная штукатурка стен была расписана множеством огромных колышущихся мужских силуэтов. В глубине помещения стояли в ряд молодые женщины в белых одеяниях, они кланялись и ритмично хлопали в ладоши, одна выводила голосом переливы, остальные что-то монотонно пели. В полумраке за этими нимфами я разглядел круглые кувшины, такие большие, что в каждом свободно поместилось бы два человека. Несмотря на тлеющие головешки в глиняном очаге, дым не скапливался под высоким потолком, который покоился на столбе с распорками вроде зонтичных спиц.
Вместе с самым почтенным старцем, этаким белобородым Моисеем из Библии, меня и Брю посадили на резные скамеечки в полукруге мужчин. По эфиопскому обычаю, перед нами поставили столик, накрытый конической плетеной крышкой. Под ней лежали в два слоя огромные, мягкие, словно губчатая резина, лепешки с кусочками жареной рыбы и горкой коричневатого порошка, после которого обычный перец показался бы сахаром. Оторвал кусок лепешки – макни в этот порошок. Но прежде чем началась общая трапеза, каждый ополоснул пальцы в миске с водой. Брю старательно выбирал для чужестранца самые лучшие куски. И молчаливый перебежчик сразу ощутил себя почетным гостем. Под звуки необычного женского хора виночерпий наполнил наши кружки сперва сладким кукурузным пивом, потом крепчайшим самогоном. Мужчины оживились, зазвучали торжественные монологи на языке лаки. Один я сидел, как немой. Тут я вспомнил, что у меня на плече висит магнитофон... Не успели женщины устроить перерыв, как откуда-то полились тирольские трели. И не один мужчина поперхнулся пивом: только приложишься к кружке, в это время раздается твой собственный голос! В первую минуту воцарилось полное смятение, но затем магнитофон стал гвоздем вечера. С ним я превратился в чревовещателя, свободно болтал на языке лаки и громко хохотал, как будто понимал все шутки, все, что пелось и говорилось в доме собраний.
Наконец старейший встал в знак того, что пора расходиться по домам. К выходу потянулась вереница поющих женщин, и тирольский хор стал распадаться на отдельные голоса в ночи, смолкающие по мере того, как их обладательницы исчезали в своих хижинах.
Вождь взял меня под руку и отвел к себе. Его лачуга была устроена в точности, как дом собраний, только поменьше. В тусклом свете коптилки я различил несколько фигур, они свернули и вынесли покрывала, освобождая для меня единственную кровать, такую же, как древнеегипетские кровати в Каирском музее, с сеткой из узких кожаных ремней. Спорить было бесполезно, хозяева перетащили свои одеяла и подголовники в другую хижину, а мне знаком предложили располагаться на кровати, постелив чистые шкуры и домотканое покрывало. Пока я разувался, вождь велел своему сыну принести таз и вымыть мне ноги. Закончив омовение, мальчик отвесил глубокий поклон и облобызал пальцы моих ног, после чего ему и другим было велено покинуть дом. Поистине, на Девра Зионе еще живы библейские времена.
Я лег не раздеваясь, а Брю с женой затеяли вполголоса какое-то совещание. При этом они то и дело поглядывали на меня, как бы проверяя, всем ли я доволен, или они что-нибудь упустили. Не совсем понимая, что происходит, я вдруг заметил, что они стоят не одни, с другой стороны кровати смутно виднелась еще какая-то фигура. Скрытая столбом коптилка позволяла только различить, что это молодая женщина. Вот она чуть-чуть повернулась, и я рассмотрел очерченный тусклым светом красивый профиль. Наверное, одна из дочерей Брю... Наконец родители вышли, пригнувшись в дверях. Светильник был при последнем издыхании. Кажется, таинственная фигура исчезла? Нет, вон она по-прежнему стоит в ногах. Хорошее дело. Я занял кровать вождя, его сын вымыл мне ноги, теперь дочь исполняет роль ангела-хранителя... Вдруг я услышал, как чей-то далекий голос в ночи зовет меня. Это был кинооператор. Я не стал отзываться, боясь нарушить очарование. Но мой товарищ не унимался, голос его звучал все ближе, и вот он уже входит в комнату вместе с Брю и его женой. Кинооператор объяснил, что тревога за меня заставила его вернуться с переводчиком на остров на епископской оболу. Хозяева принесли кукурузного пива и лепешки с рыбой, постелили новым гостям шкуры на полу.
Мы остались гостить у вождя еще на день и с помощью переводчика узнали все, что нас интересовало.
Папирус на Звай рос в труднодоступном месте, нечего было и думать о том, чтобы вывезти его в большом количестве. Только болота озера Тана могли нас выручить. Но мы выяснили на земле лаки еще кое-что. Лакские шафат и оболу скорее походили на лодки Чада, Мексики и Перу, чем на связанные эфиопскими сородичами лаков танкуа с озера Тана. Лаки вяжут лодки из папируса не потому, что на озере нет леса, напротив, древесину здесь заготовить легче, чем папирус. Еще мы убедились в том, что не всякий народ, обосновавшись на берегу озера, непременно начинает делать папирусные лодки. Это явствовало уже из того, как сложно нам было попасть на острова из области галла. Искусство вязания лодок из папируса передавалось по наследству. Это древний обычай, который сопровождал определенные народы в их скитаниях. Однако лаки отмечали тот же недостаток, что монахи озера Тана: папирусные лодки надо каждый день вытаскивать на берег и просушивать. Если оболу или шафат оставлять в воде, она придет в негодность через восемь – десять, самое большее четырнадцать дней.
Уезжая назад в Египет, я колебался. Стоит ли отваживаться на такой лодке пересекать Атлантический океан?
 – Вы хотите огородить участок пустыни за пирамидой Хеопса, чтобы построить там лодку из папируса?
Широкоплечий министр поправил очки в роговой оправе и посмотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Потом неуверенно покосился на стройного седого человека – норвежского посла, который стоял рядом со мной, как бы удостоверяя своим присутствием, что этот северянин, его соотечественник, находится в здравом уме. Посол вежливо улыбнулся.
– Папирус тонет через две недели даже на реке, – продолжал министр. – Это не мои слова, так говорит директор Института папируса. И археологи тоже утверждают, что папирусные лодки не могли выходить из дельты Нила, потому что морская вода разъедает папирус, и он ломается на волнах.
– Это как раз мы и хотим проверить на деле.
Более веской причины я не мог привести, оказавшись лицом к лицу со специалистами, которых министр культуры и министр туризма ОАР пригласили, чтобы обсудить мою просьбу, переданную через норвежское посольство.
Так открылось совещание с директорами музеев, археологами, историками и папирусоведами. Руководитель Института папируса Гасан Раджаб повторил свое заключение, но признал, смеясь, что из всех присутствующих я один видел настоящие папирусные лодки. И если я твердо решил провести опыт, он с удовольствием меня поддержит. Сам он мог только испытать куски папируса в баках с водой, ведь в Египте некому было построить лодку. Я подумал, что с таким же успехом можно испытать кусок железа и заключить, что «Куин Мери» непременно должна была пойти ко дну. Одно дело – строительный материал, совсем другое – сделанное из него судно.
Директору Каирского музея мысль о морском плавании на папирусной лодке казалась абсурдной. Конечно, в древности Египет поставлял Библу папирус для книг, но финикийцы сами приходили за товаром, ведь только деревянные суда могли пересечь Средиземное море. И уж тем более никакие папирусные лодки не могли и не могут одолеть Атлантический океан.
От папируса перешли к пирамидам и иероглифам по обе стороны Атлантики, ученая дискуссия затянулась. Последним взял слово генеральный директор археологических памятников Египта, доктор Гамаль Мерез. Это будет очень ценный эксперимент, сказал он, если кто-то по фрескам в наших древних гробницах восстановит папирусную лодку и испытает ее в деле. На том и порешили.
Министр культуры уполномочил директора Гизского заповедника отвести нам требуемый участок для палаток и строительства, но взял с нас обязательство непроизводить раскопок в древнем некрополе фараонов.
Мы спустились по лестнице; внизу, как повсюду в Каире, высилась кирпичная баррикада, окна первого этажа были заложены мешками с песком. Здесь мы простились с заместителем министра туризма Аделем Тахером.
– Непременно постройте лодку, – сказал он, улыбаясь и пожимая мне руку. – Мы поможем, сделаем все, что от нас зависит. Невредно напомнить миру, что Египет не только войной занят.
Оставшись вдвоем с послом, я от души поблагодарил его за неоценимую поддержку. С первой встречи Петер Анкер стал моим добрым другом. Он много лет проработал на Ближнем Востоке как представитель ООН и как посол Норвегии, давно увлекался историей и стал ходячей энциклопедией по вопросам древних торговых и культурных связей в этой области.
– Успех, – подвел он итог. – Ты получил участок, но никто не разделяет твоей веры в папирусную лодку!
– Если бы не было разногласия, то и лодку проверять незачем, – ответил я.
Вернувшись в гостиницу, я сел на кровать и призадумался. Участок получен, это верно. Но колеса еще не завертелись, есть время отступить. Сейчас я должен решить. Развертывать наступление на всех фронтах или бить отбой? Правда, моих денег никак не хватит на экспедицию, но издательства вряд ли откажут мне в авансе под будущую книгу. А если книги не будет?.. Я вертел в руках клочок бумаги. Монахи, лаки, ученые, папирусовед... Все, как один, утверждают, что папирус может выдержать от силы две недели в тихом пресном водоеме, а на море и того меньше. Мое знакомство с кадай, танкуа и шафатом измеряется какими-нибудь часами, и то я уже испытал, что это такое, когда сноп под тобой начинает разваливаться. Американский камыш тотора вполне способен выдержать долгое морское плавание, а его волокнистый стебель с губчатой начинкой напоминает папирус, но, может быть, египетский папирус все-таки впитывает воду намного быстрее тоторы?
Я развернул бумажку. На ней корявыми детскими буквами было написано:
– Вы хотите огородить участок пустыни за пирамидой Хеопса, чтобы построить там лодку из папируса?
Широкоплечий министр поправил очки в роговой оправе и посмотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Потом неуверенно покосился на стройного седого человека – норвежского посла, который стоял рядом со мной, как бы удостоверяя своим присутствием, что этот северянин, его соотечественник, находится в здравом уме. Посол вежливо улыбнулся.
– Папирус тонет через две недели даже на реке, – продолжал министр. – Это не мои слова, так говорит директор Института папируса. И археологи тоже утверждают, что папирусные лодки не могли выходить из дельты Нила, потому что морская вода разъедает папирус, и он ломается на волнах.
– Это как раз мы и хотим проверить на деле.
Более веской причины я не мог привести, оказавшись лицом к лицу со специалистами, которых министр культуры и министр туризма ОАР пригласили, чтобы обсудить мою просьбу, переданную через норвежское посольство.
Так открылось совещание с директорами музеев, археологами, историками и папирусоведами. Руководитель Института папируса Гасан Раджаб повторил свое заключение, но признал, смеясь, что из всех присутствующих я один видел настоящие папирусные лодки. И если я твердо решил провести опыт, он с удовольствием меня поддержит. Сам он мог только испытать куски папируса в баках с водой, ведь в Египте некому было построить лодку. Я подумал, что с таким же успехом можно испытать кусок железа и заключить, что «Куин Мери» непременно должна была пойти ко дну. Одно дело – строительный материал, совсем другое – сделанное из него судно.
Директору Каирского музея мысль о морском плавании на папирусной лодке казалась абсурдной. Конечно, в древности Египет поставлял Библу папирус для книг, но финикийцы сами приходили за товаром, ведь только деревянные суда могли пересечь Средиземное море. И уж тем более никакие папирусные лодки не могли и не могут одолеть Атлантический океан.
От папируса перешли к пирамидам и иероглифам по обе стороны Атлантики, ученая дискуссия затянулась. Последним взял слово генеральный директор археологических памятников Египта, доктор Гамаль Мерез. Это будет очень ценный эксперимент, сказал он, если кто-то по фрескам в наших древних гробницах восстановит папирусную лодку и испытает ее в деле. На том и порешили.
Министр культуры уполномочил директора Гизского заповедника отвести нам требуемый участок для палаток и строительства, но взял с нас обязательство непроизводить раскопок в древнем некрополе фараонов.
Мы спустились по лестнице; внизу, как повсюду в Каире, высилась кирпичная баррикада, окна первого этажа были заложены мешками с песком. Здесь мы простились с заместителем министра туризма Аделем Тахером.
– Непременно постройте лодку, – сказал он, улыбаясь и пожимая мне руку. – Мы поможем, сделаем все, что от нас зависит. Невредно напомнить миру, что Египет не только войной занят.
Оставшись вдвоем с послом, я от души поблагодарил его за неоценимую поддержку. С первой встречи Петер Анкер стал моим добрым другом. Он много лет проработал на Ближнем Востоке как представитель ООН и как посол Норвегии, давно увлекался историей и стал ходячей энциклопедией по вопросам древних торговых и культурных связей в этой области.
– Успех, – подвел он итог. – Ты получил участок, но никто не разделяет твоей веры в папирусную лодку!
– Если бы не было разногласия, то и лодку проверять незачем, – ответил я.
Вернувшись в гостиницу, я сел на кровать и призадумался. Участок получен, это верно. Но колеса еще не завертелись, есть время отступить. Сейчас я должен решить. Развертывать наступление на всех фронтах или бить отбой? Правда, моих денег никак не хватит на экспедицию, но издательства вряд ли откажут мне в авансе под будущую книгу. А если книги не будет?.. Я вертел в руках клочок бумаги. Монахи, лаки, ученые, папирусовед... Все, как один, утверждают, что папирус может выдержать от силы две недели в тихом пресном водоеме, а на море и того меньше. Мое знакомство с кадай, танкуа и шафатом измеряется какими-нибудь часами, и то я уже испытал, что это такое, когда сноп под тобой начинает разваливаться. Американский камыш тотора вполне способен выдержать долгое морское плавание, а его волокнистый стебель с губчатой начинкой напоминает папирус, но, может быть, египетский папирус все-таки впитывает воду намного быстрее тоторы?
Я развернул бумажку. На ней корявыми детскими буквами было написано:

 В эти же дни состоялось первое знакомство всех участников экспедиции друг с другом. Впрочем, мы знали, что в маленькой бамбуковой корзинке, которой предстояло на много недель стать нашим домом, у нас будет вдоволь времени, чтобы поближе узнать каждого.
В эти же дни состоялось первое знакомство всех участников экспедиции друг с другом. Впрочем, мы знали, что в маленькой бамбуковой корзинке, которой предстояло на много недель стать нашим домом, у нас будет вдоволь времени, чтобы поближе узнать каждого.
 Норман Бейкер из Соединенных Штатов... Единственный настоящий моряк на борту, он стал штурманом и радиотелеграфистом экспедиции. Вот он сидит в дверях каюты и строго, придирчиво изучает свою аппаратуру, проверяет каждую деталь со знанием дела. Мое знакомство с ним было очень беглым. Когда я заходил на Таити на судне, зафрахтованном для экспедиции на остров Пасхи, к нам на борт поднялся спокойный, тихийчеловек – это и был Норман, он только что сам привел с Гавайских островов на Таити 12-метровый кеч, пройдя на нем больше 2 тысяч миль вместе с одним американским биологом. Штурманское дело он знал хорошо. Ему довелось служить в американских ВМС, он носил звание коммандера и преподавал океанографию в военно-морском училище в Нью-Йорке. А в гражданской жизни он был антрепренером строительной фирмы в городе небоскребов.
– Нет, правда, у тебя совсем нет морского опыта? – недоверчиво спросил он, обращаясь к Юрию, который сидел с ним рядом, круглый, благодушный, вертя в руках клистирную трубку.
Норман Бейкер из Соединенных Штатов... Единственный настоящий моряк на борту, он стал штурманом и радиотелеграфистом экспедиции. Вот он сидит в дверях каюты и строго, придирчиво изучает свою аппаратуру, проверяет каждую деталь со знанием дела. Мое знакомство с ним было очень беглым. Когда я заходил на Таити на судне, зафрахтованном для экспедиции на остров Пасхи, к нам на борт поднялся спокойный, тихийчеловек – это и был Норман, он только что сам привел с Гавайских островов на Таити 12-метровый кеч, пройдя на нем больше 2 тысяч миль вместе с одним американским биологом. Штурманское дело он знал хорошо. Ему довелось служить в американских ВМС, он носил звание коммандера и преподавал океанографию в военно-морском училище в Нью-Йорке. А в гражданской жизни он был антрепренером строительной фирмы в городе небоскребов.
– Нет, правда, у тебя совсем нет морского опыта? – недоверчиво спросил он, обращаясь к Юрию, который сидел с ним рядом, круглый, благодушный, вертя в руках клистирную трубку.
 – Я ходил на советском судне в Антарктику и обратно, – широко улыбаясь, ответил Юрий Александрович Сенкевич, наш русский экспедиционный врач.
И он начал рассказывать про прекрасных девушек Манилы, однако Нормана больше интересовало, верно ли, что Юрий год провел в самой холодной точке земного шара. Да, подтвердил Юрий. В качестве врача и физиолога он год зимовал на советской станции «Восток», посреди антарктического материка, на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, где температура падает до 80° ниже нуля.
Юрий был единственным из ребят, кого я еще совсем не видел, и мы одинаково волновались, когда его самолет приземлился в Каире. А началось с того, что я написал президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу; этот серьезный, немногословный исследователь возглавляет всю науку Советского Союза, от спутников до археологии. В письме я напомнил ему, как он однажды спросил меня, почему в моих экспедициях не участвуют русские. Теперь такой случай представился. Мне нужен советский участник, нужен врач, не может ли президент Келдыш предложить кого-нибудь? Желательно, чтобы врач этот владел иностранным языком и был наделен чувством юмора. Русские вполне серьезно отнеслись ко второму пункту. Когда Юрий вышел из аэрофлотского самолета, нагруженный подарками и медицинским снаряжением, я заметил, что он выпил рюмочку для веселья.
Юрий сразу стал в экипаже своим человеком. Он был не очень силен в английском языке, но достаточно, чтобы понимать юмор. Сын врача, он родился в Монголии и смахивал на коренного жителя Азии. Его выбрали среди молодых ученых одного из институтов Министерства здравоохранения СССР, где он изучал влияние экстремальных факторов на организм человека. Осмотрев щелеватую бамбуковую каюту, в которой нам предстояло быть запущенными в океан, Юрий не без юмора заключил, что космонавтам лучше.
– Я ходил на советском судне в Антарктику и обратно, – широко улыбаясь, ответил Юрий Александрович Сенкевич, наш русский экспедиционный врач.
И он начал рассказывать про прекрасных девушек Манилы, однако Нормана больше интересовало, верно ли, что Юрий год провел в самой холодной точке земного шара. Да, подтвердил Юрий. В качестве врача и физиолога он год зимовал на советской станции «Восток», посреди антарктического материка, на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, где температура падает до 80° ниже нуля.
Юрий был единственным из ребят, кого я еще совсем не видел, и мы одинаково волновались, когда его самолет приземлился в Каире. А началось с того, что я написал президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу; этот серьезный, немногословный исследователь возглавляет всю науку Советского Союза, от спутников до археологии. В письме я напомнил ему, как он однажды спросил меня, почему в моих экспедициях не участвуют русские. Теперь такой случай представился. Мне нужен советский участник, нужен врач, не может ли президент Келдыш предложить кого-нибудь? Желательно, чтобы врач этот владел иностранным языком и был наделен чувством юмора. Русские вполне серьезно отнеслись ко второму пункту. Когда Юрий вышел из аэрофлотского самолета, нагруженный подарками и медицинским снаряжением, я заметил, что он выпил рюмочку для веселья.
Юрий сразу стал в экипаже своим человеком. Он был не очень силен в английском языке, но достаточно, чтобы понимать юмор. Сын врача, он родился в Монголии и смахивал на коренного жителя Азии. Его выбрали среди молодых ученых одного из институтов Министерства здравоохранения СССР, где он изучал влияние экстремальных факторов на организм человека. Осмотрев щелеватую бамбуковую каюту, в которой нам предстояло быть запущенными в океан, Юрий не без юмора заключил, что космонавтам лучше.
 С итальянцем Карло Маури я тоже познакомился недавно. Он шел с нами кинооператором. Сначала я пригласил одного своего хорошего друга из Рима, кинопродюсера и превосходного аквалангиста, который снимал на дне Атлантического океана затонувший пароход «Андреа Дориа». Но когда Абдулла очутился в кутузке и я укатил куда-то в Африку, он разуверился в моем плане и предложил взамен себя Карло Маури. Рыжебородый и голубоглазый Карло Маури, хоть и был похож на викинга, тоже не обладал никаким морским опытом. Он был профессиональный горный проводник и один из самых знаменитых альпинистов Италии. Участвовал в четырнадцати международных альпинистских экспедициях на разных материках, в некоторых – как руководитель, и отвесные кручи Гималаев и Анд знал не хуже, чем неприступные вершины Африки, Новой Гвинеи и Гренландии. В Альпах он сильно повредил ногу, и ему пришлось оставить работу горнолыжного тренера, но от восхождений он отнюдь не отказался. Карло находился в Антарктике, когда узнал о планах экспедиции на папирусной лодке, а туда он попал сразу после съемок белых медведей во льдах Арктики и теперь предвкушал купание в свободных ото льда, теплых экваториальных водах.
В последнюю минуту чуть не сорвалось участие Мексики. Мой друг Рамон, который возил меня к индейцам сери, лег в больницу на серьезную операцию в тот самый день, когда папирусную лодку погрузили на пароход в Александрии. Эта грустная весть пришла в разгар пресс-конференции, и мне ее не сообщали, пока кто-то из журналистов не попросил назвать участников.
– От Мексики участвует... – начал я, но тут чья-то рука нервно сунула мне телеграмму.
У меня сердце сжалось. Только бы Рамон благополучно перенес операцию, остальное не так важно. Слова застряли у меня в горле. Газетчики зашевелились.
С итальянцем Карло Маури я тоже познакомился недавно. Он шел с нами кинооператором. Сначала я пригласил одного своего хорошего друга из Рима, кинопродюсера и превосходного аквалангиста, который снимал на дне Атлантического океана затонувший пароход «Андреа Дориа». Но когда Абдулла очутился в кутузке и я укатил куда-то в Африку, он разуверился в моем плане и предложил взамен себя Карло Маури. Рыжебородый и голубоглазый Карло Маури, хоть и был похож на викинга, тоже не обладал никаким морским опытом. Он был профессиональный горный проводник и один из самых знаменитых альпинистов Италии. Участвовал в четырнадцати международных альпинистских экспедициях на разных материках, в некоторых – как руководитель, и отвесные кручи Гималаев и Анд знал не хуже, чем неприступные вершины Африки, Новой Гвинеи и Гренландии. В Альпах он сильно повредил ногу, и ему пришлось оставить работу горнолыжного тренера, но от восхождений он отнюдь не отказался. Карло находился в Антарктике, когда узнал о планах экспедиции на папирусной лодке, а туда он попал сразу после съемок белых медведей во льдах Арктики и теперь предвкушал купание в свободных ото льда, теплых экваториальных водах.
В последнюю минуту чуть не сорвалось участие Мексики. Мой друг Рамон, который возил меня к индейцам сери, лег в больницу на серьезную операцию в тот самый день, когда папирусную лодку погрузили на пароход в Александрии. Эта грустная весть пришла в разгар пресс-конференции, и мне ее не сообщали, пока кто-то из журналистов не попросил назвать участников.
– От Мексики участвует... – начал я, но тут чья-то рука нервно сунула мне телеграмму.
У меня сердце сжалось. Только бы Рамон благополучно перенес операцию, остальное не так важно. Слова застряли у меня в горле. Газетчики зашевелились.
 – От Мексики участвует... доктор Сантьяго Хеновес!
Пресс-конференция была прервана, и в Мексику полетели две телеграммы. Одна Рамону, другая доктору Хеновесу, тому самому, который в разговоре со мной шутливо обещал прибыть, если его предупредят за неделю. Теперь я предупредил его за неделю. И он прибыл. По дороге этот энергичный человек успел получить в Барселоне премию имени папы Иоанна XXIII за 1969 год, присужденную ему за антивоенную книгу «Человек – война или мир?», по которой он начал снимать фильм[160]. Из Испании он поспел в Марокко как раз вовремя, чтобы сопровождать лодку по суше из Танжера в Сафи.
И вот Сантьяго Хеновес, теперь уже завхоз и провиантмейстер экспедиции, размещает на неровной палубе грушевидные египетские кувшины, ставит их вплотную друг к другу, чтобы не падали, и крепит веревками. Косматые кокосовые орехи служили отличной прокладкой. Мы заказали сто шестьдесят амфор по образцу древнеегипетских кувшинов Каирского музея, и Сантьяго обращался с ними так же бережно, как с индейскими черепами у себя в университете. С научной дотошностью – недаром много лет редактировал международный ежегодник по физической антропологии! – он нумеровал и записывал в книгу кувшины, корзины и бурдюки.
Я видел Сантьяго Хеновеса на научных конгрессах в разных странах, в том числе в его родной Испании, которую он покинул во время гражданской войны. Последний раз мы встретились в Мексике; профессор университета в Мехико, он специализировался на сложной проблеме происхождения индейцев, моряком никогда не был. Зато – не в пример другим моим знакомым в мире науки – этот ученый-крепыш когда-то был... футболистом-профессионалом.
– От Мексики участвует... доктор Сантьяго Хеновес!
Пресс-конференция была прервана, и в Мексику полетели две телеграммы. Одна Рамону, другая доктору Хеновесу, тому самому, который в разговоре со мной шутливо обещал прибыть, если его предупредят за неделю. Теперь я предупредил его за неделю. И он прибыл. По дороге этот энергичный человек успел получить в Барселоне премию имени папы Иоанна XXIII за 1969 год, присужденную ему за антивоенную книгу «Человек – война или мир?», по которой он начал снимать фильм[160]. Из Испании он поспел в Марокко как раз вовремя, чтобы сопровождать лодку по суше из Танжера в Сафи.
И вот Сантьяго Хеновес, теперь уже завхоз и провиантмейстер экспедиции, размещает на неровной палубе грушевидные египетские кувшины, ставит их вплотную друг к другу, чтобы не падали, и крепит веревками. Косматые кокосовые орехи служили отличной прокладкой. Мы заказали сто шестьдесят амфор по образцу древнеегипетских кувшинов Каирского музея, и Сантьяго обращался с ними так же бережно, как с индейскими черепами у себя в университете. С научной дотошностью – недаром много лет редактировал международный ежегодник по физической антропологии! – он нумеровал и записывал в книгу кувшины, корзины и бурдюки.
Я видел Сантьяго Хеновеса на научных конгрессах в разных странах, в том числе в его родной Испании, которую он покинул во время гражданской войны. Последний раз мы встретились в Мексике; профессор университета в Мехико, он специализировался на сложной проблеме происхождения индейцев, моряком никогда не был. Зато – не в пример другим моим знакомым в мире науки – этот ученый-крепыш когда-то был... футболистом-профессионалом.
 Трудно было представить себе более далеких от морского дела людей, чем Юрий, Карло и Сантьяго. Разве что Абдулла Джибрин, уроженец Республики Чад, который вырос в сердце Африки и даже не знал, что море соленое. Его мы пригласили как специалиста по папирусу. Пожалуй, этого парня я успел узнать лучше других за две встречи в Чаде и семь недель совместной работы у пирамид. Превосходная голова, но постоянно держится настороже, словно газель, которой всюду чудятся опасности. Наверное, Абдулла еще сам в себе как следует не разобрался. Если исключить его небылицы о мнимых поездках в Париж и Канаду, мне было известно о нем, что он родился в деревушке у папирусных болот Чада. Он смутно помнил, как в детстве его куда-то повели, сколько он ни цеплялся за мать, и украсили ему лоб и переносицу знаком племени. Еще я знал, что он столяр и порядочный донжуан. Как добрый мусульманин, Абдулла мог иметь несколько жен, а я должен был их содержать. Дома жена с тремя детьми, второй женой он обзавелся перед отъездом – вот уже мне забота каждый месяц переводить валюту в Чад. А он еще женился в третий раз в Каире, воспользовавшись моей отлучкой в Марокко. Свадьбу отложили до моего возвращения, чтобы я мог оплатить все расходы. Роскошный праздник с танцем живота и египетскими музыкантами состоялся на крыше арабского домика тестя. Мусса и Умар пришли в такой восторг от застенчивой красавицы-невесты, что засунули большую часть своей недельной получки в ее пышное декольте. Оказавшись перед необходимостью переводить валюту и в Египет тоже, я поклялся, что в Марокко мы не будем спускать глаз с Абдуллы.
Трудно было представить себе более далеких от морского дела людей, чем Юрий, Карло и Сантьяго. Разве что Абдулла Джибрин, уроженец Республики Чад, который вырос в сердце Африки и даже не знал, что море соленое. Его мы пригласили как специалиста по папирусу. Пожалуй, этого парня я успел узнать лучше других за две встречи в Чаде и семь недель совместной работы у пирамид. Превосходная голова, но постоянно держится настороже, словно газель, которой всюду чудятся опасности. Наверное, Абдулла еще сам в себе как следует не разобрался. Если исключить его небылицы о мнимых поездках в Париж и Канаду, мне было известно о нем, что он родился в деревушке у папирусных болот Чада. Он смутно помнил, как в детстве его куда-то повели, сколько он ни цеплялся за мать, и украсили ему лоб и переносицу знаком племени. Еще я знал, что он столяр и порядочный донжуан. Как добрый мусульманин, Абдулла мог иметь несколько жен, а я должен был их содержать. Дома жена с тремя детьми, второй женой он обзавелся перед отъездом – вот уже мне забота каждый месяц переводить валюту в Чад. А он еще женился в третий раз в Каире, воспользовавшись моей отлучкой в Марокко. Свадьбу отложили до моего возвращения, чтобы я мог оплатить все расходы. Роскошный праздник с танцем живота и египетскими музыкантами состоялся на крыше арабского домика тестя. Мусса и Умар пришли в такой восторг от застенчивой красавицы-невесты, что засунули большую часть своей недельной получки в ее пышное декольте. Оказавшись перед необходимостью переводить валюту и в Египет тоже, я поклялся, что в Марокко мы не будем спускать глаз с Абдуллы.
 Самым младшим из нас был Жорж Сориал, рост метр девяносто два, сложение Тарзана, по образованию инженер-химик, по профессии аквалангист, забубенная головушка, чемпион Африки и шестикратный чемпион Египта по дзюдо. После института Жорж главным образом резвился в клубах Каира и волнах Красного моря. Он разбивал кирпичи ребром ладони, развлекая потрясенных друзей, ногу его украшали следы акульих зубов, и среди всех моих знакомых это был единственный человек, который нырял в гости к мурене и кормил ее изо рта рыбой, гладя при этом опасное чудовище рукой, словно какое-нибудь кроткое комнатное животное. Жорж тоже не был моряком, море знал, как говорится, только снизу, и когда он, прочтя заключение экспертов о папирусе, попросился в экспедицию, то упирал, не без намека, на то, что под водой чувствует себя лучше, чем на воде. Подобно другим древним коптским родам в Египте, семья Сериала связывала свое происхождение с племенами, которые пришли в область Нила еще до того, как арабы принесли сюда мусульманскую веру.
Обычно Сориал спал, как мумия, по четырнадцать часов в сутки, но как только у него родилась надежда войти в состав экспедиции, он стал подниматься чуть свет и являться в лагерь у пирамид. Используя его многочисленные знакомства во всех уголках Каира, мы нашли парусных мастеров, которые шьют паруса по старинке, корзинщика, который вручную сплел нам каюту, пекаря, который испек египетские лепешки по рецепту из Каирского музея, и уединившийся на пригорке клан гончаров, которые разминали ногами сырье, стоя по пояс в глиняном месиве, потом босыми ступнями вращали гончарный круг, – так мы получили сто шестьдесят кувшинов, точно повторяющих пятитысячелетние музейные образцы.
Волны покачивали связки папируса, которые с каждым днем впитывали все больше воды, меж тем как на палубе кипела работа. Первоначально общий вес папируса вместе с веревками составлял около 12 тонн, и, несмотря на то, что стебли с тех пор вобрали не одну тонну воды, лодка не погружалась. На палубу свалили несколько тонн груза – хоть бы что, наша ладья была неколебима, как остров. Тяжелее всего была огромная двуногая мачта, которую мы установили, но и мостик, связанный из брусьев сразу за каютой, чтобы рулевой видел, что впереди, тоже весил немало. Если добавить плетеную каюту, огромные рулевые весла и сложенный на палубе материал для ремонта, вес всего дерева превышал 2 тонны. Еще добрую тонну весила вода в тяжелых кувшинах, и не меньше двух тонн составляли провиант с тарой и снаряжение.
Последняя неделя прошла под знаком лихорадочной деятельности. Если верить экспертам, каждый лишний день пребывания папируса в морской воде сокращал срок его службы, так что мы старались не мешкать. К тому же с каждым днем приближался сезон ураганов в западной части Атлантики. До сих пор мы, несмотря на всякие препоны, каким-то чудом выдерживали график с точностью до недели, но дальше и дня нельзя было терять, и темп работы возрос до предела. Кто-то упаковывал, носил, катал грузы на пристани. Кто-то лазил по мачте и вантам, тянул веревки, вязал узлы. Кто-то рубил, строгал и укреплял ремнями и веревками мостик и весла.
Со всех сторон нас окружали помощники. Бельгийский капитан де Бок, участник первой научной археологической экспедиции на остров Пасхи, морской волк, взял отпуск за свой счет и выехал из Антверпена в Сафи, предварительно рассчитав вероятный путь нашего дрейфа. Лоцман антверпенского порта, он привык иметь дело с гигантами водоизмещением в 50 и 100 тысяч тонн, теперь же, стоя на палубе «Ра», следил за тем, чтобы загрузка и оснастка «бумажного кораблика» производилась по всем правилам морского искусства. В это же время его норвежский коллега Арне Хартмарк, капитан судна, которое доставило на Пасху мою экспедицию, висел на мачте вместе с альпинистом Карло Маури, крепя снасти. Герман Ватсингер, участник экспедиции «Кон-Тики», прилетел из Перу, чтобы подсобить нам на старте; Фрэнк Таплин привез из Нью-Йорка добрые пожелания от У Тана. В складском помещении на берегу наши жены под руководством супруги паши, сидя на корточках вокруг кувшинов, клали сыр в оливковое масло, свежие яйца в известковый раствор, наполняли корзины и мешки орехами, сушеной рыбой и бараньей колбасой. Айша Амара смешала мед, тертый миндаль, масло, муку и инжир, и получилось селло, которое исстари известно в Марокко как лучшая дорожная провизия, не боящаяся долгого хранения.
Иной раз паше приходилось вызывать полицию и устраивать оцепление, чтобы работа могла продолжаться: уж очень напирали журналисты, фотографы и просто любопытные. Один зевака свалился с пристани на лодку, разбил несколько кувшинов и раздавил керосиновый фонарь.
И вот настал долгожданный день. «Ра» уже восемь дней впитывала морскую воду в порту, иначе говоря, минула половина срока, который ей отводили ученые-специалисты. Рассвет принес слабый ветер с суши, он постепенно усиливался, и в восемь утра 25 мая флаги на лодке и на старой португальской крепости дружно указывали на Атлантический океан. Раис Фатах, темнокожий араб могучего роста, руководитель профсоюза рыбаков и специальный консультант экспедиции, привел четыре лодки с шестнадцатью гребцами, которые должны были отбуксировать «Ра» в открытое море.
На длинном каменном пирсе творилось что-то невообразимое: народ – стеной, на всех лодках и кранах – фотографы. Супруге паши пришлось просить помощи у полиции, чтобы пробиться к лодке с прощальным даром, непоседливой обезьянкой, которую люди паши совсем недавно поймали в Атласских горах и назвали Сафи. Она отчаянно цеплялась за крестную мать нашего судна, пока не увидела шерсть на лице у некоторых членов команды; после этого Сафи весело прыгнула к нам и приняла самое активное участие в прощальной процедуре с объятиями и добрыми пожеланиями на двунадесяти языках, а рыбаки тем временем невозмутимо подали концы со своих лодок, закрепили их за толстый канат, опоясывающий «Ра» по ватерлинии, и ждали только приказа, чтобы налечь на весла. Один за другим мы вырывались из толпы на волю и прыгали с высокого пирса на мягкую папирусную палубу. Абдулла, Жорж и Сантьяго с южным пылом слали во все стороны воздушные поцелуи и раздавали автографы, Карло еще раз прижал к сердцу свою русоволосую жену, охрипший от простуды Норман простился с американским послом, который осыпал его напутствиями и добрыми пожеланиями, советский посол сердечно обнял Юрия, впервые пускающегося в путь без отечественного руководства и управления. Взяв в руки поданный кем-то микрофон, я произнес прощальную речь, поблагодарил наших друзей и помощников, которые остались на пристани, хотя по справедливости их место было на борту «Ра». Спасибо вам, посол Анкер из Каира, паша Амара с сотрудниками, капитаны де Бок и Хартмарк, преподаватель Корио, Герман Ватсингер, Фрэнк Таплин, Бруно Ваилати... Затем и я соскочил на пружинистую палубу. Сигнал Раису Фатаху, ребята на пристани отдали швартовы, и шестнадцать рыбаков навалились на весла. Часы показывали 8.30. Плавучий стог начал медленно удаляться от пирса.
И вдруг нас оглушил какой-то вой, в первую секунду мы вздрогнули от неожиданности, а потом почувствовали, как к горлу подкатывается клубок: все стоявшие в гавани рыболовные суда включили свои сирены, им вторили басовитые гудки заводов и портовых складов, звенели судовые колокола, кричали люди... А с грузового парохода, стоявшего на рейде, пустили сигнальные ракеты, они шипели и взрывались блестками, и звездный дождь медленно ложился на воду перед нами в пелене алого дыма. От таких почестей мы даже слегка оробели, а тут еще эта непривычная лодка, и необычные снасти, и два закрепленных наискось параллельных рулевых весла, какими люди не пользовались с тех пор, как последние из древних египтян, увековечив это устройство на стенах своих склепов, исчезли с лица земли вместе со своими судами. Вдруг древний механизм нам не покорится? Вдруг волны за молом разметают папирус, и нам придется вплавь добираться обратно к пирсу? А в гавани уже все пришло в движение, под звуки сирен и совсем новогоднего колокольного звона эскорт из рыболовецких шхун, парусных яхт и катеров вышел следом за нами за мол, в воздухе кружили прибывшие из марокканской столицы Рабата самолет чьего-то посольства и вертолет. Как только мы вышли из гавани, стало потише, зато здесь нас встретили океанские валы, и суда поменьше повернули назад, оставив нас и самые крупные шхуны наедине с океаном. Буксировавшие нас лодки отдали концы, и гребцы, выкрикивая добрые пожелания на своем языке, тоже укрылись за высоким молом.
И вот мы впервые поднимаем парус «Ра». Большой, тяжелый, из крепкой египетской парусины, 8 метров в высоту, 7 в ширину по верхней рее, сужающийся книзу – как у древних египтян – до 5 метров, то есть до ширины самой лодки. Тихое дыхание слабеющего ветра с трудом отрывало увесистую рею от двойной мачты. И бордовый парус с блестящим, кирпичного цвета солнечным диском, символизирующим «Ра», тоже почти не шевелился. Как будто разноцветное белье, висели над каютой в ряд наши флаги, по латинскому алфавиту: Чад, Египет, Италия, Марокко, Мексика, Норвегия, США и СССР, и по краям – оптимистический флаг Организации Объединенных Наций – белый глобус на голубом поле.
Мы с Абдуллой стояли на мостике, каждый у своего рулевого весла, озабоченно глядя то на обвисший парус, то на белые гребни прибоя в нескольких сотнях метров от нас. Кажется, приближаются?.. Точно. Мы засекли две линии: конец мола и башню на крепостной стене – и убедились, что лодку медленно несет к берегу. Пришлось подать конец на ближайшую шхуну, и вот мы полным ходом идем в море, а кругом чуфыкают моторами сейнеры. Но такая скорость не была естественной для «Ра». Сперва линь, на котором за бортом болталась сетка с живыми омарами, занесло за корму, и он обмотался вокруг одного из рулевых весел. Весло напружинилось, грозя сломаться. В последнюю минуту нож обрубил линь, весло было спасено, зато лакомое блюдо поглотили волны. Затем под напором воды переломилось одно из трех укрепленных вдоль борта толстых весел, играющих роль швертов, притом именно то весло, к которому Норман приладил нерв, призванный соединять нас с родными и близкими, попросту говоря, медную пластину, заземление нашей портативной радиостанции. Металл явно был чужеродным телом на упругой папирусной лодке, и весло переломилось как раз по краю медной обшивки, только провод не дал волнам унести лопасть.
Нет, так не годится. Ветер не ветер – надо обходиться своими силами. Мы остановили эскорт, выбрали все концы и снова подняли парус При этом нам бросилось в глаза, как сильно качает шхуны; наше плоскодонное суденышко, подобно своему предшественнику, бальсовому плоту «Кон-Тики», чуть покачивалось вверх-вниз на широких валах.
И вот родился ветер, сначала легкие, потом все более сильные и долгие порывы, но уже не со стороны суши. Вместо обычного в это время года норд-оста подул норд-вест, а он грозил прибить нас прямо к невысоким скалам, что тянутся к югу от тихой гавани Сафи. Берег был еще совсем близко, отчетливо видно не только дома, но и коварный прибой, беззвучно лижущий желто-коричневые камни там, где прокаленный солнцем фасад зеленых равнин Марокко отражал вечный напор океана. И нас туда выбросит, если мы не научимся управлять своим стогом...
Всю нашу семерку заботило, как действует рулевое устройство. Мы могли только гадать, научить нас было некому. Вся надежда была на то, что ветер и течение, господствующие у берегов Марокко, увлекут лодку в океан, и мы сможем неделю-другую экспериментировать, не опасаясь, что нас прибьет к скалам. Мы боялись берега, а не океана. Начни мы проводить испытания в море около устья Нила – могли бы очутиться на мели, так и не успев выяснить принцип действия рулевого устройства древних египтян. А здесь, в Атлантике, можно беспрепятственно заниматься экспериментами, ведь обычно стихии уносят всякие обломки в океан.
Мы поставили на «Ра» точно такое рулевое устройство, какое показано на многочисленных моделях и фресках древнейшей поры Египта. И даже, по примеру древних египтян, попытались достать для рулевых весел кедр из Ливана, но в бывшем царстве финикийцев осталось совсем мало кедра, да и тот в заповедниках. Пришлось нам для мачты довольствоваться египетским сенебаром (он похож на можжевельник), а на два 8-метровых весла пошло африканское дерево, которое марокканцы называют ироко, причем лопасти были такой ширины, что вполне можно сделать небольшой письменный стол. Эти весла укрепили наискось по бокам заостренного ахтерштевня «Ра». Нижняя часть веретена опиралась на лежащее поперек кормы тонкое бревно. Примерно в 4 метрах выше – вторая точка опоры, поперечный брус, который был отнесен подальше от кормы и служил также задним поручнем мостика. В поперечинах бруса были вытесаны и выстланы кожей желоба для веретен, и в этих местах весла туго привязали толстой веревкой, так что они в стороны не двигались, а только вращались вокруг продольной оси. Иначе говоря, ими нельзя было рулить так, как длинным рулевым веслом на плоту «Кон-Тики», ведь они были фиксированы в двух точках.
Как же они работали? В верхней части каждого веретена была привязана поперек рукоятка из крепкого дерева, своего рода румпель, и обе они соединялись между собой шестом, висящим горизонтально на веревочных петлях. Когда человек, стоя посередине, толкал этот шест в сторону, весла вместе поворачивались вокруг продольной оси, как будто параллельные рули. Это выглядело так замысловато и так непохоже на все, чем пользуются теперь разные народы, что, когда я в первый раз осторожно толкнул шест влево и «Ра» медленно, но послушно, как смирная лошадь, повернулась вправо, у ребят вырвался крик радости и облегчения. Я сейчас же толкнул рычаг в другую сторону – лодка не спеша повернулась влево.
Все правильно. Мы имели дело с рулевым устройством, которое исторически предшествовало рулю, было связующим звеном между элементарным рулевым веслом и современным рулем. В далеком прошлом египтяне обнаружили, что вовсе не обязательно толкать длинное тяжелое рулевое весло, чтобы заставить парусную лодку повернуть, достаточно крутить его вокруг своей оси, и лодка ляжет на нужный курс. Они прикрепили поперечину к рукоятке, и появилось рулевое устройство, такое, как на «Ра». Подвешенный к румпелям шест был только дополнительным усовершенствованием, чтобы рулевой мог действовать сразу двумя веслами. Дальше древним морякам оставалось убедиться на опыте, что лодка поворачивает и тогда, когда все весло поставишь вертикально и крутишь лопасть, – так они изобрели тот руль, который нам известен теперь.
Сияющий Абдулла, сын пустыни, тоже взялся за поперечный шест, в четыре руки дело пошло еще лучше, а на палубе хлопотали остальные – повинуясь указаниям Нормана, они тянули шкоты, ловя парусом переменчивый ветер. Журналисты и искушенные морские волки на снующих вокруг нас сейнерах внимательно следили за нашими первыми, робкими шагами. И кажется, они не меньше нашего обрадовались, когда выяснилось, что папирусная лодка слушается нас. Норд-вест норовил прибить «Ра» к берегу, но мы сумели лечь на курс под прямым углом к ветру и пошли правым галсом на юго-запад, параллельно суше.
Здесь нас уже не защищал мыс Бадуса, мощная океанская волна изрядно мотала рыбацкие шхуны, и так как на них сейчас было много непривычных к качке пассажиров, капитаны начали поворачивать назад. Одна за другой звучали прощальные сирены. Последней, кого я видел, была Ивон, она стояла, расставив ноги для устойчивости, и махала нам двумя руками. Вертолет уже исчез. За ним и самолет описал над нами последние круги.
И вот мы остались наедине с океаном. Семь человек, обезьянка, упоенно кувыркающаяся на вантах, и в деревянной клетке кудахтающие куры и одна утка. Теперь лишь океанские валы бурлили и шипели вокруг нашего мирного Ноева ковчега, я сразу стало как-то удивительно тихо.
После того как парус был поднят, шкоты и брасы надежно закреплены, Норман, пошатываясь, пришел на корму и признался мне, что чувствует себя очень скверно. Он был совсем бледный, глаза воспалены. Нетвердо шагая, – еще не освоил морскую походку – подошел Юрий, поставил ему градусник, и мы с ужасом услышали, что у Нормана температура тридцать девять. Грипп... И так как порывы морского ветра становились все холоднее, наш русский врач велел нашему американскому штурману немедленно идти в каюту и ложиться в спальный мешок. Единственный моряк в команде на время вышел из строя.
А ветер крепчал, и волны шли все чаще, но «Ра» спокойно приподнимала один борт и любезно пропускала под связками даже самые большие валы. Правда, удар, приходящийся на весла, порой был таким сильным, что они заметно гнулись, грозя сломаться, и я кричал Абдулле, чтобы он ослабил свою железную хватку.
В целом все шло хорошо, и у всех было превосходное настроение, даже у злополучного больного, хоть он и сетовал, что от него никакого проку. Карло, привыкший есть и спать в подвешенном состоянии, уже доказал, что никто на борту лучше него не вяжет узлы; теперь он заботливо подал нам горячий кофе и холодные куриные ножки. Он радостно доложил мне, что в море все равно что в горах: то же самое чувство слияния с природой, напряженное единоборство со стихиями, огромный душевный подъем, необходимость быстро находить решение неожиданных проблем.
Мы продолжали идти перпендикулярно ветру со скоростью около четырех узлов, и берег как будто не приближался. В 15.15 я сказал себе, что все в порядке, можно сдавать вахту следующей двойке. Карло и наш дзюдоист Жорж заняли место у руля, Абдулла отправился отдыхать в каюту, а я пошел вперед, посмотреть на носовую палубу, которая была настолько загромождена кувшинами, бурдюками и овощными корзинами, что пройти на нос можно было только по самому краю папирусного фальшборта. Перед пузатым парусом, прислонясь к клетке с птицей, сидел Сантьяго; он улыбался, любуясь видом на далекий берег. Измотанный почти семичасовой рулевой вахтой, я сел рядом с ним и позволил себе – впервые за много недель непрерывной горячки – расслабиться.
Мы не могли нарадоваться, видя, как легко наша лодка переваливает через любую волну, сколько бы та ни ярилась и ни бросалась на нас справа. До нас долетали только редкие брызги, и я растянулся на палубе, наслаждаясь приятной усталостью во всем теле. Вдруг мое блаженство было нарушено испуганным трио:
– Тур! Тур!
Не прошло и пяти минут, как я спустился с мостика... Я вскочил на ноги и, держась за край заполоскавшегося паруса, осторожно протиснулся мимо него назад, обуреваемый тревожными догадками. Навстречу мне, раскачиваясь, словно подвыпивший канатоходец, уже спешил Юрий, от волнения он говорил по-русски и лихорадочно жестикулировал, показывая на корму, а там из-за каюты торчали головы рулевых, которые, продолжали испуганно взывать ко мне.
Так, все на борту. А это самое главное, были бы все целы, остальное как-нибудь уладим. Жорж растерянно развел руками, а Карло крикнул мне по-итальянски, что сломались рулевые весла. Оба сразу! Одного взгляда было довольно, чтобы определить размах бедствия. Веретена переломились в самом низу, и широкие светло-коричневые лопасти всплыли, волочась за нами на буксире, будто доски для серфинга. А нам так расписывали прочность ироко... Хорошо еще, что мы, как это делали древние египтяне, привязали веревки к лопастям, чтобы весла не отходили назад. Мы поспешили вытащить из воды обломки, пока веревки не перетерлись. Карло и Жорж стояли каждый со своим веретеном, крути не крути – толку чуть.
Меня как будто ударили под ложечку.
– Что, будем возвращаться в гавань? – тихо выговорил Карло.
Все трое вопросительно смотрели на меня с выражением глубокого отчаяния на лице.
Я не успел ответить. «Ра» неторопливо повернулась, парус снова наполнился, и лодка как ни в чем не бывало сама пошла тем самым курсом, который мы так упорно ей навязывали. В ту же секунду я сообразил, что произошло, и сердце наполнилось ликованием. Это заработали два укрепленных вертикально весла впереди, играющие роль швертов. Поскольку мы остались без рулей, и на корме не было никакого подобия киля, ветер с моря толкал корму влево, а нос автоматически приводился к ветру, отворачивая от берега.
– Здорово! – крикнул я по-английски, стараясь вложить в этот возглас побольше радости, чтобы только что родившаяся у меня уверенность передалась ребятам, которые – не без основания – уже готовы были поставить крест на плавании через Атлантический океан.
Переполох на палубе заставил больного Нормана покинуть спальный мешок; он вылез из каюты как раз в ту минуту, когда раздался мой радостный крик, и нетерпеливо спросил, чему я так радуюсь.
– Здорово! – повторил я с энтузиазмом. – Оба рулевых весла сломаны, теперь мы можем идти дальше, управляя гуарами, как древние инки!
Норман ошалело воззрился на меня лихорадочными глазами, не зная, смеяться или плакать, остальные тоже пристально смотрели на руководителя экспедиции, пытаясь понять, то ли он потерял рассудок из-за аварии, то ли знает какое-то секретное индейское чародейство. Скорее последнее, ведь «Ра» лучше прежнего держала курс, об этом говорил и компас, и угол между форштевнем и берегом. Карло долго изучал мое лицо, наконец грусть исчезла из его голубых глаз, и он расхохотался. Тут и Абдулла проснулся, и вот уже мы все вместе стоим и смеемся, восхищаясь лодкой, которая сама собой управляла, и никаких хлопот, знай посиживай на корзинах. Компасная игла осталась в одиночестве на мостике, лежа в своем котелке, она диктовала курс зюйд-вест, а нам как раз туда и надо, и «Ра» с наполненным парусом послушно шла на юго-запад среди сердито шипящих волн, предоставляя нам наслаждаться ролью пассажиров.
– Вот теперь мы все равно что потерпевшие кораблекрушение, – признался я своим товарищам и, чтобы не сбивать их окончательно с толку, поспешил добавить, что это идеальный случай для моего эксперимента, как раз то, что грозило судам такого рода, если они, пройдя Гибралтар, направлялись дальше вдоль берегов Марокко. Теперь мы точно выясним, куда их заносило в итоге.
Сияющий Карло не переставал смеяться, покачивая головой. Да, тут самое лучшее – положиться на природу, стихии сами обеспечат доставку. На палубе лежало запасное весло, но оно было единственное, и мы решили не ставить его: чего доброго, сломается раньше, чем начнется по-настоящему наш рейс через Атлантику. И уж во всяком случае это хваленое ироко надо основательно укрепить, перед тем как подвергать весло напору волн.
Под вечер Юрий выбрался из каюты с озабоченным видом и объявил, что теперь у нас два пациента с постельным режимом. Сантьяго третий день жаловался на зуд в паху, а морской воздух, видимо, вызвал обострение, у него во многих местах сошла кожа, и он предполагал, что это неприятная болезнь тинья, которую он наблюдал на Канарских островах, куда нас несло течение. Юрий опасался, что догадка Сантьяго может подтвердиться, ведь тинья широко распространена в Северной Африке.
С наступлением ночи мы увидели огни пароходов, одни шли навстречу, другие обгоняли нас, и некоторые проходили в опасной близости, так что Карло влез на качающуюся мачту и укрепил на верхушке керосиновый фонарь, чтобы кто-нибудь ненароком не подмял наш стог сена. Ночную вахту поделили между собой Италия, Египет и Норвегия, у Советского Союза был полон рот хлопот с США и Мексикой, а столяру из Чада не мешало, на наш взгляд, хорошенько выспаться, чтобы он на следующий день мог взяться за починку рулевых весел.
Ветер пугал нас коварными порывами то с норд-веста, то с вест-норд-веста, и я следил за мигающим на берегу маяком, пока он не пропал из виду. Тьма кромешная, штурман лежит в жару, и я не решался сомкнуть глаз, потому что у нас оставался только один способ определять расстояние до берега – высматривать огни во мраке. Каждый пароход, который появлялся прямо по курсу или с левого борта, заставлял сердце учащенно биться: что это – свет окон на берегу, нас уже несет на камни, или всего-навсего другие странники морские? И только когда различишь красные или зеленые габаритные огни, душа становится на место, особенно после того, как убедишься, что пароход пройдет стороной. Чем просторней кругом, тем спокойней.
Но вот небо на востоке зарумянилось, земли не видно, и я пошел поднимать Юрия на вахту, хотя на мостике ему сейчас нечего было делать. Он вышел, улыбаясь и поеживаясь от утреннего холодка, одетый так, что хоть в Антарктику, сел этаким медведем у входа в каюту и набил себе трубку, а остальная шестерка уютно устроилась в спальных мешках, предоставив папирусным связкам плыть по собственному разумению. Вероятно, не только я после двадцати четырех часов предельного напряжения был настолько измотан, что сразу уснул, не успев оценить по достоинству ершистый нрав нашей плетеной каюты, которая изо всех сил старалась перескрипеть, перекряхтеть, перетрещать и перевизжать папирус.
Первые сутки на борту «Ра» были позади.
Самым младшим из нас был Жорж Сориал, рост метр девяносто два, сложение Тарзана, по образованию инженер-химик, по профессии аквалангист, забубенная головушка, чемпион Африки и шестикратный чемпион Египта по дзюдо. После института Жорж главным образом резвился в клубах Каира и волнах Красного моря. Он разбивал кирпичи ребром ладони, развлекая потрясенных друзей, ногу его украшали следы акульих зубов, и среди всех моих знакомых это был единственный человек, который нырял в гости к мурене и кормил ее изо рта рыбой, гладя при этом опасное чудовище рукой, словно какое-нибудь кроткое комнатное животное. Жорж тоже не был моряком, море знал, как говорится, только снизу, и когда он, прочтя заключение экспертов о папирусе, попросился в экспедицию, то упирал, не без намека, на то, что под водой чувствует себя лучше, чем на воде. Подобно другим древним коптским родам в Египте, семья Сериала связывала свое происхождение с племенами, которые пришли в область Нила еще до того, как арабы принесли сюда мусульманскую веру.
Обычно Сориал спал, как мумия, по четырнадцать часов в сутки, но как только у него родилась надежда войти в состав экспедиции, он стал подниматься чуть свет и являться в лагерь у пирамид. Используя его многочисленные знакомства во всех уголках Каира, мы нашли парусных мастеров, которые шьют паруса по старинке, корзинщика, который вручную сплел нам каюту, пекаря, который испек египетские лепешки по рецепту из Каирского музея, и уединившийся на пригорке клан гончаров, которые разминали ногами сырье, стоя по пояс в глиняном месиве, потом босыми ступнями вращали гончарный круг, – так мы получили сто шестьдесят кувшинов, точно повторяющих пятитысячелетние музейные образцы.
Волны покачивали связки папируса, которые с каждым днем впитывали все больше воды, меж тем как на палубе кипела работа. Первоначально общий вес папируса вместе с веревками составлял около 12 тонн, и, несмотря на то, что стебли с тех пор вобрали не одну тонну воды, лодка не погружалась. На палубу свалили несколько тонн груза – хоть бы что, наша ладья была неколебима, как остров. Тяжелее всего была огромная двуногая мачта, которую мы установили, но и мостик, связанный из брусьев сразу за каютой, чтобы рулевой видел, что впереди, тоже весил немало. Если добавить плетеную каюту, огромные рулевые весла и сложенный на палубе материал для ремонта, вес всего дерева превышал 2 тонны. Еще добрую тонну весила вода в тяжелых кувшинах, и не меньше двух тонн составляли провиант с тарой и снаряжение.
Последняя неделя прошла под знаком лихорадочной деятельности. Если верить экспертам, каждый лишний день пребывания папируса в морской воде сокращал срок его службы, так что мы старались не мешкать. К тому же с каждым днем приближался сезон ураганов в западной части Атлантики. До сих пор мы, несмотря на всякие препоны, каким-то чудом выдерживали график с точностью до недели, но дальше и дня нельзя было терять, и темп работы возрос до предела. Кто-то упаковывал, носил, катал грузы на пристани. Кто-то лазил по мачте и вантам, тянул веревки, вязал узлы. Кто-то рубил, строгал и укреплял ремнями и веревками мостик и весла.
Со всех сторон нас окружали помощники. Бельгийский капитан де Бок, участник первой научной археологической экспедиции на остров Пасхи, морской волк, взял отпуск за свой счет и выехал из Антверпена в Сафи, предварительно рассчитав вероятный путь нашего дрейфа. Лоцман антверпенского порта, он привык иметь дело с гигантами водоизмещением в 50 и 100 тысяч тонн, теперь же, стоя на палубе «Ра», следил за тем, чтобы загрузка и оснастка «бумажного кораблика» производилась по всем правилам морского искусства. В это же время его норвежский коллега Арне Хартмарк, капитан судна, которое доставило на Пасху мою экспедицию, висел на мачте вместе с альпинистом Карло Маури, крепя снасти. Герман Ватсингер, участник экспедиции «Кон-Тики», прилетел из Перу, чтобы подсобить нам на старте; Фрэнк Таплин привез из Нью-Йорка добрые пожелания от У Тана. В складском помещении на берегу наши жены под руководством супруги паши, сидя на корточках вокруг кувшинов, клали сыр в оливковое масло, свежие яйца в известковый раствор, наполняли корзины и мешки орехами, сушеной рыбой и бараньей колбасой. Айша Амара смешала мед, тертый миндаль, масло, муку и инжир, и получилось селло, которое исстари известно в Марокко как лучшая дорожная провизия, не боящаяся долгого хранения.
Иной раз паше приходилось вызывать полицию и устраивать оцепление, чтобы работа могла продолжаться: уж очень напирали журналисты, фотографы и просто любопытные. Один зевака свалился с пристани на лодку, разбил несколько кувшинов и раздавил керосиновый фонарь.
И вот настал долгожданный день. «Ра» уже восемь дней впитывала морскую воду в порту, иначе говоря, минула половина срока, который ей отводили ученые-специалисты. Рассвет принес слабый ветер с суши, он постепенно усиливался, и в восемь утра 25 мая флаги на лодке и на старой португальской крепости дружно указывали на Атлантический океан. Раис Фатах, темнокожий араб могучего роста, руководитель профсоюза рыбаков и специальный консультант экспедиции, привел четыре лодки с шестнадцатью гребцами, которые должны были отбуксировать «Ра» в открытое море.
На длинном каменном пирсе творилось что-то невообразимое: народ – стеной, на всех лодках и кранах – фотографы. Супруге паши пришлось просить помощи у полиции, чтобы пробиться к лодке с прощальным даром, непоседливой обезьянкой, которую люди паши совсем недавно поймали в Атласских горах и назвали Сафи. Она отчаянно цеплялась за крестную мать нашего судна, пока не увидела шерсть на лице у некоторых членов команды; после этого Сафи весело прыгнула к нам и приняла самое активное участие в прощальной процедуре с объятиями и добрыми пожеланиями на двунадесяти языках, а рыбаки тем временем невозмутимо подали концы со своих лодок, закрепили их за толстый канат, опоясывающий «Ра» по ватерлинии, и ждали только приказа, чтобы налечь на весла. Один за другим мы вырывались из толпы на волю и прыгали с высокого пирса на мягкую папирусную палубу. Абдулла, Жорж и Сантьяго с южным пылом слали во все стороны воздушные поцелуи и раздавали автографы, Карло еще раз прижал к сердцу свою русоволосую жену, охрипший от простуды Норман простился с американским послом, который осыпал его напутствиями и добрыми пожеланиями, советский посол сердечно обнял Юрия, впервые пускающегося в путь без отечественного руководства и управления. Взяв в руки поданный кем-то микрофон, я произнес прощальную речь, поблагодарил наших друзей и помощников, которые остались на пристани, хотя по справедливости их место было на борту «Ра». Спасибо вам, посол Анкер из Каира, паша Амара с сотрудниками, капитаны де Бок и Хартмарк, преподаватель Корио, Герман Ватсингер, Фрэнк Таплин, Бруно Ваилати... Затем и я соскочил на пружинистую палубу. Сигнал Раису Фатаху, ребята на пристани отдали швартовы, и шестнадцать рыбаков навалились на весла. Часы показывали 8.30. Плавучий стог начал медленно удаляться от пирса.
И вдруг нас оглушил какой-то вой, в первую секунду мы вздрогнули от неожиданности, а потом почувствовали, как к горлу подкатывается клубок: все стоявшие в гавани рыболовные суда включили свои сирены, им вторили басовитые гудки заводов и портовых складов, звенели судовые колокола, кричали люди... А с грузового парохода, стоявшего на рейде, пустили сигнальные ракеты, они шипели и взрывались блестками, и звездный дождь медленно ложился на воду перед нами в пелене алого дыма. От таких почестей мы даже слегка оробели, а тут еще эта непривычная лодка, и необычные снасти, и два закрепленных наискось параллельных рулевых весла, какими люди не пользовались с тех пор, как последние из древних египтян, увековечив это устройство на стенах своих склепов, исчезли с лица земли вместе со своими судами. Вдруг древний механизм нам не покорится? Вдруг волны за молом разметают папирус, и нам придется вплавь добираться обратно к пирсу? А в гавани уже все пришло в движение, под звуки сирен и совсем новогоднего колокольного звона эскорт из рыболовецких шхун, парусных яхт и катеров вышел следом за нами за мол, в воздухе кружили прибывшие из марокканской столицы Рабата самолет чьего-то посольства и вертолет. Как только мы вышли из гавани, стало потише, зато здесь нас встретили океанские валы, и суда поменьше повернули назад, оставив нас и самые крупные шхуны наедине с океаном. Буксировавшие нас лодки отдали концы, и гребцы, выкрикивая добрые пожелания на своем языке, тоже укрылись за высоким молом.
И вот мы впервые поднимаем парус «Ра». Большой, тяжелый, из крепкой египетской парусины, 8 метров в высоту, 7 в ширину по верхней рее, сужающийся книзу – как у древних египтян – до 5 метров, то есть до ширины самой лодки. Тихое дыхание слабеющего ветра с трудом отрывало увесистую рею от двойной мачты. И бордовый парус с блестящим, кирпичного цвета солнечным диском, символизирующим «Ра», тоже почти не шевелился. Как будто разноцветное белье, висели над каютой в ряд наши флаги, по латинскому алфавиту: Чад, Египет, Италия, Марокко, Мексика, Норвегия, США и СССР, и по краям – оптимистический флаг Организации Объединенных Наций – белый глобус на голубом поле.
Мы с Абдуллой стояли на мостике, каждый у своего рулевого весла, озабоченно глядя то на обвисший парус, то на белые гребни прибоя в нескольких сотнях метров от нас. Кажется, приближаются?.. Точно. Мы засекли две линии: конец мола и башню на крепостной стене – и убедились, что лодку медленно несет к берегу. Пришлось подать конец на ближайшую шхуну, и вот мы полным ходом идем в море, а кругом чуфыкают моторами сейнеры. Но такая скорость не была естественной для «Ра». Сперва линь, на котором за бортом болталась сетка с живыми омарами, занесло за корму, и он обмотался вокруг одного из рулевых весел. Весло напружинилось, грозя сломаться. В последнюю минуту нож обрубил линь, весло было спасено, зато лакомое блюдо поглотили волны. Затем под напором воды переломилось одно из трех укрепленных вдоль борта толстых весел, играющих роль швертов, притом именно то весло, к которому Норман приладил нерв, призванный соединять нас с родными и близкими, попросту говоря, медную пластину, заземление нашей портативной радиостанции. Металл явно был чужеродным телом на упругой папирусной лодке, и весло переломилось как раз по краю медной обшивки, только провод не дал волнам унести лопасть.
Нет, так не годится. Ветер не ветер – надо обходиться своими силами. Мы остановили эскорт, выбрали все концы и снова подняли парус При этом нам бросилось в глаза, как сильно качает шхуны; наше плоскодонное суденышко, подобно своему предшественнику, бальсовому плоту «Кон-Тики», чуть покачивалось вверх-вниз на широких валах.
И вот родился ветер, сначала легкие, потом все более сильные и долгие порывы, но уже не со стороны суши. Вместо обычного в это время года норд-оста подул норд-вест, а он грозил прибить нас прямо к невысоким скалам, что тянутся к югу от тихой гавани Сафи. Берег был еще совсем близко, отчетливо видно не только дома, но и коварный прибой, беззвучно лижущий желто-коричневые камни там, где прокаленный солнцем фасад зеленых равнин Марокко отражал вечный напор океана. И нас туда выбросит, если мы не научимся управлять своим стогом...
Всю нашу семерку заботило, как действует рулевое устройство. Мы могли только гадать, научить нас было некому. Вся надежда была на то, что ветер и течение, господствующие у берегов Марокко, увлекут лодку в океан, и мы сможем неделю-другую экспериментировать, не опасаясь, что нас прибьет к скалам. Мы боялись берега, а не океана. Начни мы проводить испытания в море около устья Нила – могли бы очутиться на мели, так и не успев выяснить принцип действия рулевого устройства древних египтян. А здесь, в Атлантике, можно беспрепятственно заниматься экспериментами, ведь обычно стихии уносят всякие обломки в океан.
Мы поставили на «Ра» точно такое рулевое устройство, какое показано на многочисленных моделях и фресках древнейшей поры Египта. И даже, по примеру древних египтян, попытались достать для рулевых весел кедр из Ливана, но в бывшем царстве финикийцев осталось совсем мало кедра, да и тот в заповедниках. Пришлось нам для мачты довольствоваться египетским сенебаром (он похож на можжевельник), а на два 8-метровых весла пошло африканское дерево, которое марокканцы называют ироко, причем лопасти были такой ширины, что вполне можно сделать небольшой письменный стол. Эти весла укрепили наискось по бокам заостренного ахтерштевня «Ра». Нижняя часть веретена опиралась на лежащее поперек кормы тонкое бревно. Примерно в 4 метрах выше – вторая точка опоры, поперечный брус, который был отнесен подальше от кормы и служил также задним поручнем мостика. В поперечинах бруса были вытесаны и выстланы кожей желоба для веретен, и в этих местах весла туго привязали толстой веревкой, так что они в стороны не двигались, а только вращались вокруг продольной оси. Иначе говоря, ими нельзя было рулить так, как длинным рулевым веслом на плоту «Кон-Тики», ведь они были фиксированы в двух точках.
Как же они работали? В верхней части каждого веретена была привязана поперек рукоятка из крепкого дерева, своего рода румпель, и обе они соединялись между собой шестом, висящим горизонтально на веревочных петлях. Когда человек, стоя посередине, толкал этот шест в сторону, весла вместе поворачивались вокруг продольной оси, как будто параллельные рули. Это выглядело так замысловато и так непохоже на все, чем пользуются теперь разные народы, что, когда я в первый раз осторожно толкнул шест влево и «Ра» медленно, но послушно, как смирная лошадь, повернулась вправо, у ребят вырвался крик радости и облегчения. Я сейчас же толкнул рычаг в другую сторону – лодка не спеша повернулась влево.
Все правильно. Мы имели дело с рулевым устройством, которое исторически предшествовало рулю, было связующим звеном между элементарным рулевым веслом и современным рулем. В далеком прошлом египтяне обнаружили, что вовсе не обязательно толкать длинное тяжелое рулевое весло, чтобы заставить парусную лодку повернуть, достаточно крутить его вокруг своей оси, и лодка ляжет на нужный курс. Они прикрепили поперечину к рукоятке, и появилось рулевое устройство, такое, как на «Ра». Подвешенный к румпелям шест был только дополнительным усовершенствованием, чтобы рулевой мог действовать сразу двумя веслами. Дальше древним морякам оставалось убедиться на опыте, что лодка поворачивает и тогда, когда все весло поставишь вертикально и крутишь лопасть, – так они изобрели тот руль, который нам известен теперь.
Сияющий Абдулла, сын пустыни, тоже взялся за поперечный шест, в четыре руки дело пошло еще лучше, а на палубе хлопотали остальные – повинуясь указаниям Нормана, они тянули шкоты, ловя парусом переменчивый ветер. Журналисты и искушенные морские волки на снующих вокруг нас сейнерах внимательно следили за нашими первыми, робкими шагами. И кажется, они не меньше нашего обрадовались, когда выяснилось, что папирусная лодка слушается нас. Норд-вест норовил прибить «Ра» к берегу, но мы сумели лечь на курс под прямым углом к ветру и пошли правым галсом на юго-запад, параллельно суше.
Здесь нас уже не защищал мыс Бадуса, мощная океанская волна изрядно мотала рыбацкие шхуны, и так как на них сейчас было много непривычных к качке пассажиров, капитаны начали поворачивать назад. Одна за другой звучали прощальные сирены. Последней, кого я видел, была Ивон, она стояла, расставив ноги для устойчивости, и махала нам двумя руками. Вертолет уже исчез. За ним и самолет описал над нами последние круги.
И вот мы остались наедине с океаном. Семь человек, обезьянка, упоенно кувыркающаяся на вантах, и в деревянной клетке кудахтающие куры и одна утка. Теперь лишь океанские валы бурлили и шипели вокруг нашего мирного Ноева ковчега, я сразу стало как-то удивительно тихо.
После того как парус был поднят, шкоты и брасы надежно закреплены, Норман, пошатываясь, пришел на корму и признался мне, что чувствует себя очень скверно. Он был совсем бледный, глаза воспалены. Нетвердо шагая, – еще не освоил морскую походку – подошел Юрий, поставил ему градусник, и мы с ужасом услышали, что у Нормана температура тридцать девять. Грипп... И так как порывы морского ветра становились все холоднее, наш русский врач велел нашему американскому штурману немедленно идти в каюту и ложиться в спальный мешок. Единственный моряк в команде на время вышел из строя.
А ветер крепчал, и волны шли все чаще, но «Ра» спокойно приподнимала один борт и любезно пропускала под связками даже самые большие валы. Правда, удар, приходящийся на весла, порой был таким сильным, что они заметно гнулись, грозя сломаться, и я кричал Абдулле, чтобы он ослабил свою железную хватку.
В целом все шло хорошо, и у всех было превосходное настроение, даже у злополучного больного, хоть он и сетовал, что от него никакого проку. Карло, привыкший есть и спать в подвешенном состоянии, уже доказал, что никто на борту лучше него не вяжет узлы; теперь он заботливо подал нам горячий кофе и холодные куриные ножки. Он радостно доложил мне, что в море все равно что в горах: то же самое чувство слияния с природой, напряженное единоборство со стихиями, огромный душевный подъем, необходимость быстро находить решение неожиданных проблем.
Мы продолжали идти перпендикулярно ветру со скоростью около четырех узлов, и берег как будто не приближался. В 15.15 я сказал себе, что все в порядке, можно сдавать вахту следующей двойке. Карло и наш дзюдоист Жорж заняли место у руля, Абдулла отправился отдыхать в каюту, а я пошел вперед, посмотреть на носовую палубу, которая была настолько загромождена кувшинами, бурдюками и овощными корзинами, что пройти на нос можно было только по самому краю папирусного фальшборта. Перед пузатым парусом, прислонясь к клетке с птицей, сидел Сантьяго; он улыбался, любуясь видом на далекий берег. Измотанный почти семичасовой рулевой вахтой, я сел рядом с ним и позволил себе – впервые за много недель непрерывной горячки – расслабиться.
Мы не могли нарадоваться, видя, как легко наша лодка переваливает через любую волну, сколько бы та ни ярилась и ни бросалась на нас справа. До нас долетали только редкие брызги, и я растянулся на палубе, наслаждаясь приятной усталостью во всем теле. Вдруг мое блаженство было нарушено испуганным трио:
– Тур! Тур!
Не прошло и пяти минут, как я спустился с мостика... Я вскочил на ноги и, держась за край заполоскавшегося паруса, осторожно протиснулся мимо него назад, обуреваемый тревожными догадками. Навстречу мне, раскачиваясь, словно подвыпивший канатоходец, уже спешил Юрий, от волнения он говорил по-русски и лихорадочно жестикулировал, показывая на корму, а там из-за каюты торчали головы рулевых, которые, продолжали испуганно взывать ко мне.
Так, все на борту. А это самое главное, были бы все целы, остальное как-нибудь уладим. Жорж растерянно развел руками, а Карло крикнул мне по-итальянски, что сломались рулевые весла. Оба сразу! Одного взгляда было довольно, чтобы определить размах бедствия. Веретена переломились в самом низу, и широкие светло-коричневые лопасти всплыли, волочась за нами на буксире, будто доски для серфинга. А нам так расписывали прочность ироко... Хорошо еще, что мы, как это делали древние египтяне, привязали веревки к лопастям, чтобы весла не отходили назад. Мы поспешили вытащить из воды обломки, пока веревки не перетерлись. Карло и Жорж стояли каждый со своим веретеном, крути не крути – толку чуть.
Меня как будто ударили под ложечку.
– Что, будем возвращаться в гавань? – тихо выговорил Карло.
Все трое вопросительно смотрели на меня с выражением глубокого отчаяния на лице.
Я не успел ответить. «Ра» неторопливо повернулась, парус снова наполнился, и лодка как ни в чем не бывало сама пошла тем самым курсом, который мы так упорно ей навязывали. В ту же секунду я сообразил, что произошло, и сердце наполнилось ликованием. Это заработали два укрепленных вертикально весла впереди, играющие роль швертов. Поскольку мы остались без рулей, и на корме не было никакого подобия киля, ветер с моря толкал корму влево, а нос автоматически приводился к ветру, отворачивая от берега.
– Здорово! – крикнул я по-английски, стараясь вложить в этот возглас побольше радости, чтобы только что родившаяся у меня уверенность передалась ребятам, которые – не без основания – уже готовы были поставить крест на плавании через Атлантический океан.
Переполох на палубе заставил больного Нормана покинуть спальный мешок; он вылез из каюты как раз в ту минуту, когда раздался мой радостный крик, и нетерпеливо спросил, чему я так радуюсь.
– Здорово! – повторил я с энтузиазмом. – Оба рулевых весла сломаны, теперь мы можем идти дальше, управляя гуарами, как древние инки!
Норман ошалело воззрился на меня лихорадочными глазами, не зная, смеяться или плакать, остальные тоже пристально смотрели на руководителя экспедиции, пытаясь понять, то ли он потерял рассудок из-за аварии, то ли знает какое-то секретное индейское чародейство. Скорее последнее, ведь «Ра» лучше прежнего держала курс, об этом говорил и компас, и угол между форштевнем и берегом. Карло долго изучал мое лицо, наконец грусть исчезла из его голубых глаз, и он расхохотался. Тут и Абдулла проснулся, и вот уже мы все вместе стоим и смеемся, восхищаясь лодкой, которая сама собой управляла, и никаких хлопот, знай посиживай на корзинах. Компасная игла осталась в одиночестве на мостике, лежа в своем котелке, она диктовала курс зюйд-вест, а нам как раз туда и надо, и «Ра» с наполненным парусом послушно шла на юго-запад среди сердито шипящих волн, предоставляя нам наслаждаться ролью пассажиров.
– Вот теперь мы все равно что потерпевшие кораблекрушение, – признался я своим товарищам и, чтобы не сбивать их окончательно с толку, поспешил добавить, что это идеальный случай для моего эксперимента, как раз то, что грозило судам такого рода, если они, пройдя Гибралтар, направлялись дальше вдоль берегов Марокко. Теперь мы точно выясним, куда их заносило в итоге.
Сияющий Карло не переставал смеяться, покачивая головой. Да, тут самое лучшее – положиться на природу, стихии сами обеспечат доставку. На палубе лежало запасное весло, но оно было единственное, и мы решили не ставить его: чего доброго, сломается раньше, чем начнется по-настоящему наш рейс через Атлантику. И уж во всяком случае это хваленое ироко надо основательно укрепить, перед тем как подвергать весло напору волн.
Под вечер Юрий выбрался из каюты с озабоченным видом и объявил, что теперь у нас два пациента с постельным режимом. Сантьяго третий день жаловался на зуд в паху, а морской воздух, видимо, вызвал обострение, у него во многих местах сошла кожа, и он предполагал, что это неприятная болезнь тинья, которую он наблюдал на Канарских островах, куда нас несло течение. Юрий опасался, что догадка Сантьяго может подтвердиться, ведь тинья широко распространена в Северной Африке.
С наступлением ночи мы увидели огни пароходов, одни шли навстречу, другие обгоняли нас, и некоторые проходили в опасной близости, так что Карло влез на качающуюся мачту и укрепил на верхушке керосиновый фонарь, чтобы кто-нибудь ненароком не подмял наш стог сена. Ночную вахту поделили между собой Италия, Египет и Норвегия, у Советского Союза был полон рот хлопот с США и Мексикой, а столяру из Чада не мешало, на наш взгляд, хорошенько выспаться, чтобы он на следующий день мог взяться за починку рулевых весел.
Ветер пугал нас коварными порывами то с норд-веста, то с вест-норд-веста, и я следил за мигающим на берегу маяком, пока он не пропал из виду. Тьма кромешная, штурман лежит в жару, и я не решался сомкнуть глаз, потому что у нас оставался только один способ определять расстояние до берега – высматривать огни во мраке. Каждый пароход, который появлялся прямо по курсу или с левого борта, заставлял сердце учащенно биться: что это – свет окон на берегу, нас уже несет на камни, или всего-навсего другие странники морские? И только когда различишь красные или зеленые габаритные огни, душа становится на место, особенно после того, как убедишься, что пароход пройдет стороной. Чем просторней кругом, тем спокойней.
Но вот небо на востоке зарумянилось, земли не видно, и я пошел поднимать Юрия на вахту, хотя на мостике ему сейчас нечего было делать. Он вышел, улыбаясь и поеживаясь от утреннего холодка, одетый так, что хоть в Антарктику, сел этаким медведем у входа в каюту и набил себе трубку, а остальная шестерка уютно устроилась в спальных мешках, предоставив папирусным связкам плыть по собственному разумению. Вероятно, не только я после двадцати четырех часов предельного напряжения был настолько измотан, что сразу уснул, не успев оценить по достоинству ершистый нрав нашей плетеной каюты, которая изо всех сил старалась перескрипеть, перекряхтеть, перетрещать и перевизжать папирус.
Первые сутки на борту «Ра» были позади.
 Кукареку! Пахнет свежим сеном. Я в деревне. Да нет, какая деревня – меня куда-то несут на качающихся носилках. Я очнулся в спальном мешке и услышал, как подо мной булькает вода и прямо в ухо шипят волны. Ну конечно. Я на лодке. Я открыл глаза и сквозь щелеватую бамбуковую стенку увидел свинцовые океанские валы. Да ведь я на «Ра»! А сеном пахнет от наших матрасов, набитых марокканской травой.
Кукареку! Опять, это уже не сон, и я метнулся на четвереньках к выходу, проверить – не иначе, рядом берег, сейчас мы в него врежемся. Сколько хватало глаз, были видны только курчавые гребни воли; но вид вперед заслонял изогнутый луком бордовый парус, который увлекал нас по волнам. Из-за паруса доносилось сквозь плеск воды неистовое кудахтанье, а вот опять петух прокукарекал. Все правильно, это наш собственный птичник на носу. Облегченно вздохнув, я в одних трусах вылез из каюты. Ну и холодина. Юрий сидел на мостике закутанный, как эскимос, и что-то писал.
Видимо, мы ушли далеко в море: дул леденящий северный ветер, бурлящие гребни вздымались на высоту 3-4 метров, и даже с верхушки мачты, в какую сторону ни посмотри, был виден только зубчатый стык между океаном и небом.
– Где мы находимся? – спросил Юрий.
– Здесь, – ответил я и поглядел на распростертое тело в каюте, в котором вирусы-микробы яростно отбивались от пилюль.
Один штурман умел пользоваться секстантом. Я умел только дрейфовать на плотах. Черт его знает, где мы находимся. И вообще, сейчас важнее всего надеть свитер и штормовку.
Из тесного прохода между парусом и передней стенкой каюты, заглушая плеск волн и разноголосый скрип, вдруг донесся развеселый свист. Из-за бамбуковой плетенки выглянуло бородатое румяное лицо Карло.
– Кушать подано! Горячий чай каркаде а ля Нефертити и Тутанхамоновы лепешки с медом!
Проснулся Абдулла и растормошил своего африканского соседа Жоржа. Голодная команда окружила Карло, он накрыл на крыше курятника, и мы заняли места, кто на кувшине, кто на мешке с картофелем, кто на бурдюке с водой. Ничего, наведем порядок на палубе и устроимся поуютнее, только бы наладить сперва эти рулевые весла.
– Где мы находимся? – спросил Жорж.
– Здесь, – откликнулся Юрий, идя к больным с двумя кружками горячего каркаде.
– Африка все еще там, – добавил я, очерчивая взмахом руки горизонт слева. – Будут еще вопросы?
– Да, – сказал Жорж. – Интересно, как эти мужики в древности определяли в море свое место без секстанта и компаса?
– Восток и запад они могли найти по солнцу, – объяснил Карло, – а север и юг – по Полярной звезде и Южному кресту.
– А широту они могли определить по углу между горизонтом и Полярной звездой, – добавил я. – На Северном полюсе он равен девяноста градусам, а на экваторе Полярная звезда стоит над самым горизонтом. На шестидесятом градусе северной широты угол между ней и горизонтом – шестьдесят градусов, на тридцать втором – тридцать два. Увидел Полярную звезду – можешь прямо по ней узнать свою широту. Долготу финикийцы, полинезийцы и викинги определяли приблизительно, исходя из скорости и пройденного пути, но тут невидимое течение всегда вносило элемент неопределенности, когда берег скрывался из виду.
У себя в Каире Жорж видел в музее приборы, которыми его соотечественники много тысяч лет назад измеряли угол небесных тел, и он знал, какую роль играли Солнце и Полярная звезда в их астрологических и архитектурных вычислениях. По Солнцу, Луне и наиболее известным созвездиям всегда можно узнать, куда нас несет. К тому же я решил смастерить самоделку, которой можно определять широту без современных навигационных инструментов.
Красный египетский каркаде, похожий на горячий вишневый морс, освежал и бодрил. Рассыпчатые египетские лепешки напоминали плоские сдобы: с медом, без меда – мы в жизни не ели лучшего провианта. Перед началом нового трудового дня мы зашли в каюту пожелать скорейшей поправки нашим прихворнувшим товарищам. Норману было очень худо, однако ни он, ни Сантьяго не вешали носа. Для Сантьяго все осложнялось тем, что из-за влажности воздуха на «Ра», где считанные сантиметры отделяли нас от воды, одежда, спальные мешки и одеяла постоянно были липкими и солеными. Он страдал от потертостей, и малейшее движение причиняло острую боль. В общем, эта двойка задала работу Юрию. И уж наверно им, обреченным на безделье, несладко было лежать и слушать грохот и душераздирающий визг и треск, которым отзывались папирусные связки, когда очередной могучий вал заставлял их сгибаться, извиваться и дергать многочисленные веревки. Порой казалось, что под ящиками Нормана кто-то одновременно разрывает в клочья сто тысяч воскресных выпусков «Нью-Йорк Таймс».
На плетеном полу каюты стояло шестнадцать деревянных ящиков – на каждого члена экипажа по два, да еще в двух ящиках хранилась радиоаппаратура и навигационные инструменты. Папирус изгибался на волнах, как банановая кожура, упругий пол повторял движения связок, и такие же кривые выписывали ящики, сенные матрасы и спина с ягодицами или же плечо и бедро, смотря по тому, какую позу вы изберете. Так и кажется, что лежишь на спине морского змея.
Да и снаружи колебания палубы «Ра» были не менее заметны. Смотришь с кормы вперед и видишь, как желтый фальшборт выгибается согласно с волнами, а если вытянуться так, чтобы разглядеть за парусом высокий заостренный форштевень, видно, что и он то мерно поднимается вверх вместе с носовой палубой, как будто хочет обозреть даль над гребнями, то снова опускается, и только самая верхушка торчит над курятником. Наша «Ра» напоминала морское чудовище, которое плывет, шумно дыша и извиваясь всем своим могучим телом, и шипит, кряхтит, скрежещет, словно хочет криком разогнать все рифы и барьеры на своем пути.
Но всего чуднее было смотреть на двуногую мачту с большим парусом – как будто огромный спинной плавник двигался взад-вперед, послушный мощным мускулам «Ра». То больше метра отделяет ее от каюты, перед которой Карло сложил кухонные ящики, то просвет сузится настолько, что поглядывай, как бы тебе не прищемило ступню полом каюты или мачтовой пятой; ведь мачта, каюта и мостик были привязаны к гибкой палубе веревками и качались независимо друг от друга. А без этого мы и одних суток не продержались бы на воде. Если бы мы не выполнили в точности все древние правила, если бы скрепили мостик гвоздями, сколотили каюту из досок или привязали мачту к папирусу стальным тросом вместо веревок, нас распилили бы, разбили, разорвали в клочья первые же океанские волны. Именно гибкость, податливость всех суставов не давала океану по-настоящему ухватиться за мягкие стебли папируса и сломать их. И все же в первый день я слегка оторопел, когда наш столяр Абдулла, вооружившись метром, показал, как настил мостика то отходит от каюты сантиметров на двадцать, то прижимается к ней так плотно, что можно и без пальца остаться. Словом, пока не освоился, лучше быть начеку и глядеть в оба. Но что станется с нашим бумажным корабликом через неделю-другую, если он уже на второй день проявляет такую расхлябанность на волне?
По опыту «Кон-Тики» я еще до старта знал, что самое опасное – если кто-нибудь упадет за борт. Мы не сможем повернуть и возвращаться против ветра; во всяком случае пока что наш скудный опыт исключает возможность такого маневра. И даже очень хороший пловец не догонит нас, борясь с волной. Между стояками мостика на корме была привязана пенопластовая спасательная лодка на шесть человек, но она предназначалась для аварийных случаев, и, чтобы спустить ее на воду, надо было сперва разломать мостик, для этого рядом висел топор. К тому же и этот квадратный плотик не догонит «Ра», мы будем дрейфовать порознь. Отсюда правило номер один: держись на борту. Никуда не ходить без страховочного конца. Карло Маури каждому выдал двухметровую веревку с крюком, какими пользуются альпинисты, чтобы не свалиться в пропасть, и за пределами каюты мы всегда передвигались с веревкой вокруг пояса, цепляясь крюком когда за найтовы, когда за ванты, когда за остов мостика.
Не боясь стать смешным, я упорно настаивал на том, чтобы это правило выполнялось в любую погоду, и напоминал, как Герман Ватсингер очутился за бортом «Кон-Тики» и в последнюю минуту был спасен Кнютом Хаугландом. Аквалангист Жорж и житель Центральной Африки Абдулла никак не могли уразуметь, что страховаться надо всегда, а не только когда один несешь ночную вахту или висишь на кормовой поперечине, занятый сугубо личным делом. В конце концов Жорж понял, как это важно для меня, и покорился, но Абдуллу я и на второй день застал стоящим без страховки на бортовой связке. Стоит и поет, а веревка болтается сзади, как хвост.
– Абдулла, – сказал я, – это море больше всей Африки и в тысячу раз глубже озера Чад, где Жорж может нырнуть и достать дно.
– Ух ты, – восхищенно произнес Абдулла.
– И здесь полно рыб, которые едят людей, они больше крокодила и плавают вдвое быстрее.
– Ух ты, – смышленый Абдулла всегда был рад узнать что-то новое.
– Как ты не понимаешь: если ты упадешь в море, то утонешь, тебя сожрут, ты никогда не увидишь Америки!
Лицо Абдуллы озарилось широкой покровительственной улыбкой, и он ласково положил мне на плечо свою ручищу.
– Это ты не понимаешь, – сказал он. – Погляди-ка!
Он завернул край толстого свитера, обнажая плотно набитый черный живот. Поперек живота тянулась веревочка, с нее сзади свисали на крестец четыре кожаных мешочка.
– С этим мне ничего не страшно, – заверил он меня. Кожаные мешочки ему дал отец, а наполнял их один чадский шаман.Судя по тому, что я видел на рынке в Боле, в мешочках лежали когти леопарда, крашеные камушки, семена и засушенные растения. Абдулла с таинственным видом опустил свитер и победоносно кивнул. Теперь я спокоен? С Абдуллой никогда ничего не может случиться. Но чтобы порадовать меня, он тоже обещал страховаться.
В первое же утро Абдулла испытал серьезное потрясение: он прибежал ко мне и сообщил, что в воду попала соль. Вся вода соленая. Как это могло получиться? Я не на шутку встревожился. Из каких кувшинов он пил?
– Да нет, не в кувшинах, там! – Абдулла показал на море.
До сих пор он не подозревал, что море соленое. И когда я объяснил ему, что мы всю дорогу от Африки до Америки будем идти по соленой воде, он недоверчиво осведомился, как же могло попасть в море столько драгоценной соли. Мое геологическое пояснение совсем убило его. Ведь Сантьяго говорил, что воду надо беречь, каждому тратить в день не больше литра, но ему нужно в пять раз больше, он должен мыть руки, ноги, голову и лицо перед тем, как молиться аллаху, а молиться положено пять раз в день.
– Для омовения можешь пользоваться морской водой, – сказал я.
Но Абдулла уперся. Его вера требует использовать для омовения чистую воду. А эта с солью.
Не успели мы разрешить соляную проблему, как на Абдуллу обрушилась еще одна напасть. Жорж извлек сонную Сафи из картона, где она ночевала, и от радости обезьянка напрудила на матрас Абдуллы. Увидев лужицу, бедняга окончательно пал духом. Это обезьяна сделала? Правоверный, чью одежду осквернила собака или обезьяна, сорок дней не может молиться аллаху! Абдулла в отчаянии вращал глазами. Сорок дней без покровительства аллаха!
Жорж спасительной ложью избавил душу Абдуллы от угрызений. Никакая это не обезьяна, просто с моря брызнуло. Абдулла предусмотрительно решил поверить, не донюхиваясь до истины. А я заверил, что обезьяна все равно получит штанишки, и ей никогда не позволят сидеть на матрасе Абдуллы.
– Абдулла, – продолжал я, – тебе вот нужна вода для молитвы, а ты хоть раз подумал, сколько обезьян и собак живет по берегам водоемов Чада? Здесь ты на сотни миль не увидишь ни одной собаки, а мелкие грехи Сафи остаются далеко за кормой. Нигде на свете ты не найдешь такой чистой воды, как в океане.
Абдулла выслушал меня, поразмыслил. И вот уже он изучает морскую воду в парусиновом ведре. Наконец началось омовение. Оно совершилось в лихорадочном темпе и с ловкостью фокусника. Затем Абдулла поднялся на мостик, и Юрий помог ему определить по компасу примерное направление на Мекку. С непосредственностью глубоко верующего человека он, лицом к востоку, опустился на колени у выхода из каюты и принялся отбивать поклоны на своем матрасе. Потом достал четки и начал отсчитывать молитвы. Они сыпались из него, как горох, но он держался так искренне, что мы все – копт, католик, протестант, атеист, пантеист, – невольно с уважением смотрели на такую убежденность. Да, кого только не было в нашем маленьком коллективе! После того как Абдулла очистился телесно и духовно, мы, стоя на мостике, попытались с помощью ножа и сверла прикрепить отломившуюся лопасть к веретену. У Абдуллы было отличное настроение, он пел что-то центральноафриканское и приплясывал. Мы обмотали весло веревкой, тут и Карло помог своими альпинистскими узлами, и дело уже шло к концу, когда налетевшие с разных сторон шквалы вывернули парус. И так как мы без руля не могли развернуть лодку, ветер изо всей силы обрушился на широкий парус спереди. Тяжелая 7-метровая рея яростно колотила по мачте вверху, грозя ее сломать, а широченный парус бешено метался во все стороны, норовя сам себя распороть. Он опрокидывал фруктовые корзины, цеплялся за курятник, и куры исступленно кудахтали, заглушая наши команды. Вдруг одна корзина с провиантом поплыла у нас в кильватере своим ходом. Один лишь завхоз Сантьяго знал, что в ней лежит, но он сам лежал в каюте со своими списками, Юрий чуть не силой удерживал его и Нормана в постели.
Стоя на мостике, я попробовал руководить поединком с 8-метровым парусом. Трудно человеческому голосу противостоять шквалам, которые относят его вдаль над бурлящими гребнями вместе с хлопаньем, треском и скрипом парусины и папируса. О том, чтобы спускать парус, теперь не могло быть и речи, его тотчас унесло бы, как воздушного змея. Надо было вернуть лодку на правильный курс, маневрируя парусом и корпусом. Опирая обычное весло о торчащий папирусный хвост, богатырь Жорж принялся выгребать корму к ветру. Отдали плавучий якорь, этакий брезентовый зонт на длинной веревке – лучшее средство погасить ход и развернуть корму. Стрелка компаса начала медленно поворачиваться, а я сражался со строптивым шкотом, который хлестал меня и норовил сдернуть за борт, не давая мне закрепить его за мостик, и одновременно следил за правильным размещением и страховкой моей малочисленной команды. Стараясь перекричать гул ветра, я отдавал команды по-французски Абдулле, по-итальянски Карло, по-английски Юрию, по-итальянски, по-английски или по-французски Жоржу, хотя, по правде сказать, не знал даже, как называются на моем родном языке веревки, которые надо было тянуть, и мое восхищение догадливостью интернационального отряда сухопутных крабов росло с каждой минутой.
Наконец наш драгоценный парус был спасен, шкоты закреплены, все гребные весла установлены около кормы и носа на манер индейских гуар, плавучий якорь поднят на палубу и воцарился относительный порядок. Мы получили небольшую передышку, и я решил использовать ее, чтобы, на случай повторения подобной ситуации, когда каждая секунда дорога, разучить короткие и всем понятные обороты. В промежутках между шквалами сквозь щелеватую стенку из каюты доносились обрывки добрых советов, которые подавал нам слабым голосом больной Норман. Он еще раньше пытался обучить нас важнейшим морским командам на английском языке, чтобы мы знали, когда выбирать, потравить или крепить гордень, служащий для подъема паруса, брасы, вращающие рею в горизонтальном направлении, и шкоты, притягивающие к бортам нижние углы паруса. Но, так как трое из оставшихся в строю ребят плохо понимали на слух английский, никогда нельзя было предугадать, что последует, если я крикну Юрию или Карло: «Пулл ин старборд такк!» Или скомандую Абдулле: «Лет гоу порт сайд шит!».
Не успели запыхавшиеся, но довольные победители собраться на мостике, чтобы придумать несколько кратких команд в духе эсперанто, как наш грот снова угрожающе захлопал, и хотя на сей раз все молниеносно оказались на местах, ветер опять успел развернуть парус и лодку. Раз за разом повторялось одно и то же. Мы продолжали дрейфовать прежним курсом, но задним ходом, и рея с парусом беспорядочно дергались. Каждый раз нам в конце концов удавалось наполнить парус ветром и спасти рею, хотя иногда для этого приходилось выносить парус на левый борт, вместо правого, и лодка естественно, шла почти перпендикулярно тому курсу, который был нам нужен, чтобы не столкнуться с сушей.
И вот нас опять – сколько можно! – несет полным ходом к берегу Африки, и мы гребем, выбираем шкоты, возимся с плавучим якорем, в борьбе с бушующими волнами переставляем весла-гуары, силясь вернуться на верный курс. Но без больших рулевых весел «Ра» категорически не признавала половинчатых решений. Парус увлекал ее либо на юго-восток, либо на юго-запад, и как только своенравный шквал разворачивал нас носом на юго-восток, незримые берега Африки неумолимо приближались. Карло то и дело взбирался на макушку качающейся мачты, но земли, к счастью, не было видно. Что ж, это еще ничего не значит, ведь отступив на восток к югу от Сафи, берег потом опять выдается на запад.
Только укротим парус, вынеся его на борт, как ветер опять зайдет с другой стороны, и парусина начинает дергаться с такой силой, что знай упирайся покрепче, чтобы не вылететь за борт. Один головной убор за другим оказывался в море, особенно жалко было яркую тюбетейку Абдуллы, она как бы стала частью его самого. Зато теперь каждый, перейдя на другое место, тотчас автоматически страховался, у обезьянки тоже была своя веревка, и она лихо раскачивалась на вантах вниз головой, да и куры были надежно защищены брезентом в своей клетке, которую мы принайтовили к палубе подальше от паруса.
С каждым часом шквалы становились все яростнее, грозя оставить нас без такелажа. Надо убирать парус, пересиливая ветер. Другого выхода нет.
Три человека взялись за брасы, чтобы притянуть рею с парусом к палубе, но не успели двое других раскрепить фал, как налетел новый шквал, и тяжеленный парус заполоскался над морем, будто флаг. На левом борту Юрий и Абдулла прилагали отчаянные усилия, чтобы поймать снасти, которые вырвались из рук и теперь болтались над волнами. Тем временем наша тройка судорожно цеплялась ногами, чтобы нас не сдернули за борт правые снасти, ведь теперь только они могли спасти парус и не дать ему навсегда исчезнуть в волнах. Мачта и ванты угрожающе скрипели, а папирусные связки накренились с жалобным скрипом так сильно, что мы впервые почувствовали, что кажется и эта чудо-лодка способна опрокинуться. Одно несомненно: никакой другой парусник пятнадцатиметровой длины не устоял бы против такого мощного напора, разве что мачта сломалась бы.
Дюйм за дюймом мы подтягивали рею и парус, но часть парусины лежала на волнах, в складках собралось немало ведер воды, и, силясь вырвать эту тяжесть из хватки океана, мы сшибли еще одно из наших драгоценных весел. Оно исчезло в воде, потом вынырнуло и закачалось на волнах за кормой – попробуй, поймай.
– До свидания в Америке! – крикнул ему Карло. – Только мы придем туда раньше!
Так как рея была на два метра шире палубы, пришлось нам складывать мокрый, тяжеленный парус вдоль левого борта «Ра». Вымотанные, как после двадцати раундов бокса, мы торжествующе уселись на него верхом, чтобы обуздать строптивого бордового птеродактиля, который снова и снова начинал корчиться, когда порывы ветра накачивали воздух в складки. В конце концов мы надежно скрутили чудовище.
И сразу на борту воцарилась неожиданная тишина. Слышно было только безмятежное мерное поскрипывание, оно говорило о том, что океан усыновил папирусную лодку «Ра», эту колыбель с семеркой беспокойных близнецов, которых надо было поскорее убаюкать, пока они не натворили бед – того и гляди опрокинут колыбельку. «Ра» опять шла так, как ей хотелось, и при этом не грозила больше врезаться вместе с нами в береговые утесы.
Я посмотрел на Карло. Он улыбнулся. Потом прыснул. Потом громко расхохотался. Остальные тоже уставились на него.
– Теперь у нас ни паруса, ни рулевых весел. Лодка больше не подчиняется воле человека. Теперь природа распоряжается. Надо только перестать с ней воевать, и можно спокойно передохнуть и прийти в себя.
Мы осмотрелись кругом. В самом деле, полнейший порядок. Покачиваемся в папирусном гамаке без руля, без паруса, без мотора и без хлопот, могучее океанское течение несет нас туда, куда ему надо, и нам надо туда же. Абдулла ушел в каюту и лег там, держа возле уха карманный транзистор. Жорж решил заняться рыбной ловлей. Юрий съел апельсин и пошел за медицинским спиртом, чтобы настоять его на корках, Карло начал рыться в мешках и корзинах, подыскивая сырье для плотной трапезы. Сантьяго, стараясь не тревожить свои болячки, смирно лежал в каюте со списком в руках и выкрикивал номера кувшинов с водой, финиками, яйцами, оливками и кукурузой для кур. Я взял нож, чтобы выстругать прибор для измерения широты. Тут Норман не выдержал.
– Ребята, нам здесь хорошо, – простонал он. – А каково тем, кто дома остались. Мы обещали вчера выйти в эфир. Надо сообщить им, что у нас все в порядке, не то подумают, что мы уже на дне.
Юрий был с ним вполне согласен и помог ослабленному температурой Норману отвернуть матрас, снять крышку с ящика в ногах и вытащить маленькую аварийную радиостанцию с ручным генератором. Вскоре радио Сафи откликнулось на вызов Нормана и услышало, что оба рулевых весла сломаны, но у нас все хорошо, и мы идем дальше через Атлантику. Заодно Норман передал, что мы не обещаем регулярных сеансов связи, потому что весло с заземлением сломалось и лежит на палубе. Если просто так спустим медную пластину за борт, она нам перепилит и веревки, и папирус.
После сеанса Норман бессильно опустился на матрас, и Юрий убрал радиостанцию, а Карло принес больному горячее питье.
Жорж никакой рыбы не поймал, но его осенила идея. Что если взять рифы на парусе? При таком ветре даже лоскут заметно прибавит нам ходу. Парус был сшит так, что мы могли во время усиливающегося ветра уменьшить его площадь и на одну, и на две трети. Мне понравилось предложение Жоржа, и Норман вяло кивнул в знак согласия. Хорошенько подкрепившись по примеру древних соленой колбасой и свежими овощами, мы снова вышли впятером на палубу и ценой невероятных усилий развернули рею с намокшим парусом поперек палубы, так что она торчала на метр с каждой стороны. Не простое это дело – брать рифы на парусе при ветре от свежего до очень крепкого, но общими силами мы с ним справились – расстелили парус на курятнике и корзинах, придавливая его собственным весом, и свернули, оставив лишь верхнюю треть. Велика была наша радость, когда узкое полотнище на верхушке мачты наполнилось ветром. Выбрав плавучий якорь и закрепив малые весла, мы понеслись по гребням на юго-запад, торжествуя новую победу над стихиями.
Прошло четверть часа, второй день нашего плавания был в разгаре, вдруг на парус обрушился новый шквал. Услышав, как тяжелый свиток мокрой парусины с маху, будто кувалдой, ударил жесткой реей по верхушке мачты, мы все, как один, бросились к шкотам. Второй удар – казалось, мачта жалобно вскрикнула, и у нас сердце сжалось, когда этот крик перешел в жуткий треск, который пронизал нас до мозга костей. Мы посмотрели вверх и увидели, как наша рея, единственная и незаменимая рея, на которой держалась парусина, медленно поникла плечами, и парус съежился, как будто сложила крылья летучая мышь. Острые щепки на изломе торчали, словно когти. Пришлось все спустить, пока эти когти не распороли парус. Шел второй день нашего пребывания в море. Второй день.
Едва погибшая рея и парус упали на палубу, как «Ра» снова стала смирной и послушной, магические папирусные связки продолжали извиваться по волнам в нужную нам сторону, точно укрощенный морской змей.
– Что я говорил, – удовлетворенно сказал Карло и полез в свой спальный мешок.
Абдулла отправился на корму, чтобы совершить омовение рук и ног перед очередной молитвой аллаху. Юрий, посмеиваясь, сел с трубкой и дневником в дверях каюты, я примостился рядом с ним и снова принялся стругать деревяшку.
– Все в порядке? – осведомился Сантьяго, высунув нос из спального мешка.
– Все! – дружно ответили мы. – Полный порядок. Все, что можно было сломать, сломано. Остался один папирус.
Остаток дня мы мирно провели в каюте, слушая, как воет ветер. И хотя мы в этот день не видели ни одного корабля, все-таки разделили ночь на вахты, ведь здесь проходил маршрут торговых судов. То и дело кто-нибудь лез на мачту высматривать огни. Столкновение с пароходами или береговыми утесами – единственное, чего мы страшились.
В 0.30 меня разбудил Карло. Наклонившись надо мной с керосиновым фонарем в руках, округлив испуганные глаза, он доложил шепотом, что слева по борту вдоль всего горизонта видно огни. Сильный норд-вест гнал нас боком как раз туда. Я лежал одетый – обвязался страховочным концом и пошел на палубу. Было облачно, дул студеный ветер умеренной силы. Сквозь черноту ночи я и в самом деле прямо по нашему курсу разглядел на горизонте огни – четыре очень ярких, пятый послабее. Берег Марокко, что же еще. Карло уже сидел на макушке качающейся мачты. Как быстро приближаемся. Я поднял остальных трех здоровых членов команды. Надо что-то делать, надо грести, чтобы не погибнуть на камнях.
Вдруг Карло, да и мне показалось, что один из огней зеленый. Еще один зеленый, красный. Это не земля! Прямо на нас шла флотилия рыболовных судов! Продрогшие ребята опять забрались в спальные мешки. Вскоре перед носом «Ра», качаясь на волне, прошли три сейнера. Четвертый, застопорив машину, лег в дрейф бортом к нам, так что нас несло прямо на него. Я осветил фонариком каюту и папирус и стал семафорить: «Ра ОК, Ра ОК». Сейнер включил двигатель и в последнюю минуту ушел в сторону, мы едва не врезались в него. На его топе замелькали какие-то непонятные сигналы, потом он исчез во мраке.
Жорж, закутанный в штормовку и одеяла, будто мумия, заступил на вахту, а я лег. Даже хриплое карканье сотен тысяч скрученных веревками стеблей папируса не могло заглушить полного искренней радости пения сына Нила, которое вместе с ветром проникало в каюту через плетеную стенку – единственную преграду между нашей уютной обителью и окружающим нас суровым миром.
Рассвет возвещает наступление нашего третьего дня в море, и по-прежнему облачно. Ветер потише, но волны беснуются пуще прежнего. С удовлетворением отмечаем, что исступленно пляшущие волны только поднимают нас вверх. Океан нес лодку, будто мяч на вытянутой руке, и даже самые коварные гребки не могли окатить нас водой. На груз не попадало ни капли.
Идя без руля и без паруса, не видя берега, не зная своей позиции, мы провели третий день спокойно, закончили ремонт одного рулевого весла и укрепили середину длинного бруса, которому предстояло заменить сломанную рею.
Готовясь к молитве, Абдулла начал мыть свою бритую голову, и вдруг я услышал возмущенный хриплый крик.
Кто сказал, что море чистое! А это что, чем он вымазал себе голову, кто набезобразничал?
В парусиновом ведре Абдуллы плавали большие и маленькие черные комки. Мы посмотрели за борт. Сотни таких же комков. И с одной, и с другой стороны. Мягкие, похожие на асфальт. Прошел час, а кругом все так же густо плавает грязь. Видно, какой-нибудь танкер чистил цистерны. Мы поднялись на мачту, но не увидели виновника, и однако весь день волны несли черные комки.
Во второй половине дня мы обогнали большую луну-рыбу, которая нежилась у поверхности, а затем нас навестило около сотни дельфинов, они резвились и выскакивали из воды, затеяв веселую пляску на радость Абдулле, потом вдруг исчезли так же неожиданно, как появились.
На четвертый день стало потеплее и потише, между тучами проглянуло солнце. Мы долго видели вдали отчетливые голубые контуры двух горбатых вершин на материке. Сантьяго чувствовал себя скверно, зато Норман пошел на поправку, температура упала, и Юрий разрешил ему подняться и взять высоту солнца. Но так как у нас не было хронометра, а радио Сафи наш приемник уже не брал, мы не знали точного времени и не могли верно вычислить наши координаты, что немало беспокоило Нормана и Сантьяго. Первый объяснил, что, раз мы по-прежнему видим материк, нам не удастся обогнуть Канарские острова с севера, а мы войдем в опасный проход между островом Фуартевентура и мысом Юби на западе Африки. Сантьяго (он в детстве жил на Канарских островах) подтвердил то, о чем говорилось в справочниках Нормана; мыс Юби – гроза всех моряков, коварное жало этой песчаной косы дотягивается до течения как раз там, где берег Африки сворачивает на юг.
Мы сидели и ели на свернутом парусе, вдруг раздался радостный крик всевидящего Абдуллы, который уже проглотил свою порцию.
– Гиппо! Гиппо! – Он поправился: – Гиппопотам!
Мы посмотрели туда, куда он показывал и через минуту они опять медленно всплыли – два здоровенных кита, которые лениво глядели на нас своими маленькими глазками и громко фыркали, извергая дыхалом струю воздуха с водяной пылью. В Чаде Абдулла никогда не видел таких огромных бегемотов, так что этого впечатления ему хватило на целый день. Услышав, что на свете есть млекопитающие с рыбьим хвостом, он не поверил своим ушам, но тут один кит вежливо махнул нам хвостом на прощание, и Абдулла лишился языка от удивления: до чего же аллах горазд на выдумку!
Утро пятого дня встретило нас пронизывающим северным ветром и сильной волной. Мы надели все, что везли с собой, и все равно у Абдуллы зуб на зуб не попадал. Пятые сутки океанские валы непрерывно штурмовали правый борт «Ра» – так и должно быть, ведь весь наш путь пролегал в зоне северо-восточного пассата. Недаром мы вход в каюту сделали с противоположного, левого борта, зная, что он будет подветренным. Больше того, мы сдвинули каюту к правому борту и там же сосредоточили основную часть груза, чтобы ветер, наполняющий огромный парус с этой стороны, не мог опрокинуть лодку. На парусном судне положено нагружать тяжелее наветренный борт – это было известно и нам, и всем тем, кто нас консультировал. Однако уже с пятого дня мы на собственном горьком опыте начали убеждаться, что папирусная лодка в этом смысле отличается от других судов: это единственный парусник, у которого надо тяжелее нагружать подветренный борт. Потому что с наветренной стороны папирус выше ватерлинии из-за волн и брызг впитывает не одну тонну воды, тогда как противоположный борт над ватерлинией остается сухим. Мало-помалу вес воды, абсорбированной наветренным бортом, возрастает настолько, что судно начинает крениться к ветру, а не от ветра, как обычно.
Передвигать каюту на середину было поздно. Ее привязали к папирусу крепкими веревками, которые пронизывали насквозь всю конструкцию. Мы перенесли груз с правого борта на левый, но это не очень помогло. Слишком много воды впитали связки папируса выше ватерлинии, и все эти тонны незримого балласта шутя перевешивали две-три сотни килограммов провизии и питьевой воды, которые перекочевали на другую сторону. Видно, нам так и придется идти через океан с постоянным креном к ветру.
Норман вернулся в строй, и пока мы заново укладывали груз, он постарался укрепить под водой строптивую медную пластину, чтобы наладить связь и узнать по радио точное время. У него были причины опасаться, что до берега намного ближе, чем показали его вчерашние расчеты без хронометра, и что нас несет прямо на мыс Юби.
Кукареку! Пахнет свежим сеном. Я в деревне. Да нет, какая деревня – меня куда-то несут на качающихся носилках. Я очнулся в спальном мешке и услышал, как подо мной булькает вода и прямо в ухо шипят волны. Ну конечно. Я на лодке. Я открыл глаза и сквозь щелеватую бамбуковую стенку увидел свинцовые океанские валы. Да ведь я на «Ра»! А сеном пахнет от наших матрасов, набитых марокканской травой.
Кукареку! Опять, это уже не сон, и я метнулся на четвереньках к выходу, проверить – не иначе, рядом берег, сейчас мы в него врежемся. Сколько хватало глаз, были видны только курчавые гребни воли; но вид вперед заслонял изогнутый луком бордовый парус, который увлекал нас по волнам. Из-за паруса доносилось сквозь плеск воды неистовое кудахтанье, а вот опять петух прокукарекал. Все правильно, это наш собственный птичник на носу. Облегченно вздохнув, я в одних трусах вылез из каюты. Ну и холодина. Юрий сидел на мостике закутанный, как эскимос, и что-то писал.
Видимо, мы ушли далеко в море: дул леденящий северный ветер, бурлящие гребни вздымались на высоту 3-4 метров, и даже с верхушки мачты, в какую сторону ни посмотри, был виден только зубчатый стык между океаном и небом.
– Где мы находимся? – спросил Юрий.
– Здесь, – ответил я и поглядел на распростертое тело в каюте, в котором вирусы-микробы яростно отбивались от пилюль.
Один штурман умел пользоваться секстантом. Я умел только дрейфовать на плотах. Черт его знает, где мы находимся. И вообще, сейчас важнее всего надеть свитер и штормовку.
Из тесного прохода между парусом и передней стенкой каюты, заглушая плеск волн и разноголосый скрип, вдруг донесся развеселый свист. Из-за бамбуковой плетенки выглянуло бородатое румяное лицо Карло.
– Кушать подано! Горячий чай каркаде а ля Нефертити и Тутанхамоновы лепешки с медом!
Проснулся Абдулла и растормошил своего африканского соседа Жоржа. Голодная команда окружила Карло, он накрыл на крыше курятника, и мы заняли места, кто на кувшине, кто на мешке с картофелем, кто на бурдюке с водой. Ничего, наведем порядок на палубе и устроимся поуютнее, только бы наладить сперва эти рулевые весла.
– Где мы находимся? – спросил Жорж.
– Здесь, – откликнулся Юрий, идя к больным с двумя кружками горячего каркаде.
– Африка все еще там, – добавил я, очерчивая взмахом руки горизонт слева. – Будут еще вопросы?
– Да, – сказал Жорж. – Интересно, как эти мужики в древности определяли в море свое место без секстанта и компаса?
– Восток и запад они могли найти по солнцу, – объяснил Карло, – а север и юг – по Полярной звезде и Южному кресту.
– А широту они могли определить по углу между горизонтом и Полярной звездой, – добавил я. – На Северном полюсе он равен девяноста градусам, а на экваторе Полярная звезда стоит над самым горизонтом. На шестидесятом градусе северной широты угол между ней и горизонтом – шестьдесят градусов, на тридцать втором – тридцать два. Увидел Полярную звезду – можешь прямо по ней узнать свою широту. Долготу финикийцы, полинезийцы и викинги определяли приблизительно, исходя из скорости и пройденного пути, но тут невидимое течение всегда вносило элемент неопределенности, когда берег скрывался из виду.
У себя в Каире Жорж видел в музее приборы, которыми его соотечественники много тысяч лет назад измеряли угол небесных тел, и он знал, какую роль играли Солнце и Полярная звезда в их астрологических и архитектурных вычислениях. По Солнцу, Луне и наиболее известным созвездиям всегда можно узнать, куда нас несет. К тому же я решил смастерить самоделку, которой можно определять широту без современных навигационных инструментов.
Красный египетский каркаде, похожий на горячий вишневый морс, освежал и бодрил. Рассыпчатые египетские лепешки напоминали плоские сдобы: с медом, без меда – мы в жизни не ели лучшего провианта. Перед началом нового трудового дня мы зашли в каюту пожелать скорейшей поправки нашим прихворнувшим товарищам. Норману было очень худо, однако ни он, ни Сантьяго не вешали носа. Для Сантьяго все осложнялось тем, что из-за влажности воздуха на «Ра», где считанные сантиметры отделяли нас от воды, одежда, спальные мешки и одеяла постоянно были липкими и солеными. Он страдал от потертостей, и малейшее движение причиняло острую боль. В общем, эта двойка задала работу Юрию. И уж наверно им, обреченным на безделье, несладко было лежать и слушать грохот и душераздирающий визг и треск, которым отзывались папирусные связки, когда очередной могучий вал заставлял их сгибаться, извиваться и дергать многочисленные веревки. Порой казалось, что под ящиками Нормана кто-то одновременно разрывает в клочья сто тысяч воскресных выпусков «Нью-Йорк Таймс».
На плетеном полу каюты стояло шестнадцать деревянных ящиков – на каждого члена экипажа по два, да еще в двух ящиках хранилась радиоаппаратура и навигационные инструменты. Папирус изгибался на волнах, как банановая кожура, упругий пол повторял движения связок, и такие же кривые выписывали ящики, сенные матрасы и спина с ягодицами или же плечо и бедро, смотря по тому, какую позу вы изберете. Так и кажется, что лежишь на спине морского змея.
Да и снаружи колебания палубы «Ра» были не менее заметны. Смотришь с кормы вперед и видишь, как желтый фальшборт выгибается согласно с волнами, а если вытянуться так, чтобы разглядеть за парусом высокий заостренный форштевень, видно, что и он то мерно поднимается вверх вместе с носовой палубой, как будто хочет обозреть даль над гребнями, то снова опускается, и только самая верхушка торчит над курятником. Наша «Ра» напоминала морское чудовище, которое плывет, шумно дыша и извиваясь всем своим могучим телом, и шипит, кряхтит, скрежещет, словно хочет криком разогнать все рифы и барьеры на своем пути.
Но всего чуднее было смотреть на двуногую мачту с большим парусом – как будто огромный спинной плавник двигался взад-вперед, послушный мощным мускулам «Ра». То больше метра отделяет ее от каюты, перед которой Карло сложил кухонные ящики, то просвет сузится настолько, что поглядывай, как бы тебе не прищемило ступню полом каюты или мачтовой пятой; ведь мачта, каюта и мостик были привязаны к гибкой палубе веревками и качались независимо друг от друга. А без этого мы и одних суток не продержались бы на воде. Если бы мы не выполнили в точности все древние правила, если бы скрепили мостик гвоздями, сколотили каюту из досок или привязали мачту к папирусу стальным тросом вместо веревок, нас распилили бы, разбили, разорвали в клочья первые же океанские волны. Именно гибкость, податливость всех суставов не давала океану по-настоящему ухватиться за мягкие стебли папируса и сломать их. И все же в первый день я слегка оторопел, когда наш столяр Абдулла, вооружившись метром, показал, как настил мостика то отходит от каюты сантиметров на двадцать, то прижимается к ней так плотно, что можно и без пальца остаться. Словом, пока не освоился, лучше быть начеку и глядеть в оба. Но что станется с нашим бумажным корабликом через неделю-другую, если он уже на второй день проявляет такую расхлябанность на волне?
По опыту «Кон-Тики» я еще до старта знал, что самое опасное – если кто-нибудь упадет за борт. Мы не сможем повернуть и возвращаться против ветра; во всяком случае пока что наш скудный опыт исключает возможность такого маневра. И даже очень хороший пловец не догонит нас, борясь с волной. Между стояками мостика на корме была привязана пенопластовая спасательная лодка на шесть человек, но она предназначалась для аварийных случаев, и, чтобы спустить ее на воду, надо было сперва разломать мостик, для этого рядом висел топор. К тому же и этот квадратный плотик не догонит «Ра», мы будем дрейфовать порознь. Отсюда правило номер один: держись на борту. Никуда не ходить без страховочного конца. Карло Маури каждому выдал двухметровую веревку с крюком, какими пользуются альпинисты, чтобы не свалиться в пропасть, и за пределами каюты мы всегда передвигались с веревкой вокруг пояса, цепляясь крюком когда за найтовы, когда за ванты, когда за остов мостика.
Не боясь стать смешным, я упорно настаивал на том, чтобы это правило выполнялось в любую погоду, и напоминал, как Герман Ватсингер очутился за бортом «Кон-Тики» и в последнюю минуту был спасен Кнютом Хаугландом. Аквалангист Жорж и житель Центральной Африки Абдулла никак не могли уразуметь, что страховаться надо всегда, а не только когда один несешь ночную вахту или висишь на кормовой поперечине, занятый сугубо личным делом. В конце концов Жорж понял, как это важно для меня, и покорился, но Абдуллу я и на второй день застал стоящим без страховки на бортовой связке. Стоит и поет, а веревка болтается сзади, как хвост.
– Абдулла, – сказал я, – это море больше всей Африки и в тысячу раз глубже озера Чад, где Жорж может нырнуть и достать дно.
– Ух ты, – восхищенно произнес Абдулла.
– И здесь полно рыб, которые едят людей, они больше крокодила и плавают вдвое быстрее.
– Ух ты, – смышленый Абдулла всегда был рад узнать что-то новое.
– Как ты не понимаешь: если ты упадешь в море, то утонешь, тебя сожрут, ты никогда не увидишь Америки!
Лицо Абдуллы озарилось широкой покровительственной улыбкой, и он ласково положил мне на плечо свою ручищу.
– Это ты не понимаешь, – сказал он. – Погляди-ка!
Он завернул край толстого свитера, обнажая плотно набитый черный живот. Поперек живота тянулась веревочка, с нее сзади свисали на крестец четыре кожаных мешочка.
– С этим мне ничего не страшно, – заверил он меня. Кожаные мешочки ему дал отец, а наполнял их один чадский шаман.Судя по тому, что я видел на рынке в Боле, в мешочках лежали когти леопарда, крашеные камушки, семена и засушенные растения. Абдулла с таинственным видом опустил свитер и победоносно кивнул. Теперь я спокоен? С Абдуллой никогда ничего не может случиться. Но чтобы порадовать меня, он тоже обещал страховаться.
В первое же утро Абдулла испытал серьезное потрясение: он прибежал ко мне и сообщил, что в воду попала соль. Вся вода соленая. Как это могло получиться? Я не на шутку встревожился. Из каких кувшинов он пил?
– Да нет, не в кувшинах, там! – Абдулла показал на море.
До сих пор он не подозревал, что море соленое. И когда я объяснил ему, что мы всю дорогу от Африки до Америки будем идти по соленой воде, он недоверчиво осведомился, как же могло попасть в море столько драгоценной соли. Мое геологическое пояснение совсем убило его. Ведь Сантьяго говорил, что воду надо беречь, каждому тратить в день не больше литра, но ему нужно в пять раз больше, он должен мыть руки, ноги, голову и лицо перед тем, как молиться аллаху, а молиться положено пять раз в день.
– Для омовения можешь пользоваться морской водой, – сказал я.
Но Абдулла уперся. Его вера требует использовать для омовения чистую воду. А эта с солью.
Не успели мы разрешить соляную проблему, как на Абдуллу обрушилась еще одна напасть. Жорж извлек сонную Сафи из картона, где она ночевала, и от радости обезьянка напрудила на матрас Абдуллы. Увидев лужицу, бедняга окончательно пал духом. Это обезьяна сделала? Правоверный, чью одежду осквернила собака или обезьяна, сорок дней не может молиться аллаху! Абдулла в отчаянии вращал глазами. Сорок дней без покровительства аллаха!
Жорж спасительной ложью избавил душу Абдуллы от угрызений. Никакая это не обезьяна, просто с моря брызнуло. Абдулла предусмотрительно решил поверить, не донюхиваясь до истины. А я заверил, что обезьяна все равно получит штанишки, и ей никогда не позволят сидеть на матрасе Абдуллы.
– Абдулла, – продолжал я, – тебе вот нужна вода для молитвы, а ты хоть раз подумал, сколько обезьян и собак живет по берегам водоемов Чада? Здесь ты на сотни миль не увидишь ни одной собаки, а мелкие грехи Сафи остаются далеко за кормой. Нигде на свете ты не найдешь такой чистой воды, как в океане.
Абдулла выслушал меня, поразмыслил. И вот уже он изучает морскую воду в парусиновом ведре. Наконец началось омовение. Оно совершилось в лихорадочном темпе и с ловкостью фокусника. Затем Абдулла поднялся на мостик, и Юрий помог ему определить по компасу примерное направление на Мекку. С непосредственностью глубоко верующего человека он, лицом к востоку, опустился на колени у выхода из каюты и принялся отбивать поклоны на своем матрасе. Потом достал четки и начал отсчитывать молитвы. Они сыпались из него, как горох, но он держался так искренне, что мы все – копт, католик, протестант, атеист, пантеист, – невольно с уважением смотрели на такую убежденность. Да, кого только не было в нашем маленьком коллективе! После того как Абдулла очистился телесно и духовно, мы, стоя на мостике, попытались с помощью ножа и сверла прикрепить отломившуюся лопасть к веретену. У Абдуллы было отличное настроение, он пел что-то центральноафриканское и приплясывал. Мы обмотали весло веревкой, тут и Карло помог своими альпинистскими узлами, и дело уже шло к концу, когда налетевшие с разных сторон шквалы вывернули парус. И так как мы без руля не могли развернуть лодку, ветер изо всей силы обрушился на широкий парус спереди. Тяжелая 7-метровая рея яростно колотила по мачте вверху, грозя ее сломать, а широченный парус бешено метался во все стороны, норовя сам себя распороть. Он опрокидывал фруктовые корзины, цеплялся за курятник, и куры исступленно кудахтали, заглушая наши команды. Вдруг одна корзина с провиантом поплыла у нас в кильватере своим ходом. Один лишь завхоз Сантьяго знал, что в ней лежит, но он сам лежал в каюте со своими списками, Юрий чуть не силой удерживал его и Нормана в постели.
Стоя на мостике, я попробовал руководить поединком с 8-метровым парусом. Трудно человеческому голосу противостоять шквалам, которые относят его вдаль над бурлящими гребнями вместе с хлопаньем, треском и скрипом парусины и папируса. О том, чтобы спускать парус, теперь не могло быть и речи, его тотчас унесло бы, как воздушного змея. Надо было вернуть лодку на правильный курс, маневрируя парусом и корпусом. Опирая обычное весло о торчащий папирусный хвост, богатырь Жорж принялся выгребать корму к ветру. Отдали плавучий якорь, этакий брезентовый зонт на длинной веревке – лучшее средство погасить ход и развернуть корму. Стрелка компаса начала медленно поворачиваться, а я сражался со строптивым шкотом, который хлестал меня и норовил сдернуть за борт, не давая мне закрепить его за мостик, и одновременно следил за правильным размещением и страховкой моей малочисленной команды. Стараясь перекричать гул ветра, я отдавал команды по-французски Абдулле, по-итальянски Карло, по-английски Юрию, по-итальянски, по-английски или по-французски Жоржу, хотя, по правде сказать, не знал даже, как называются на моем родном языке веревки, которые надо было тянуть, и мое восхищение догадливостью интернационального отряда сухопутных крабов росло с каждой минутой.
Наконец наш драгоценный парус был спасен, шкоты закреплены, все гребные весла установлены около кормы и носа на манер индейских гуар, плавучий якорь поднят на палубу и воцарился относительный порядок. Мы получили небольшую передышку, и я решил использовать ее, чтобы, на случай повторения подобной ситуации, когда каждая секунда дорога, разучить короткие и всем понятные обороты. В промежутках между шквалами сквозь щелеватую стенку из каюты доносились обрывки добрых советов, которые подавал нам слабым голосом больной Норман. Он еще раньше пытался обучить нас важнейшим морским командам на английском языке, чтобы мы знали, когда выбирать, потравить или крепить гордень, служащий для подъема паруса, брасы, вращающие рею в горизонтальном направлении, и шкоты, притягивающие к бортам нижние углы паруса. Но, так как трое из оставшихся в строю ребят плохо понимали на слух английский, никогда нельзя было предугадать, что последует, если я крикну Юрию или Карло: «Пулл ин старборд такк!» Или скомандую Абдулле: «Лет гоу порт сайд шит!».
Не успели запыхавшиеся, но довольные победители собраться на мостике, чтобы придумать несколько кратких команд в духе эсперанто, как наш грот снова угрожающе захлопал, и хотя на сей раз все молниеносно оказались на местах, ветер опять успел развернуть парус и лодку. Раз за разом повторялось одно и то же. Мы продолжали дрейфовать прежним курсом, но задним ходом, и рея с парусом беспорядочно дергались. Каждый раз нам в конце концов удавалось наполнить парус ветром и спасти рею, хотя иногда для этого приходилось выносить парус на левый борт, вместо правого, и лодка естественно, шла почти перпендикулярно тому курсу, который был нам нужен, чтобы не столкнуться с сушей.
И вот нас опять – сколько можно! – несет полным ходом к берегу Африки, и мы гребем, выбираем шкоты, возимся с плавучим якорем, в борьбе с бушующими волнами переставляем весла-гуары, силясь вернуться на верный курс. Но без больших рулевых весел «Ра» категорически не признавала половинчатых решений. Парус увлекал ее либо на юго-восток, либо на юго-запад, и как только своенравный шквал разворачивал нас носом на юго-восток, незримые берега Африки неумолимо приближались. Карло то и дело взбирался на макушку качающейся мачты, но земли, к счастью, не было видно. Что ж, это еще ничего не значит, ведь отступив на восток к югу от Сафи, берег потом опять выдается на запад.
Только укротим парус, вынеся его на борт, как ветер опять зайдет с другой стороны, и парусина начинает дергаться с такой силой, что знай упирайся покрепче, чтобы не вылететь за борт. Один головной убор за другим оказывался в море, особенно жалко было яркую тюбетейку Абдуллы, она как бы стала частью его самого. Зато теперь каждый, перейдя на другое место, тотчас автоматически страховался, у обезьянки тоже была своя веревка, и она лихо раскачивалась на вантах вниз головой, да и куры были надежно защищены брезентом в своей клетке, которую мы принайтовили к палубе подальше от паруса.
С каждым часом шквалы становились все яростнее, грозя оставить нас без такелажа. Надо убирать парус, пересиливая ветер. Другого выхода нет.
Три человека взялись за брасы, чтобы притянуть рею с парусом к палубе, но не успели двое других раскрепить фал, как налетел новый шквал, и тяжеленный парус заполоскался над морем, будто флаг. На левом борту Юрий и Абдулла прилагали отчаянные усилия, чтобы поймать снасти, которые вырвались из рук и теперь болтались над волнами. Тем временем наша тройка судорожно цеплялась ногами, чтобы нас не сдернули за борт правые снасти, ведь теперь только они могли спасти парус и не дать ему навсегда исчезнуть в волнах. Мачта и ванты угрожающе скрипели, а папирусные связки накренились с жалобным скрипом так сильно, что мы впервые почувствовали, что кажется и эта чудо-лодка способна опрокинуться. Одно несомненно: никакой другой парусник пятнадцатиметровой длины не устоял бы против такого мощного напора, разве что мачта сломалась бы.
Дюйм за дюймом мы подтягивали рею и парус, но часть парусины лежала на волнах, в складках собралось немало ведер воды, и, силясь вырвать эту тяжесть из хватки океана, мы сшибли еще одно из наших драгоценных весел. Оно исчезло в воде, потом вынырнуло и закачалось на волнах за кормой – попробуй, поймай.
– До свидания в Америке! – крикнул ему Карло. – Только мы придем туда раньше!
Так как рея была на два метра шире палубы, пришлось нам складывать мокрый, тяжеленный парус вдоль левого борта «Ра». Вымотанные, как после двадцати раундов бокса, мы торжествующе уселись на него верхом, чтобы обуздать строптивого бордового птеродактиля, который снова и снова начинал корчиться, когда порывы ветра накачивали воздух в складки. В конце концов мы надежно скрутили чудовище.
И сразу на борту воцарилась неожиданная тишина. Слышно было только безмятежное мерное поскрипывание, оно говорило о том, что океан усыновил папирусную лодку «Ра», эту колыбель с семеркой беспокойных близнецов, которых надо было поскорее убаюкать, пока они не натворили бед – того и гляди опрокинут колыбельку. «Ра» опять шла так, как ей хотелось, и при этом не грозила больше врезаться вместе с нами в береговые утесы.
Я посмотрел на Карло. Он улыбнулся. Потом прыснул. Потом громко расхохотался. Остальные тоже уставились на него.
– Теперь у нас ни паруса, ни рулевых весел. Лодка больше не подчиняется воле человека. Теперь природа распоряжается. Надо только перестать с ней воевать, и можно спокойно передохнуть и прийти в себя.
Мы осмотрелись кругом. В самом деле, полнейший порядок. Покачиваемся в папирусном гамаке без руля, без паруса, без мотора и без хлопот, могучее океанское течение несет нас туда, куда ему надо, и нам надо туда же. Абдулла ушел в каюту и лег там, держа возле уха карманный транзистор. Жорж решил заняться рыбной ловлей. Юрий съел апельсин и пошел за медицинским спиртом, чтобы настоять его на корках, Карло начал рыться в мешках и корзинах, подыскивая сырье для плотной трапезы. Сантьяго, стараясь не тревожить свои болячки, смирно лежал в каюте со списком в руках и выкрикивал номера кувшинов с водой, финиками, яйцами, оливками и кукурузой для кур. Я взял нож, чтобы выстругать прибор для измерения широты. Тут Норман не выдержал.
– Ребята, нам здесь хорошо, – простонал он. – А каково тем, кто дома остались. Мы обещали вчера выйти в эфир. Надо сообщить им, что у нас все в порядке, не то подумают, что мы уже на дне.
Юрий был с ним вполне согласен и помог ослабленному температурой Норману отвернуть матрас, снять крышку с ящика в ногах и вытащить маленькую аварийную радиостанцию с ручным генератором. Вскоре радио Сафи откликнулось на вызов Нормана и услышало, что оба рулевых весла сломаны, но у нас все хорошо, и мы идем дальше через Атлантику. Заодно Норман передал, что мы не обещаем регулярных сеансов связи, потому что весло с заземлением сломалось и лежит на палубе. Если просто так спустим медную пластину за борт, она нам перепилит и веревки, и папирус.
После сеанса Норман бессильно опустился на матрас, и Юрий убрал радиостанцию, а Карло принес больному горячее питье.
Жорж никакой рыбы не поймал, но его осенила идея. Что если взять рифы на парусе? При таком ветре даже лоскут заметно прибавит нам ходу. Парус был сшит так, что мы могли во время усиливающегося ветра уменьшить его площадь и на одну, и на две трети. Мне понравилось предложение Жоржа, и Норман вяло кивнул в знак согласия. Хорошенько подкрепившись по примеру древних соленой колбасой и свежими овощами, мы снова вышли впятером на палубу и ценой невероятных усилий развернули рею с намокшим парусом поперек палубы, так что она торчала на метр с каждой стороны. Не простое это дело – брать рифы на парусе при ветре от свежего до очень крепкого, но общими силами мы с ним справились – расстелили парус на курятнике и корзинах, придавливая его собственным весом, и свернули, оставив лишь верхнюю треть. Велика была наша радость, когда узкое полотнище на верхушке мачты наполнилось ветром. Выбрав плавучий якорь и закрепив малые весла, мы понеслись по гребням на юго-запад, торжествуя новую победу над стихиями.
Прошло четверть часа, второй день нашего плавания был в разгаре, вдруг на парус обрушился новый шквал. Услышав, как тяжелый свиток мокрой парусины с маху, будто кувалдой, ударил жесткой реей по верхушке мачты, мы все, как один, бросились к шкотам. Второй удар – казалось, мачта жалобно вскрикнула, и у нас сердце сжалось, когда этот крик перешел в жуткий треск, который пронизал нас до мозга костей. Мы посмотрели вверх и увидели, как наша рея, единственная и незаменимая рея, на которой держалась парусина, медленно поникла плечами, и парус съежился, как будто сложила крылья летучая мышь. Острые щепки на изломе торчали, словно когти. Пришлось все спустить, пока эти когти не распороли парус. Шел второй день нашего пребывания в море. Второй день.
Едва погибшая рея и парус упали на палубу, как «Ра» снова стала смирной и послушной, магические папирусные связки продолжали извиваться по волнам в нужную нам сторону, точно укрощенный морской змей.
– Что я говорил, – удовлетворенно сказал Карло и полез в свой спальный мешок.
Абдулла отправился на корму, чтобы совершить омовение рук и ног перед очередной молитвой аллаху. Юрий, посмеиваясь, сел с трубкой и дневником в дверях каюты, я примостился рядом с ним и снова принялся стругать деревяшку.
– Все в порядке? – осведомился Сантьяго, высунув нос из спального мешка.
– Все! – дружно ответили мы. – Полный порядок. Все, что можно было сломать, сломано. Остался один папирус.
Остаток дня мы мирно провели в каюте, слушая, как воет ветер. И хотя мы в этот день не видели ни одного корабля, все-таки разделили ночь на вахты, ведь здесь проходил маршрут торговых судов. То и дело кто-нибудь лез на мачту высматривать огни. Столкновение с пароходами или береговыми утесами – единственное, чего мы страшились.
В 0.30 меня разбудил Карло. Наклонившись надо мной с керосиновым фонарем в руках, округлив испуганные глаза, он доложил шепотом, что слева по борту вдоль всего горизонта видно огни. Сильный норд-вест гнал нас боком как раз туда. Я лежал одетый – обвязался страховочным концом и пошел на палубу. Было облачно, дул студеный ветер умеренной силы. Сквозь черноту ночи я и в самом деле прямо по нашему курсу разглядел на горизонте огни – четыре очень ярких, пятый послабее. Берег Марокко, что же еще. Карло уже сидел на макушке качающейся мачты. Как быстро приближаемся. Я поднял остальных трех здоровых членов команды. Надо что-то делать, надо грести, чтобы не погибнуть на камнях.
Вдруг Карло, да и мне показалось, что один из огней зеленый. Еще один зеленый, красный. Это не земля! Прямо на нас шла флотилия рыболовных судов! Продрогшие ребята опять забрались в спальные мешки. Вскоре перед носом «Ра», качаясь на волне, прошли три сейнера. Четвертый, застопорив машину, лег в дрейф бортом к нам, так что нас несло прямо на него. Я осветил фонариком каюту и папирус и стал семафорить: «Ра ОК, Ра ОК». Сейнер включил двигатель и в последнюю минуту ушел в сторону, мы едва не врезались в него. На его топе замелькали какие-то непонятные сигналы, потом он исчез во мраке.
Жорж, закутанный в штормовку и одеяла, будто мумия, заступил на вахту, а я лег. Даже хриплое карканье сотен тысяч скрученных веревками стеблей папируса не могло заглушить полного искренней радости пения сына Нила, которое вместе с ветром проникало в каюту через плетеную стенку – единственную преграду между нашей уютной обителью и окружающим нас суровым миром.
Рассвет возвещает наступление нашего третьего дня в море, и по-прежнему облачно. Ветер потише, но волны беснуются пуще прежнего. С удовлетворением отмечаем, что исступленно пляшущие волны только поднимают нас вверх. Океан нес лодку, будто мяч на вытянутой руке, и даже самые коварные гребки не могли окатить нас водой. На груз не попадало ни капли.
Идя без руля и без паруса, не видя берега, не зная своей позиции, мы провели третий день спокойно, закончили ремонт одного рулевого весла и укрепили середину длинного бруса, которому предстояло заменить сломанную рею.
Готовясь к молитве, Абдулла начал мыть свою бритую голову, и вдруг я услышал возмущенный хриплый крик.
Кто сказал, что море чистое! А это что, чем он вымазал себе голову, кто набезобразничал?
В парусиновом ведре Абдуллы плавали большие и маленькие черные комки. Мы посмотрели за борт. Сотни таких же комков. И с одной, и с другой стороны. Мягкие, похожие на асфальт. Прошел час, а кругом все так же густо плавает грязь. Видно, какой-нибудь танкер чистил цистерны. Мы поднялись на мачту, но не увидели виновника, и однако весь день волны несли черные комки.
Во второй половине дня мы обогнали большую луну-рыбу, которая нежилась у поверхности, а затем нас навестило около сотни дельфинов, они резвились и выскакивали из воды, затеяв веселую пляску на радость Абдулле, потом вдруг исчезли так же неожиданно, как появились.
На четвертый день стало потеплее и потише, между тучами проглянуло солнце. Мы долго видели вдали отчетливые голубые контуры двух горбатых вершин на материке. Сантьяго чувствовал себя скверно, зато Норман пошел на поправку, температура упала, и Юрий разрешил ему подняться и взять высоту солнца. Но так как у нас не было хронометра, а радио Сафи наш приемник уже не брал, мы не знали точного времени и не могли верно вычислить наши координаты, что немало беспокоило Нормана и Сантьяго. Первый объяснил, что, раз мы по-прежнему видим материк, нам не удастся обогнуть Канарские острова с севера, а мы войдем в опасный проход между островом Фуартевентура и мысом Юби на западе Африки. Сантьяго (он в детстве жил на Канарских островах) подтвердил то, о чем говорилось в справочниках Нормана; мыс Юби – гроза всех моряков, коварное жало этой песчаной косы дотягивается до течения как раз там, где берег Африки сворачивает на юг.
Мы сидели и ели на свернутом парусе, вдруг раздался радостный крик всевидящего Абдуллы, который уже проглотил свою порцию.
– Гиппо! Гиппо! – Он поправился: – Гиппопотам!
Мы посмотрели туда, куда он показывал и через минуту они опять медленно всплыли – два здоровенных кита, которые лениво глядели на нас своими маленькими глазками и громко фыркали, извергая дыхалом струю воздуха с водяной пылью. В Чаде Абдулла никогда не видел таких огромных бегемотов, так что этого впечатления ему хватило на целый день. Услышав, что на свете есть млекопитающие с рыбьим хвостом, он не поверил своим ушам, но тут один кит вежливо махнул нам хвостом на прощание, и Абдулла лишился языка от удивления: до чего же аллах горазд на выдумку!
Утро пятого дня встретило нас пронизывающим северным ветром и сильной волной. Мы надели все, что везли с собой, и все равно у Абдуллы зуб на зуб не попадал. Пятые сутки океанские валы непрерывно штурмовали правый борт «Ра» – так и должно быть, ведь весь наш путь пролегал в зоне северо-восточного пассата. Недаром мы вход в каюту сделали с противоположного, левого борта, зная, что он будет подветренным. Больше того, мы сдвинули каюту к правому борту и там же сосредоточили основную часть груза, чтобы ветер, наполняющий огромный парус с этой стороны, не мог опрокинуть лодку. На парусном судне положено нагружать тяжелее наветренный борт – это было известно и нам, и всем тем, кто нас консультировал. Однако уже с пятого дня мы на собственном горьком опыте начали убеждаться, что папирусная лодка в этом смысле отличается от других судов: это единственный парусник, у которого надо тяжелее нагружать подветренный борт. Потому что с наветренной стороны папирус выше ватерлинии из-за волн и брызг впитывает не одну тонну воды, тогда как противоположный борт над ватерлинией остается сухим. Мало-помалу вес воды, абсорбированной наветренным бортом, возрастает настолько, что судно начинает крениться к ветру, а не от ветра, как обычно.
Передвигать каюту на середину было поздно. Ее привязали к папирусу крепкими веревками, которые пронизывали насквозь всю конструкцию. Мы перенесли груз с правого борта на левый, но это не очень помогло. Слишком много воды впитали связки папируса выше ватерлинии, и все эти тонны незримого балласта шутя перевешивали две-три сотни килограммов провизии и питьевой воды, которые перекочевали на другую сторону. Видно, нам так и придется идти через океан с постоянным креном к ветру.
Норман вернулся в строй, и пока мы заново укладывали груз, он постарался укрепить под водой строптивую медную пластину, чтобы наладить связь и узнать по радио точное время. У него были причины опасаться, что до берега намного ближе, чем показали его вчерашние расчеты без хронометра, и что нас несет прямо на мыс Юби.

 Канарские острова остались позади. За восемь суток мы прошли путь, равный расстоянию от Норвегии до Англии через Северное море. Судно, которое успешно выдерживает поединок с волнами в таком длительном рейсе, обычно относят к разряду морских. Несмотря на сломанные рулевые весла и рею, несмотря на неумелое обращение и промахи неопытных сухопутных крабов, несмотря на крепкий ветер и сильную волну, «Ра» по-прежнему отлично держалась на воде. Груз лежал надежно, никакие гребни не могли до него дотянуться. И мы шли дальше в условиях, весьма далеких от тихого течения Нила.
Канарские острова были пройдены в ненастную погоду, мы не увидели земли. Теперь над нами изогнулся голубой небосвод, низкая пелена туч слева обозначала африканский континент, а вздымающийся на три тысячи метров конус вулкана Тейде на Тенерифе позволял нам безошибочно определить положение Канарских островов справа. Сам оставаясь незримым, он рождал вереницу мелких облачков, и ветер нес их над морем, будто дым из пароходной трубы.
Абдулла, который знал только плавучие папирусные острова на озере Чад, был потрясен, когда услышал, что здесь, далеко в океане, есть суша и на ней живут люди. Какие они – черные, как он, или белые, как мы? И Сантьяго, антрополог по профессии, к тому же сам одно время живший на Канарских островах, рассказал ему про загадочных гуанчей, населявших уединенный архипелаг, когда их «открыли» европейцы, чьи внуки в свой черед «открыли» Америку. Одни гуанчи были темнокожие, низкого роста, другие – высокие, светлокожие, с голубыми глазами, русыми волосами и орлиным носом. На пастели, выполненной в 1590 году, видно группу коренных жителей Канарских островов, у них золотистая борода, светлая кожа, мягкими волнами спадают на плечи длинные желтые волосы. И еще Сантьяго рассказал про чистокровного русоволосого гуанча, с которым он познакомился, учась в Кембридже. Это была мумия, привезенная с Канарских островов. Подобно древним египтянам и перуанцам, коренные жители архипелага умели бальзамировать трупы и делать трепанацию черепа. Но так как светлокожие гуанчи больше смахивали на викингов, чем на племена, которые нам обычно рисуются при слове «Африка», родились догадки о древних северных колонистах на Канарских островах и даже гипотезы, будто архипелаг есть не что иное, как остаток затонувшей Атлантиды. Но на севере Европы не бальзамировали тела и крайне редко делали операции на черепе, и ведь это лишь две из ряда черт, связывающих гуанчей с древними культурами североафриканского приморья. Исконные жители Марокко, обычно именуемые берберами, многих из которых арабы больше тысячи лет назад вытеснили на юг, в Атласские горы, представляли такую же смешанную расу, как гуанчи: одни были малорослые, с темной кожей, другие – высокие голубоглазые блондины. Потомков этих древнейших марокканских типов по сей день можно увидеть в глухих селениях Марокко.
Мы смотрели на шлейф над могучим вулканом на острове Тенерифе. В ясную погоду его видно с берега Марокко. Чтобы найти родину гуанчей, вовсе не надо отправляться в Скандинавию или погружаться на дно Атлантического океана. Возможно, они попросту потомки коренных жителей ближайшего материка, которые сумели в древности преодолеть морской барьер, как это сделали мы на самодельной лодке из папируса.
В общем, загадка канарских гуанчей заключается не столько в том, кто они, сколько в том, как они попали на острова. Когда сюда, задолго до плаваний Колумба, пришли европейцы, у гуанчей не было никаких лодок, даже долбленок или плотов. И дело не в нехватке древесины, потому что на Канарских островах росли могучие деревья. Гуанчи, и темные, и светлые, были типичные сухопутные крабы, они занимались только земледелием и овцеводством. Им удалось привезти овец с континента. Но выйти в море с женщинами на борту, везя с собой скот, могли только рыбаки или представители морского народа. Пастушескому племени такое не по плечу. Почему же гуанчи забыли морские суда своих предков? Может быть, потому, что предки не знали никаких лодок, кроме парусной мадиа из папируса, вроде тех, что до наших времен применяли на северном побережье Марокко? Лодочный мастер, который умеет лишь вязать лодки-плоты из папируса и никогда не видел, как сшивают из досок водонепроницаемый корпус, будет беспомощно сидеть на берегу, оказавшись на острове, где нет ни папируса, ни камыша.
Вдруг нас начало раскачивать так сильно, и папирус застонал так жалобно, что пришлось расстаться с гуанчами и поспешить к заполоскавшему парусу. Ветер не изменился, а вот волны стали круче – все более глубокие ложбины, в которые мы скатывались, все более высокие гребни, которые бросались на нас сверху, но никак не могли нас накрыть, потому что наш золотистый бумажный лебедь всякий раз приподнимал высокий хвост и спокойно пропускал волну под собой.
У Абдуллы началась головная боль и рвота. До сих пор он не страдал от морской болезни, но тут Юрию пришлось отправить Абдуллу в постель, ограничив его стол сухими, как мумия, египетскими галетами, зато Сантьяго смог подняться с постели и пообедать вместе со всеми, после того как врач нашел способ залечить его болячки. Норман отлично чувствовал себя, и мы дружно наслаждались горячим рисотто с миндалем и сухофруктами, приготовленным Карло, вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!» Мы посмотрели и с испугом увидели изогнувшийся над «Ра» высоченный гребень могучего вала. Мы рванулись было к каюте, но гребень уже превратился в маленький гребешок, он проскользнул, булькая, под папирусом, а на его месте разверзлась глубокая ложбина. За первым валом последовали другие такие же. Обычно море так колышется около устья большой реки, где сильное течение рождает высокую волну. А мы, видимо, попали в такое место, где идущее с севера мощное океанское течение, протискиваясь через узкие проходы между островами, как бы сжимается и становится еще мощнее. Для нас это означало прибавку скорости в нужном нам направлении. Нас несло Канарское течение – то самое, которое доходит до Мексиканского залива.
Вверх, все выше и выше, – а теперь вниз, вниз... Абдулла уснул и не увидел пятерку могучих кашалотов, которые всплыли совсем рядом с лодкой и ушли под воду раньше, чем Карло успел приготовить свою кинокамеру. Снова вверх, потом вниз, вниз в бездонную яму... В эту минуту опять раздался треск ломающегося дерева. Еще одно из наших малых весел превратилось в дрова для растопки, лишь кусок веретена остался висеть на бортовой связке. Так, теперь уже и гребные весла становятся дефицитными... Может быть, стоит попробовать зайти на острова Зеленого Мыса и раздобыть там материал покрепче? Единогласное «нет». Правда, у нас еще оставалась в запасе толстая прямоугольная мачта из египетского сенебара. Мачты пока не ломались, даже в крепкий ветер устояли. И мы решили укрепить резервное рулевое весло из ироко запасной мачтой, прикрутив ее к толстому круглому веретену. После этого весло стало таким тяжелым, что, когда мы поздно вечером управились с работой, пришлось мобилизовать весь экипаж, чтобы спустить его в воду. Светила полная луна, ярко сияли звезды. Волны упорно гнались за нами – высокие, блестящие, черные и неистовые, – но мы их не боялись, зная, что им не одолеть папирус. Они только дерево ненавидели до такой степени, что сокрушали его в тот же миг, как оно погружалось в воду. Пока весла праздно лежали на палубе вместе с полутора сотнями хрупких кувшинов и прочим грузом, им ничего не грозило. Что ж, поглядим, чем кончится поединок весла-великана с океаном...
Мы с Сантьяго поднялись на мостик и взялись за тонкий конец восьмиметрового веретена, которое надо было привязать к поручням, а все остальные стояли на палубе и держали тяжеленную лопасть. Ее надо было спустить в воду с кормы, потом прикрутить нижнюю часть веретена к лежащему на папирусе толстому поперечному брусу.
Волны и папирус лихо скакали вверх-вниз, и едва последовала команда погрузить рулевое весло, как могучий вал тотчас вырвал лопасть из рук пятерки, тщетно напрягавшей все силы, чтобы закрепить весло канатами. Лишь с великим трудом нам с Сантьяго удалось удержать верхнюю часть веретена. А волна уже ушла вперед, корма «Ра» повисла над глубокой ложбиной, и весло, лишившись опоры, с маху, будто гигантская кувалда по наковальне, ударило по концу поперечного бруса. Следующая волна снова взметнула лопасть вверх, и пока пятерка внизу силилась поймать взбесившуюся кувалду веревками и руками, Сантьяго и меня вверху бросало, как марионеток. Только уловим миг, когда гребень поднимет весло, и подвинем веретено на место, как лопасть опять повисает над ложбиной, тяжесть становится непосильной, и нас подбрасывает кверху, а пятерка на корме по-прежнему силится притянуть лопасть веревками к поперечине и укротить ее раньше, чем новая волна вырвет у них из рук весло, и лопасть взметнется вверх, а мы на другом конце рычага ухнем вниз. Причем вниз нас кидало с такой силой, что того и гляди расплющит руки и ноги веретеном о поручни, ведь и ногами тоже приходилось цепляться, чтобы нас вместе с веслом не утянуло за борт.
Это рулевое весло было таким тяжелым, и оно так бесновалось, что мы уже спрашивали себя, не лучше ли его отпустить, пока не разлетелась вдребезги кормовая поперечина, а с ней и веревки, скрепляющие папирус. Но мысль о том, что без руля мы превратимся в беспомощно дрейфующий боком стог соломы, придала нам сверхчеловеческие силы, а тут вдруг и весло легло удачно, и все семеро одновременно смогли притянуть чудовище на место и прикрутить его с обоих концов к «Ра» такими толстыми веревками, что океан уже был бессилен что-либо с ними сделать.
Итак, одно из двух древнеегипетских весел снова стоит на месте. Правда, веретено было очень уж неуклюжее и ворочалось еле-еле, ведь мы связали его с квадратным брусом. Зато оно было такое прочное, что, когда волны попробовали его сломать, лодка развернулась, а весло не поддалось.
По словам Сантьяго, ему еще никогда в жизни не доводилось делать такую тяжелую работу. Юрию пришлось заняться ушибленными пальцами, зато могучее рулевое весло обеспечило нам устойчивый курс, позволив усталому экипажу забраться в спальные мешки и разбить ночь на легкие вахты. Вахтенному надо было лишь следить за пароходами, чтобы нас никто не потопил. Луна, созвездия и даже постоянное направление идущих правильным строем, бурлящих волн – все подтверждало, что курс стабилен. Знай, посиживай без забот у входа в каюту с подветренной стороны. Только при смене мы поднимались на мостик, чтобы взглянуть на маленький рукотворный компас. Да и то очень скоро все усвоили, что звездное небо над нами – тот же компас с обращенной вниз светящейся картушкой. Мы дрейфовали прямо на запад. А где находимся, не так уж и важно, главное – не к берегу несет, а от берега.
Трое суток шли мы без каких-либо происшествий, за это время нам удалось починить второе рулевое весло, составив его из обломков двух веретен. Ни гвоздей, ни костылей, только веревки, а иначе наша конструкция и минуты не выдержала бы. Волны были такие же высокие, и они бросали наветренный борт «Ра» так, что папирус с этой стороны все больше намокал и все сильнее погружался в воду. Из-за волн мы не решались ставить второе отремонтированное рулевое весло, а держали его наготове на тот случай, если первое сломается: уж очень угрожающе оно гнулось, когда океан нажимал особенно сильно. Зато мы рискнули поднять парус без рифов – обошлось. Дул северный ветер, и хотя мы еще различали низкую пелену тучу берегов Испанской Сахары, стоял зверский холод. Мы перенесли все, что можно, к левому, подветренному борту, который нисколько не погрузился после старта. Теперь наш широкий и грузный воз с сеном двигался на запад со скоростью два с половиной узла, проходя в сутки больше ста километров; за кормой тянулась отчетливая кильватерная струя. В одиннадцать дней было пройдено, считая по прямой, 557 миль, то есть более тысячи километров, и пришла пора передвинуть стрелку на час назад.
Вторые сутки мы то в одной, то в другой стороне видели суда, раз наблюдали одновременно три больших океанских парохода. Очевидно, «Ра» очутилась на главной магистрали судов, идущих вокруг Африки. Чтобы уберечься от ночных столкновений, мы держали на топе наш самый сильный фонарь. Но вот опять океан опустел, и только стаи дельфинов резвились вокруг, порой так близко, что мы могли бы их погладить. Иногда встречалась нам ленивая луна-рыба; перед носом лодки начали взлетать первые летучие рыбы. И небо стало пустынным. Редко-редко принесет ветром заблудившихся насекомых, да две-три морских ласточки промелькнут в ложбинах между валами. Эти маленькие птицы спят на воде, ведь они не хуже папируса скользят через самые большие волны.
Из дырочек в папирусе вдруг полезли полчища коричневых жучков. Хоть бы морская вода убила все яички и личинки, чтобы они не съели лодку изнутри! Скептики, которые видели, как верблюды пробовали грызть борта строящейся «Ра», предсказывали, что папирус может прийтись по вкусу голоднымморским тварям. Ни киты, ни рыбы пока что не покушались на наш плавучий сноп, но букашки заставили нас встревожиться.
Солнце и луна поочередно указывали нам путь на запад. Одинокая ночная вахта позволяла в полной мере ощутить знакомый еще по «Кон-Тики» трепет перед необъятной вечностью. Звезды, ночной океан. В небе сверкали незыблемые созвездия, в воде так же ярко светились ноктилюки, живой планктон, словно рассыпали фосфорные блестки по мягкому черному ложу, на котором покоилась «Ра». Иногда казалось, что мы идем под ночным небом по волнистому зеркалу. А может быть, это океан такой прозрачный, и мы видим рои звезд с другой стороны земного шара? Небосвод – тут, небосвод – там, и все – зыбкое, все чужое, кроме золотистых снопов папируса, которые нас несли, да огромного четырехугольного паруса, вверху пошире, внизу поуже, черной заплатой на звездной пыли. Уже этот древнеегипетский рисунок, эта трапеция в ночи располагала к тому, чтобы перелистать календарь на тысячи лет назад, такого контура сегодня не увидишь. Впечатление дополняли непривычные скрипы и кряхтение папируса, бамбука, древесины и веревок. Это был уже не атомный и ракетный век – мы жили в ту далекую нору, когда земля еще была плоской и огромной, сплошь неведомые океаны и материки, когда время было всеобщим достоянием и никто не знал в нем недостатка.
Усталые, все мышцы ноют от напряженной работы, в тусклом свете керосиновых фонарей мы по очереди несли вахту на извивающейся гибкой палубе. Нет слов, чтобы сказать, как хорошо отдохнуть в уютном спальном мешке. Проснешься – аппетит зверский, и во всем теле невыразимое блаженство. Право, не стоит говорить презрительно про образ жизни людей каменного века. Нет причин считать, что те, которые жили до нас и работали в поте лица, только маялись и не знали никаких радостей.
Сто с лишним километров в день курсом на запад даже на карте мира заметны, хотя горизонт оставался неизменным. Изо дня в день, круглые сутки один и тот же, он двигался вместе с нами и всегда держал нас в фокусе. Но и вода тоже двигалась вместе с нами. Канарское течение – будто быстрая соленая река, в обществе своего вечного спутника, пассата, она устремляется на запад, всегда на запад, воздух и вода, и с ними все, что плывет по воде и летит по воздуху. На запад, как и солнце, и луна.
Мы с Норманом поднялись на мостик, он с настоящим секстантом, я с носометром – это слово принесло Юрию победу в конкурсе на лучшее название самодельного прибора для измерения широты, который я выстругал из двух дощечек. Дощечки были посажены на общий деревянный шип с кривым вырезом, чтобы можно было приставить к носу, – отсюда и название. Итак, прижал прибор к носу, шип чуть ниже глаз, и смотри левым глазом вдоль одной дощечки, нацеленной на горизонт. Вторую дощечку, прикрепленную кусочком кожи к тому же шипу, поворачиваешь у правого глаза, наводя ее на Полярную Звезду. Угол между двумя дощечками читается на третьей, помещенной вертикально между ними, он и обозначает широту. Примитивный носометр давал повод членам экипажа поострить; он был на диво прост и удобен в обращении, а ошибка редко превышала один градус. Курс, наносимый на карту по этим данным, до удивительного совпадал с верным, который наносил на другую карту Норман.
Самое интересное в папирусной лодке, после поразительной прочности и грузоподъемности папируса, – древнеегипетский такелаж. Конечно, и рулевое устройство о многом говорило, по нему видно, как в древности постепенно из поставленного косо весла получился вертикальный руль. Но в такелаже заключалась гораздо более важная информация. Мы точно скопировали его с древнеегипетских фресок. Толстая веревка соединяла верхушку двойной мачты с форштевнем. А вот к ахтерштевню такой веревки не протянули, хотя два штага – все, что нужно, чтобы держать прямо двуногую мачту на лодке на тихой реке. И однако древнеегипетские корабельщики почему-то не тянули веревок с мачты на корму. Вместо этого от каждого из двух колен на разной высоте к бортам позади средней линии шло наискось пять или шесть параллельных вант. А корма была свободна от них и качалась вверх-вниз на волнах.
Мы поняли всю важность такого устройства, как только «Ра» начала извиваться на волнах океана. Ахтерштевень вел себя, как прицеп, который сам по себе мотается на всех ухабах. Будь он притянут к топу фордуном, мачта сломалась бы на первой же хорошей волне. Когда «Ра» переваливала через высокие гребни, средняя часть лодки ритмично поднималась вверх, между тем как нос и корма под собственной тяжестью опускались в ложбины. Подвесь мы корму к мачте, и та не выдержала бы нагрузки, а так она поддерживала загнутый вверх форштевень и не давала корчиться средней части мягкой палубы. Корма послушно повторяла извивы волн.
Не проходило дня, чтобы члены экипажа не восхищались гением тех, кто так искусно расставил снасти и определил их функцию. Сведущий в морском деле Норман сразу сообразил, в чем тут суть. Смысл конструкции был слишком очевиден. Уже на третий день я записал в дневнике: «Этот такелаж – плод долгого морского опыта, он родился не на тихом Ниле».
Но одна структурная особенность египетской лодки далеко не сразу была нами понята, за что мы потом и поплатились. Каждый день мы с недоумением смотрели на загнутый внутрь завиток высокого ахтерштевня. Для чего он? Египтологи довольствовались выводом, что завиток призван всего лишь украшать речное судно, но мы тут с ними никак не могли согласиться. И однако шли дни, а нам все не удавалось определить, какая же в нем польза. Тем не менее мы постоянно проверяли, не выпрямляется ли завиток. Нет, держится превосходно, видно, наши чадские друзья были правы, говоря, что все сделали, как надо, крючок не разогнется, и не надо притягивать его к палубе никакими веревками. Одну ошибку мы допустили, это верно, когда поначалу разместили груз, как на обычных парусных судах. И некому было наставить нас на ум, только собственный опыт плавания в пассатном поясе мог научить нас, что на папирусной лодке груз должен быть сосредоточен на подветренном борту. Теперь папирус с наветренной стороны намок уже настолько, что край фальшборта почти сравнялся с поверхностью воды. Особенно на корме справа, там мы вполне могли умываться, но вися вниз головой и ногами вверх. Очень даже удобно, решили все, и отныне вся стирка-мойка происходила на корме.
Четвертого июня волнение заметно умерилось, и на следующее утро мы проснулись в совсем другом мире. Тепло так, славно, мерно катятся блестящие пологие валы... Опять нас навестила пятерка китов, возможно, те же самые, что в первый раз. Царственный кортеж. Такие добродушные и красивые в своей родной стихии, даже страшно подумать, что скоро человек прикончит своими гарпунами последних теплокровных исполинов морей, и только холодные стальные чудища – подводные лодки – будут резвиться в морской пучине, где творец, да и не он один, предпочел бы видеть, как китихи кормят молоком своих детенышей.
Пользуясь теплой погодой, Жорж разделся и прыгнул за борт с маской и страховочным концом вокруг пояса. Он нырнул под «Ра», а когда вынырнул, то издал такой ликующий крик, что Юрий и Сантьяго прыгнули следом; остальные несли вахту и ждали своей очереди. Только Абдулла сидел в дверях каюты, повесив нос. Если ветер не вернется, мы так и застрянем здесь, никогда не попадем в Америку. Норман успокоил его, рассказав про незримое океанское течение. Пусть мы не будем проходить сто километров в сутки, как до сих пор, но уж пятьдесят-то сделаем.
Вскоре все, кроме Абдуллы, побывали под брюхом «Ра». Он умылся в брезентовом ведре и преклонил колени лицом к Мекке. Молитва затянулась надолго – может быть, он просил аллаха послать ветер?
После освежающего морского купания мы словно родились заново. А какое удовольствие мы получили, осматривая днище «Ра»! Чувствуешь себя, будто рыбка-лоцман под брюхом огромного золотого кита. Отраженные солнечные лучи снизу освещали папирус над нами, как прожектором. Океан и безоблачное небо окружили лучезарного золотистого великана неописуемой синевой. Он плыл так быстро, что надо было самим плыть изо всех сил в ту же сторону, если мы не хотели, чтобы нас тащили вперед страховочные концы.
Только теперь мы обнаружили, что перед носом лодки идут веером полосатые рыбки-лоцманы, образуя такую же верную свиту, какая сопровождала бревенчатый плот «Кон-Тики». Здоровенная коряга тяжело качалась на волнах. Из-под нее выглянула маленькая толстушка-пампано и поспешила, виляя хвостиком, к «Ра», где около широкой рулевой лопасти уже носилось несколько ее родичей. Кокетливые рыбки подходили к Юрию и игриво пощипывали его белую кожу.
На папирусном днище тут и там прилепились длинношеие морские уточки – темно-синяя раковина и колышущиеся оранжевые жабры, как будто страусовые перья. А вот водорослей нигде не было видно. В песках Сахары стебли папируса были морщинистые, шероховатые, серо-желтого цвета, в воде они набухли, стали гладкие, блестящие, точно золотое литье. И на ощупь уже не хрупкие и ломкие, а тугие и крепкие, как покрышка. Ни один стебель не отошел и не сломался. Папирус три недели находился в воде. И вместо того чтобы через две недели сгнить и развалиться, стал крепче прежнего.
Мы выбрались из воды на лодку безмерно довольные тем, что увидели, и вот опять за кормой поплыли куриные перья: Карло готовил праздничный обед.
Подводная экскурсия нас так воодушевила, что мы решили и второе починенное рулевое весло водрузить на место. Тише этого погода все равно не будет. Но здоровенное весло с двойным веретеном было до того тяжелое и длинное, что, пока мы, путаясь в вантах, переправляли его через каюту на наветренную сторону, успело стемнеть. Как ни мирно настроилось море, волны были достаточно высокими, и нам предстояло немало повозиться с пляшущей лопастью, раньше чем удастся поставить весло правильно и закрепить его. Наученные горьким опытом, мы решили отложить это дело на утро, а пока тяжеленную махину привязали покрепче стоймя у наветренного борта, уперев лопасть в кормовую палубу.
Следующий день порадовал нас такой же великолепной погодой. Проснувшись, я полез через кувшины на корму, чтобы искупаться, и застал там утреннего вахтенного – Юрия. Он сидел, очень довольный, и стирал белье прямо на палубе, обходясь без ведра. В том месте, где рулевое весло всей своей тяжестью опиралось на папирус и борт осел сильнее всего, на корме получился маленький прудик, непрерывно пополняемый волнами, захлестывающими палубу.
– Наша яхта становится все более комфортабельной, – радостно отметил Юрий. – Вот уже умывальник с водопроводом появился.
Мы поскорей погрузили в воду увесистое весло, чтобы море приняло на себя основную тяжесть, однако через притопленный угол все равно текли струйки на палубу, и, пока все сводилось к импровизированному умывальнику, мы в общем-то были только рады. Проверили кормовой завиток – такой же, как прежде, не выпрямляется. На всякий случай Жорж нырнул под «Ра». И впервые обнаружил, что сразу за каютой днище как будто слегка надломилось. Но связки выглядели крепкими и невредимыми; надавишь на стебель – из него вырываются пузырьки воздуха. Папирус ничуть не утратил плавучести.
Решив, что у нас просто перегружена корма, мы перенесли весь груз с кормовой палубы, оставив лишь тяжелую поперечину, на которую опирались рулевые весла, мостик на стойках и под ним – ящик со спасательным плотом.
Но гребни продолжали захлестывать корму справа. Мы снова все тщательно осмотрели над водой и под водой. И убедились, что «Ра» полностью сохраняет начальную форму от носа до того места, где закреплена задняя пара вант. Здесь проходила линия излома, дальше корма наклонилась косо вниз.
Пришла пора поразмыслить опять. Вниз прогнулась та часть лодки, которая как бы свободно болталась на прицепе, а все подвешенное к мачте держалось нормально. Нос все так же вздымался вверх. Наш золотой лебедь гордо нес свою шею, только хвост повесил. Если бы мачта могла выдержать натяжение фордуном, такого бы не случилось. А попробуй протяни фордун к ахтерштевню, и на первом же гребне мачта переломится. Корме положено колыхаться, нельзя лишь позволять ей сохранять излом.
Мы попробовали поднять корму, притягивая ее веревками к каюте. Попробовали скрепить ахтерштевень толстыми канатами, переброшенными через мостик и каюту, со стояками на носовой палубе. Так египтяне придавали жесткость конструкции своих деревянных кораблей; правда, на изображениях папирусных лодок ничего похожего не видно, и сколько мы ни натягивали канаты, корма не хотела подниматься. Карло вязал хитрые узлы и усерднее всех тянул мокрые веревки, пока у него ладони не вздулись, словно белые макароны.
Шли дни. С каждым днем корму захлестывало все сильнее. И хотя опора кормового завитка постепенно уходила под воду, сам он выглядел так же лихо, как прежде, и не думал разгибаться. Да только пользы от него никакой, он начал превращаться в балласт для ослабевшей кормы. Могучие валы без конца таранили торчащую вверх корму, и она впитала уйму воды выше ватерлинии. И ведь ахтерштевень был толстый, широкий, а высотой превосходил каюту, так что вместе с водой он, наверное, весил больше тонны. Может быть, обрезать завиток? И тогда вся корма всплывет? Но это все равно, что отрубить лебедю хвост... Рука не поднималась так обойтись с нашим гордым корабликом.
Но как же, как?.. Как, черт возьми, создатели этой удивительной хитроумной лодки добивались того, что она без растяжек не поджимала свой пышный хвост? И это несмотря на то, что у них стояла веревка, пригибающая завиток к палубе, та самая, которую наши чадские мастера, слава богу, убрали. И мы о ней пока не жалели. Или? Или?! Я отбросил кокосовый орех и принялся лихорадочно чертить. Разрази меня гром! Я позвал Нормана, Сантьяго, Юрия, Карло – весь экипаж. Ошибка найдена. Мы не разобрались в назначении кормового завитка. Еще одна вещь, которую мы могли постичь только на собственном горьком опыте, ведь те, кого сами изобретатели завитка обучали, зачем он и для чего, не одну тысячу лет лежат в могиле. Так вот, корму загнули внутрь над палубой не для красоты. И веревка несла особую службу, а не только держала этот изгиб, как мы все думали. Завиток и без нее хорошо держался, задачей веревки было не его тянуть вниз, а кормовую палубу вверх подтягивать. Высокий ахтерштевень в форме арфы играл роль пружины с мощной струной, которая держала свободно качающуюся корму точно так же, как ванты и штаги держали остальную часть лодки. Чтобы папирусный корабль мог выходить в открытое море, не рискуя переломиться, гениальный конструктор составил его как бы из двух сочлененных частей. Передней части придавала жесткость двойная мачта с параллельными вантами, а задняя свободно колебалась, всегда возвращаясь на место благодаря тетиве, привязанной к пружинящему завитку над кормой.
Мы восстановили тетиву, но было уже поздно, за три недели корма надломилась, и завитушка опустилась так сильно, что поднять ее можно было только краном. Теперь нас никакая веревка не могла выручить. Мы были наказаны, так как, подобно другим, считали завиток ахтерштевня самоцелью, а он на самом деле был гениальным средством древних египтян.
Стоя в луже на корме и глядя на уходящий под воду золотистый хвост, Юрий и Норман запели по-английски:
– А зачем нам желтая подлодка, желтая подлодка, желтая подлодка...
Мы вполне разделяли их мнение, и вот уже вся семерка хором исполняет песенку битлов. Никто не принимал случившееся всерьез, ведь большая часть лодки держалась на воде, как пробка. Юрий и Норман сели стирать носки и подбирать новую рифму к слову «подлодка».
Меня больше всего тревожило не столько то, как папирус будет ладить с океаном, сколько то, как мы, семеро пассажиров, будем ладить друг с другом. В каюте-корзине площадью 2,8 на 4 метра нельзя было как следует повернуться, если все семеро одновременно ложились спать, а палуба была так загромождена кувшинами и корзинами, что негде ступить, поэтому мы обычно проводили время на узкой связке папируса перед стенкой каюты с подветренной стороны да на мостике, где развел руки в стороны – вот тебе и ширина, и длина.
День и ночь любой мог услышать голос и ощутить плечо любого. Мы срослись в семиглавого сиамского близнеца с семью ртами, говорящего на семи языках. На лодке вместе шли не только белый и черный, не только представители коммунистической и капиталистической страны, – мы представляли также крайние противоположности в образовании и уровне жизни. Когда я в Форт-Лами пришел в гости к одному из наших двух африканцев, он сидел на циновке, брошенной на земляной пол, и всю обстановку хижины составляла стоящая на той же циновке керосиновая лампа, а его паспорт и билеты лежали на земле в углу. У второго африканца, в Каире, кланяющиеся слуги проводили меня между колоннами роскошного особняка в восточном стиле в покои с тяжелой французской мебелью, гобеленами и всякой стариной. Один член экипажа не умел ни писать, ни читать, другой был профессор университета. Один был убежденный противник войны, другой – морской офицер. Любимым развлечением Абдуллы было слушать свое карманное радио и потчевать нас новостями о войне у Суэца, эпизод которой он сам успел увидеть. Его правительство в Форт-Лами было за Израиль. Рьяный мусульманин Абдулла был за арабов. Норман – еврей. Жорж – египтянин. Их сородичи стреляли друг в друга через Суэцкий канал, а сами они лежали чуть не бок о бок.
В плетеной каюте посреди Атлантического океана новости о войне во Вьетнаме тоже занимали Абдуллу.
Словом, на борту было предостаточно горючего материала для серьезного пожара. Наш «бумажный кораблик» был нагружен духовным бензином, и только вездесущие волны могли остудить пыл, развивающийся от трения в тесной корзине.
В любой экспедиции, где людям много недель просто некуда деться друг от друга, коварнейшая опасность – душевный недуг, который можно назвать «острым экспедиционитом». Это психологическое состояние, при котором самый покладистый человек брюзжит, сердится, злится, наконец приходит в ярость, потому что его поле зрения постепенно сужается настолько, что он видит лишь недостатки своих товарищей, а их достоинства уже не воспринимаются. Первый долг руководителя экспедиции – повсечасно быть начеку против этой злой болезни. И перед стартом я провел тщательную профилактику.
Вот почему мне стало не по себе, когда я уже на третий день плавания услышал, как миролюбивый Карло кричит по-итальянски Жоржу, что хоть он и чемпион дзю-до, это не мешает ему быть закоренелым неряхой, который привык, что за ним няньки убирают. Жорж огрызнулся в ответ, но словесная перепалка не затянулась, и вот уже только папирус кричит и скрипит. Однако на другой день эта двойка опять схлестнулась. Карло стоял и подтягивал ванты, а Жорж в сердцах отбросил свою удочку и демонстративно полез в спальный мешок. На мостике Карло тихо сказал мне, что этот шалопай начинает действовать ему на нервы. Сам Карло с детства привык трудиться, в двенадцать лет уже таскал тяжелые мешки с рисом. Никакого образования не получил, всего добивался своим горбом. А этот папенькин сынок из Каира – избалованный лоботряс, бросает свои вещи, где попало, и ждет, чтобы мы за ним убирали.
Я обещал поговорить с Жоржем. Карло прав: он в самом деле еще не понял, что такое экспедиция. Для него это новая игра, состязание в силе. Но и Карло должен все-таки понять, что Жорж просто привык так – где ни брось какую-либо вещь, все равно она окажется на месте, об этом позаботятся слуги, жена или мать. Карло прошел школу жизни, Жорж – нет. Мы должны его научить.
Вскоре я оказался на мостике с Жоржем с глазу на глаз. Он очень переживал, что грубо ответил Карло, но тот все время сует свой нос в его сугубо личные дела. Впрочем, Жорж был достаточно умен, и мне не стоило большого труда втолковать ему, что на борту «Ра» нет места для «сугубо личных дел», разве что в личном ящике каждого. Никто не обязан убирать за другими, и никто не вправе разбрасывать гарпуны, ласты, книжки, мокрые полотенца, мыло и зубную щетку. На борту все равны, и каждый сам убирает за собой.
Через минуту рыболовные снасти, магнитофон и грязное белье Жоржа исчезли с крыши каюты и с палубы, и он уже тянул какую-то снасть вместе с Карло.
Следующая серьезная угроза миру на «Ра» возникла, когда мы освоились настолько, что ввели дежурство на камбузе. Карло вызвался быть постоянным коком и выиграл на этом. Остальным надлежало по очереди чистить кастрюли, сковороды и ящики. Мы составили расписание дежурств по дням и написали его мелом на черной доске, висевшей на мостике, причем все забыли, что Абдулла не умеет читать. И когда Сантьяго показал ему на кастрюли и щетку, Абдулла, который не заметил, что перед ним уже отдежурили двое, пожаловался на головную боль и ушел в каюту, сердито ворча:
– Думаешь, я не знаю, в чем дело. Ты, Сантьяго, белый, а я черный. Вот ты и хочешь, чтобы я был у вас слугой.
Сантьяго – убежденный миротворец, но слова Абдуллы укололи его хуже ножа, и он вспылил.
– И это ты говоришь мне, Абдулла, – рявкнул он в священном гневе. – Мне, который шесть лет борется за равноправие негров. Да для меня во всем этом плавании самое важное как раз то...
Дальше Абдулла не слышал, потому что залез с головой в спальный мешок. А когда он выглянул снова, то увидел, как я пробираюсь с грязными кастрюлями на корму. Он вытаращил глаза.
– Просто мы с тобой поменялись дежурством, – объяснил я ему.
На другой день Абдулла драил кастрюли на корме, весело распевая звонкие африканские песни.
А еще через день нас ожидал сюрприз. Жорж подошел ко мне и попросил возложить на него ответственность за порядок на кухне до конца плавания, а то ведь несподручно чередоваться, к тому же у других есть дела поважнее.
Жорж, да-да, Жорж стал постоянным дежурным, и с того дня на камбузе все блестело, больше никому не надо было думать о кастрюлях.
Помню также, как Норман и Карло взъелись на Юрия и Жоржа, дескать, те делают что-нибудь лишь тогда, когда им скажут, а Норман и Карло помимо своих основных обязанностей постоянно сами находили себе какое-нибудь дело. Когда Абдулла не проявляет инициативы, это еще можно понять, но ведь эти двое получили высшее образование, – что же они ждут приказов? Со своей стороны Юрий, Жорж и с ними Абдулла начали злиться на Нормана и Карло: уж очень они любят командовать и распоряжаться, нет сказать по-товарищески, если что надо, а когда можно, то и посидеть спокойно, просто наслаждаясь жизнью. Или взять Сантьяго, этого хитрого интеллигента. Если надо перенести что-то тяжелое, нагнется, возьмется и зовет других на помощь. Смотришь, он уже выпрямился и показывает, улыбаясь, куда тащить кувшин или ящик, а силачи Юрий, Жорж и Абдулла стараются, несут. Кому-то было досадно, что я, руководитель, не выгоняю лентяя из спального мешка, и он знай себе спит, тогда как другие трудятся по своему почину. А кто-то считал, что я должен одернуть любителей командирского тона, у нас не военный корабль и не горнострелковая рота, мы семь равноправных товарищей, можно сказать по-хорошему.
И однако – назовите это чудом – все эти мелкие трения не перешли в «острый экспедиционит», напротив, каждый старался понять реакции и поведение других, и тут всем нам сослужили службу научные занятия Сантьяго, изучавшего вопросы мира и агрессии. Юрий и Жорж научились ценить Нормана и Карло, потому что их инициатива и настойчивый труд всем шли на пользу, а Норман и Карло изменили свой взгляд на Юрия и Жоржа, которые брали на себя самый тяжелый труд и охотно приходили на помощь любому, не дожидаясь просьбы, если видели, что это в самом деле нужно. Дипломат и психолог Сантьяго помогал Юрию пользовать незримые раны; Юрий показал себя толковым и заботливым врачом; Абдуллу все уважали за его светлый ум и способности, а также за умение приспособиться к совершенно непривычному образу жизни. Абдулле все пришлись по душе, так как он видел, что мы, хоть и белые, считаем его своим. Он упрашивал Юрия дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы у него выросла борода, как у нас, и никак не мог понять этого щеголя, который каждое утро брился, между тем как мы, остальные, отпустили себе усы и бороду, кто рыжую, кто черную. Если раньше голова Абдуллы сверкала, как лаковая, то теперь он перестал ее брить, и вскоре у него хоть на черепе отросли густые курчавые волосы, в которые он втыкал толстый плотницкий карандаш вместо броши.
У Жоржа были свои причуды. Днем он засыпал легко, а ночью ему требовалась подушка на грудь и музыка в ухо, для чего он запасся магнитофоном с набором любимых песенок. Тем, кто лежал от него подальше, скрип веревок и папируса заглушал музыку, но этот же скрип вынуждал самого Жоржа и Сантьяго просить у Юрия снотворного. День и ночь магнитофон Жоржа играл его излюбленные мелодии. В один прекрасный день магнитофон пропал. Только что я видел его, он лежал и играл на краю мостика, у ног Абдуллы; сам Абдулла ворочал руль, стоя к нему спиной. Норман укреплял весло, свесившись через борт. Карло, Сантьяго и я перекладывали груз на корме, Юрий и Жорж работали за каютой. Вдруг музыка смолкла. Прошло несколько минут, прежде чем Жорж полез через кувшины на корму, чтобы снова пустить магнитофон. Но магнитофона не было. Жорж искал всюду. На корме, на носу, под матрасами, на крыше каюты. Исчез. Бесповоротно исчез. Кто это сделал? Первый дзюдоист Африки рассвирепел. Кто, кто посмел выбросить за борт его магнитофон? Конец путешествию, все, он не уснет без своих мелодий, кто-о-о это сделал!!! Атмосфера накалилась. Крошка Сафи поднялась на мачту, сколько позволяла веревка: еще обвинят, чего доброго...
Абдулла мог столкнуть ногой магнитофон за борт, но он слишком любил музыку, чтобы сделать это. Норман не дотянулся бы, Юрий все время был рядом с Жоржем. Оставалась только наша тройка, которая работала на корме. Карло невозмутимо продолжал перетаскивать кувшины. Карло! Для меня все стало ясно. Он все еще злится на Жоржа, вот и отомстил. Но где была его голова! Вот уж от кого не ожидал. Теперь мы все равно что на бочке с порохом, и фитиль уже зажжен.
– Жорж, – сказал я. – Ты молодец, научился следить за порядком, как же ты мог положить свой магнитофон на самом краю, так что он свалился в море!?
– Может, он и правда лежал на краю, – согласился Жорж, – но с мостика он мог свалиться только на палубу, а не за борт.
Он был абсолютно прав, но как-то надо было выручать Карло.
– Магнитофон лежал на правом углу, – решительно сказал я. – Если его задели, когда мы сильно накренились вправо, он должен был упасть за борт.
Жорж продолжал искать в самых невероятных местах, потом залез в свой спальный мешок и мгновенно уснул. Мы не будили его до самого утра, когда Карло свистом вызвал нас завтракать и предложил яичницу с корейкой. Долго сердиться на такого кока было невозможно, и больше никто не заговаривал о магнитофоне. И только после конца плавания Сантьяго однажды положил руку на широкое плечо Жоржа и спокойно спросил:
– Жорж, сколько я тебе должен за магнитофон?
Мы все так и опешили. Жорж медленно, очень медленно развернулся фронтом к маленькому улыбающемуся мексиканцу, сам широко улыбнулся и сказал:
– Какой еще магнитофон?
«И как только ты на это решился», – спросили мы потом Сантьяго. Он признался, что был далеко не уверен, правильно ли делает, сбрасывая в воду музыкальную машину, но в одном он ни капли не сомневался: если позволить ей и впредь играть одни и те же мелодии, кто-нибудь не выдержит и стукнет ею хозяина по голове.
Шли недели, мы жались всемером в тесной каюте, словно на круглосуточных посиделках, и «Ра» все качалась в центре одного и того же круга, и горизонт сопровождал нас, как заколдованный. С 4 по 9 июня волны были совсем ленивые, ветер скис, кое-кого из ребят круглые сутки клонило в сон. И папирус уже не скрипел и не рычал, а мурлыкал, словно кот на солнцепеке.
Норман поделился со мной своими тревогами. Мы медленно дрейфуем на юго-запад, и, если не подует хороший ветер, нас может захватить круговое течение у берегов Мавритании и Сенегала. Судя по тому как много судов проходило вдали и вблизи, мы снова очутились на каком-то маршруте, а в ночь на 6 июня мы увидели идущий прямо на нас большой, ярко освещенный океанский пароход. Курс его красноречиво свидетельствовал о том, что вахтенный офицер не заметил наш маленький топовый фонарь, и мы принялись отчаянно размахивать карманными фонариками. Тихий ветер лишал нас всяких надежд свернуть в сторону за счет рулевых весел. Рокоча машиной, светящийся гигант грозно наступал на нас. Вдруг он отвернул направо и заглушил свою механическую громыхалку. С мостика нам просемафорили яростный выговор так быстро, что мы успели только разобрать слово «прошу», пока великан с разгона бесшумно скользил мимо в каких-нибудь трехстах метрах от наших папирусных связок. И вот уже опять забурлила вода у винта, ослепительный стальной гигант понесся дальше к Европе.
На следующий день мы при легком ветре снова вошли в область, где весь поверхностный слой воды был полон асфальта. А еще через три дня, проснувшись утром, нашли море настолько загрязненным, что некуда окунуть зубную щетку, а Абдулле для омовения пришлось выдать дополнительный паек пресной воды. Из голубого Атлантический океан стал серо-зеленым и мутным, и всюду плавали комки мазута величиной от булавочной головки до ломтя хлеба. В этой каше болтались пластиковые бутылки, как будто мы попали в грязную гавань. Ничего подобного я не видел, когда сто одни сутки сидел в океане на бревнах «Кон-Тики». Мы воочию убедились, что люди отравляют важнейший источник жизни, могучий фильтр земного шара – Мировой океан. И нам стало ясно, какая угроза нависла над нами и будущими поколениями. Судовладельцы, заводчики, государственные деятели привыкли видеть море с палубы быстроходного лайнера, им никогда не приходилось, как нам, изо дня в день окунать в него зубную щетку и собственный нос. Вот о чем мы должны кричать всем, кто захочет нас слушать. Много ли толку в том, что Восток и Запад состязаются в решении социальных проблем на суше, если все страны позволяют нашей общей жизненной артерии, Мировому океану, превращаться в совместную клоаку, сборник мазута и химических отбросов? Или мы еще находимся в плену средневековых представлений, считаем океан беспредельным?
Как ни странно, когда качаешься на волнах на связках папируса и видишь скользящие мимо материки, отчетливо понимаешь, что океан отнюдь не беспределен, и струи, идущие в мае вдоль берегов Африки, через несколько недель достигают берега Америки, принося с собой всю ту дрянь, которая не тонет и не поедается обитателями моря.
Десятого июня ветер снова посвежел. В тот же день Абдулла зарезал последнюю курицу, в клетке осталась только утка. Клетку отправили за борт – намокнет и затонет, – но обезглавить утку ни у кого рука не поднялась. Ее помиловали и, окрестив именем Симбад, позволили – с веревочкой на ноге – разгуливать по палубе, к великой досаде Сафи. Корзина заменила Симбаду особняк, и он стал заправлять на носовой палубе, а Сафи обычно держалась вблизи, и, если кто-то из них по рассеянности забредал на чужую территорию, это кончалось тем, что либо Симбад немилосердно щипал сзади Сафи, заставляя ее визжать от негодования, либо Сафи торжествующе скакала в свой уголок с утиным пером в руке.
Ночью волна заметно прибавила, и море разбушевалось. Порой становилось жутко стоять на шатком, скрипучем мостике, не видя в ночи ничего, кроме пятнышка света на парусе да топового фонаря, который болтался, словно обезумевшая луна, среди звезд, мелькающих между гонимыми бурей тучами. Вдруг за спиной будто злобная змея зашипит – бурлящий гребень вровень с твоей головой гонится за лодкой, а самой волны не видно, кажется, только белая пена летит по воздуху и что-то шепчет про себя. А черный вал уже подкатился под связки папируса и толкает их вверх своими чудовищными бицепсами, и тут же отпускает нас, и мы падаем вниз – падаем так глубоко, что следующий белый призрак реет в воздухе еще выше, чем предыдущий. Двухчасовая рулевая вахта совершенно изматывала нас, хотя мы обычно работали только одним веслом, наглухо закрепив второе.
За ночь море расшатало «Ра» сильнее, чем когда-либо. На рассвете амплитуда качания мачты на уровне крыши достигла 60 сантиметров, а макушку на высоте 9 метров мотало так, что сам Карло с трудом удерживался на ней. По примеру древних египтян каждое колено двуногой мачты мы утопили внизу в ямку на плоской деревянной пяте, установленной прямо на папирусе. Толстый деревянный угольник жестко соединял мачту с пятой, но теперь скреплявшие их веревки настолько ослабли, что оба колена лихо плясали, грозя выскочить из ямок. Да и ванты, похожие на параллельные струны, то провисали, вместо того чтобы притягивать колена к бортам, то вдруг натягивались так, что даже страшно: сейчас либо мачта сломается, либо лопнут папирусные связки, – ведь ванты были закреплены за толстый канат, обрамляющий весь фальшборт.
Мы вбили под пяту деревянные клинья и принялись за разгулявшиеся ванты – подтянешь одну, гляди, как бы не лопнула, пока остальные еще провисают. И вот мачта снова укрощена.
В этот день мы не могли пожаловаться на одиночество. На палубу градом сыпались летучие рыбки. Мы прошли мимо большой луны-рыбы, безжизненно лежавшей на воде. Какая-то тварь заглотала крючок и размотала всю леску на спиннинге Жоржа. Не успел он ее вытащить, как другая рыбина перехватила улов, и Жоржу досталась лишь голова. «Ра» мчалась по горам и долам с рекордной скоростью, и мы были изрядно обескуражены, когда Норман, определив в полдень наше место, сказал, что мы не так уж много прошли. Нас снесло течением на юг.
За одни сутки правый угол нашей кормы осел настолько, что конец рулевого бруса то и дело зарывался в волну и тормозил. На кормовой палубе вода стояла по щиколотку, а иные гребни докатывались до ящика со спасательным плотом, уложенного под мостиком. Всякий раз ящик ерзал и тер веревки.
На следующий день море продолжало бушевать, а с крепнущим нордом вернулся и холод. Регулируя крепление рулевого бруса, который все время врезался в воду, Юрий увидел на нем какой-то голубой пузырь и схватил его руками, чтобы сбросить. Юрий в жизни не встречался с «португальским военным корабликом» и даже не понял, что происходит, когда его руки вдруг оказались опутанными длинными жгучими нитями физалии – одной из самых опасных, несмотря на малые размеры, тварей Атлантического океана. Этот каверзный пузырь не единичная особь, а целая колония мельчайших организмов, объединенных сложными взаимоотношениями, и у каждого свои особенности и функции. Единственная задача самой крупной особи, пузыря – поддерживать эту удивительную артель на плаву. За ним волочится пучок многометровых арканчиков, составленных из маленьких граждан сообщества. Кто-то добывает пищу для всей колонии, кто-то отвечает за размножение, есть и солдаты, они буквально стреляют едкой кислотой в добычу и врагов. Самые крупные «португальские военные кораблики» могут даже парализовать и убить человека, такие случаи известны.
Жгучая боль через кожу распространилась по нервам, сковала мышцы правой руки нашего судового врача и подобралась к сердцу. Бедняга полез в аптечку и перебрал все: от мазей до сердечных и нервных таблеток. Четыре часа понадобилось ему, чтобы укротить боль и восстановить подвижность руки.
Тринадцатого июня в щелях и вантах свистел леденящий норд-норд-ост, и море ярилось пуще прежнего. Лодка извивалась, рыча, визжа и скрипя всеми суставами, волны беспорядочно громоздились друг на друга и накрывали корму «Ра». Иные гребни обрушивали на папирус по несколько тонн воды, и мы видели, как корма все больше поникает под натиском самых тяжелых каскадов. И ничего нельзя поделать, стой и смотри, когда лишняя вода скатится через оба борта, и останется наш популярный бассейн, где теперь было по колено. Абдулла только смеялся и уверял, что все это ерунда. Пока веревки целы, мы не потонем. Продрогший от холода, но веселый, он бродил в штормовке по палубе, прижимая к уху свой карманный приемник. Какая-то арабская станция рассказывала на французском языке о событиях в Чаде: там пока что верх взяли мусульмане.
Почти весь день вокруг лодки резвилась великолепная сине-зеленая корифена, она оборвала леску и уж после этого не клевала, и гарпуном ее взять не удалось. Карло затеял готовить обед из вяленой рыбы, в это время что-то шлепнуло его по загривку и забарабанило по каюте. Одиннадцать летучих рыб корчились на палубе – собирай и клади на сковороду.
С 14 по 17 июня море неистовствовало, с разных сторон наперерез друг другу шли волны, высота которых никак не соответствовала ветру. Очевидно, здесь сталкивались течения, отраженные невидимыми берегами. Жорж жаловался на боли в спине, его уложили в постель. Абдуллу тошнило, но он сам себя исцелил снадобьем из двенадцати головок чеснока. Начал кряхтеть и шататься мостик, пришлось срочно укреплять его новыми узлами и растяжками. Юрий догадался переселить Симбада на корму, и тот принялся радостно плавать в нашем бассейне. У Сафи от досады расстроился желудок, и она поминутно бегала на край палубы. Просто поразительно, какой чистоплотной стала наша обезьянка. Вдруг из воды выскочил косяк огромных, чуть не двухметровых тунцов, Сафи дико перетрусила и забилась в корзину, откуда ее так и не удалось выманить, пока Жорж с наступлением темноты не пересадил трусишку в ее персональный чемодан-спальню в каюте.
«Ра» судорожно корчилась и выписывала немыслимые кренделя, прилаживаясь к хаотической пляске волн, и колена мачты снова запрыгали в своих плоских деревянных башмаках. Лодка скрипела не так, как прежде, – казалось, что дует могучий ветер, когда сотни тысяч связанных веревками стеблей раскачивались на волнах. Пол, стены и крыша каюты тоже скрипели на новые голоса. Ящики под нами перекосились, крышки заклинивались; где ни ляжешь, ни сядешь, ни станешь, под тобой все корежится. Ванты нещадно дергали мачту, и при таком волнении мы не решались даже взяться за них, чтобы ослабить или подтянуть. Как ни холодно было, Жорж, Юрий и Норман прыгнули в воду, чтобы проверить днище. Стуча зубами, они доложили, что папирус в отличном состоянии, только корма висит, играя роль огромного тормоза. Надо было что-то предпринимать.
Неожиданно правое рулевое весло сорвалось с поперечины внизу и бешено задергалось, силясь оборвать и верхнее крепление, на мостике. Нам пришлось изрядно повозиться, стоя по пояс в бурлящей воде, прежде чем удалось поймать весло и закрепить его тросами. Причем рыбы кругом было столько, что Жорж ухитрился, не сходя с лодки, пронзить гарпуном корифену.
Надо что-то предпринимать, как-то обуздать ярость могучих каскадов, обрушивающихся на корму. Сколько еще она выдержит эту чудовищную нагрузку? Деревянная лодка давно переломилась бы.
Попробуем воздвигнуть барьер на пути волн... Мы собрали все обрезки папируса, и Абдулла с помощью Сантьяго и Карло, стоя по колено в воде, принялись сооружать из связок преграду. Могучий гребень захлестнул их по грудь, Абдуллу несколько раз смывало за борт, но страховочный конец крепко держал его, и он, смеясь, вылезал на палубу. Талисман не подкачает! Закончив работу, он поблагодарил аллаха.
Случилось то, чего я боялся. Чем выше мы делали барьер, тем больше воды застаивалось на корме, ведь разбухший папирус ее не пропускал. Придавленный огромной тяжестью, ахтерштевень все сильнее оседал. Тогда мы убрали барьер, воздвигнутый Абдуллой, но фальшборт уже успел прогнуться настолько, что на корму врывались целые горы воды, подмывая ящик со спасательным плотом. Пришлось поспешно восстанавливать преграду. Мы обрезали ножом веревки, крепившие две аварийных лодочки из папируса, и нарастили борт этим материалом, пошли в ход и папирусные спасательные круги, сделанные по фрескам в древних погребениях. Словом, мы использовали все растения до последнего стебля и подняли борта еще выше, а пруд на корме стал еще глубже. Теперь он занимал всю кормовую палубу, зато нас уже захлестывало не так сильно, середина лодки и нос по-прежнему оставались сухими.
Семнадцатого июня непогода прошла свой пик, ветер сместился к западу, и высокие волны выстроились вереницей. Всюду на лодке лежали летучие рыбы, одна даже угодила в кофейник. Видно, нас опять подхватила главная струя течения, потому что Норман, использовав минутный просвет в густой пелене туч, смог доложить, что за последние сутки пройдено 80 морских миль, то есть 148 километров, и это несмотря на тормоз, каким стала наша корма, похожая теперь на крабий хвост. 148 километров не так уж плохо, даже в масштабах карты мира.
В разгар бури мы находились примерно в 500 морских милях от берегов Западной Африки, и прямо по курсу у нас были острова Зеленого Мыса, лежащие к западу от Дакара. Течение и северный ветер несли нас на архипелаг, и в любую минуту, с любой стороны могла показаться земля – не очень-то приятная мысль, когда сражаешься со стихиями, обремененный неподатливой кормой, которой вздумалось изображать желтую подводную лодку.
Темным вечером, когда нам всюду чудились острова, Норман взял американскую лоцию для этого района и стал читать вслух. Под извивающимся потолком качался керосиновый фонарь, заставляя наши искаженные тени плясать и корчиться под жуткие звуки оркестра «Ра».
Мы услышали, что для гористых островов Зеленого Мыса характерны туманы и густая облачность, и хотя самые большие вершины достигают 2 тысяч метров, часто прибой показывается раньше, чем они. К тому же архипелаг омывают сильные и коварные течения, причина гибели множества кораблей. В полнолуние и новолуние могучие волны здесь особенно буйствуют. «Поэтому при плавании вблизи этих островов надо соблюдать большую осторожность», – заключил Норман чтение.
– Слышали, ребята? Будьте поосторожнее, – прокомментировал Юрий, забираясь в спальный мешок с головой.
Было как раз новолуние. Днем туман непроглядный, ночью – тьма беспросветная. Нас уже четверо суток несло на острова, значит, осталось совсем немного. Подхватит какая-нибудь сильная южная струя, и свидимся мы с ними в эту же ночь или наутро. Низкие тучи поливали нас дождем, и ни секстант, ни носометр не могли нам сказать, где именно мы находимся.
Восемнадцатое июня, драматический день... Где-то прямо по курсу или слева от нас, скрытые тучами и туманом, притаились острова Зеленого Мыса. Две недели назад мы прошли Канарские острова, не видя их из-за туч. Но сегодня опасности подстерегали нас нетолько извне. Вот уже двадцать пять дней мы живем в дружбе и согласии на папирусных связках, и больше месяца, как они лежат на воде. Несмотря на всякие помехи, «Ра» прошла больше 2 тысяч километров, обогнула северо-западное побережье Африки и вот теперь по-настоящему начинает пересечение Атлантического океана от одного материка до другого. Если бы египтяне прошли от устья Нила столько же, сколько мы от Сафи, они очутились бы на Дону или за Гибралтаром. Доказано, что Средиземное море не исчерпывает радиус действия папирусной лодки.
Вот только эта окаянная корма. Ну что бы древним мудрецам оставить нам какую-нибудь инструкцию, мы загодя разобрались бы во всех особенностях папирусной лодки и спокойно приступили бы к траверсу океана. А то ведь волны, вместо того чтобы подкатываться под лодку и поднимать ее вверх на гребне, теперь наваливаются на корму и подминают ее под себя. Ночью волна дотянулась до самой каюты, и я проснулся от того, что мне вылили на голову ведро холодной воды. Даже вкладыш спального мешка намок.
– Мы стартуем с гирями на ногах, ребята, – повинился я.
И тут Сантьяго бросил спичку в пороховой погреб.
– Давайте распилим спасательный плот, – вдруг объявил он.
– Вот именно, – сказал я. – С папирусными лодочками расправились, теперь и пенопластовый плот туда же.
– Да нет, я серьезно, – настаивал Сантьяго. – Мы должны как-то поднять ахтерштевень. Папируса больше нет, а пенопласт можно распилить на куски и использовать так же, как древние египтяне использовали запасной папирус.
– Он рехнулся, – произнесло сразу несколько голосов на разных языках.
Но Сантьяго не сдавался.
– Ты взял спасательный плот на шесть человек, а нас семеро, – вызывающе обратился он ко мне. – И не раз говорил, что сам никогда не перейдешь на спасательный плот.
– Следующий размер был на двенадцать человек, – объяснил я. – Это слишком. Но я могу еще раз сказать, что лично я останусь на нашем папирусном венике, если вы вдруг вздумаете перейти на эту пенопластовую козявку.
– Я тоже, – подхватил Абдулла. – Давайте распилим плот, ящик только трет наши веревки.
– Нет, – возразил я. – Плот все-таки помогает экипажу чувствовать себя надежнее. Ведь мы проводим научный эксперимент. А без плота уже никто не сможет оставить папирус.
– Да брось ты, давай пилу, зачем нам плот, которым все равно никто не воспользуется, – продолжал заводить нас Сантьяго.
И ребята завелись. Однако все пошли посмотреть на тяжелый упаковочный ящик, который Абдулла хотел убрать.
За каютой и мостиком от лодки словно ничего не осталось, лишь кривой хвост в гордом одиночестве торчал из воды, отделенный от нас бурлящими гребнями, которые захлестывали корму с одной стороны и скатывались с другой. Ящик с плотом подмывало, и он качался между стояками, расшатывая весь мостик.
Абдулла взялся за висевший по соседству топор, но тут Юрий восстал. Это безрассудство. Мы должны подумать о наших близких. Норман поддержал его: родные в ужас придут, если мы останемся без спасательного плота. Жорж отобрал топор у Абдуллы. Карло колебался. Он считал, что решать должен я. Впервые на «Ра» назревал серьезный раскол. В жизненно важном вопросе мнения разделились, и обе стороны одинаково яро отстаивали свой взгляд.
Когда мы расселись на бурдюках, мешках и кувшинах вокруг обеденного стола, на который Карло поставил солонину, омлет и марокканское селло, царила предгрозовая тишина. Сухой папирус у нас под ногами то сжимался, то растягивался в лад высокой и частой волне. Всего прочнее папирус был в подводной части, где он намок. «Ра» сама шла по ветру с закрепленными наглухо после ремонта рулевыми веслами и тормозящим ход крабьим хвостом. Юрий, Норман и Жорж хмуро смотрели на нависшие со всех сторон мрачные грозовые тучи и энергично давили пальцами миндаль, готовясь отстаивать свою позицию. Надо осторожно проколоть нарыв...
– Мало ли что может случиться, – я старался говорить бодро и весело. – Давайте разберем все случаи, когда нам может понадобиться спасательный плот. Лично я больше всего боюсь, чтобы кто-нибудь не упал за борт.
– А я больше всего, как бы нас не потопил какой-нибудь пароход, – сказал Норман. – Еще боюсь пожара на борту.
– Нос хорошо держится на воде, – послышался голос Юрия, – зато корма... А что будет через месяц?
– Все верно, – согласился я. – И ведь теоретически еще возможно, что скептики правы, папирус со временем распадется в морской воде.
– А я, – тихо произнес Жорж, который не знал, что такое страх, – я боюсь урагана.
Шесть доводов за то, чтобы держать в запасе спасательный плот. Больше никто ничего не мог придумать. Но и шести доводов хватит. Ладно, попробуем представить себе эти шесть случаев, и что каждый станет делать. Мы загибали пальцы один за другим.
Случай первый: человек за бортом. Это никого не страшило, ведь мы страховались веревкой, как в горах. К тому же за лодкой на длинном конце тащился спасательный пояс. Если кто-то, выйдя ночью на палубу прогуляться, споткнется о кувшин и ухнет за борт, спускать на воду плот нет смысла. Квадратный, низкий, с двумя палатками: одной – наверху, другой – внизу, смотря по тому, как ляжет плот, он не рассчитан на быстрый ход и отстанет от «Ра», даже если убрать парус.
Никто не спорил.
Случай второй: столкновение. Все были согласны, что мы просто не успеем спустить на воду плот, если «Ра» разрежет пополам. И даже если он окажется на воде, все предпочтут спасаться на уцелевшей части «Ра».
Случай третий: пожар. В Сахаре «Ра» вспыхнула бы, как папиросная бумага, но здесь ее поджечь не так-то просто. К тому же у нас есть огнетушитель. Курить разрешалось только с подветренной стороны, где искры уносило за борт, а наветренная сторона так пропиталась водой, что ей никакой пожар не страшен. Кто же предпочтет тесный плотик неподвластной огню половине «Ра»?
Случай четвертый: папирус начнет тонуть. За месяц мы убедились, что папирус, хоть и впитывает воду, погружается так медленно, что мы вполне сумеем передать «СОС». Но «СОС» передавать придется все равно, если мы перейдем на плотик. Каждый предпочитал лежать в относительно просторной каюте, чем сидеть впритирку и ждать помощи в палаточке на плоту.
Случай пятый: папирус сгниет и распадется. Мы уже удостоверились, что эксперты по папирусу тут сплоховали. Они проводили свои опыты в стоячей воде. Все члены экипажа могли подтвердить, что папирус и веревки стали прочнее прежнего, и мы единодушно сняли с повестки дня пятую угрозу.
Случай шестой: ураган. Вероятность урагана становилась вполне реальной с приближением к Вест-Индии. Может быть, могучий ветер снесет за борт мачты, весла, мостик, даже оторвет обвисшую корму. Но стихии уже и раз, и два испытывали нашу ладью, и мы не сомневались, что наша гибкая каюта устоит на главных, средних связках «Ра», а значит, у нас будет плот, где места для провианта и для нас самих останется больше, чем на пенопластовом пятачке.
Совет еще не кончился, а все уже повеселели. Какой бы случай мы ни рассмотрели, никто не предпочел спасательный плот папирусным связкам «Ра». У Юрия явно отлегло от сердца, он посмеивался и озадаченно качал головой. Карло хохотал. Норман глубоко вздохнул и первым поднялся с места:
– Ладно. Пошли за пилой!
Все рвались на корму, но волны с такой силой наваливались на нашу притопленную палубу, что не стоило слишком перегружать ее, достаточно и трех человек. Пошли Норман, Абдулла и я. Орудуя топором, ножом и пилой, мы разломали тяжелый упаковочный ящик и отправили за борт доски и пластиковую обертку. Они казались неуместными на «Ра». Появился зеленый пенопластовый плот. К ужасу Абдуллы выяснилось, что многие веревки, скрепляющие основу лодки, перетерты ящиком, который ерзал под напором волн. Словно когти мертвеца, из папируса торчали обрывки веревок. Если бы папирус не разбух, они бы вовсе выскочили, и развалилась бы вся корма.
Абдулла живо завязал новые узлы. Мы работали по колено в бурлящих волнах, и он показал, что кожа у него на ногах за последние дни так размокла от морской воды, что сходит большими лоскутами. Вдруг я почувствовал, как могучий вал, подкатившись под «Ра», поднимает лодку вверх и разворачивает боком. Я качнулся, стараясь удержать равновесие, в эту минуту раздался оглушительный рев воды и треск ломающегося дерева. Волна сзади захлестнула меня до пояса и поволокла к левому борту, я нагнулся, хотел ухватиться за веревку, чтобы не очутиться за бортом, и тут какой-то обломок с маху огрел меня по спине. Я услышал отчаянный крик Нормана: «Тур, берегись!» – и решил, что страшный треск исходит от мостика, это он не выдержал и рухнул на нас. Палуба ходила ходуном, сверху на меня давили обломки. Сейчас корма и мостик поплывут у нас в кильватере, и сами мы будем болтаться в воде на страховочных концах... Но волна схлынула, и мы по-прежнему стояли по колено в воде, только загадочный обломок не давал мне выпрямиться.
– Это рулевое весло! – объяснил Норман и помог мне высвободиться.
Над нами прыгали зазубренные концы двух бревен. Толстенное веретено весла и привязанный к нему для прочности брус – запасная мачта – сломались, и широченная лопасть опять волочилась на веревках за кормой, болтаясь, будто хвост сердитого кита, но Карло, Сантьяго и Норман тотчас бросились ее вытаскивать, Абдулла в это время в одиночку воевал с всплывшим на воде плотиком, а я возился с стокилограммовой бочкой, которая сорвалась с своего места под мостиком и грозила натворить бед, если не оттащить ее подальше от бушующих на корме каскадов.
Ночью, когда я вышел на вахту, Абдулла доложил, что теперь нас окружают добрые волны-исполины без маленьких злых волн на спине. «Ра» переваливала через гребни размеренно и спокойно; сломанное левое рулевое весло заменили два малых гребных весла. Посветив на волну карманным фонариком, можно было разглядеть кальмаров в толще воды, как за стеклом музейной витрины. Египетский парус отчетливо вырисовывался на фоне мерцающих просветов в облачной пелене, но горизонт оставался незримым во мраке, а то, что казалось звездочками на краю неба, на самом деле было всего только светящимся планктоном, могучий вал поднимал его вровень с нашими глазами.
Канарские острова остались позади. За восемь суток мы прошли путь, равный расстоянию от Норвегии до Англии через Северное море. Судно, которое успешно выдерживает поединок с волнами в таком длительном рейсе, обычно относят к разряду морских. Несмотря на сломанные рулевые весла и рею, несмотря на неумелое обращение и промахи неопытных сухопутных крабов, несмотря на крепкий ветер и сильную волну, «Ра» по-прежнему отлично держалась на воде. Груз лежал надежно, никакие гребни не могли до него дотянуться. И мы шли дальше в условиях, весьма далеких от тихого течения Нила.
Канарские острова были пройдены в ненастную погоду, мы не увидели земли. Теперь над нами изогнулся голубой небосвод, низкая пелена туч слева обозначала африканский континент, а вздымающийся на три тысячи метров конус вулкана Тейде на Тенерифе позволял нам безошибочно определить положение Канарских островов справа. Сам оставаясь незримым, он рождал вереницу мелких облачков, и ветер нес их над морем, будто дым из пароходной трубы.
Абдулла, который знал только плавучие папирусные острова на озере Чад, был потрясен, когда услышал, что здесь, далеко в океане, есть суша и на ней живут люди. Какие они – черные, как он, или белые, как мы? И Сантьяго, антрополог по профессии, к тому же сам одно время живший на Канарских островах, рассказал ему про загадочных гуанчей, населявших уединенный архипелаг, когда их «открыли» европейцы, чьи внуки в свой черед «открыли» Америку. Одни гуанчи были темнокожие, низкого роста, другие – высокие, светлокожие, с голубыми глазами, русыми волосами и орлиным носом. На пастели, выполненной в 1590 году, видно группу коренных жителей Канарских островов, у них золотистая борода, светлая кожа, мягкими волнами спадают на плечи длинные желтые волосы. И еще Сантьяго рассказал про чистокровного русоволосого гуанча, с которым он познакомился, учась в Кембридже. Это была мумия, привезенная с Канарских островов. Подобно древним египтянам и перуанцам, коренные жители архипелага умели бальзамировать трупы и делать трепанацию черепа. Но так как светлокожие гуанчи больше смахивали на викингов, чем на племена, которые нам обычно рисуются при слове «Африка», родились догадки о древних северных колонистах на Канарских островах и даже гипотезы, будто архипелаг есть не что иное, как остаток затонувшей Атлантиды. Но на севере Европы не бальзамировали тела и крайне редко делали операции на черепе, и ведь это лишь две из ряда черт, связывающих гуанчей с древними культурами североафриканского приморья. Исконные жители Марокко, обычно именуемые берберами, многих из которых арабы больше тысячи лет назад вытеснили на юг, в Атласские горы, представляли такую же смешанную расу, как гуанчи: одни были малорослые, с темной кожей, другие – высокие голубоглазые блондины. Потомков этих древнейших марокканских типов по сей день можно увидеть в глухих селениях Марокко.
Мы смотрели на шлейф над могучим вулканом на острове Тенерифе. В ясную погоду его видно с берега Марокко. Чтобы найти родину гуанчей, вовсе не надо отправляться в Скандинавию или погружаться на дно Атлантического океана. Возможно, они попросту потомки коренных жителей ближайшего материка, которые сумели в древности преодолеть морской барьер, как это сделали мы на самодельной лодке из папируса.
В общем, загадка канарских гуанчей заключается не столько в том, кто они, сколько в том, как они попали на острова. Когда сюда, задолго до плаваний Колумба, пришли европейцы, у гуанчей не было никаких лодок, даже долбленок или плотов. И дело не в нехватке древесины, потому что на Канарских островах росли могучие деревья. Гуанчи, и темные, и светлые, были типичные сухопутные крабы, они занимались только земледелием и овцеводством. Им удалось привезти овец с континента. Но выйти в море с женщинами на борту, везя с собой скот, могли только рыбаки или представители морского народа. Пастушескому племени такое не по плечу. Почему же гуанчи забыли морские суда своих предков? Может быть, потому, что предки не знали никаких лодок, кроме парусной мадиа из папируса, вроде тех, что до наших времен применяли на северном побережье Марокко? Лодочный мастер, который умеет лишь вязать лодки-плоты из папируса и никогда не видел, как сшивают из досок водонепроницаемый корпус, будет беспомощно сидеть на берегу, оказавшись на острове, где нет ни папируса, ни камыша.
Вдруг нас начало раскачивать так сильно, и папирус застонал так жалобно, что пришлось расстаться с гуанчами и поспешить к заполоскавшему парусу. Ветер не изменился, а вот волны стали круче – все более глубокие ложбины, в которые мы скатывались, все более высокие гребни, которые бросались на нас сверху, но никак не могли нас накрыть, потому что наш золотистый бумажный лебедь всякий раз приподнимал высокий хвост и спокойно пропускал волну под собой.
У Абдуллы началась головная боль и рвота. До сих пор он не страдал от морской болезни, но тут Юрию пришлось отправить Абдуллу в постель, ограничив его стол сухими, как мумия, египетскими галетами, зато Сантьяго смог подняться с постели и пообедать вместе со всеми, после того как врач нашел способ залечить его болячки. Норман отлично чувствовал себя, и мы дружно наслаждались горячим рисотто с миндалем и сухофруктами, приготовленным Карло, вдруг кто-то крикнул: «Смотрите!» Мы посмотрели и с испугом увидели изогнувшийся над «Ра» высоченный гребень могучего вала. Мы рванулись было к каюте, но гребень уже превратился в маленький гребешок, он проскользнул, булькая, под папирусом, а на его месте разверзлась глубокая ложбина. За первым валом последовали другие такие же. Обычно море так колышется около устья большой реки, где сильное течение рождает высокую волну. А мы, видимо, попали в такое место, где идущее с севера мощное океанское течение, протискиваясь через узкие проходы между островами, как бы сжимается и становится еще мощнее. Для нас это означало прибавку скорости в нужном нам направлении. Нас несло Канарское течение – то самое, которое доходит до Мексиканского залива.
Вверх, все выше и выше, – а теперь вниз, вниз... Абдулла уснул и не увидел пятерку могучих кашалотов, которые всплыли совсем рядом с лодкой и ушли под воду раньше, чем Карло успел приготовить свою кинокамеру. Снова вверх, потом вниз, вниз в бездонную яму... В эту минуту опять раздался треск ломающегося дерева. Еще одно из наших малых весел превратилось в дрова для растопки, лишь кусок веретена остался висеть на бортовой связке. Так, теперь уже и гребные весла становятся дефицитными... Может быть, стоит попробовать зайти на острова Зеленого Мыса и раздобыть там материал покрепче? Единогласное «нет». Правда, у нас еще оставалась в запасе толстая прямоугольная мачта из египетского сенебара. Мачты пока не ломались, даже в крепкий ветер устояли. И мы решили укрепить резервное рулевое весло из ироко запасной мачтой, прикрутив ее к толстому круглому веретену. После этого весло стало таким тяжелым, что, когда мы поздно вечером управились с работой, пришлось мобилизовать весь экипаж, чтобы спустить его в воду. Светила полная луна, ярко сияли звезды. Волны упорно гнались за нами – высокие, блестящие, черные и неистовые, – но мы их не боялись, зная, что им не одолеть папирус. Они только дерево ненавидели до такой степени, что сокрушали его в тот же миг, как оно погружалось в воду. Пока весла праздно лежали на палубе вместе с полутора сотнями хрупких кувшинов и прочим грузом, им ничего не грозило. Что ж, поглядим, чем кончится поединок весла-великана с океаном...
Мы с Сантьяго поднялись на мостик и взялись за тонкий конец восьмиметрового веретена, которое надо было привязать к поручням, а все остальные стояли на палубе и держали тяжеленную лопасть. Ее надо было спустить в воду с кормы, потом прикрутить нижнюю часть веретена к лежащему на папирусе толстому поперечному брусу.
Волны и папирус лихо скакали вверх-вниз, и едва последовала команда погрузить рулевое весло, как могучий вал тотчас вырвал лопасть из рук пятерки, тщетно напрягавшей все силы, чтобы закрепить весло канатами. Лишь с великим трудом нам с Сантьяго удалось удержать верхнюю часть веретена. А волна уже ушла вперед, корма «Ра» повисла над глубокой ложбиной, и весло, лишившись опоры, с маху, будто гигантская кувалда по наковальне, ударило по концу поперечного бруса. Следующая волна снова взметнула лопасть вверх, и пока пятерка внизу силилась поймать взбесившуюся кувалду веревками и руками, Сантьяго и меня вверху бросало, как марионеток. Только уловим миг, когда гребень поднимет весло, и подвинем веретено на место, как лопасть опять повисает над ложбиной, тяжесть становится непосильной, и нас подбрасывает кверху, а пятерка на корме по-прежнему силится притянуть лопасть веревками к поперечине и укротить ее раньше, чем новая волна вырвет у них из рук весло, и лопасть взметнется вверх, а мы на другом конце рычага ухнем вниз. Причем вниз нас кидало с такой силой, что того и гляди расплющит руки и ноги веретеном о поручни, ведь и ногами тоже приходилось цепляться, чтобы нас вместе с веслом не утянуло за борт.
Это рулевое весло было таким тяжелым, и оно так бесновалось, что мы уже спрашивали себя, не лучше ли его отпустить, пока не разлетелась вдребезги кормовая поперечина, а с ней и веревки, скрепляющие папирус. Но мысль о том, что без руля мы превратимся в беспомощно дрейфующий боком стог соломы, придала нам сверхчеловеческие силы, а тут вдруг и весло легло удачно, и все семеро одновременно смогли притянуть чудовище на место и прикрутить его с обоих концов к «Ра» такими толстыми веревками, что океан уже был бессилен что-либо с ними сделать.
Итак, одно из двух древнеегипетских весел снова стоит на месте. Правда, веретено было очень уж неуклюжее и ворочалось еле-еле, ведь мы связали его с квадратным брусом. Зато оно было такое прочное, что, когда волны попробовали его сломать, лодка развернулась, а весло не поддалось.
По словам Сантьяго, ему еще никогда в жизни не доводилось делать такую тяжелую работу. Юрию пришлось заняться ушибленными пальцами, зато могучее рулевое весло обеспечило нам устойчивый курс, позволив усталому экипажу забраться в спальные мешки и разбить ночь на легкие вахты. Вахтенному надо было лишь следить за пароходами, чтобы нас никто не потопил. Луна, созвездия и даже постоянное направление идущих правильным строем, бурлящих волн – все подтверждало, что курс стабилен. Знай, посиживай без забот у входа в каюту с подветренной стороны. Только при смене мы поднимались на мостик, чтобы взглянуть на маленький рукотворный компас. Да и то очень скоро все усвоили, что звездное небо над нами – тот же компас с обращенной вниз светящейся картушкой. Мы дрейфовали прямо на запад. А где находимся, не так уж и важно, главное – не к берегу несет, а от берега.
Трое суток шли мы без каких-либо происшествий, за это время нам удалось починить второе рулевое весло, составив его из обломков двух веретен. Ни гвоздей, ни костылей, только веревки, а иначе наша конструкция и минуты не выдержала бы. Волны были такие же высокие, и они бросали наветренный борт «Ра» так, что папирус с этой стороны все больше намокал и все сильнее погружался в воду. Из-за волн мы не решались ставить второе отремонтированное рулевое весло, а держали его наготове на тот случай, если первое сломается: уж очень угрожающе оно гнулось, когда океан нажимал особенно сильно. Зато мы рискнули поднять парус без рифов – обошлось. Дул северный ветер, и хотя мы еще различали низкую пелену тучу берегов Испанской Сахары, стоял зверский холод. Мы перенесли все, что можно, к левому, подветренному борту, который нисколько не погрузился после старта. Теперь наш широкий и грузный воз с сеном двигался на запад со скоростью два с половиной узла, проходя в сутки больше ста километров; за кормой тянулась отчетливая кильватерная струя. В одиннадцать дней было пройдено, считая по прямой, 557 миль, то есть более тысячи километров, и пришла пора передвинуть стрелку на час назад.
Вторые сутки мы то в одной, то в другой стороне видели суда, раз наблюдали одновременно три больших океанских парохода. Очевидно, «Ра» очутилась на главной магистрали судов, идущих вокруг Африки. Чтобы уберечься от ночных столкновений, мы держали на топе наш самый сильный фонарь. Но вот опять океан опустел, и только стаи дельфинов резвились вокруг, порой так близко, что мы могли бы их погладить. Иногда встречалась нам ленивая луна-рыба; перед носом лодки начали взлетать первые летучие рыбы. И небо стало пустынным. Редко-редко принесет ветром заблудившихся насекомых, да две-три морских ласточки промелькнут в ложбинах между валами. Эти маленькие птицы спят на воде, ведь они не хуже папируса скользят через самые большие волны.
Из дырочек в папирусе вдруг полезли полчища коричневых жучков. Хоть бы морская вода убила все яички и личинки, чтобы они не съели лодку изнутри! Скептики, которые видели, как верблюды пробовали грызть борта строящейся «Ра», предсказывали, что папирус может прийтись по вкусу голоднымморским тварям. Ни киты, ни рыбы пока что не покушались на наш плавучий сноп, но букашки заставили нас встревожиться.
Солнце и луна поочередно указывали нам путь на запад. Одинокая ночная вахта позволяла в полной мере ощутить знакомый еще по «Кон-Тики» трепет перед необъятной вечностью. Звезды, ночной океан. В небе сверкали незыблемые созвездия, в воде так же ярко светились ноктилюки, живой планктон, словно рассыпали фосфорные блестки по мягкому черному ложу, на котором покоилась «Ра». Иногда казалось, что мы идем под ночным небом по волнистому зеркалу. А может быть, это океан такой прозрачный, и мы видим рои звезд с другой стороны земного шара? Небосвод – тут, небосвод – там, и все – зыбкое, все чужое, кроме золотистых снопов папируса, которые нас несли, да огромного четырехугольного паруса, вверху пошире, внизу поуже, черной заплатой на звездной пыли. Уже этот древнеегипетский рисунок, эта трапеция в ночи располагала к тому, чтобы перелистать календарь на тысячи лет назад, такого контура сегодня не увидишь. Впечатление дополняли непривычные скрипы и кряхтение папируса, бамбука, древесины и веревок. Это был уже не атомный и ракетный век – мы жили в ту далекую нору, когда земля еще была плоской и огромной, сплошь неведомые океаны и материки, когда время было всеобщим достоянием и никто не знал в нем недостатка.
Усталые, все мышцы ноют от напряженной работы, в тусклом свете керосиновых фонарей мы по очереди несли вахту на извивающейся гибкой палубе. Нет слов, чтобы сказать, как хорошо отдохнуть в уютном спальном мешке. Проснешься – аппетит зверский, и во всем теле невыразимое блаженство. Право, не стоит говорить презрительно про образ жизни людей каменного века. Нет причин считать, что те, которые жили до нас и работали в поте лица, только маялись и не знали никаких радостей.
Сто с лишним километров в день курсом на запад даже на карте мира заметны, хотя горизонт оставался неизменным. Изо дня в день, круглые сутки один и тот же, он двигался вместе с нами и всегда держал нас в фокусе. Но и вода тоже двигалась вместе с нами. Канарское течение – будто быстрая соленая река, в обществе своего вечного спутника, пассата, она устремляется на запад, всегда на запад, воздух и вода, и с ними все, что плывет по воде и летит по воздуху. На запад, как и солнце, и луна.
Мы с Норманом поднялись на мостик, он с настоящим секстантом, я с носометром – это слово принесло Юрию победу в конкурсе на лучшее название самодельного прибора для измерения широты, который я выстругал из двух дощечек. Дощечки были посажены на общий деревянный шип с кривым вырезом, чтобы можно было приставить к носу, – отсюда и название. Итак, прижал прибор к носу, шип чуть ниже глаз, и смотри левым глазом вдоль одной дощечки, нацеленной на горизонт. Вторую дощечку, прикрепленную кусочком кожи к тому же шипу, поворачиваешь у правого глаза, наводя ее на Полярную Звезду. Угол между двумя дощечками читается на третьей, помещенной вертикально между ними, он и обозначает широту. Примитивный носометр давал повод членам экипажа поострить; он был на диво прост и удобен в обращении, а ошибка редко превышала один градус. Курс, наносимый на карту по этим данным, до удивительного совпадал с верным, который наносил на другую карту Норман.
Самое интересное в папирусной лодке, после поразительной прочности и грузоподъемности папируса, – древнеегипетский такелаж. Конечно, и рулевое устройство о многом говорило, по нему видно, как в древности постепенно из поставленного косо весла получился вертикальный руль. Но в такелаже заключалась гораздо более важная информация. Мы точно скопировали его с древнеегипетских фресок. Толстая веревка соединяла верхушку двойной мачты с форштевнем. А вот к ахтерштевню такой веревки не протянули, хотя два штага – все, что нужно, чтобы держать прямо двуногую мачту на лодке на тихой реке. И однако древнеегипетские корабельщики почему-то не тянули веревок с мачты на корму. Вместо этого от каждого из двух колен на разной высоте к бортам позади средней линии шло наискось пять или шесть параллельных вант. А корма была свободна от них и качалась вверх-вниз на волнах.
Мы поняли всю важность такого устройства, как только «Ра» начала извиваться на волнах океана. Ахтерштевень вел себя, как прицеп, который сам по себе мотается на всех ухабах. Будь он притянут к топу фордуном, мачта сломалась бы на первой же хорошей волне. Когда «Ра» переваливала через высокие гребни, средняя часть лодки ритмично поднималась вверх, между тем как нос и корма под собственной тяжестью опускались в ложбины. Подвесь мы корму к мачте, и та не выдержала бы нагрузки, а так она поддерживала загнутый вверх форштевень и не давала корчиться средней части мягкой палубы. Корма послушно повторяла извивы волн.
Не проходило дня, чтобы члены экипажа не восхищались гением тех, кто так искусно расставил снасти и определил их функцию. Сведущий в морском деле Норман сразу сообразил, в чем тут суть. Смысл конструкции был слишком очевиден. Уже на третий день я записал в дневнике: «Этот такелаж – плод долгого морского опыта, он родился не на тихом Ниле».
Но одна структурная особенность египетской лодки далеко не сразу была нами понята, за что мы потом и поплатились. Каждый день мы с недоумением смотрели на загнутый внутрь завиток высокого ахтерштевня. Для чего он? Египтологи довольствовались выводом, что завиток призван всего лишь украшать речное судно, но мы тут с ними никак не могли согласиться. И однако шли дни, а нам все не удавалось определить, какая же в нем польза. Тем не менее мы постоянно проверяли, не выпрямляется ли завиток. Нет, держится превосходно, видно, наши чадские друзья были правы, говоря, что все сделали, как надо, крючок не разогнется, и не надо притягивать его к палубе никакими веревками. Одну ошибку мы допустили, это верно, когда поначалу разместили груз, как на обычных парусных судах. И некому было наставить нас на ум, только собственный опыт плавания в пассатном поясе мог научить нас, что на папирусной лодке груз должен быть сосредоточен на подветренном борту. Теперь папирус с наветренной стороны намок уже настолько, что край фальшборта почти сравнялся с поверхностью воды. Особенно на корме справа, там мы вполне могли умываться, но вися вниз головой и ногами вверх. Очень даже удобно, решили все, и отныне вся стирка-мойка происходила на корме.
Четвертого июня волнение заметно умерилось, и на следующее утро мы проснулись в совсем другом мире. Тепло так, славно, мерно катятся блестящие пологие валы... Опять нас навестила пятерка китов, возможно, те же самые, что в первый раз. Царственный кортеж. Такие добродушные и красивые в своей родной стихии, даже страшно подумать, что скоро человек прикончит своими гарпунами последних теплокровных исполинов морей, и только холодные стальные чудища – подводные лодки – будут резвиться в морской пучине, где творец, да и не он один, предпочел бы видеть, как китихи кормят молоком своих детенышей.
Пользуясь теплой погодой, Жорж разделся и прыгнул за борт с маской и страховочным концом вокруг пояса. Он нырнул под «Ра», а когда вынырнул, то издал такой ликующий крик, что Юрий и Сантьяго прыгнули следом; остальные несли вахту и ждали своей очереди. Только Абдулла сидел в дверях каюты, повесив нос. Если ветер не вернется, мы так и застрянем здесь, никогда не попадем в Америку. Норман успокоил его, рассказав про незримое океанское течение. Пусть мы не будем проходить сто километров в сутки, как до сих пор, но уж пятьдесят-то сделаем.
Вскоре все, кроме Абдуллы, побывали под брюхом «Ра». Он умылся в брезентовом ведре и преклонил колени лицом к Мекке. Молитва затянулась надолго – может быть, он просил аллаха послать ветер?
После освежающего морского купания мы словно родились заново. А какое удовольствие мы получили, осматривая днище «Ра»! Чувствуешь себя, будто рыбка-лоцман под брюхом огромного золотого кита. Отраженные солнечные лучи снизу освещали папирус над нами, как прожектором. Океан и безоблачное небо окружили лучезарного золотистого великана неописуемой синевой. Он плыл так быстро, что надо было самим плыть изо всех сил в ту же сторону, если мы не хотели, чтобы нас тащили вперед страховочные концы.
Только теперь мы обнаружили, что перед носом лодки идут веером полосатые рыбки-лоцманы, образуя такую же верную свиту, какая сопровождала бревенчатый плот «Кон-Тики». Здоровенная коряга тяжело качалась на волнах. Из-под нее выглянула маленькая толстушка-пампано и поспешила, виляя хвостиком, к «Ра», где около широкой рулевой лопасти уже носилось несколько ее родичей. Кокетливые рыбки подходили к Юрию и игриво пощипывали его белую кожу.
На папирусном днище тут и там прилепились длинношеие морские уточки – темно-синяя раковина и колышущиеся оранжевые жабры, как будто страусовые перья. А вот водорослей нигде не было видно. В песках Сахары стебли папируса были морщинистые, шероховатые, серо-желтого цвета, в воде они набухли, стали гладкие, блестящие, точно золотое литье. И на ощупь уже не хрупкие и ломкие, а тугие и крепкие, как покрышка. Ни один стебель не отошел и не сломался. Папирус три недели находился в воде. И вместо того чтобы через две недели сгнить и развалиться, стал крепче прежнего.
Мы выбрались из воды на лодку безмерно довольные тем, что увидели, и вот опять за кормой поплыли куриные перья: Карло готовил праздничный обед.
Подводная экскурсия нас так воодушевила, что мы решили и второе починенное рулевое весло водрузить на место. Тише этого погода все равно не будет. Но здоровенное весло с двойным веретеном было до того тяжелое и длинное, что, пока мы, путаясь в вантах, переправляли его через каюту на наветренную сторону, успело стемнеть. Как ни мирно настроилось море, волны были достаточно высокими, и нам предстояло немало повозиться с пляшущей лопастью, раньше чем удастся поставить весло правильно и закрепить его. Наученные горьким опытом, мы решили отложить это дело на утро, а пока тяжеленную махину привязали покрепче стоймя у наветренного борта, уперев лопасть в кормовую палубу.
Следующий день порадовал нас такой же великолепной погодой. Проснувшись, я полез через кувшины на корму, чтобы искупаться, и застал там утреннего вахтенного – Юрия. Он сидел, очень довольный, и стирал белье прямо на палубе, обходясь без ведра. В том месте, где рулевое весло всей своей тяжестью опиралось на папирус и борт осел сильнее всего, на корме получился маленький прудик, непрерывно пополняемый волнами, захлестывающими палубу.
– Наша яхта становится все более комфортабельной, – радостно отметил Юрий. – Вот уже умывальник с водопроводом появился.
Мы поскорей погрузили в воду увесистое весло, чтобы море приняло на себя основную тяжесть, однако через притопленный угол все равно текли струйки на палубу, и, пока все сводилось к импровизированному умывальнику, мы в общем-то были только рады. Проверили кормовой завиток – такой же, как прежде, не выпрямляется. На всякий случай Жорж нырнул под «Ра». И впервые обнаружил, что сразу за каютой днище как будто слегка надломилось. Но связки выглядели крепкими и невредимыми; надавишь на стебель – из него вырываются пузырьки воздуха. Папирус ничуть не утратил плавучести.
Решив, что у нас просто перегружена корма, мы перенесли весь груз с кормовой палубы, оставив лишь тяжелую поперечину, на которую опирались рулевые весла, мостик на стойках и под ним – ящик со спасательным плотом.
Но гребни продолжали захлестывать корму справа. Мы снова все тщательно осмотрели над водой и под водой. И убедились, что «Ра» полностью сохраняет начальную форму от носа до того места, где закреплена задняя пара вант. Здесь проходила линия излома, дальше корма наклонилась косо вниз.
Пришла пора поразмыслить опять. Вниз прогнулась та часть лодки, которая как бы свободно болталась на прицепе, а все подвешенное к мачте держалось нормально. Нос все так же вздымался вверх. Наш золотой лебедь гордо нес свою шею, только хвост повесил. Если бы мачта могла выдержать натяжение фордуном, такого бы не случилось. А попробуй протяни фордун к ахтерштевню, и на первом же гребне мачта переломится. Корме положено колыхаться, нельзя лишь позволять ей сохранять излом.
Мы попробовали поднять корму, притягивая ее веревками к каюте. Попробовали скрепить ахтерштевень толстыми канатами, переброшенными через мостик и каюту, со стояками на носовой палубе. Так египтяне придавали жесткость конструкции своих деревянных кораблей; правда, на изображениях папирусных лодок ничего похожего не видно, и сколько мы ни натягивали канаты, корма не хотела подниматься. Карло вязал хитрые узлы и усерднее всех тянул мокрые веревки, пока у него ладони не вздулись, словно белые макароны.
Шли дни. С каждым днем корму захлестывало все сильнее. И хотя опора кормового завитка постепенно уходила под воду, сам он выглядел так же лихо, как прежде, и не думал разгибаться. Да только пользы от него никакой, он начал превращаться в балласт для ослабевшей кормы. Могучие валы без конца таранили торчащую вверх корму, и она впитала уйму воды выше ватерлинии. И ведь ахтерштевень был толстый, широкий, а высотой превосходил каюту, так что вместе с водой он, наверное, весил больше тонны. Может быть, обрезать завиток? И тогда вся корма всплывет? Но это все равно, что отрубить лебедю хвост... Рука не поднималась так обойтись с нашим гордым корабликом.
Но как же, как?.. Как, черт возьми, создатели этой удивительной хитроумной лодки добивались того, что она без растяжек не поджимала свой пышный хвост? И это несмотря на то, что у них стояла веревка, пригибающая завиток к палубе, та самая, которую наши чадские мастера, слава богу, убрали. И мы о ней пока не жалели. Или? Или?! Я отбросил кокосовый орех и принялся лихорадочно чертить. Разрази меня гром! Я позвал Нормана, Сантьяго, Юрия, Карло – весь экипаж. Ошибка найдена. Мы не разобрались в назначении кормового завитка. Еще одна вещь, которую мы могли постичь только на собственном горьком опыте, ведь те, кого сами изобретатели завитка обучали, зачем он и для чего, не одну тысячу лет лежат в могиле. Так вот, корму загнули внутрь над палубой не для красоты. И веревка несла особую службу, а не только держала этот изгиб, как мы все думали. Завиток и без нее хорошо держался, задачей веревки было не его тянуть вниз, а кормовую палубу вверх подтягивать. Высокий ахтерштевень в форме арфы играл роль пружины с мощной струной, которая держала свободно качающуюся корму точно так же, как ванты и штаги держали остальную часть лодки. Чтобы папирусный корабль мог выходить в открытое море, не рискуя переломиться, гениальный конструктор составил его как бы из двух сочлененных частей. Передней части придавала жесткость двойная мачта с параллельными вантами, а задняя свободно колебалась, всегда возвращаясь на место благодаря тетиве, привязанной к пружинящему завитку над кормой.
Мы восстановили тетиву, но было уже поздно, за три недели корма надломилась, и завитушка опустилась так сильно, что поднять ее можно было только краном. Теперь нас никакая веревка не могла выручить. Мы были наказаны, так как, подобно другим, считали завиток ахтерштевня самоцелью, а он на самом деле был гениальным средством древних египтян.
Стоя в луже на корме и глядя на уходящий под воду золотистый хвост, Юрий и Норман запели по-английски:
– А зачем нам желтая подлодка, желтая подлодка, желтая подлодка...
Мы вполне разделяли их мнение, и вот уже вся семерка хором исполняет песенку битлов. Никто не принимал случившееся всерьез, ведь большая часть лодки держалась на воде, как пробка. Юрий и Норман сели стирать носки и подбирать новую рифму к слову «подлодка».
Меня больше всего тревожило не столько то, как папирус будет ладить с океаном, сколько то, как мы, семеро пассажиров, будем ладить друг с другом. В каюте-корзине площадью 2,8 на 4 метра нельзя было как следует повернуться, если все семеро одновременно ложились спать, а палуба была так загромождена кувшинами и корзинами, что негде ступить, поэтому мы обычно проводили время на узкой связке папируса перед стенкой каюты с подветренной стороны да на мостике, где развел руки в стороны – вот тебе и ширина, и длина.
День и ночь любой мог услышать голос и ощутить плечо любого. Мы срослись в семиглавого сиамского близнеца с семью ртами, говорящего на семи языках. На лодке вместе шли не только белый и черный, не только представители коммунистической и капиталистической страны, – мы представляли также крайние противоположности в образовании и уровне жизни. Когда я в Форт-Лами пришел в гости к одному из наших двух африканцев, он сидел на циновке, брошенной на земляной пол, и всю обстановку хижины составляла стоящая на той же циновке керосиновая лампа, а его паспорт и билеты лежали на земле в углу. У второго африканца, в Каире, кланяющиеся слуги проводили меня между колоннами роскошного особняка в восточном стиле в покои с тяжелой французской мебелью, гобеленами и всякой стариной. Один член экипажа не умел ни писать, ни читать, другой был профессор университета. Один был убежденный противник войны, другой – морской офицер. Любимым развлечением Абдуллы было слушать свое карманное радио и потчевать нас новостями о войне у Суэца, эпизод которой он сам успел увидеть. Его правительство в Форт-Лами было за Израиль. Рьяный мусульманин Абдулла был за арабов. Норман – еврей. Жорж – египтянин. Их сородичи стреляли друг в друга через Суэцкий канал, а сами они лежали чуть не бок о бок.
В плетеной каюте посреди Атлантического океана новости о войне во Вьетнаме тоже занимали Абдуллу.
Словом, на борту было предостаточно горючего материала для серьезного пожара. Наш «бумажный кораблик» был нагружен духовным бензином, и только вездесущие волны могли остудить пыл, развивающийся от трения в тесной корзине.
В любой экспедиции, где людям много недель просто некуда деться друг от друга, коварнейшая опасность – душевный недуг, который можно назвать «острым экспедиционитом». Это психологическое состояние, при котором самый покладистый человек брюзжит, сердится, злится, наконец приходит в ярость, потому что его поле зрения постепенно сужается настолько, что он видит лишь недостатки своих товарищей, а их достоинства уже не воспринимаются. Первый долг руководителя экспедиции – повсечасно быть начеку против этой злой болезни. И перед стартом я провел тщательную профилактику.
Вот почему мне стало не по себе, когда я уже на третий день плавания услышал, как миролюбивый Карло кричит по-итальянски Жоржу, что хоть он и чемпион дзю-до, это не мешает ему быть закоренелым неряхой, который привык, что за ним няньки убирают. Жорж огрызнулся в ответ, но словесная перепалка не затянулась, и вот уже только папирус кричит и скрипит. Однако на другой день эта двойка опять схлестнулась. Карло стоял и подтягивал ванты, а Жорж в сердцах отбросил свою удочку и демонстративно полез в спальный мешок. На мостике Карло тихо сказал мне, что этот шалопай начинает действовать ему на нервы. Сам Карло с детства привык трудиться, в двенадцать лет уже таскал тяжелые мешки с рисом. Никакого образования не получил, всего добивался своим горбом. А этот папенькин сынок из Каира – избалованный лоботряс, бросает свои вещи, где попало, и ждет, чтобы мы за ним убирали.
Я обещал поговорить с Жоржем. Карло прав: он в самом деле еще не понял, что такое экспедиция. Для него это новая игра, состязание в силе. Но и Карло должен все-таки понять, что Жорж просто привык так – где ни брось какую-либо вещь, все равно она окажется на месте, об этом позаботятся слуги, жена или мать. Карло прошел школу жизни, Жорж – нет. Мы должны его научить.
Вскоре я оказался на мостике с Жоржем с глазу на глаз. Он очень переживал, что грубо ответил Карло, но тот все время сует свой нос в его сугубо личные дела. Впрочем, Жорж был достаточно умен, и мне не стоило большого труда втолковать ему, что на борту «Ра» нет места для «сугубо личных дел», разве что в личном ящике каждого. Никто не обязан убирать за другими, и никто не вправе разбрасывать гарпуны, ласты, книжки, мокрые полотенца, мыло и зубную щетку. На борту все равны, и каждый сам убирает за собой.
Через минуту рыболовные снасти, магнитофон и грязное белье Жоржа исчезли с крыши каюты и с палубы, и он уже тянул какую-то снасть вместе с Карло.
Следующая серьезная угроза миру на «Ра» возникла, когда мы освоились настолько, что ввели дежурство на камбузе. Карло вызвался быть постоянным коком и выиграл на этом. Остальным надлежало по очереди чистить кастрюли, сковороды и ящики. Мы составили расписание дежурств по дням и написали его мелом на черной доске, висевшей на мостике, причем все забыли, что Абдулла не умеет читать. И когда Сантьяго показал ему на кастрюли и щетку, Абдулла, который не заметил, что перед ним уже отдежурили двое, пожаловался на головную боль и ушел в каюту, сердито ворча:
– Думаешь, я не знаю, в чем дело. Ты, Сантьяго, белый, а я черный. Вот ты и хочешь, чтобы я был у вас слугой.
Сантьяго – убежденный миротворец, но слова Абдуллы укололи его хуже ножа, и он вспылил.
– И это ты говоришь мне, Абдулла, – рявкнул он в священном гневе. – Мне, который шесть лет борется за равноправие негров. Да для меня во всем этом плавании самое важное как раз то...
Дальше Абдулла не слышал, потому что залез с головой в спальный мешок. А когда он выглянул снова, то увидел, как я пробираюсь с грязными кастрюлями на корму. Он вытаращил глаза.
– Просто мы с тобой поменялись дежурством, – объяснил я ему.
На другой день Абдулла драил кастрюли на корме, весело распевая звонкие африканские песни.
А еще через день нас ожидал сюрприз. Жорж подошел ко мне и попросил возложить на него ответственность за порядок на кухне до конца плавания, а то ведь несподручно чередоваться, к тому же у других есть дела поважнее.
Жорж, да-да, Жорж стал постоянным дежурным, и с того дня на камбузе все блестело, больше никому не надо было думать о кастрюлях.
Помню также, как Норман и Карло взъелись на Юрия и Жоржа, дескать, те делают что-нибудь лишь тогда, когда им скажут, а Норман и Карло помимо своих основных обязанностей постоянно сами находили себе какое-нибудь дело. Когда Абдулла не проявляет инициативы, это еще можно понять, но ведь эти двое получили высшее образование, – что же они ждут приказов? Со своей стороны Юрий, Жорж и с ними Абдулла начали злиться на Нормана и Карло: уж очень они любят командовать и распоряжаться, нет сказать по-товарищески, если что надо, а когда можно, то и посидеть спокойно, просто наслаждаясь жизнью. Или взять Сантьяго, этого хитрого интеллигента. Если надо перенести что-то тяжелое, нагнется, возьмется и зовет других на помощь. Смотришь, он уже выпрямился и показывает, улыбаясь, куда тащить кувшин или ящик, а силачи Юрий, Жорж и Абдулла стараются, несут. Кому-то было досадно, что я, руководитель, не выгоняю лентяя из спального мешка, и он знай себе спит, тогда как другие трудятся по своему почину. А кто-то считал, что я должен одернуть любителей командирского тона, у нас не военный корабль и не горнострелковая рота, мы семь равноправных товарищей, можно сказать по-хорошему.
И однако – назовите это чудом – все эти мелкие трения не перешли в «острый экспедиционит», напротив, каждый старался понять реакции и поведение других, и тут всем нам сослужили службу научные занятия Сантьяго, изучавшего вопросы мира и агрессии. Юрий и Жорж научились ценить Нормана и Карло, потому что их инициатива и настойчивый труд всем шли на пользу, а Норман и Карло изменили свой взгляд на Юрия и Жоржа, которые брали на себя самый тяжелый труд и охотно приходили на помощь любому, не дожидаясь просьбы, если видели, что это в самом деле нужно. Дипломат и психолог Сантьяго помогал Юрию пользовать незримые раны; Юрий показал себя толковым и заботливым врачом; Абдуллу все уважали за его светлый ум и способности, а также за умение приспособиться к совершенно непривычному образу жизни. Абдулле все пришлись по душе, так как он видел, что мы, хоть и белые, считаем его своим. Он упрашивал Юрия дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы у него выросла борода, как у нас, и никак не мог понять этого щеголя, который каждое утро брился, между тем как мы, остальные, отпустили себе усы и бороду, кто рыжую, кто черную. Если раньше голова Абдуллы сверкала, как лаковая, то теперь он перестал ее брить, и вскоре у него хоть на черепе отросли густые курчавые волосы, в которые он втыкал толстый плотницкий карандаш вместо броши.
У Жоржа были свои причуды. Днем он засыпал легко, а ночью ему требовалась подушка на грудь и музыка в ухо, для чего он запасся магнитофоном с набором любимых песенок. Тем, кто лежал от него подальше, скрип веревок и папируса заглушал музыку, но этот же скрип вынуждал самого Жоржа и Сантьяго просить у Юрия снотворного. День и ночь магнитофон Жоржа играл его излюбленные мелодии. В один прекрасный день магнитофон пропал. Только что я видел его, он лежал и играл на краю мостика, у ног Абдуллы; сам Абдулла ворочал руль, стоя к нему спиной. Норман укреплял весло, свесившись через борт. Карло, Сантьяго и я перекладывали груз на корме, Юрий и Жорж работали за каютой. Вдруг музыка смолкла. Прошло несколько минут, прежде чем Жорж полез через кувшины на корму, чтобы снова пустить магнитофон. Но магнитофона не было. Жорж искал всюду. На корме, на носу, под матрасами, на крыше каюты. Исчез. Бесповоротно исчез. Кто это сделал? Первый дзюдоист Африки рассвирепел. Кто, кто посмел выбросить за борт его магнитофон? Конец путешествию, все, он не уснет без своих мелодий, кто-о-о это сделал!!! Атмосфера накалилась. Крошка Сафи поднялась на мачту, сколько позволяла веревка: еще обвинят, чего доброго...
Абдулла мог столкнуть ногой магнитофон за борт, но он слишком любил музыку, чтобы сделать это. Норман не дотянулся бы, Юрий все время был рядом с Жоржем. Оставалась только наша тройка, которая работала на корме. Карло невозмутимо продолжал перетаскивать кувшины. Карло! Для меня все стало ясно. Он все еще злится на Жоржа, вот и отомстил. Но где была его голова! Вот уж от кого не ожидал. Теперь мы все равно что на бочке с порохом, и фитиль уже зажжен.
– Жорж, – сказал я. – Ты молодец, научился следить за порядком, как же ты мог положить свой магнитофон на самом краю, так что он свалился в море!?
– Может, он и правда лежал на краю, – согласился Жорж, – но с мостика он мог свалиться только на палубу, а не за борт.
Он был абсолютно прав, но как-то надо было выручать Карло.
– Магнитофон лежал на правом углу, – решительно сказал я. – Если его задели, когда мы сильно накренились вправо, он должен был упасть за борт.
Жорж продолжал искать в самых невероятных местах, потом залез в свой спальный мешок и мгновенно уснул. Мы не будили его до самого утра, когда Карло свистом вызвал нас завтракать и предложил яичницу с корейкой. Долго сердиться на такого кока было невозможно, и больше никто не заговаривал о магнитофоне. И только после конца плавания Сантьяго однажды положил руку на широкое плечо Жоржа и спокойно спросил:
– Жорж, сколько я тебе должен за магнитофон?
Мы все так и опешили. Жорж медленно, очень медленно развернулся фронтом к маленькому улыбающемуся мексиканцу, сам широко улыбнулся и сказал:
– Какой еще магнитофон?
«И как только ты на это решился», – спросили мы потом Сантьяго. Он признался, что был далеко не уверен, правильно ли делает, сбрасывая в воду музыкальную машину, но в одном он ни капли не сомневался: если позволить ей и впредь играть одни и те же мелодии, кто-нибудь не выдержит и стукнет ею хозяина по голове.
Шли недели, мы жались всемером в тесной каюте, словно на круглосуточных посиделках, и «Ра» все качалась в центре одного и того же круга, и горизонт сопровождал нас, как заколдованный. С 4 по 9 июня волны были совсем ленивые, ветер скис, кое-кого из ребят круглые сутки клонило в сон. И папирус уже не скрипел и не рычал, а мурлыкал, словно кот на солнцепеке.
Норман поделился со мной своими тревогами. Мы медленно дрейфуем на юго-запад, и, если не подует хороший ветер, нас может захватить круговое течение у берегов Мавритании и Сенегала. Судя по тому как много судов проходило вдали и вблизи, мы снова очутились на каком-то маршруте, а в ночь на 6 июня мы увидели идущий прямо на нас большой, ярко освещенный океанский пароход. Курс его красноречиво свидетельствовал о том, что вахтенный офицер не заметил наш маленький топовый фонарь, и мы принялись отчаянно размахивать карманными фонариками. Тихий ветер лишал нас всяких надежд свернуть в сторону за счет рулевых весел. Рокоча машиной, светящийся гигант грозно наступал на нас. Вдруг он отвернул направо и заглушил свою механическую громыхалку. С мостика нам просемафорили яростный выговор так быстро, что мы успели только разобрать слово «прошу», пока великан с разгона бесшумно скользил мимо в каких-нибудь трехстах метрах от наших папирусных связок. И вот уже опять забурлила вода у винта, ослепительный стальной гигант понесся дальше к Европе.
На следующий день мы при легком ветре снова вошли в область, где весь поверхностный слой воды был полон асфальта. А еще через три дня, проснувшись утром, нашли море настолько загрязненным, что некуда окунуть зубную щетку, а Абдулле для омовения пришлось выдать дополнительный паек пресной воды. Из голубого Атлантический океан стал серо-зеленым и мутным, и всюду плавали комки мазута величиной от булавочной головки до ломтя хлеба. В этой каше болтались пластиковые бутылки, как будто мы попали в грязную гавань. Ничего подобного я не видел, когда сто одни сутки сидел в океане на бревнах «Кон-Тики». Мы воочию убедились, что люди отравляют важнейший источник жизни, могучий фильтр земного шара – Мировой океан. И нам стало ясно, какая угроза нависла над нами и будущими поколениями. Судовладельцы, заводчики, государственные деятели привыкли видеть море с палубы быстроходного лайнера, им никогда не приходилось, как нам, изо дня в день окунать в него зубную щетку и собственный нос. Вот о чем мы должны кричать всем, кто захочет нас слушать. Много ли толку в том, что Восток и Запад состязаются в решении социальных проблем на суше, если все страны позволяют нашей общей жизненной артерии, Мировому океану, превращаться в совместную клоаку, сборник мазута и химических отбросов? Или мы еще находимся в плену средневековых представлений, считаем океан беспредельным?
Как ни странно, когда качаешься на волнах на связках папируса и видишь скользящие мимо материки, отчетливо понимаешь, что океан отнюдь не беспределен, и струи, идущие в мае вдоль берегов Африки, через несколько недель достигают берега Америки, принося с собой всю ту дрянь, которая не тонет и не поедается обитателями моря.
Десятого июня ветер снова посвежел. В тот же день Абдулла зарезал последнюю курицу, в клетке осталась только утка. Клетку отправили за борт – намокнет и затонет, – но обезглавить утку ни у кого рука не поднялась. Ее помиловали и, окрестив именем Симбад, позволили – с веревочкой на ноге – разгуливать по палубе, к великой досаде Сафи. Корзина заменила Симбаду особняк, и он стал заправлять на носовой палубе, а Сафи обычно держалась вблизи, и, если кто-то из них по рассеянности забредал на чужую территорию, это кончалось тем, что либо Симбад немилосердно щипал сзади Сафи, заставляя ее визжать от негодования, либо Сафи торжествующе скакала в свой уголок с утиным пером в руке.
Ночью волна заметно прибавила, и море разбушевалось. Порой становилось жутко стоять на шатком, скрипучем мостике, не видя в ночи ничего, кроме пятнышка света на парусе да топового фонаря, который болтался, словно обезумевшая луна, среди звезд, мелькающих между гонимыми бурей тучами. Вдруг за спиной будто злобная змея зашипит – бурлящий гребень вровень с твоей головой гонится за лодкой, а самой волны не видно, кажется, только белая пена летит по воздуху и что-то шепчет про себя. А черный вал уже подкатился под связки папируса и толкает их вверх своими чудовищными бицепсами, и тут же отпускает нас, и мы падаем вниз – падаем так глубоко, что следующий белый призрак реет в воздухе еще выше, чем предыдущий. Двухчасовая рулевая вахта совершенно изматывала нас, хотя мы обычно работали только одним веслом, наглухо закрепив второе.
За ночь море расшатало «Ра» сильнее, чем когда-либо. На рассвете амплитуда качания мачты на уровне крыши достигла 60 сантиметров, а макушку на высоте 9 метров мотало так, что сам Карло с трудом удерживался на ней. По примеру древних египтян каждое колено двуногой мачты мы утопили внизу в ямку на плоской деревянной пяте, установленной прямо на папирусе. Толстый деревянный угольник жестко соединял мачту с пятой, но теперь скреплявшие их веревки настолько ослабли, что оба колена лихо плясали, грозя выскочить из ямок. Да и ванты, похожие на параллельные струны, то провисали, вместо того чтобы притягивать колена к бортам, то вдруг натягивались так, что даже страшно: сейчас либо мачта сломается, либо лопнут папирусные связки, – ведь ванты были закреплены за толстый канат, обрамляющий весь фальшборт.
Мы вбили под пяту деревянные клинья и принялись за разгулявшиеся ванты – подтянешь одну, гляди, как бы не лопнула, пока остальные еще провисают. И вот мачта снова укрощена.
В этот день мы не могли пожаловаться на одиночество. На палубу градом сыпались летучие рыбки. Мы прошли мимо большой луны-рыбы, безжизненно лежавшей на воде. Какая-то тварь заглотала крючок и размотала всю леску на спиннинге Жоржа. Не успел он ее вытащить, как другая рыбина перехватила улов, и Жоржу досталась лишь голова. «Ра» мчалась по горам и долам с рекордной скоростью, и мы были изрядно обескуражены, когда Норман, определив в полдень наше место, сказал, что мы не так уж много прошли. Нас снесло течением на юг.
За одни сутки правый угол нашей кормы осел настолько, что конец рулевого бруса то и дело зарывался в волну и тормозил. На кормовой палубе вода стояла по щиколотку, а иные гребни докатывались до ящика со спасательным плотом, уложенного под мостиком. Всякий раз ящик ерзал и тер веревки.
На следующий день море продолжало бушевать, а с крепнущим нордом вернулся и холод. Регулируя крепление рулевого бруса, который все время врезался в воду, Юрий увидел на нем какой-то голубой пузырь и схватил его руками, чтобы сбросить. Юрий в жизни не встречался с «португальским военным корабликом» и даже не понял, что происходит, когда его руки вдруг оказались опутанными длинными жгучими нитями физалии – одной из самых опасных, несмотря на малые размеры, тварей Атлантического океана. Этот каверзный пузырь не единичная особь, а целая колония мельчайших организмов, объединенных сложными взаимоотношениями, и у каждого свои особенности и функции. Единственная задача самой крупной особи, пузыря – поддерживать эту удивительную артель на плаву. За ним волочится пучок многометровых арканчиков, составленных из маленьких граждан сообщества. Кто-то добывает пищу для всей колонии, кто-то отвечает за размножение, есть и солдаты, они буквально стреляют едкой кислотой в добычу и врагов. Самые крупные «португальские военные кораблики» могут даже парализовать и убить человека, такие случаи известны.
Жгучая боль через кожу распространилась по нервам, сковала мышцы правой руки нашего судового врача и подобралась к сердцу. Бедняга полез в аптечку и перебрал все: от мазей до сердечных и нервных таблеток. Четыре часа понадобилось ему, чтобы укротить боль и восстановить подвижность руки.
Тринадцатого июня в щелях и вантах свистел леденящий норд-норд-ост, и море ярилось пуще прежнего. Лодка извивалась, рыча, визжа и скрипя всеми суставами, волны беспорядочно громоздились друг на друга и накрывали корму «Ра». Иные гребни обрушивали на папирус по несколько тонн воды, и мы видели, как корма все больше поникает под натиском самых тяжелых каскадов. И ничего нельзя поделать, стой и смотри, когда лишняя вода скатится через оба борта, и останется наш популярный бассейн, где теперь было по колено. Абдулла только смеялся и уверял, что все это ерунда. Пока веревки целы, мы не потонем. Продрогший от холода, но веселый, он бродил в штормовке по палубе, прижимая к уху свой карманный приемник. Какая-то арабская станция рассказывала на французском языке о событиях в Чаде: там пока что верх взяли мусульмане.
Почти весь день вокруг лодки резвилась великолепная сине-зеленая корифена, она оборвала леску и уж после этого не клевала, и гарпуном ее взять не удалось. Карло затеял готовить обед из вяленой рыбы, в это время что-то шлепнуло его по загривку и забарабанило по каюте. Одиннадцать летучих рыб корчились на палубе – собирай и клади на сковороду.
С 14 по 17 июня море неистовствовало, с разных сторон наперерез друг другу шли волны, высота которых никак не соответствовала ветру. Очевидно, здесь сталкивались течения, отраженные невидимыми берегами. Жорж жаловался на боли в спине, его уложили в постель. Абдуллу тошнило, но он сам себя исцелил снадобьем из двенадцати головок чеснока. Начал кряхтеть и шататься мостик, пришлось срочно укреплять его новыми узлами и растяжками. Юрий догадался переселить Симбада на корму, и тот принялся радостно плавать в нашем бассейне. У Сафи от досады расстроился желудок, и она поминутно бегала на край палубы. Просто поразительно, какой чистоплотной стала наша обезьянка. Вдруг из воды выскочил косяк огромных, чуть не двухметровых тунцов, Сафи дико перетрусила и забилась в корзину, откуда ее так и не удалось выманить, пока Жорж с наступлением темноты не пересадил трусишку в ее персональный чемодан-спальню в каюте.
«Ра» судорожно корчилась и выписывала немыслимые кренделя, прилаживаясь к хаотической пляске волн, и колена мачты снова запрыгали в своих плоских деревянных башмаках. Лодка скрипела не так, как прежде, – казалось, что дует могучий ветер, когда сотни тысяч связанных веревками стеблей раскачивались на волнах. Пол, стены и крыша каюты тоже скрипели на новые голоса. Ящики под нами перекосились, крышки заклинивались; где ни ляжешь, ни сядешь, ни станешь, под тобой все корежится. Ванты нещадно дергали мачту, и при таком волнении мы не решались даже взяться за них, чтобы ослабить или подтянуть. Как ни холодно было, Жорж, Юрий и Норман прыгнули в воду, чтобы проверить днище. Стуча зубами, они доложили, что папирус в отличном состоянии, только корма висит, играя роль огромного тормоза. Надо было что-то предпринимать.
Неожиданно правое рулевое весло сорвалось с поперечины внизу и бешено задергалось, силясь оборвать и верхнее крепление, на мостике. Нам пришлось изрядно повозиться, стоя по пояс в бурлящей воде, прежде чем удалось поймать весло и закрепить его тросами. Причем рыбы кругом было столько, что Жорж ухитрился, не сходя с лодки, пронзить гарпуном корифену.
Надо что-то предпринимать, как-то обуздать ярость могучих каскадов, обрушивающихся на корму. Сколько еще она выдержит эту чудовищную нагрузку? Деревянная лодка давно переломилась бы.
Попробуем воздвигнуть барьер на пути волн... Мы собрали все обрезки папируса, и Абдулла с помощью Сантьяго и Карло, стоя по колено в воде, принялись сооружать из связок преграду. Могучий гребень захлестнул их по грудь, Абдуллу несколько раз смывало за борт, но страховочный конец крепко держал его, и он, смеясь, вылезал на палубу. Талисман не подкачает! Закончив работу, он поблагодарил аллаха.
Случилось то, чего я боялся. Чем выше мы делали барьер, тем больше воды застаивалось на корме, ведь разбухший папирус ее не пропускал. Придавленный огромной тяжестью, ахтерштевень все сильнее оседал. Тогда мы убрали барьер, воздвигнутый Абдуллой, но фальшборт уже успел прогнуться настолько, что на корму врывались целые горы воды, подмывая ящик со спасательным плотом. Пришлось поспешно восстанавливать преграду. Мы обрезали ножом веревки, крепившие две аварийных лодочки из папируса, и нарастили борт этим материалом, пошли в ход и папирусные спасательные круги, сделанные по фрескам в древних погребениях. Словом, мы использовали все растения до последнего стебля и подняли борта еще выше, а пруд на корме стал еще глубже. Теперь он занимал всю кормовую палубу, зато нас уже захлестывало не так сильно, середина лодки и нос по-прежнему оставались сухими.
Семнадцатого июня непогода прошла свой пик, ветер сместился к западу, и высокие волны выстроились вереницей. Всюду на лодке лежали летучие рыбы, одна даже угодила в кофейник. Видно, нас опять подхватила главная струя течения, потому что Норман, использовав минутный просвет в густой пелене туч, смог доложить, что за последние сутки пройдено 80 морских миль, то есть 148 километров, и это несмотря на тормоз, каким стала наша корма, похожая теперь на крабий хвост. 148 километров не так уж плохо, даже в масштабах карты мира.
В разгар бури мы находились примерно в 500 морских милях от берегов Западной Африки, и прямо по курсу у нас были острова Зеленого Мыса, лежащие к западу от Дакара. Течение и северный ветер несли нас на архипелаг, и в любую минуту, с любой стороны могла показаться земля – не очень-то приятная мысль, когда сражаешься со стихиями, обремененный неподатливой кормой, которой вздумалось изображать желтую подводную лодку.
Темным вечером, когда нам всюду чудились острова, Норман взял американскую лоцию для этого района и стал читать вслух. Под извивающимся потолком качался керосиновый фонарь, заставляя наши искаженные тени плясать и корчиться под жуткие звуки оркестра «Ра».
Мы услышали, что для гористых островов Зеленого Мыса характерны туманы и густая облачность, и хотя самые большие вершины достигают 2 тысяч метров, часто прибой показывается раньше, чем они. К тому же архипелаг омывают сильные и коварные течения, причина гибели множества кораблей. В полнолуние и новолуние могучие волны здесь особенно буйствуют. «Поэтому при плавании вблизи этих островов надо соблюдать большую осторожность», – заключил Норман чтение.
– Слышали, ребята? Будьте поосторожнее, – прокомментировал Юрий, забираясь в спальный мешок с головой.
Было как раз новолуние. Днем туман непроглядный, ночью – тьма беспросветная. Нас уже четверо суток несло на острова, значит, осталось совсем немного. Подхватит какая-нибудь сильная южная струя, и свидимся мы с ними в эту же ночь или наутро. Низкие тучи поливали нас дождем, и ни секстант, ни носометр не могли нам сказать, где именно мы находимся.
Восемнадцатое июня, драматический день... Где-то прямо по курсу или слева от нас, скрытые тучами и туманом, притаились острова Зеленого Мыса. Две недели назад мы прошли Канарские острова, не видя их из-за туч. Но сегодня опасности подстерегали нас нетолько извне. Вот уже двадцать пять дней мы живем в дружбе и согласии на папирусных связках, и больше месяца, как они лежат на воде. Несмотря на всякие помехи, «Ра» прошла больше 2 тысяч километров, обогнула северо-западное побережье Африки и вот теперь по-настоящему начинает пересечение Атлантического океана от одного материка до другого. Если бы египтяне прошли от устья Нила столько же, сколько мы от Сафи, они очутились бы на Дону или за Гибралтаром. Доказано, что Средиземное море не исчерпывает радиус действия папирусной лодки.
Вот только эта окаянная корма. Ну что бы древним мудрецам оставить нам какую-нибудь инструкцию, мы загодя разобрались бы во всех особенностях папирусной лодки и спокойно приступили бы к траверсу океана. А то ведь волны, вместо того чтобы подкатываться под лодку и поднимать ее вверх на гребне, теперь наваливаются на корму и подминают ее под себя. Ночью волна дотянулась до самой каюты, и я проснулся от того, что мне вылили на голову ведро холодной воды. Даже вкладыш спального мешка намок.
– Мы стартуем с гирями на ногах, ребята, – повинился я.
И тут Сантьяго бросил спичку в пороховой погреб.
– Давайте распилим спасательный плот, – вдруг объявил он.
– Вот именно, – сказал я. – С папирусными лодочками расправились, теперь и пенопластовый плот туда же.
– Да нет, я серьезно, – настаивал Сантьяго. – Мы должны как-то поднять ахтерштевень. Папируса больше нет, а пенопласт можно распилить на куски и использовать так же, как древние египтяне использовали запасной папирус.
– Он рехнулся, – произнесло сразу несколько голосов на разных языках.
Но Сантьяго не сдавался.
– Ты взял спасательный плот на шесть человек, а нас семеро, – вызывающе обратился он ко мне. – И не раз говорил, что сам никогда не перейдешь на спасательный плот.
– Следующий размер был на двенадцать человек, – объяснил я. – Это слишком. Но я могу еще раз сказать, что лично я останусь на нашем папирусном венике, если вы вдруг вздумаете перейти на эту пенопластовую козявку.
– Я тоже, – подхватил Абдулла. – Давайте распилим плот, ящик только трет наши веревки.
– Нет, – возразил я. – Плот все-таки помогает экипажу чувствовать себя надежнее. Ведь мы проводим научный эксперимент. А без плота уже никто не сможет оставить папирус.
– Да брось ты, давай пилу, зачем нам плот, которым все равно никто не воспользуется, – продолжал заводить нас Сантьяго.
И ребята завелись. Однако все пошли посмотреть на тяжелый упаковочный ящик, который Абдулла хотел убрать.
За каютой и мостиком от лодки словно ничего не осталось, лишь кривой хвост в гордом одиночестве торчал из воды, отделенный от нас бурлящими гребнями, которые захлестывали корму с одной стороны и скатывались с другой. Ящик с плотом подмывало, и он качался между стояками, расшатывая весь мостик.
Абдулла взялся за висевший по соседству топор, но тут Юрий восстал. Это безрассудство. Мы должны подумать о наших близких. Норман поддержал его: родные в ужас придут, если мы останемся без спасательного плота. Жорж отобрал топор у Абдуллы. Карло колебался. Он считал, что решать должен я. Впервые на «Ра» назревал серьезный раскол. В жизненно важном вопросе мнения разделились, и обе стороны одинаково яро отстаивали свой взгляд.
Когда мы расселись на бурдюках, мешках и кувшинах вокруг обеденного стола, на который Карло поставил солонину, омлет и марокканское селло, царила предгрозовая тишина. Сухой папирус у нас под ногами то сжимался, то растягивался в лад высокой и частой волне. Всего прочнее папирус был в подводной части, где он намок. «Ра» сама шла по ветру с закрепленными наглухо после ремонта рулевыми веслами и тормозящим ход крабьим хвостом. Юрий, Норман и Жорж хмуро смотрели на нависшие со всех сторон мрачные грозовые тучи и энергично давили пальцами миндаль, готовясь отстаивать свою позицию. Надо осторожно проколоть нарыв...
– Мало ли что может случиться, – я старался говорить бодро и весело. – Давайте разберем все случаи, когда нам может понадобиться спасательный плот. Лично я больше всего боюсь, чтобы кто-нибудь не упал за борт.
– А я больше всего, как бы нас не потопил какой-нибудь пароход, – сказал Норман. – Еще боюсь пожара на борту.
– Нос хорошо держится на воде, – послышался голос Юрия, – зато корма... А что будет через месяц?
– Все верно, – согласился я. – И ведь теоретически еще возможно, что скептики правы, папирус со временем распадется в морской воде.
– А я, – тихо произнес Жорж, который не знал, что такое страх, – я боюсь урагана.
Шесть доводов за то, чтобы держать в запасе спасательный плот. Больше никто ничего не мог придумать. Но и шести доводов хватит. Ладно, попробуем представить себе эти шесть случаев, и что каждый станет делать. Мы загибали пальцы один за другим.
Случай первый: человек за бортом. Это никого не страшило, ведь мы страховались веревкой, как в горах. К тому же за лодкой на длинном конце тащился спасательный пояс. Если кто-то, выйдя ночью на палубу прогуляться, споткнется о кувшин и ухнет за борт, спускать на воду плот нет смысла. Квадратный, низкий, с двумя палатками: одной – наверху, другой – внизу, смотря по тому, как ляжет плот, он не рассчитан на быстрый ход и отстанет от «Ра», даже если убрать парус.
Никто не спорил.
Случай второй: столкновение. Все были согласны, что мы просто не успеем спустить на воду плот, если «Ра» разрежет пополам. И даже если он окажется на воде, все предпочтут спасаться на уцелевшей части «Ра».
Случай третий: пожар. В Сахаре «Ра» вспыхнула бы, как папиросная бумага, но здесь ее поджечь не так-то просто. К тому же у нас есть огнетушитель. Курить разрешалось только с подветренной стороны, где искры уносило за борт, а наветренная сторона так пропиталась водой, что ей никакой пожар не страшен. Кто же предпочтет тесный плотик неподвластной огню половине «Ра»?
Случай четвертый: папирус начнет тонуть. За месяц мы убедились, что папирус, хоть и впитывает воду, погружается так медленно, что мы вполне сумеем передать «СОС». Но «СОС» передавать придется все равно, если мы перейдем на плотик. Каждый предпочитал лежать в относительно просторной каюте, чем сидеть впритирку и ждать помощи в палаточке на плоту.
Случай пятый: папирус сгниет и распадется. Мы уже удостоверились, что эксперты по папирусу тут сплоховали. Они проводили свои опыты в стоячей воде. Все члены экипажа могли подтвердить, что папирус и веревки стали прочнее прежнего, и мы единодушно сняли с повестки дня пятую угрозу.
Случай шестой: ураган. Вероятность урагана становилась вполне реальной с приближением к Вест-Индии. Может быть, могучий ветер снесет за борт мачты, весла, мостик, даже оторвет обвисшую корму. Но стихии уже и раз, и два испытывали нашу ладью, и мы не сомневались, что наша гибкая каюта устоит на главных, средних связках «Ра», а значит, у нас будет плот, где места для провианта и для нас самих останется больше, чем на пенопластовом пятачке.
Совет еще не кончился, а все уже повеселели. Какой бы случай мы ни рассмотрели, никто не предпочел спасательный плот папирусным связкам «Ра». У Юрия явно отлегло от сердца, он посмеивался и озадаченно качал головой. Карло хохотал. Норман глубоко вздохнул и первым поднялся с места:
– Ладно. Пошли за пилой!
Все рвались на корму, но волны с такой силой наваливались на нашу притопленную палубу, что не стоило слишком перегружать ее, достаточно и трех человек. Пошли Норман, Абдулла и я. Орудуя топором, ножом и пилой, мы разломали тяжелый упаковочный ящик и отправили за борт доски и пластиковую обертку. Они казались неуместными на «Ра». Появился зеленый пенопластовый плот. К ужасу Абдуллы выяснилось, что многие веревки, скрепляющие основу лодки, перетерты ящиком, который ерзал под напором волн. Словно когти мертвеца, из папируса торчали обрывки веревок. Если бы папирус не разбух, они бы вовсе выскочили, и развалилась бы вся корма.
Абдулла живо завязал новые узлы. Мы работали по колено в бурлящих волнах, и он показал, что кожа у него на ногах за последние дни так размокла от морской воды, что сходит большими лоскутами. Вдруг я почувствовал, как могучий вал, подкатившись под «Ра», поднимает лодку вверх и разворачивает боком. Я качнулся, стараясь удержать равновесие, в эту минуту раздался оглушительный рев воды и треск ломающегося дерева. Волна сзади захлестнула меня до пояса и поволокла к левому борту, я нагнулся, хотел ухватиться за веревку, чтобы не очутиться за бортом, и тут какой-то обломок с маху огрел меня по спине. Я услышал отчаянный крик Нормана: «Тур, берегись!» – и решил, что страшный треск исходит от мостика, это он не выдержал и рухнул на нас. Палуба ходила ходуном, сверху на меня давили обломки. Сейчас корма и мостик поплывут у нас в кильватере, и сами мы будем болтаться в воде на страховочных концах... Но волна схлынула, и мы по-прежнему стояли по колено в воде, только загадочный обломок не давал мне выпрямиться.
– Это рулевое весло! – объяснил Норман и помог мне высвободиться.
Над нами прыгали зазубренные концы двух бревен. Толстенное веретено весла и привязанный к нему для прочности брус – запасная мачта – сломались, и широченная лопасть опять волочилась на веревках за кормой, болтаясь, будто хвост сердитого кита, но Карло, Сантьяго и Норман тотчас бросились ее вытаскивать, Абдулла в это время в одиночку воевал с всплывшим на воде плотиком, а я возился с стокилограммовой бочкой, которая сорвалась с своего места под мостиком и грозила натворить бед, если не оттащить ее подальше от бушующих на корме каскадов.
Ночью, когда я вышел на вахту, Абдулла доложил, что теперь нас окружают добрые волны-исполины без маленьких злых волн на спине. «Ра» переваливала через гребни размеренно и спокойно; сломанное левое рулевое весло заменили два малых гребных весла. Посветив на волну карманным фонариком, можно было разглядеть кальмаров в толще воды, как за стеклом музейной витрины. Египетский парус отчетливо вырисовывался на фоне мерцающих просветов в облачной пелене, но горизонт оставался незримым во мраке, а то, что казалось звездочками на краю неба, на самом деле было всего только светящимся планктоном, могучий вал поднимал его вровень с нашими глазами.

 На борту «Ра» был праздник. Море и небо улыбались. Сухую носовую палубу пекло тропическое солнце, на кормовой палубе мирно плескался Атлантический океан.
В бамбуковой каюте прохладная тень, на желтой стенке висит на веревочках голубая карта Атлантики с вереницей карандашных кружочков. Последний, только что нарисованный кружочек свидетельствует, что сегодня мы перевалили сороковой меридиан и вошли, так сказать, в американскую область Атлантического океана. Вот уже несколько дней ближайшая к нам земля – Бразилия, да-да, мы теперь гораздо ближе к Южной Америке, чем к Африке, но мы пересекаем океан в самой широкой части, идя почти прямо на запад, и по курсу ближайшая суша – Вест-Индия.
Событие, заслуживающее того, чтобы его отметить. Нашему итальянскому коку-чародею ассистировал гурман Жорж, он приготовил изысканные египетские блюда. После закуски (марокканские маслины, бутерброды с соленой колбасой и вяленая египетская икра) каждый получил по огромному омлету с артишоками, луком, помидорами, кусочками копченой баранины и острым овечьим сыром и со всевозможными приправами от египетского камона до красного перца и редкостных трав. На третье был подан изюм, чернослив, миндаль и – самое замечательное – тройная порция медового марокканского селло мадам Айши.
Холодильник? Консервный нож? Представители семи стран на фараоновом пиру отлично обходились без них и уписывали за обе щеки, а папирусный кораблик сам шел на всех парусах нужным курсом, без вахтенного на мостике.
У нас была на борту целая плавучая бакалея. Заведовал ею Сантьяго, наш мексиканский квартирмейстер, единственным легальным клиентом был Карло, а единственным воришкой – Сафи. Она не умела читать номера, проставленные завхозом, однако ухитрялась откупоривать именно те кувшины, в которых лежали орехи.
Из книжечки Сантьяго следовало, в частности, что в кувшинах 1-6 лежат яйца в известковой воде, кувшины 15-17 наполнены вареными томатами в оливковом масле, в амфорах 33-34 под слоем перца хранится домашний овечий сыр, нарезанный кубиками и залитый оливковым маслом. В кувшины 51-53 Айша положила масло, топленное и посоленное по берберскому рецепту. В амфорах 70-160 – чистая вода, набранная в колодце под Сафи. Чтобы не зацвела вода в бурдюках, мы по примеру жителей пустыни положили в нее комочки смолы. Кроме того, в кувшинах, корзинах и мешках хранились мед, соль, горох, фасоль, рис, зерно и мука, сушеные овощи, каркаде, кокосовые орехи, цареградский стручок карубу, орехи, финики, миндаль, инжир, чернослив и изюм. Запаса свежих овощей, корнеплодов и фруктов хватило лишь на две-три недели. Под бамбуковым навесом впереди висели соленое и копченое мясо и колбасы, связки лука, сушеная рыба, прессованная египетская икра в сетках. Под этими продуктами стояли ящики с сухарями и лепешками – русскими, норвежскими и древнеегипетскими. Конечно, дело было не в том, можем ли мы прожить на чисто древнеегипетском меню, а в том, годится ли папирусная лодка в море. Но нам хотелось также выяснить, могли ли выдержать такое плавание корзины и кувшины, и можно ли прожить без консервов и замороженных продуктов, если рыба не клюет. Пока что нам это удавалось без труда.
Но когда Жорж по случаю пересечения сорокового меридиана нарушил правила игры и откупорил одну из двух бутылок шампанского из наших запасов, а Юрий налил в русские деревянные чашки свою зверскую настойку, Абдулла забил отбой. Похлопав себя по туго набитому животу, он полез через кувшины в наш корабельный бассейн, чтобы совершить омовение перед благодарственной молитвой аллаху.
Вернувшись после молитвы к своим земным товарищам, он попросил объяснить ему, что это за карандашная пометка на карте, которой он обязан таким превосходным обедом. Он уже усвоил, что мы время от времени переставляем часы, потому что земля круглая, и солнце не может освещать шар сразу со всех сторон. Разобрался он и в том, почему часы Карло вот уже больше месяца идут без завода, лежа в своей коробочке: каюта «Ра» колышется и обеспечивает автоматический завод. Но он не мог уразуметь, почему мы каждый день отмечаем наш путь на карте, расчерченной вдоль и поперек прямыми линиями. Вот сегодня мы прошли уже сороковой меридиан, а он еще ни одного не видел. Норман растолковал ему, что земля и моря разбиты на воображаемые клетки с номерами, чтобы люди могли объяснить при помощи цифр, где они находятся.
– А-а, – смекнул Абдулла. – На суше клетки лежат неподвижно, а на море они плывут с течением на запад, даже если нет ветра.
– Нет, клетки как бы нанесены на морском дне, – перебил его Норман.
И объяснил, что мы вышли в путь из Сафи, это на девятом градусе западной долготы, а сегодня пересекли сороковой градус. Но в это же время нас снесло на юг от тридцать второго градуса северной широты до пятнадцатого, и теперь мы находимся на той же широте, что родина Абдуллы.
После этого Абдулла уже сам определил, что крайняя западная точка Африки, Дакар, лежит на восемнадцатом градусе западной долготы, а крайняя восточная точка бразильского побережья, Ресифе, – на тридцать шестом, значит, пройдя сороковой меридиан, мы и впрямь имеем полное право отметить переход в американскую область Атлантического океана.
На палубе тем временем продолжалось гуляние. Взобравшись на кухонный ящик, Юрий, насколько позволяла качка, плясал и пел русские народные песни. Когда дошла очередь до «Стеньки Разина», мы дружно подтянули. Затем на «эстраду» вышел Норман, он играл на губной гармонике «Там в долине» и другие ковбойские песни, а остальные подпевали. Италия представила на суд публики бравурные альпийские марши, Мексика – зажигательные революционные мелодии, Норвегия – мирные матросские песенки, Египет – причудливые горловые звуки и танец живота. Но первое место занял Чад; во-первых, Абдулла выступал с искренним увлечением, во-вторых, получился очень уж странный контраст между вечным плеском моря и барабанной дробью, которую выбивал на кастрюле африканец, напевая свои зажигательные родные мотивы.
Время от времени вахтенный поднимался на мостик, чтобы взглянуть на компас. Мы шли с попутным ветром прямо на запад, средняя скорость 50-60 морских миль, или около 100 километров в сутки. Первые шесть суток после островов Зеленого Мыса мы основательно помучились с затопленной кормой, пытаясь хоть как-то править составленными из обломков неуклюжими веслами. Здесь же, посередине океана, волны стали куда покладистее, и нам удалось наладить своего рода модус вивенди с окружающей нас стихией. Мы разрешали волнам бесплатно кататься на нашем прицепе, а течение с приличной скоростью несло и волны, и людей на запад.
Не один Карло тихо страдал, глядя на то, как хвост «Ра» одиноко торчит из моря за лодкой. В самом деле, обидно: была такая гордая золотая птица, а теперь – спереди лебедь, сзади лягушка. Ладно, сегодня праздник, будем держаться лебедя и пореже вспоминать о лягушке.
На закате мы составили шумовой оркестр из кухонной утвари Карло. «Ра» поскрипывала так деликатно, что наши изысканные инструменты легко заглушили кошачий концерт папирусных стеблей. Временно оставшись без посуды, Карло подал на ужин одни лишь русские черные сухари с медом. Они показались нам вкуснее любого торта, вот только очень уж твердые, прямо кокс. Я лихо управлялся с ними, вдруг что-то хрустнуло, и моя единственная коронка выскочила на папирусную палубу. Я мрачно потрогал кончиком языка противную дырочку.
– Плохой коммунистический хлеб! – поддел Норман нашего русского судового врача.
Юрий нагнулся, поднял обломившуюся коронку и внимательно ее рассмотрел.
– Плохой капиталистический зубной врач! – отпарировал он.
Под песни, музыку и смех наш праздник продолжался, пока бог Солнца не погрузился в море прямо по ходу своего морского тезки. Казалось, лучезарный шар зовет лебединую шею нашей «Ра» на запад, на запад! Великолепные лучи, краше всякого королевского венца, распластались диадемой в небе над горизонтом. Тропическое море пыталось имитировать северное сияние. Ослепительное золото, потом кровавый багрец, потом оранжевый, зеленый, фиолетовый цвета. Медленно небо стало чернеть, и так же медленно в пустоте, где исчезло царь-солнце, возникли мерцающие звезды. Его величество удалилось, и тотчас высыпали простолюдины, спеша последовать за ним на запад.
Удобно философствовать, лежа на открытой палубе, на пустых и полных бурдюках. Взгляд ни во что не упирается, ничто не нарушает и не тормозит ток мыслей. Позади чудесный день, мы плотно поели, посмеялись, повеселились, теперь хочется только любоваться созвездиями, пусть мысли отдыхают, текут непринужденно.
– Ты славный парень, Юрий, – сказал Норман. – В России много таких, как ты?
– Таких, как я, еще два наберется, – ответил Юрий. – Остальные будут получше. А у тебя в Америке остался хоть один приличный капиталист после того, как ты ушел с нами в рейс?
– Спасибо за комплимент, – сказал Норман. – Если я для тебя гожусь, то сколько приятных встреч у тебя будет, когда мы придем в Америку!
Завязалась мирная дискуссия о коммунизме и капитализме, антикоммунизме и антикапитализме, самодержавии и диктатуре масс, о том, какие материальные блага и свободы важнее и почему руководители не могут договориться, хотя рядовые граждане всех стран отлично ладят, когда им представляется случай ближе узнать друг друга. Кто породил движение хиппи в разных концах света – молодежь или родители, умрет оно или будет шириться вместе с развитием цивилизации, не следует ли считать это движение своего рода сигналом, что цивилизация, которую мы и наши отцы день и ночь лихорадочно воздвигаем, твердо веря в нее, будет забракована грядущими поколениями. Египтяне и шумеры, майя и инки сооружали пирамиды, бальзамировали мумии и считали, что идут по верному пути. Они отстаивали свои идеи пращой и луком со стрелами. Мы считаем, что они неверно понимали смысл жизни. Поэтому мы производим атомные ракеты и стремимся на Луну. Отстаиваем свою политику атомными бомбами и антиантиракетами. Теперь наши дети устраивают сидячие демонстрации протеста, навешивают на себя индейские броши, отращивают волосы и бренчат на гитаре. С помощью искусственных средств уходят от действительности, уходят в себя, а глубины собственной души больше глубин космоса.
Как не настроиться на философский лад, когда планктон и звезды те же, и мир тот же, каким он был задолго до того, как его увидел глаз человека, и миллиарды хлопотливых пальцев принялись его преображать. Когда вместе сидишь под звездами и знаешь, что вместе пойдешь ко дну или поплывешь дальше, терпимое отношение к взглядам другого дается куда легче, чем когда сидишь по разные стороны границы и, уткнув нос в газету или телеэкран, заглатываешь тщательно причесанные фразы.
На борту «Ра» ни разу не доходило до политических или религиозных перепалок. У каждого свои взгляды. Экипаж составлялся так, чтобы представлять крайние противоположности, да так оно и вышло, однако общее наименьшее кратное было не так уж мало. Найти его ничего не стоило. Может быть, это потому, что наша семерка мыслила себя как некое единство в противовес нашим соседям здесь, в океане, которые дышали жабрами и жили совсем другими интересами и чаяниями. Что ни говори, люди чертовски схожи между собой, пусть у одного нос с горбинкой, а у другого плоский.
В темноте раздался плеск, тяжелая рыба забилась о папирус и бамбук. Ликующий голос Жоржа возвестил, что он пронзил гарпуном полуметровую корифену. В свете его фонаря мы разглядели кальмаров, которые плыли за нами задом наперед, вытянув щупальца над головой. Они двигались энергичными рывками, прокачивая через себя воду. Вот именно, реактивное движение. Они его освоили, чтобы спасаться от преследователей. Освоили раньше нас.
На борту «Ра» был праздник. Море и небо улыбались. Сухую носовую палубу пекло тропическое солнце, на кормовой палубе мирно плескался Атлантический океан.
В бамбуковой каюте прохладная тень, на желтой стенке висит на веревочках голубая карта Атлантики с вереницей карандашных кружочков. Последний, только что нарисованный кружочек свидетельствует, что сегодня мы перевалили сороковой меридиан и вошли, так сказать, в американскую область Атлантического океана. Вот уже несколько дней ближайшая к нам земля – Бразилия, да-да, мы теперь гораздо ближе к Южной Америке, чем к Африке, но мы пересекаем океан в самой широкой части, идя почти прямо на запад, и по курсу ближайшая суша – Вест-Индия.
Событие, заслуживающее того, чтобы его отметить. Нашему итальянскому коку-чародею ассистировал гурман Жорж, он приготовил изысканные египетские блюда. После закуски (марокканские маслины, бутерброды с соленой колбасой и вяленая египетская икра) каждый получил по огромному омлету с артишоками, луком, помидорами, кусочками копченой баранины и острым овечьим сыром и со всевозможными приправами от египетского камона до красного перца и редкостных трав. На третье был подан изюм, чернослив, миндаль и – самое замечательное – тройная порция медового марокканского селло мадам Айши.
Холодильник? Консервный нож? Представители семи стран на фараоновом пиру отлично обходились без них и уписывали за обе щеки, а папирусный кораблик сам шел на всех парусах нужным курсом, без вахтенного на мостике.
У нас была на борту целая плавучая бакалея. Заведовал ею Сантьяго, наш мексиканский квартирмейстер, единственным легальным клиентом был Карло, а единственным воришкой – Сафи. Она не умела читать номера, проставленные завхозом, однако ухитрялась откупоривать именно те кувшины, в которых лежали орехи.
Из книжечки Сантьяго следовало, в частности, что в кувшинах 1-6 лежат яйца в известковой воде, кувшины 15-17 наполнены вареными томатами в оливковом масле, в амфорах 33-34 под слоем перца хранится домашний овечий сыр, нарезанный кубиками и залитый оливковым маслом. В кувшины 51-53 Айша положила масло, топленное и посоленное по берберскому рецепту. В амфорах 70-160 – чистая вода, набранная в колодце под Сафи. Чтобы не зацвела вода в бурдюках, мы по примеру жителей пустыни положили в нее комочки смолы. Кроме того, в кувшинах, корзинах и мешках хранились мед, соль, горох, фасоль, рис, зерно и мука, сушеные овощи, каркаде, кокосовые орехи, цареградский стручок карубу, орехи, финики, миндаль, инжир, чернослив и изюм. Запаса свежих овощей, корнеплодов и фруктов хватило лишь на две-три недели. Под бамбуковым навесом впереди висели соленое и копченое мясо и колбасы, связки лука, сушеная рыба, прессованная египетская икра в сетках. Под этими продуктами стояли ящики с сухарями и лепешками – русскими, норвежскими и древнеегипетскими. Конечно, дело было не в том, можем ли мы прожить на чисто древнеегипетском меню, а в том, годится ли папирусная лодка в море. Но нам хотелось также выяснить, могли ли выдержать такое плавание корзины и кувшины, и можно ли прожить без консервов и замороженных продуктов, если рыба не клюет. Пока что нам это удавалось без труда.
Но когда Жорж по случаю пересечения сорокового меридиана нарушил правила игры и откупорил одну из двух бутылок шампанского из наших запасов, а Юрий налил в русские деревянные чашки свою зверскую настойку, Абдулла забил отбой. Похлопав себя по туго набитому животу, он полез через кувшины в наш корабельный бассейн, чтобы совершить омовение перед благодарственной молитвой аллаху.
Вернувшись после молитвы к своим земным товарищам, он попросил объяснить ему, что это за карандашная пометка на карте, которой он обязан таким превосходным обедом. Он уже усвоил, что мы время от времени переставляем часы, потому что земля круглая, и солнце не может освещать шар сразу со всех сторон. Разобрался он и в том, почему часы Карло вот уже больше месяца идут без завода, лежа в своей коробочке: каюта «Ра» колышется и обеспечивает автоматический завод. Но он не мог уразуметь, почему мы каждый день отмечаем наш путь на карте, расчерченной вдоль и поперек прямыми линиями. Вот сегодня мы прошли уже сороковой меридиан, а он еще ни одного не видел. Норман растолковал ему, что земля и моря разбиты на воображаемые клетки с номерами, чтобы люди могли объяснить при помощи цифр, где они находятся.
– А-а, – смекнул Абдулла. – На суше клетки лежат неподвижно, а на море они плывут с течением на запад, даже если нет ветра.
– Нет, клетки как бы нанесены на морском дне, – перебил его Норман.
И объяснил, что мы вышли в путь из Сафи, это на девятом градусе западной долготы, а сегодня пересекли сороковой градус. Но в это же время нас снесло на юг от тридцать второго градуса северной широты до пятнадцатого, и теперь мы находимся на той же широте, что родина Абдуллы.
После этого Абдулла уже сам определил, что крайняя западная точка Африки, Дакар, лежит на восемнадцатом градусе западной долготы, а крайняя восточная точка бразильского побережья, Ресифе, – на тридцать шестом, значит, пройдя сороковой меридиан, мы и впрямь имеем полное право отметить переход в американскую область Атлантического океана.
На палубе тем временем продолжалось гуляние. Взобравшись на кухонный ящик, Юрий, насколько позволяла качка, плясал и пел русские народные песни. Когда дошла очередь до «Стеньки Разина», мы дружно подтянули. Затем на «эстраду» вышел Норман, он играл на губной гармонике «Там в долине» и другие ковбойские песни, а остальные подпевали. Италия представила на суд публики бравурные альпийские марши, Мексика – зажигательные революционные мелодии, Норвегия – мирные матросские песенки, Египет – причудливые горловые звуки и танец живота. Но первое место занял Чад; во-первых, Абдулла выступал с искренним увлечением, во-вторых, получился очень уж странный контраст между вечным плеском моря и барабанной дробью, которую выбивал на кастрюле африканец, напевая свои зажигательные родные мотивы.
Время от времени вахтенный поднимался на мостик, чтобы взглянуть на компас. Мы шли с попутным ветром прямо на запад, средняя скорость 50-60 морских миль, или около 100 километров в сутки. Первые шесть суток после островов Зеленого Мыса мы основательно помучились с затопленной кормой, пытаясь хоть как-то править составленными из обломков неуклюжими веслами. Здесь же, посередине океана, волны стали куда покладистее, и нам удалось наладить своего рода модус вивенди с окружающей нас стихией. Мы разрешали волнам бесплатно кататься на нашем прицепе, а течение с приличной скоростью несло и волны, и людей на запад.
Не один Карло тихо страдал, глядя на то, как хвост «Ра» одиноко торчит из моря за лодкой. В самом деле, обидно: была такая гордая золотая птица, а теперь – спереди лебедь, сзади лягушка. Ладно, сегодня праздник, будем держаться лебедя и пореже вспоминать о лягушке.
На закате мы составили шумовой оркестр из кухонной утвари Карло. «Ра» поскрипывала так деликатно, что наши изысканные инструменты легко заглушили кошачий концерт папирусных стеблей. Временно оставшись без посуды, Карло подал на ужин одни лишь русские черные сухари с медом. Они показались нам вкуснее любого торта, вот только очень уж твердые, прямо кокс. Я лихо управлялся с ними, вдруг что-то хрустнуло, и моя единственная коронка выскочила на папирусную палубу. Я мрачно потрогал кончиком языка противную дырочку.
– Плохой коммунистический хлеб! – поддел Норман нашего русского судового врача.
Юрий нагнулся, поднял обломившуюся коронку и внимательно ее рассмотрел.
– Плохой капиталистический зубной врач! – отпарировал он.
Под песни, музыку и смех наш праздник продолжался, пока бог Солнца не погрузился в море прямо по ходу своего морского тезки. Казалось, лучезарный шар зовет лебединую шею нашей «Ра» на запад, на запад! Великолепные лучи, краше всякого королевского венца, распластались диадемой в небе над горизонтом. Тропическое море пыталось имитировать северное сияние. Ослепительное золото, потом кровавый багрец, потом оранжевый, зеленый, фиолетовый цвета. Медленно небо стало чернеть, и так же медленно в пустоте, где исчезло царь-солнце, возникли мерцающие звезды. Его величество удалилось, и тотчас высыпали простолюдины, спеша последовать за ним на запад.
Удобно философствовать, лежа на открытой палубе, на пустых и полных бурдюках. Взгляд ни во что не упирается, ничто не нарушает и не тормозит ток мыслей. Позади чудесный день, мы плотно поели, посмеялись, повеселились, теперь хочется только любоваться созвездиями, пусть мысли отдыхают, текут непринужденно.
– Ты славный парень, Юрий, – сказал Норман. – В России много таких, как ты?
– Таких, как я, еще два наберется, – ответил Юрий. – Остальные будут получше. А у тебя в Америке остался хоть один приличный капиталист после того, как ты ушел с нами в рейс?
– Спасибо за комплимент, – сказал Норман. – Если я для тебя гожусь, то сколько приятных встреч у тебя будет, когда мы придем в Америку!
Завязалась мирная дискуссия о коммунизме и капитализме, антикоммунизме и антикапитализме, самодержавии и диктатуре масс, о том, какие материальные блага и свободы важнее и почему руководители не могут договориться, хотя рядовые граждане всех стран отлично ладят, когда им представляется случай ближе узнать друг друга. Кто породил движение хиппи в разных концах света – молодежь или родители, умрет оно или будет шириться вместе с развитием цивилизации, не следует ли считать это движение своего рода сигналом, что цивилизация, которую мы и наши отцы день и ночь лихорадочно воздвигаем, твердо веря в нее, будет забракована грядущими поколениями. Египтяне и шумеры, майя и инки сооружали пирамиды, бальзамировали мумии и считали, что идут по верному пути. Они отстаивали свои идеи пращой и луком со стрелами. Мы считаем, что они неверно понимали смысл жизни. Поэтому мы производим атомные ракеты и стремимся на Луну. Отстаиваем свою политику атомными бомбами и антиантиракетами. Теперь наши дети устраивают сидячие демонстрации протеста, навешивают на себя индейские броши, отращивают волосы и бренчат на гитаре. С помощью искусственных средств уходят от действительности, уходят в себя, а глубины собственной души больше глубин космоса.
Как не настроиться на философский лад, когда планктон и звезды те же, и мир тот же, каким он был задолго до того, как его увидел глаз человека, и миллиарды хлопотливых пальцев принялись его преображать. Когда вместе сидишь под звездами и знаешь, что вместе пойдешь ко дну или поплывешь дальше, терпимое отношение к взглядам другого дается куда легче, чем когда сидишь по разные стороны границы и, уткнув нос в газету или телеэкран, заглатываешь тщательно причесанные фразы.
На борту «Ра» ни разу не доходило до политических или религиозных перепалок. У каждого свои взгляды. Экипаж составлялся так, чтобы представлять крайние противоположности, да так оно и вышло, однако общее наименьшее кратное было не так уж мало. Найти его ничего не стоило. Может быть, это потому, что наша семерка мыслила себя как некое единство в противовес нашим соседям здесь, в океане, которые дышали жабрами и жили совсем другими интересами и чаяниями. Что ни говори, люди чертовски схожи между собой, пусть у одного нос с горбинкой, а у другого плоский.
В темноте раздался плеск, тяжелая рыба забилась о папирус и бамбук. Ликующий голос Жоржа возвестил, что он пронзил гарпуном полуметровую корифену. В свете его фонаря мы разглядели кальмаров, которые плыли за нами задом наперед, вытянув щупальца над головой. Они двигались энергичными рывками, прокачивая через себя воду. Вот именно, реактивное движение. Они его освоили, чтобы спасаться от преследователей. Освоили раньше нас.

 Что такое? Не может быть. Я просыпаюсь в тревоге. Хватаюсь за постель. Она качается. Качка, тряска, плеск воды. Ночь... Может, мне это снится? Разве плавание «Ра» не кончилось? Может, все это был дурной сон – затонувшая корма, срубленная мачта? Или я сейчас сплю и вижу в кошмаре, что мы еще не покинули потрепанную ладью? На минуту я совсем запутался, силясь отделить сон от яви. Но ведь плавание «Ра» позади. Я поклялся себе, что больше никогда не стану затевать ничего подобного. И вот опять. Та же плетеная каюта. Тот же широкий лаз в пустынный мир ветра и рвущихся к ночному небу буйных черно-белых волн. Впереди тот же огромный египетский парус расправил свои широкие плечи на двойной мачте, той самой, которую мы срубили, сзади изящной дугой изогнулся вверх стройный папирусный ахтерштевень, тот самый, который у нас на глазах сник и погрузился в бурлящее море. Все тело разбито усталостью. Руки ноют. Я сел.
Норман, настоящий живой Норман влез в каюту и навел фонарик сперва на меня, потом на торчащую из спального мешка возле меня косматую голову с рыжей бородой:
– Тур и Карло, на вахту, подъем.
Я взял свой фонарик и посветил кругом. Вот и остальные ребята лежат впритирку, еще теснее прежнего. Норман как раз пытался втиснуться на свое место в углу напротив, и все повернулись, как по команде. Сантьяго, Юрий, Жорж, Карло... Но что это за незнакомая голова, жесткие черные волосы, азиатское лицо? Да ведь это Кей. Кей Охара из Японии. Как он очутился на «Ра»?
Ну конечно. Я откинулся на спину и стал натягивать штаны. Плетеный потолок такой низкий, что не встанешь в рост, только-только сидеть можно. Ниже, чем на «Ра I». Вот именно. Теперь все ясно. Это же «Ра II». Я начал все сызнова. Мы опять у берегов Африки, даже мыс Юби не прошли. И не Абдулла ждет смены в темноте на мостике, а другой темнокожий африканец, я еще не успел его узнать как следует, чистокровный бербер по имени Мадани Аит Уханни.
– Подвинься, Карло, ты занял половину моего матраса. А теперь сидишь на моем рукаве.
На мостике – собачий холод, а вообще-то спокойно. Сдернув капюшон, Мадани показал мне, насколько можно отворачивать рулевым веслом от берега, не опасаясь, что ветер с моря обстенит огромный парус. Карло занял пост на крыше каюты и высматривал судовые и береговые огни. Ситуация повторялась: пока мы не отойдем от коварных берегов Сахары и не пересечем маршрут пароходов, следующих нескончаемой чередой вокруг Африки, надо остерегаться опасности со всех сторон.
Но ведь все это мы уже один раз проделали. Так сказать, повторение пройденного, хотя и без полной надежды на успех. Один раз мыс Юби пропустил нас живьем, и вот мы снова дрейфуем в этих водах, и ветер с моря грозит нам все испортить. Почему мы теперь не стартовали южнее мыса Юби? Почему понадобилось снаряжать «Ра II»? Почему я начинаю толстый дневник с первой страницы?
Да, почему?
– Мы должны справиться на этот раз, – пробормотал Карло. – Должны одолеть последние мили до Барбадоса, которые не прошли в том году.
Может быть, это он и другие ребята уговорили меня снова пустить в ход машину? Потому что не хватило каких-то миль, чтобы удовлетворить скептиков? Или виновато любопытство? Желание проверить, а не сумеем ли мы пересечь океан на более прочной папирусной лодке, ведь все-таки есть уже опыт, сделана первая, пробная попытка построить и провести по морю ладью, одни лишь очертания которой были известны по тысячелетним фрескам? Пожалуй, сыграло роль и то, и другое. Меньше года прошло между спуском на воду «Ра I» и «Ра II», а сколько событий произошло за это время. Я познакомился с другими камышовыми лодками. Они сохранились до наших дней там, где на пути из внутреннего Средиземноморья в Атлантику оставили след представители древних культур.
В богатом археологическими памятниками районе обширных Ористанских болот на западе Сардинии мы с Карло Маури ходили вместе с рыбаками на больших камышовых лодках и били рыбу острогой, а на высотах кругом четко выделялись контуры пятитысячелетних нурагьи. Древнейшие из этих великолепных башен археологи связывают с влиянием, которое дошло сюда из внутреннего Средиземноморья почти за три тысячи лет до нашей эры. Но и потом на Сардинии тысячи лет сооружали такие постройки.
Рыбаки сводили нас в наиболее сохранившуюся башню – исполинский цилиндр из поросших мхом огромных блоков, устоявших против всех войн и землетрясений. Стоило мне войти внутрь через низкую дверь и включить карманный фонарик, и у меня возникло чувство, что я здесь уже бывал. Эта замысловатая архитектоника, высокие потолки – ложный свод из тяжелых плит над двойным кольцом узких коридоров, соединенных между собой низкими ходами, которые ведут в центр, к спиральной лестнице, поднимающейся наверх, на смотровую площадку, – все это я уже видел.
Поразительно! Ведь точно по этому принципу майя задолго до прибытия испанцев соорудили свою астрономическую обсерваторию, знаменитую караколе в Чичен-Ице на полуострове Юкатан. Такая же башня стоит рядом с майяской пирамидой, на стенах которой был изображен бой между светлокожими мореплавателями и темнокожими людьми на берегу. Может быть, стоит поискать недостающее звено? Может быть, неведомые наставники майя, ольмеки, тоже так строили?
Поднявшись на смотровую площадку, я увидел ту же картину, какая открывалась глазам сардинских строителей тысячи лет назад: белые гребни прибоя в заливе, а на берегу – золотистые лодки, расставленные для сушки на средиземноморском солнце. Средиземное море – родина древнейших морских экспедиций человека, родина далеких плаваний. И Геркулесовы Столпы – вечно открытые ворота во внешний мир... Эти воды помогли распространению культуры. Мы знаем, что она распространилась по морю из того угла, где встречаются Малая Азия и Египет, на остров Крит. С Крита в Грецию. Из Греции в Италию. Из родины финикийских мореплавателей в Ликсус и другие колонии за Гибралтаром, за тысячи лет до нашей эры.
Лодки из папируса и камыша – древнейшие суда, какими пользовались жители области, где зародилась средиземноморская культура. Лодки, подобные изображенным в искусстве древней Ниневии, до недавнего времени применялись греческими рыбаками на острове Корфу. Их вязали не из папируса, а из стеблей гигантского фенхеля. А назывались они папирелла, хотя ни растения, ни даже слова «папирус» теперь на Корфу не знают. И такие же лодки, правда из другого материала, мы застали у итальянских рыбаков на Сардинии.
Забытые цивилизации... Забытые суда... Египет, Месопотамия, Корфу, Сардиния, Марокко. Да, и Марокко тоже. Как только я увидел, что древние камышовые лодки Сардинии живы и в наше время, мои мысли тотчас обратились к Марокко. Во время моего первого визита тамошний деятель очень уж категорически заявил, что жители поречья знают только деревянные и пластмассовые лодки. Поэтому, приехав в Сафи строить «Ра II», я обратился к моему доброму другу – паше. Он предоставил нам машину и переводчика. В порту Лараш, лежащем в устье Лукуса, мы разговорились с двумя старыми рыбаками, занятыми починкой сети.
Камышовые лодки? Может быть, мы подразумеваем мадиа? Как же, как же! Старый бербер согласился быть нашим проводником, и мы тотчас, что называется, пошли по следу. Два дня мы пытались пробиться на машине через редкий пробковый лес в деревню йолотов, укрывшуюся в глухом уголке побережья. В конце концов мы дошли до нее пешком. Живописные хижины из сучьев, аистовые гнезда на камышовых крышах, козы. Дети и старики: одни семьи – сплошь голубоглазые блондины, другие – негроиды. Ни одного араба. Таким было смешанное коренное население Марокко. По чести, следовало бы определить его как «неопознанное». На деле же светловолосых и черноволосых удобства ради смешали в одно и сунули, как говорится, в один мешок с надписью «берберы».
Маленькое солнечное королевство отгородилось от моря и реки, от скудных пастбищ и скрюченных стволов пробкового дерева мощными заборами из кактуса. Нас провели внутрь. Мадиа? Как же, как же. Все люди старшего поколения, согбенные старцы и беззубые старухи, помнили и шафат, и мадиа, оба вида лодок, которыми пользовались вокруг устья реки Лукус еще несколько десятилетий назад. Два старика тут же изготовили каждый по модели – шафат с обрезанной прямо кормой (на таких лодках переправляли груз через реку) и мадиа, нос и хвост крючком, как в Древнем Египте. Мадиа и с морским прибоем справлялись, размер – какой тебе угодно, и камыш, из которого делали лодки, – кхаб – месяцами сохранял плавучесть. Старики связали небольшую лодку с загнутым вверх носом и обрезанным хвостом, и пять человек вышли на ней в залив, чтобы я мог убедиться в ее поразительной грузоподъемности.
В устье Лукуса, как и на Сардинии, над водами, где уцелели камышовые лодки, возвышаются могучие руины мегалитических сооружений. Ликсус... Откровенно говоря, если бы не охота за камышовыми лодками, я бы ничего не знал о Ликсусе. Древний город так же мало известен моим коллегам-археологам, как и рядовым марокканцам. Специалисты по Египту или Шумеру, тем более по древней Мексике, мало что знают об атлантическом побережье Африки и вовсе не слыхали о памятниках на реке Лукус. У горстки знатоков Марокко пока что хватило времени и средств только на то, чтобы заложить несколько разведочных шурфов и обнажить огромные камни, из которых сложены древнейшие стены Ликсуса. Я забрел сюда, потому что холм с развалинами возвышается над рекой у самой дороги, ведущей из Лараша к пробковому лесу, в котором йолоты вяжут лодки из камыша. От леса до Ликсуса считанные километры, и как раз на одном из рукавов Лукуса, огибающем холм с могучими руинами, камышовые лодки широко употреблялись еще в нынешнем столетии. У подножия холма стояли римские склады, напоминая, что некогда Ликсус был важнейшим атлантическим портом для мореплавателей из Средиземноморья.
Ликсус. Поразительная картина. Впереди – Атлантический океан, сзади – африканский материк, сплошная суша, вплоть до египетского и финикийского приморья, а там и Месопотамия рядом. Оттуда, из далекой Малой Азии через Средиземное море, через Гибралтар, вдоль западного побережья Африки на юг, с женщинами и детьми, с астрономами и зодчими, с гончарами и ткачами, пришли в незапамятные времена колонисты, которых здесь застали римляне, выйдя через тот же Гибралтар. Что говорить, историческая земля.
Здесь, на берегу Атлантики, раскинулся город, такой древний, что римляне называли его Вечным, связывая его с именем Геракла – сына их верховных богов Геры и Зевса, героя греческой и римской мифологии. Самые древние стены, теперь совсем или частично погребенные под мусором, оставленным арабами, берберами, римлянами и финикийцами, настолько внушительны, что могут разжечь любое воображение. На вершину холма подняли огромное количество исполинских плит разной формы и величины, и все они тщательно обтесаны и пригнаны друг к другу, словно в гигантской мозаике, так что все швы прямоугольные, даже если у камня десять или двенадцать граней. Это была та самая специфическая, неповторимая техника, которая уже стала для меня как бы условным знаком, выбитым в камне там, и только там, где некогда были в ходу камышовые лодки, – от острова Пасхи, Перу и Мексики до более древних великих цивилизаций внутреннего Средиземноморья. Ольмеки и доинкские племена владели этой техникой так же безупречно, как древние египтяне и финикийцы, а вот викинги и китайцы, бедуины и индейцы прерий растерялись бы не меньше, чем группа современных ученых, если бы их подвели к скале и предложили соорудить стену по этому принципу, будь они даже вооружены стальным инструментом и знакомы с готовой кладкой.
Ходишь среди опрокинутых и наполовину погребенных мегалитических блоков Солнечного града, видишь знакомую хитроумнейшую своеобразную технику и чувствуешь, как Америка и внутреннее Средиземноморье словно сближаются друг с другом. Ликсус стал как бы связующим звеном и наполовину сократил разделяющий их путь. За много столетий до нашей эры сюда добрались выходцы с дальних берегов Средиземного моря. С добротным снаряжением, отлично подготовленные, на безопасном расстоянии от грозных скал Африки ходили колонисты и торговцы до этого порта и дальше мимо опасного мыса Юби в те далекие времена, когда на противоположной стороне Атлантики появились бородатые ольмеки и начали расчищать площадки в девственном лесу. В ту самую пору, когда средиземноморские каменотесы выходили на запад через Гибралтар, неведомые ольмеки развивали каменотесное искусство и насаждали цивилизацию среди бродячих индейских родов. В устье реки сохранилась классическая камышовая лодка (хотя кругом сколько угодно леса), а невдалеке тогда, как и теперь, проходило мощное океанское течение, то самое, во власти которого мы оказались во второй раз за год.
Я повернул тяжелое рулевое весло еще немного, чтобы у нас был максимум шансов обойти утесы вокруг мыса Юби. Кто нам скажет, сколько судов точно так же сражались с морем в древнейшую пору Ликсуса, стараясь миновать коварные отмели там, где берег Африки поворачивал на юг, к самым дальним колониям финикийцев, лежавшим за мысом Бахадор?
– Во всяком случае на этот-то раз весла выдержат, – усмехнулся я, обращаясь к Карло, и погладил мощный брус левого рулевого весла.
Правое весло было закреплено наглухо толстым тросом.
В прошлый раз тонкие веретена сломались при первой же встрече с океанской волной, и все плавание «Ра I» было, по сути деда, чистым дрейфом.
Папирусный корпус на этот раз тоже был несравненно прочнее. Папирус опять пришлось заготавливать в верховьях Нила, слишком мало его растет в Марокко, где строилась «Ра II».
Добраться до Бола у озера Чад, чтобы привезти оттуда Умара и Муссу, было невозможно. В пустыне опять стало неспокойно. К тому же техника вязки жителей африканских дебрей не оправдала себя в долгом океанском плавании. Через два месяца мы начали терять папирус из связок правого борта, потому что кое-как приделанный ахтерштевень вскоре обвис, и под ударами волн бамбуковая каюта ерзала и пилила веревки, пока не перетерла их, после чего найтовы начали распускаться, словно вязание.
И я решил испытать других лодочных мастеров, которые по сей день вяжут крепкие лодки на древний лад, с загнутым вверх ахтерштевнем такой же высоты, как нос. Таковы камышовые лодки индейцев аймара и кечуа в Боливии и Перу. Кстати, они еще в одном напоминают суда древней Ниневии и Египта. Веревки сплошным кольцом охватывают палубу и днище, в профиль лодка кажется состоящей из одной сплошной связки, тогда как чадские лодки, не имеющие высокого ахтерштевня, набраны из многих связок, соединенных между собой петлями из коротких концов.
Удивительно, что индейцы Южной Америки пользуются приемами, которые гораздо больше отвечают древней технике в странах Средиземноморья, чем способы вязки лодок, сохранившихся в сердце Африки. Может быть, дело в том, что у будума на берегах Чада не было тесной связи с древнейшими цивилизациями. Не то что у индейцев аймара и кечуа на берегах озера Титикака. Предки аймара участвовали в постройке пирамиды Акапана и других мегалитических сооружений Тиауанако – важнейшего доинкского культового центра Америки, возникшего на берегу Титикаки. Это они перевозили тяжеленные плиты на камышовых лодках через озеро. Это они рассказали испанцам, что руководили их строительством белые бородатые люди и что именно исчезнувшие потом творцы древней культуры первыми ходили на лодках такого типа. Самостоятельно работать по камню аймара не научились. Зато они по сей день точно воспроизводят камышовые лодки для рыболовного промысла на озере.
Все участники экспедиции «Ра I» готовы были продолжать эксперимент, и Сантьяго снова оставил свою работу в университете Мехико, чтобы отправиться на Титикаку за лодочными мастерами. Итальянца Марио Буши я негласно попросил отправить своих эфиопских помощников на озеро Тана и еще раз заготовить там двенадцать тонн папируса. Осоку из Эфиопии и строителей из Боливии надо было незаметно доставить в Марокко и работы вести в полной тайне, чтобы я мог без помех написать главы о «Ра I» для книги, которая должна была покрыть растущие расходы на мой эксперимент. Под маркой «бамбук» 12 тонн эфиопского папируса были сгружены в порту Сафи и исчезли. Четверо чистокровных индейцев аймара и боливийский переводчик сошли с самолета в аэропорту Касабланки вместе с Сантьяго и исчезли. Парусина из Египта, готовая плетеная каюта из Италии, древесина для мачт и весел, всевозможные веревки и тросы неприметно прибывали с разных концов в Марокко. И исчезали.
Шестого мая кусок высокой стены, окружающей Сафийский городской питомник, рухнул на землю, и между клумбами и пальмами зарокотал могучий бульдозер, за которым следовала легкая ладья из цветочных стеблей, словно выросшая сама среди пышной зелени.
Так родилась на свет «Ра II». Медленно и чинно она вышла из пролома в стене, как будто огромная бумажная птица вылупилась из яйца. И с величавой степенностью покатила на колесах по тесным городским улочкам, забитым зрителями – арабами и берберами в кафтанах, халатах, под чадрой. Важно выступали полицейские, бежали вприпрыжку босоногие мальчуганы, на деревьях, столбах, в люльке красной технической машины торчали озабоченные садовники и электромонтеры, следя за тем, чтобы ветви и провода не потрепали и не воспламенили сухие папирусные закорючки на носу и на корме нарядной золотистой ладьи, и местное начальство облегченно вздохнуло, когда диковинная конструкция перевалила через железную дорогу и остановилась среди сверкающих свежей краской рыбацких шхун, которые ждали спуска на воду и выхода на весенний промысел сардин.
– Нарекаю тебя «Ра II», – сказала Айша, супруга паши Тайеба Амары, во второй раз за один год брызгая козьим молоком на сухой папирус перед тем, как лодка заскользила вниз.
– Ур-а-а! – грянула толпа на пристани, и по людскому морю прокатилась волна аплодисментов, когда необычное суденышко легло на воду и закружилось, будто и впрямь игрушечный кораблик из бумаги. Многие зрители не сомневались, что оно опрокинется или во всяком случае даст сильный крен, ведь работа-то была кустарная. Мы, кому предстояло плыть на ладье, с великим облегчением смотрели, как ровно она лежит на воде. Команда буксирного судна стояла недвижимо, не веря своим глазам. А в толпе продолжалось ликование.
Но что это? Стой! Помогите! Ай-яй-яй! Паника в толпе, смятение на буксире! Неожиданно с гор налетел сильный шквал, он подхватил бумажный кораблик и погнал его со страшной скоростью от буксирного судна прямо на каменный мол четырехметровой высоты. Звучали вопли и стоны, команды на французском и арабском языках, кто-то закрыл лицо руками, газетчики попрыгали в воду, благо мелко, кто фотографировать, кто спасать лодку, и новокрещенная ладья, совершив полный оборот, со всего маху боднула стенку загнутым вверх ахтерштевнем. Лихая закорючка из папируса приняла удар на себя и сжалась, как пружина. Мне словно вонзили кинжал в сердце. Корма! Которую мы на этот раз так старались сделать крепкой и неуязвимой. Лодка прыгала на волнах. А ведь там каменистое дно. Поди удержи ее, когда такие шквалы. Эксперимент явно кончился, не успев начаться. А впрочем? Кривой ахтерштевень сработал, как стальная пружина, и лодка резиновым мячом отскочила от стенки. Раз. Другой. Деревянная ладья разбилась бы и пошла ко дну. А «Ра» хоть бы что. Только серая ссадина на золотистой коже нескольких стеблей. А ребята на буксире уже поймали конец. И ничего не надо ремонтировать. Дергаясь на ветру влево и вправо, словно бумажный змей на взлете, «Ра II» весело и бодро пошла на буксире к причалу, где нам предстояло устанавливать на ней двойную мачту.
С содроганием вспоминал я, стоя на руле, этот спуск на воду. И в то же время говорил себе, что, если нас выбросит на притаившиеся в ночной мгле Камни и рифы, есть надежда спастись раньше, чем наша копна сена пойдет ко дну. Лодка вышла такая тугая и крепкая, что совсем не прогибалась на волне. «Ра I» извивалась, как угорь. «Ра II» – жесткая, как бейсбольный мяч. Мы все единодушно восхищались гениальной конструкцией индейцев. Безупречные обводы и тонкое решение технических задач как-то не вязались с простым бытом аймара. Похоже, что ни эрудиты, ни профаны, видевшие камышовые лодки, не задумывались о тонкостях древнеиндейской техники, между тем наши опыты показали, что это единственный способ связать лодку так, как показано на рельефах древних средиземноморских культур. При любом другом способе конструкция постепенно расшатывается, а это для веревок гибель.
Четверо молчаливых индейцев – Деметрио, Хосе, Хуан и Паулино – вместе с таким же немногословным боливийским переводчиком, сотрудником Ла-Пасского музея, сеньором Себальосом, прекрасно организовали строительство «Ра II». Им помогало несколько марокканцев, и однако на строительной площадке было так тихо, что я то и дело откладывал в сторону рукопись и выглядывал из палатки. Работа под пальмами кипела, и члены бригады обходились жестами да редкими возгласами на языках аймара, испанском и арабском.
Сначала индейцы сделали из отдельных стеблей папируса две огромных сигары, уложенных в тонкую папирусную циновку, которую сплели так, что концы стеблей были обращены внутрь и сплющены. До того, как их начали стягивать веревками, десятиметровые цилиндры были такие толстые, что без подставки до верху не дотянешься. В проходе между ними сделали в ту же длину третью, гораздо более тонкую сигару, к которой они должны были крепиться. Эта операция проходила так. Длинными – в несколько сот метров – веревками связали тонкое папирусное веретено с толстыми, сперва с одним, потом с другим, спиральной вязкой так, что веревки не соприкасались. Когда индейцы все вместе стали натягивать обе веревки, толстые сигары, все ближе подтягиваясь к тонкой, в конце концов сомкнулись, и она совсем скрылась, образовав как бы незримую сердцевину.
Получился нерасчленимый, словно литой, корпус без узлов и перекрещивающихся веревок, оставалось только удлинить веретена с обоих концов, чтобы нос и корма изящно загнулись вверх. Затем добавили по бокам еще по толстой папирусной колбасе – для перехвата волн и увеличения ширины лодки. После этого мы сами установили десять поперечных брусьев под легкую плетеную каюту, стояки для мостика и две пяты для тяжелой двойной мачты.
И вот готова «Ра II» – 12 метров в длину, 5 в ширину, 2 в толщину. Каюта – длина 4 метра, ширина 2,8 метра; в обтяжку на восемь человек, лежащих по четыре в ряд, ногами друг к другу. «Ра II» оказалась на три метра короче «Ра I», да и в разрезе круглее и тоньше. Меня тревожило, что чуть ли не треть папируса осталась в излишке. Но ни уговоры, ни посулы не могли заставить наших аймарских друзей добавить в конструкцию хотя бы один стебель, поработать над лодкой еще день. Они исчерпали свои возможности и рвались домой, к своим женам на озере Титикака.
– Счастливого плавания и добро пожаловать на остров Сурики, – приветливо сказал Деметрио, сняв вязаную шапочку, когда их творение исчезло через пролом в стене.
– Остров Сурики?
– Ну если не на наш именно островок, то во всяком случае на озеро Титикака.
Аймара явно не очень разбирались в географии. Им было невдомек, что они связали «Ра II» на другой стороне Атлантики и что их родное озеро лежит на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Но вязать камышовые лодки они умели, ничего не скажешь; ни один инженер, ни один конструктор, ни один археолог нашего современного мира не смог бы с ними потягаться.
– Твердая, словно из дерева вырезана, – сказал Карло.
Только что мимо нас, совсем рядом, пронесся сверкающий огнями пароход, и мы облегченно вздохнули: пронесло.
– Твердая, как деревянный чурбан, но мы все глубже погружаемся, – добавил он.
– Все образуется, просто у нас много груза по отношению к подводной части папируса.
– Норман говорит, что надо было весь папирус обмазать битумом, как в Библии написано.
– Зачем, ведь воду впитывают только обрезанные концы. А мы на этот раз обмакнули большинство стеблей на два сантиметра в битум.
Но, по чести говоря, я и сам уже склонялся к тому, что, пожалуй, лучше было всю лодку обмазать густым слоем битума. Тогда мы не погрузились бы ни на один сантиметр. Может быть, древние египтяне конопатили папирус под верхней оплеткой, поэтому на фресках лодки не черные, а желтые и зеленые.
После плавания «Ра I» несколько священников прислали мне письма, подчеркивая, что, по библии, Ноев ковчег был проконопачен битумом. И что мать Моисея обмазала битумом папирусный ковчег, в который поместила сына и который дочь фараона потом нашла в зарослях папируса на берегу Нила. Наверное, тут есть доля истины. Битум несложно добыть, он был обиходным товаром в Древнем Египте и Малой Азии. Правда, на «Ра I» мы убедились, что папирус и без битума держится на воде, пока веревки целы.
Веревки. На «Ра I» они у нас были много толще, к тому же Мусса и Умар связали сотни отдельных коротких концов: одни перетрутся, другие держат. Вязка индейцев, на первый взгляд, казалась нелепой. От носа до кормы идет по спирали одна длинная веревка. Длинная и тонкая. Они наотрез отказались применить веревку толще 14 миллиметров. Дескать, тонкую ровнее натянешь, а если она и лопнет, вязка все равно не распустится, мокрый папирус плотно зажмет ее.
Можно ли положиться на них? А на кого же еще тут положиться? Все члены экипажа понимали, что речь идет о новом эксперименте. Мы могли еще раз испытать чадский способ, внеся те поправки, которые нам подсказала практика, тогда не было бы опять этой неизвестности. Злополучная тетива, соединяющая кормовой завиток с палубой, на месте, и груз сосредоточен на левом борту, в остальном же новая «Ра» была для нас сплошным ребусом. Больше всего мы боялись, как бы тонкая веревка, на которой все держалось, не порвалась, когда нас начнут трепать неистовые волны. К тому же в отличие от «Ра I», которая лежала на воде, как матрас, «Ра II» так сильно качало, что нельзя ни стоять, ни сидеть, не цепляясь за что-нибудь.
В первый же день пришлось натянуть бортовые леера, а то упадешь – и сразу в воду. Пока осадка была небольшой, мы неслись по гребням так, что только брызги летели, в первые сутки прошли 95 морских миль, то есть 177 километров. Мы еле-еле управлялись с огромным парусом. Один раз ветер вырвал шкоты у нас из рук, потом и вовсе их растрепал, и парус длиной 8 метров, шириной 7 метров вверху и 5 внизу, обвис на рее, будто громадный флаг, причем бился и хлопал так, что, казалось, сейчас вся ладья развалится.
Уже в первую ночь мы промчались мимо островка у Могадора, где древние финикийцы добывали пурпур, да так близко, что отчетливо видели все огни в окнах на материке.
На второй день буйные шквалы у берегов Сахары вынудили нас убрать парус, хотя мы и рисковали при этом сломать стройный высокий форштевень. На третий день ветер угомонился. Установился полный штиль, парус совсем перестал работать, и лодка беспомощно дрейфовала зигзагами. Густой туман поглотил берег, и мы, не жалея сил, вертели и крутили тяжеленные рулевые весла и дергали шкоты грузного паруса, ведь стоило потянуть ветерку с моря, и через час-другой нас могло выбросить на прибрежные скалы. Правда, иногда, больше ночью, слабый бриз относил нас подальше от берега.
Но в общем держался штиль. На четвертый день море было как зеркало.
– Мы тонем, – один за другим докладывали ребята.
На тихой воде это сразу бросалось в глаза. Лодка погружалась минимум на десять сантиметров в сутки. Это что-то новое. Ничего подобного не было на «Ра I». Может быть, спиральная вязка индейцев недостаточно крепко сдавила папирус?
Сантьяго взял блокнот и ручку и провел анонимный опрос членов экипажа: пересечем мы Атлантику, или нам не дойти живыми? Двое верили, что пересечем, шестеро считали, что, дело кончится плохо. Не знаю, кто был второй оптимист. Может быть, Норман, он все время твердил, что главное – благополучно миновать мыс Юби, а дальше можно опять предоставить лодке идти по собственному разумению, по Америке не промахнется. А может, Карло, страдающий неизлечимой любовью к «Ра I»; «Ра II», считал он, слишком уж напоминает настоящий парусник.
Мы погружались с пугающей быстротой, и если бы не течение, наверное, совсем не двигались бы с места. Уже на четвертый день Жорж подошел ко мне с непривычно серьезным лицом и сказал, что, по мнению квартирмейстера Сантьяго и шеф-кока Карло, у нас чересчур много провианта и воды, все лишнее надо выбросить за борт. С этими словами он взялся за бурдюк и стал развязывать его, чтобы опорожнить.
– Эй, ты что, это же питьевая вода!
– Лучше ограничить потребление воды, чем затонуть, не доходя Канарских островов. На этот раз мы должны добраться до цели!
– Вали груз за борт, вот потеха будет, – попробовал пошутить Сантьяго, только голос его звучал как-то вяло.
– Долой все продукты, которые надо долго варить, – почти весело предложил Карло. – А то примусы на этот раз совсем дрянные. Один распаялся, другой не хочет гореть как следует.
Из каюты выглянул хмурый Юрий, из-за него на меня смотрели тревожно вопрошающие глаза молчаливого Мадани. Кей стоял на мостике с непроницаемым видом, точно фарфоровая фигурка, ничем не выдавая своих чувств. Норман определял наши координаты.
– Мы погружаемся, – раздельно произнес Юрий. – А в прошлый раз мы уже убедились, что вода взятого не отдает. Надо выбросить все, что можно, сейчас же.
Норман молча слушал с озабоченным видом. Чувствовалось, еще немного, и дойдет до взрыва. Безветрие, папирус тонет. Но ведь в прошлый раз ничего подобного не было. Как бы на этот раз не оказались правы эксперты-домоседы, которые твердили, что мы продержимся на воде от силы две недели. А мы-то нарочно простояли десять дней у плавучей пристани в гавани Сафи, чтобы папирус вобрал побольше воды и этот балласт прибавил остойчивости нашему легкому суденышку с огромным парусом. Сегодня как раз истекли две недели. И папирус уже наполовину ушел под воду.
– Давайте выбросим эти лодки из папируса, которые лежат на носу, – предложил Норман. – Спасаться мы на них все равно не будем, а для съемок у нас есть трехместный надувной плот.
Мы едва успели привязать бутылку с письмом к первой лодке, прежде чем нетерпеливые руки столкнули ее за борт. Вторая, поменьше, отправилась следом так скоро, что к ней уже ничего не удалось привязать. Счастливого пути. Они лежали на воде, словно воздушные шары, и их сразу понесло боком к берегу. Думали ли мы, что нашу бутылочную почту найдут через несколько дней на пустынном берегу Сахары. «Ра II» с ее глубокой осадкой шла с течением параллельно суше.
Шлепнулся в воду мешок с картофелем: картошка долго варится. За ним последовали два кувшина с рисом. Мука. Кукуруза. Два мешка неведомо с чем. Корзина из дранок. Лучше голодать, чем тонуть. Отправилась за борт большая часть припасенного для кур зерна. А также большой деревянный брус и доски – материал для ремонта. Еще кувшины. На лице Мадани было написано отчаяние. Кей глядел на парус, оскалив зубы. Море приняло бухту каната. Точильный камень. Молот. Железное копье Жоржа, чтобы сшивать лодку. Поплыли книги и журналы.
Обложки от книг. Каждый грамм важен.
С одной стороны, я был за. С другой стороны, решительно против. Впереди тысячи километров, мы только что начали рейс, при нашей скорости нам нужен провиант не на один месяц, и не только провиант. Но они правы. Мы погружаемся. Почему? Сколько это продлится? Я попробовал внушить сначала себе самому, потом остальным, что лодка перестанет тонуть, как только осадка придет в соответствие с горами груза, который мы второпях нагромоздили на палубе в последний день перед стартом, 17 мая. Сегодня 20 мая. Папирус все глубже уходит в воду.
Юрий решительно принялся разрушать палубу из досок, которые мы привязали к папирусу перед мачтой. Такая славная была палуба. Вчера Сантьяго и Жорж превратили ее в эстраду, исполнили комические пляски и диалоги, и над ровной гладью океана звучал наш громкий смех. Я уговорил Юрия оставить несколько досок, чтобы можно было ходить, не боясь провалиться в желоб между двумя толстыми сигарами из папируса, когда нас снова начнет качать на океанской волне.
Тем временем кто-то, зайдя за каюту, бросил в море наш чудесный египетский чай каркаде – чай, что он весит-то? И керамическая печка с древесным углем отправилась туда же. Туалетная бумага, пакетики с приправами. Все меньше груза.
У меня сжалось горло. Кто-то безрадостно смеялся. Кто-то виновато и огорченно смотрел на меня. Ладно, пусть покуролесят в меру, – хуже, если кому-то будет отравлять душу недобрая мысль о том, что мы не все меры приняли, оттого-де и лодка тонет. Самое опасное – когда у человека душа не на месте.
Гляди, и до кур очередь дошла. Двое ребят вооружились ножом и топором, чтобы обрубить найтовы и отправить за борт курятник целиком. Все равно, мол, без примуса курицу не сваришь. Пришла пора остановить этот погром.
С курами мы расстались, но одну утку Жорж отстоял, и ей было позволено разгуливать по палубе, к великому недовольству Сафи, которой то и дело доставался щипок в зад, как от Симбада I в прошлом году. Обезьянка подросла на несколько дюймов, но осталась все такой же беспечной проказницей, какой была, когда нам подарили ее как талисман перед первым плаванием. Из опустошенного курятника я сделал обеденный столик. Кое-кто был готов и его, и скамейки выбросить в море, дескать, можно держать миски и кружки в руках, но тут решительно восстали два члена экипажа, считавшие, что добрая трапеза – один из главных пунктов распорядка дня.
– И вообще, если мы будем жить по-свински, это подорвет мораль всего экипажа, – заключил опытный военный моряк Норман.
Страсти улеглись. Атмосферу на борту словно разрядил громоотвод, да и места прибавилось, наконец-то можно было по-человечески ходить по палубе, а не карабкаться через вещи. Вот только ветра все нет и нет.
Назавтра – опять штиль, и на другой, и на третий день то же самое. Мы замерли на месте. Погружаться вроде бы перестали, но и плыть никуда не плывем.
– По статистике в этом районе один процент штилей в мае месяце, – сказал Норман, показывая на морскую карту. – Нам за неделю досталось сто процентов.
Попробовали галанить тяжеленными рулевыми веслами – без толку. Но пока опасность миновала. Можно было купаться и наслаждаться жизнью. Канарские острова справа и Африка слева кутались во мглу, но над нами жарило солнце. А вода была такая свежая и прохладная. Вместе с Норманом на привязи плавала утка. Сафи, повиснув на ногах, пыталась дотянуться до водного зеркала.
Да, вода прелесть. Но что такое, черт возьми, – опять эти комки мазута. Ну да, ведь Мадани с первого дня вылавливает сачком образцы. На этот раз мы решили вести систематическое наблюдение, не пропуская ни одного дня. В прошлом году мы замечали грязь только тогда, когда ее было столько, что это бросалось в глаза. Тем не менее доклад с пробами, переданный норвежской делегации в ООН, привлек такое внимание, что был полный смысл провести более тщательное исследование, ведь на «Ра II» до воды было в прямом смысле слова рукой подать. Море с утра до вечера служило нам умывальником, биде, ванной, стаканом для полоскания рта. Хорошо еще, что комки здесь плавали не слишком густо.
Мы ныряли под папирус. Видимость превосходная. Бездна рыбы. Полосатые лоцманы и пятнистые пампано то сновали туда и обратно в тени«Ра», то сбивались в кучу под самым днищем. Папирус – тугой, лоснящийся. Днище новой «Ра» еще сильнее напоминало брюхо кита. Гляди-ка, какой здоровенный групер, не меньше полуметра, и толстяк. Видно, Канарские острова недалеко, такие тяжеловесы обычно держатся вблизи суши. Групер подошел к нам и обнюхал маску Жоржа. А к моей руке маленьким полосатым цеппелином скользнула рыба-лоцман сантиметров на двадцать. Сантьяго прав; рыба только на поверхности плавает. А в своей родной стихии она порхает, как птица. Два диковинных создания, смахивающих на чулки, извиваясь, прошли мимо моего носа. Потом что-то круглое вроде медузы. Мы слишком хорошо помнили «португальские военные кораблики» и остерегались всех незнакомых беспозвоночных.
– Акула, здоровенная акула!
Точно, вдали появилась акула. И впрямь крупная, судя по расстоянию между рассекающими водную гладь спинным и хвостовым плавниками. Но «Ра» ее не заинтересовала, и она проследовала дальше, перерезав нам курс.
Убедившись, как великолепно выглядит подводная часть «Ра II», все воспрянули духом. И корма крепкая. И никакого намека на крен в наветренную сторону. Ни один стебель не отделился. Юрий и Жорж считали даже, что в носовой части осадка чуть уменьшилась; может быть, тропическое солнце выпарило влагу, которую папирус впитал во время качки в первый день. Еще вчера они говорили, что лучше не собираться на баке больше двух-трех человек за раз, не перегружать форштевень, теперь же были не против того, чтобы мы сколотили из уцелевшего материала скамейки и устроили на баке уютную столовую.
Целую неделю плелись мы так зигзагами на юго-запад при тихом ветре то с востока, то с запада, который был не в силах оторвать рею и парус от мачты. Океан, медленно перемещаясь, увлекал нас за собой. Океан не стоял на месте. На глаз незаметно, ведь ладья шла с ним вместе тем же ходом. Наконец и воздух к нам присоединился, сперва как бы нехотя, но у нас появилась надежда, что «Ра» скоро начнет слушаться руля. Прыгая в воду, чтобы искупаться или позабавиться с ручными рыбами, мы обвязывали себя вокруг пояса длинной веревкой: если ветер вдруг прибавит лодке ходу, нас потянет за ней, и мы не отстанем.
В последний день штиля, когда Норман, Сантьяго и Симбад плескались в воде каждый на своем страховочном конце, я тоже нырнул, проплыл под лодкой и лег на спину позагорать на морщинистой поверхности моря. Чистый курорт. Я повернулся на живот. Чудно, как поглядишь на плывущую утку снизу. Я перевел взгляд на идущее рядом со мной диковинное суденышко. Прямо Ноев ковчег. Солома и желтый бамбук. Обезьяна на вантах, голубь на крыше, из каюты торчат голые пятки. Как это все необычно. Парус чуть округлился. От рулевых весел побежала назад легкая рябь. Странно, почему страховочный конец не тянет? Неужели он такой уж длинный? Страховочный конец! Где он? Нету. Пропал. Я и не заметил, как выскользнул из петли. Лежу сам по себе в Атлантическом океане и загораю! «Ра» медленно удалялась, как бы не ушла от меня! Спокойно, «Ра» совсем рядом, правда, я не такой спринтер, как Жорж или Норман, но этот кусок как-нибудь одолею. Одолел. Зацепился пальцами за облегающие скользкий папирус тонкие веревки, подтянулся и влез на борт. Удивительно надежно чувствуешь себя на этих прочных папирусных связках. Никому ничего не сказал, но на всякий случай расстелил на корме слева мешок из сети, который мы изобрели, чтобы и на ходу можно было искупаться за бортом. Кто его знает, не разъест ли мыло папирус, если мы станем мыться на палубе, ведь у нас нет дощатого настила, который можно драить, как на обычных судах, так и останется мыло на стеблях.
Наконец ветер нагрузил парус. Принимая справа северо-восточный пассат, мы до отказа повернули рулевые весла и помчались вперед; земли нигде не было видно. 26 мая Норман, вооруженный секстантом, бумагой и карандашом, спустился с крыши и облегченно вздохнул. По всем данным, мы прошли мыс Юби. Ура! Позади остались береговые скалы – самый опасный противник «Ра». Снова впереди простерся открытый вольный океан, но на этот раз «Ра» держит хвост крючком и толстые, как телеграфный столб, рулевые весла целы и невредимы. На старте все смеялись, глядя на эти здоровенные бревна, дескать, можно было обойтись чем-нибудь потоньше и полегче, ведь папирус сто раз лопнет, прежде чем переломится такая махина.
Никогда нам не было так хорошо на папирусе, как в эти дни. Идя между незримыми берегами, мы обзавелись пестрой коллекцией пернатых, которые обессилено опускались на ладью с неба. Птицы одна за другой приземлялись на рее, на крыше, на рукоятке весла, на папирусных закорючках впереди и сзади. Шутка Карло о том, что мы идем на плавучем гнезде, стала реальностью. Тут были старые знакомые – синицы, ласточки, воробьи домовые и полевые, была одна южанка покрупнее, красавица с изумительным сине-зеленым оперением. Почтовый голубь с кольцом на ноге тихо описал над лодкой несколько кругов, совершил промежуточную посадку на мачте, потом опустился на мостик, где под сенью голубого флага ООН стоял вахтенный. «Голубь мира», – подумали мы все. Уж очень хорошо он сочетался с ооновским флагом. На медном кольце мы прочли: «27773-684-Эспана».
«Ра» превратилась в плавучий зверинец. Под водой нас сопровождала немая верная свита юрких рыб, на палубе и на снастях сидели яркие щебечущие птицы, пили воду из чашек и клевали зерно, предназначавшееся для кур. Но по мере того, как мы начали удаляться от Канарских островов, отдохнувшие гости один за другим расставались с нами. Лишь королева красоты продолжала чахнуть, пока не скончалась. Она была насекомоядная, а у нас для нее даже мухи не нашлось. Зато голубю корм Симбада так пришелся по вкусу, что он располнел, стал совсем ручным и явно настроился идти с нами до Америки.
С рождением ветра «Ра II» как будто еще немного всплыла; казалось, наш огромный парус тянет вверх носовую палубу. Свежий ветер подействовал на ладью, как живая вода, и она принялась наверстывать упущенное.
В открытом океане мы шли со скоростью 60, 70, 80 миль, то есть 110, 130, 150 километров в сутки.
Мало-помалу быт наш вошел в ровную колею. У всех было хорошее настроение, звучали песни и смех. Ничто не требует ремонта. Легкие рулевые вахты. Вкусная пища в глиняных кувшинах. Никаких ограничений, ешь вволю. Четыре превосходных кока. Любой фараон был бы счастлив отведать пряных египетских блюд Жоржа; ни одна гейша не могла бы превзойти в кулинарном искусстве Кея. Пикантный рецепт Мадани – солонина по-берберски, с луком и оливковым маслом, и наконец потрясающая способность Карло придумать что-нибудь вкусненькое, когда не находилось других добровольцев, – недаром нам казалось, что мы бороздим океан, как говорится, с билетом первого папирусного класса.
Когда от паруса на лодку ложилась вечерняя тень, семь веселых загорелых бородачей занимали места за обеденным столом, а восьмой стоял на мостике и крутил толстое весло направляя лодку вслед за заходящим солнцем. Компас указывал на запад. Последние лучи солнца павлиньим хвостом распластывались над горизонтом перед головой нашего золотистого бумажного лебедя, настойчиво следующего по стопам бессмертного Ра былых и нынешних дней. На смену солнцу на траверзе справа появлялись в небе Большая Медведица и Полярная звезда. Старые добрые друзья. Частица нашего маленького мира. Все, как в прошлом году.
Свежий ночной ветер. Пора надевать брюки и свитер. Темный силуэт на фоне тропического неба, словно монах из средневековья, – это Мадани в толстом марокканском халате с капюшоном отбивает поклоны на крыше каюты, молясь аллаху. Трудно представить себе более кроткого и добродушного спутника. Он пошел с нами представителем темнокожей Африки вместо Абдуллы. Правда, не такой черный, но настоящий бербер, из самых темных. Абдулла – единственный член экипажа «Ра I», который, к сожалению, вышел из игры, и решилось это за три дня до старта. Он целый год провел как бы в добровольной эмиграции, ведь у него на родине продолжались распри между его единоверцами-мусульманами на севере и христианскими властями, поддержанными иностранным легионом. Душу Абдуллы раздирала тревога: одна жена тут, другая там, и не дает география наладить семейную жизнь. В одной руке – фотография трех славных ребятишек в Чаде, в другой – телеграмма о том, что любимая жена в Каире только что родила дочь. Кто распутает все эти узлы, если Абдулла опять уйдет в море на папирусе? Счастливо, Абдулла, нам всем будет недоставать тебя.
Не успел он, что называется, выйти за дверь, как из-за стойки администратора нашего отеля с мягкой улыбкой вышел Мадани Аит Уханни. А можно ему пойти с нами? Ему только что предложили выгодную должность в крупной химической фирме в Сафи, к которой перешла гостиница. Его умыкнули из гостиницы семеро постояльцев, семь мореплавателей, которым нужен был африканец взамен Абдуллы.
Мы знали Мадани три дня. Кея никто из нас не видел раньше. Один мой шведский друг отправился в Токио налаживать обмен телевизионными программами. Я попросил его подыскать японского кинооператора, да чтобы нрав был добродушный и здоровье крепкое. И вот в отеле в Сафи появился Кей Охара весь обвешанный кинокамерами жизнерадостный крепыш, великий любитель музыки и дзю-до. Морской опыт? Катался разок на катере в Токийской бухте. И снимал на озере Титикака индейцев на камышовых лодках.
– Ну а ты, Мадани? – озабоченно спросил Норман.
– Ходил один раз на рыбалку, когда только-только переехал в Сафи из Марракеша, но меня укачало за молом, и я сразу вернулся.
– Опять одни сухопутные крабы. – Норман поглядел на меня с легким отчаянием.
– Зато они не уложат груз на папирусной лодке так, как моряки на обыкновенном паруснике, – ответил я. – Лучше иметь дело с людьми, которые сознают свое невежество. Возьми человека, который прыгает с лыжного трамплина, из него трудно сделать хорошего парашютиста, гибкости не хватает.
Оба дебютанта жутко страдали от морской болезни первые два дня, когда буйные волны бросали изящную папирусную лодку, как пустую бутылку. Наконец Аллах и Будда как будто услышали их молитвы, и вопреки всем прогнозам и статистикам установился штиль. А когда снова подул ветер, представители Японии и Марокко уже успели прижиться.
Как и на «Ра I», мы делили поровну все радости и невзгоды, бледнолицые загорали и становились смуглыми, смуглые делались еще смуглее, и никого не интересовали родословные, метрики, членские билеты, паспорта. На носу тесновато, на корме еще теснее, и всего метровый проход по бокам просвечивающей каюты. В каюте так низко, что в рост не встанешь, и так тесно, что ночью надо осторожно поворачиваться, не то угодишь соседу коленкой в живот или локтем по голове. Мы досконально знали, как кто бранится, храпит, ест, острит, правда, мачта и мостик так скрипели и ныли, что в темноте не всегда разберешь, кто повинен в том или ином диковинном звуке.
Мы жили словно в общежитии – никаких тайн, круглые сутки друг у друга под боком и на виду.
Если обычно американцу и русскому редко выпадает случай поближе познакомиться, то на «Ра» двое из них основательно изучили друг друга. Если бы арабы и евреи были естественными врагами, один из членов экипажа исчез бы за бортом. Если бы всевышний допускал только одну веру, у нас на борту разразилась бы религиозная война. Мы представляли вавилонскую смесь речений – восемь языков, но наяву обычно говорили по-английски, по-итальянски и по-французски. В свободные минуты – чаще всего после ужина – мы дискутировали, рассказывали анекдоты и пели хором. Два-три человека пристраивались на нижних перекладинах мачты, остальные сидели вокруг стола, ведь в каюте всегда кто-нибудь спал. Мы обсуждали политику с открытым забралом. Восток и Запад говорили начистоту, и никто не держал наготове заряженный пистолет. Гарпун, топор, рыболовные крючки – вот и все наше оружие. А они применялись для общего блага, ведь мы сидели в одной лодке. Как и большинство людей на земле, мы вместе размышляли о палестинской проблеме, племенных раздорах в Африке, вмешательстве американцев в политическую жизнь Азии, о помощи русских Чехословакии. Никто не раздражался, никто не обижался, никто не повышал голос.
Мы обсуждали религию, и никто не испытывал священного гнева. Копт и католик, протестант и мусульманин, атеист и буддист, вольнодумец и крещеный еврей – для большего разнообразия просто не было места на нашем маленьком ковчеге, где роль Ноя играла обезьяна, а мы, так сказать, олицетворяли зверей. И однако мы обходились без религиозных распрей.
Случалось нам крепко поспорить из-за зубной щетки, чья она, и тогда на разных языках звучали яростные возгласы и брань. В глубине души все люди схожи, какие бы расстояния нас не разделяли. Легко обнаружить, что отличает тебя от меня, еще легче определить общий знаменатель человечества. Мы жили так скученно на борту нашего папирусного ковчега, что хочешь, не хочешь воспринимали один другого как ломти одной ковриги. Мы вместе радовались, вместе досадовали и во всем выручали друг друга, ведь тем самым каждый выручал сам себя. Один рулит, чтобы другой мог спать, стряпает, чтобы остальные могли есть, чинить парус и выбирать шкоты, чтобы все мы быстрее дошли до цели. Каждый был заинтересован в полном благополучии остальных, чтобы у нас хватило сил сообща отражать все угрозы извне.
Шли дни и ночи. Шли недели. Прошел месяц.
– Так и заскучать недолго, – весело пожаловался Карло, берясь за удочку. – Дерево не ломается, веревки не рвутся, совсем нечего чинить, не то что на «Ра I».
Он сел на носу, свесил ноги за борт и наживил крючок летучей рыбкой. Они частенько залетали на палубу. Под лодкой вместе с лоцманами ходили вкусные пампано, и клевали они почти безотказно. Но самая верная и желанная добыча плотоводца – корифена, она же золотая макрель, на этот раз редко нас навещала, а тунцы только весело резвились поодаль, их никакая приманка не соблазняла. Жорж, купаясь, однажды попал в целый косяк серебристых сигар – бонит. Вблизи Африки нас удостоили коротким визитом киты – возможно, та же семья, что в прошлом году. Огромный скат, величиной с мостик «Ра», в могучем прыжке взлетел над волнами и с оглушительным звуком шлепнулся обратно в море, точно блин. Как и в прошлый раз, вокруг лодки носились вперед и назад лихие крепыши – дельфины; лениво извиваясь, проплыл за кормой какой-то сонный жирный угорь длиной с человека и толщиной с бревнышко. А однажды вечером из-под днища «Ра» показался розовый кальмар и, перехватываясь двенадцатью руками, пополз по папирусу к рулевому веслу, потом собрал все свои щупальца в гроздь над головой, включил реактивную тягу и исчез в пучине.
Словом, кое-какая живность в океане еще осталась, хотя мы насчитывали куда больше комков мазута, чем рыб. За первый месяц набралось всего три дня, когда Мадани не видел черных горошин, но в эти дни море слишком бушевало, чтобы можно было наблюдать как следует. 16 июня, через месяц после старта, нас окружала такая грязь, что неприятно умываться. На поверхности воды сплошная пелена больших и маленьких комков величиной от горошины или рисового зернышка до картофелины. Хуже этого было только в водах между Марокко и Канарскими островами; правда, там мы шли с течением в штиль, когда все плавающее на поверхности выделяется особенно четко. 21 мая я записал в дневнике: «Загрязнение ужасающее. Мадани вылавливает темные комки со сливу величиной, обросшие морскими уточками. На некоторых поселились крабики и многоногие рачки. Под вечер гладкое море кругом было сплошь покрыто коричневыми и черными комками асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина».
В этом же районе мы видели несколько кишечнополостных, смахивающих не то на чулок, не то на длинный оранжево-зеленый воздушный шар, а тысячи их сородичей – плоские, опавшие, словно их прокололи булавкой, – плавали мертвые среди мазута. Двое суток шли мы по этой мерзости, которая плыла одним курсом с нами, только медленнее, в сторону Америки.
Потом были случаи, когда разбушевавшиеся волны забрасывали к нам на борт комья с кулак величиной; вода уходила через папирус, как сквозь китовый ус, а грязь оставалась лежать на палубе. Мазут не единственный дар океану от современного человека. Редкий день мы не обнаруживали рядом с нашей «Ра» либо какой-нибудь пластиковый сосуд, либо канистру, либо бутылку, были и менее долговечные изделия – дощечки, пробки и прочий мусор.
Мы прошли 1725 морских миль, и до суши прямо по курсу оставалось 1525 миль, когда «Ра II» вторично очутилась в полосе сплошной грязи. На другой день подул сильный ветер. А еще через день, 18 июня, океан выдал самые большие волны, какие мы видели за оба плавания. Дул крепкий ветер с штормовыми порывами, но параллельные гряды, вздымавшиеся к небу вокруг «Ра», были выше, чем можно ожидать даже при таком ветре. Возможно, на северо-востоке, откуда они шли, разыгрался жестокий шторм.
Поначалу это было только интересно, потом кое-кто из нас встревожился в глубине души, но тревога сменилась удивлением и растущим чувством облегчения, когда мы увидели, как гладко все идет. В конечном счете все вылилось в беспредельное восхищение нашей скорлупкой, которая так ловко переваливала через водяные горы. Стоя на мостике, весь внимание, я непрерывно работал левым рулевым веслом, чтобы принимать волну с кормы. Правое весло было наглухо закреплено и играло роль киля. Я только дивился, как здорово у нас получается. В открытом море курчавые гряды волн ведут себя совсем иначе, чем прибой на мелководье. Вот нас настигает сзади могучий вал, он подкатывается под изогнутый серпом ахтерштевень и поднимает лодку высоко вверх, мы балансируем на самом гребне, тут он обрушивается и бросает нас вперед, и вместе с водой и ветром мы лихо несемся прямо в глубокую сине-зеленую ложбину. Вот когда надо следить, чтобы ладья не развернулась боком.
– Шесть метров. Восемь метров.
Восторг и жуть звучали в голосах ребят, когда они определяли высоту очередной волны.
– Десять метров – выше мачты поднялась!
Десять метров. Мадани изводит морская болезнь. Со всех сторон зловещие тучи и дождевые завесы. Все идет, как положено, все хорошо. Поразительно, как легко «Ра II» перемахивает через беснующиеся волны. Разве что какая-нибудь струйка попадет на палубу, но это ерунда. К счастью, валы катили стройными рядами и с хорошим интервалом, в самый раз по длине и обводам «Ра», строго выдерживая равнение и курс, шеренга за шеренгой. Назад лучше не оглядываться. Кажется, что вдогонку за ладьей несется стеклянная стена, она хочет нас накрыть, а мы спасаемся бегством. Остальные ребята один за другим забрались в каюту. Там ничего не видно, кроме потолка, только слышен оглушительный рев рассвирепевшего океана. Лишь альпинист Карло продолжал сидеть, свесив ноги, на высоком форштевне, как на седле. Его любимое место.
Снова нас взметнуло вверх, ух ты, выше прежнего... И опять покатились вперед, вниз. И вот уже блестящий гребень в белых полосах вырос впереди, обогнал нас и помчался дальше.
– Опять выше мачты! – восторженно крикнул рыжебородый Карло, обнажая белые зубы.
А через несколько минут он отцепил от форштевня свой страховочный конец и побрел, борясь с качкой, в каюту к товарищам. Позже он нам рассказал, что пошли уже не ложбины, а форменные ущелья, и когда «Ра», перевалив через гребень, скатывалась вниз, казалось, что мы сейчас ухнем в бездонную мокрую могилу. Лучше не глядеть.
Кажется, мне скоро сменяться? Я не смел даже на секунду оторвать взгляд от компаса, чтобы лодка не развернулась боком к волнам, но чувствовал, что дело уже идет к четырем. В эту минуту сзади послышалось шипение высоченного гребня. Теперь – держать весло изо всех сил, чтобы лопасть не повернулась. Чудовищный вал взялся за ахтерштевень и начал его поднимать... выше... выше... глядеть на компас, держать курс, лодка должна лежать точно поперек волны, но когда же это кончится, сколько еще этот шипящий исполин будет нас поднимать, когда он уйдет вперед? Наконец бурлящий гребень пошел вдоль бортов... кажется, пронесет... кипящие сугробы пены... Лодка качнулась, сейчас мы пулей ринемся вниз и вперед, словно на оснащенной парусом доске для серфинга... И тут случилось то, чего я больше всего боялся. Что-то грохнуло, раздался жуткий треск ломающегося дерева. Весло дернулось, вся лодка рванулась, и «Ра II», потеряв управление, покатилась левым бортом вперед в ложбину.
Меня словно ударили дубинкой по голове. Секунду я цеплялся за безвестность, потом заставил себя повернуть голову и посмотреть в глаза горькой истине. Рулевое весло! Могучее веретено переломилось пополам, и широкая лопасть болталась за кормой на страховочном конце. Я успел лишь мельком ее разглядеть, как с правого борта на нас обрушились каскады воды, ведь ахтерштевень уже не прикрывал нас.
– Все наверх! Левое рулевое весло сломано! Отдать плавучий якорь, Юрий!
Вся ладья и мостик вместе с ней круто накренились под тяжестью воды, и я скатился боком к закрепленному наглухо правому веслу, чтобы отвязать его. Рев штурмующих каюту волн и громоподобные хлопки обстененного паруса, который стегал мачту, сказали ребятам больше, чем крики с мостика, и вся семерка, без особых слов готовая к бою, высыпала на палубу с обвязанными вокруг пояса страховочными концами.
– Который из якорей?
– Большой.
Я раскрепил правое весло, но твердые уключины вверху и внизу перекосились и не давали его повернуть. На нас обрушился новый вал, за ним еще один. Волны и ветер тянули каждый в свою сторону, и мачта угрожающе трещала.
– Убрать главный парус!
Чтобы ускорить наш ход, Норман недавно поднял на бамбуковой жерди маленький топсель, жердь уже сломалась, и обмякший топсель хлестал по гроту.
– Убрать большой парус, пока не лопнул!
Норман принял на себя командование на носу, сам влез на мачту и обрезал фал топселя. Затем пять человек ухватились за толстый гордень, и семиметровая рея отделилась от верхушки мачты. Но вместо того чтобы идти вниз, тяжелое бревно, увлекаемое огромным парусом, рванулось вперед и вверх, и ребята в десять рук повисли на фале, чтобы грот не уподобился распростертому над волнами воздушному змею. Лодку снова накрыл ревущий каскад.
– Отдать плавучий якорь, черт возьми!
– Волны запутали веревки!
– Отдайте малый якорь пока, не то нас расколошматит вдребезги!
Опять нас накрыло волной. И еще раз, сильнее прежнего. Наше счастье, что лодку развернуло к волне правым бортом, а не левым, где вход в каюту; всю правую стену мы накрыли снаружи брезентом, и море теперь таранило его.
– Малый отдан, – раздался торжествующий голос Карло.
Но малый плавучий якорь слишком слабо тормозил и не мог оттянуть назад корму отяжелевшей ладьи. Юрий и Карло, стоя по пояс в воде, – а время от времени их накрывало с головой, – лихорадочно распутывали запутанный волнами конец от большого парусинового мешка.
– Проверить страховочные концы, всем как следует страховаться!
Наконец заклиненное рулевое весло повернулось на несколько дюймов. Еще немного, еще. А толку чуть. Штормовые порывы били нижней шкаториной грота по верхушке высокого форштевня. Бешеные боксерские удары слева, справа, вот парус зацепился за тонкий крюк, весь форштевень перекосился влево. Голоса тонули в грохоте волн и реве ветра, так что все советы и предложения переводились и передавались по цепочке с мостика на нос и обратно.
– Да спустите вы парус, пока лодку не разорвало в клочья! – кричал я.
Наконец грот рывками пошел вниз.
– Стой! Скорей поднимите парус, пока его волной не подхватило! – закричал Норман.
– Упустим его за борт, потом ни за что не вытащим! – поддержал его Жорж.
Что верно, то верно. Внизу египетский парус был равен ширине палубы – пяти метрам, зато верхняя шкаторина и тяжелая рея достигали в ширину семи метров, и при таком волнении и ветре парус неизбежно будет пойман волнами с двух сторон.
Решение напрашивалось само собой. Мы стали помаленьку спускать парус, но до палубы он не доходил, пять человек, надежно застраховавшись, стояли плечом к плечу и скатывали его на руках. А ведь им еще надо было устоять на ногах в борьбе с ветром, качкой и беснующимися каскадами воды. Колотя и дергая румпель правого весла, я заставлял его дюйм за дюймом поворачиваться, но на курсе это никак не отражалось. Мало-помалу ребята свернули парус на одну треть и закрепили рулон вшитыми в парусину завязками. Теперь надо было спасать лопасть левого весла, которая по-прежнему бешено скакала на привязи, то и дело обрушиваясь всей тяжестью на ахтерштевень. Страховочный конец, удерживающий лопасть, как это показано на египетских фресках, помог нам извлечь ее из воды. Веретено переломилось как раз у нижней уключины. Шестнадцатисантиметровое бревно, настоящий телеграфный столб из крепчайшей сосны, без единого сучка. Мы считали его несокрушимым, а оно переломилось, как спичка. Весь папирус был цел и невредим, ни один стебель не сломался и не отстал. Папирусная связка спружинила лучше, чем бревно, сила Голиафа еще раз проиграла ловкости Давида. Эта осечка показала нам, что мы укрепили рулевое весло вверху и внизу слишком толстой веревкой. Будь веревка потоньше, она лопнула бы первой, сыграв роль предохранителя.
Тяжеленную лопасть, облепленную морскими уточками, вытащил на борт Жорж. Он сорвал с нее подушку из обрезков папируса, которую Норман укрепил на лопасти для лучшей обтекаемости в месте соединения с веретеном, бросил искореженные стебли в воду и стал с интересом наблюдать, что будет. Они утонули. Он никому об этом не сказал и до сих пор не подозревает, что с мостика за его экспериментом следил еще один человек, который опешил не меньше него, и ощутил под ложечкой неприятное сосание. Что случилось с этим папирусом? Может быть, из него выдавило весь воздух? Юрий и Карло стояли спиной к Жоржу, возясь с концом от большого плавучего якоря. Вот и большой пошел за борт, а малый вернулся на палубу, корма начала медленно разворачиваться назад. Но не до конца. Лодка шла с небольшим перекосом, и огромные волны захлестывали нас справа сзади, совсем как это было на «Ра I».
Шторм продолжал бушевать. Выло без десяти девять, надвигалась ночь, когда ребятам удалось частично свернуть парус и осталась ровно половина оранжевого солнечного символа – так выглядел бы закат, если бы тучи его не закрыли. Кстати, не будь туч, мы бы увидели заходящее солнце не прямо по курсу, а немного левее перекошенного форштевня, ведь мы дрейфовали почти боком.
Худо. Совсем худо. Запасных бревен достаточной длины для весла нет. Все лучшие материалы мы выбросили за борт у Канарских островов. Если простоим здесь достаточно долго на плавучем якоре, может быть, бревна нас догонят. Черный юмор. Положение безнадежное. Решения не видно. Спокойной ночи, ребята. Утро вечера мудренее. Стоять на руле незачем: одно весло заклинено, от второго осталось веретено без лопасти. Пусть волны врываются на палубу и скатываются за борт, они не хлынут через дверь в каюту, плавучий якорь будет рулить за нас. А чтобы нас не утопило какое-нибудь судно, поделим ночь на двухчасовые вахты.
В эту ночь было невозможно уснуть. Мы словно опять очутились на «Ра I» и заново переживали те дни, когда море начало брать верх над нами. Многотонные массы воды разбивались о задний правый угол каюты, кругом все бурлило, кипело, булькало, клокотало, будто целая река перекатывалась под плетеным полом, в широкой ложбине между двумя связками папируса, на которых мы шли через океан. Вода металась вперед и назад, лихорадочно отыскивая щели в папирусе, чтобы через них вырваться на волю, но набухшие стебли сомкнулись так плотно, что вода не успевала уйти, как новые каскады врывались на палубу и наполняли ванну до краев.
Я глаз не сомкнул, пока не подошла моя вахта, зато стоило мне сесть на бамбуковую скамеечку у двери и закрепить страховочный конец, как я в ту же секунду уснул. Вдруг что-то меня разбудило, я открыл глаза и увидел летучую мышь, нет, сову, которая металась в воздухе вокруг «Ра», потом устремилась между вантами прямо ко мне, как будто задумала напасть на меня. Но эта ночная гостья скверно летала, она зацепила крылом ванту и упала на скамейку рядом со мной, не успев выставить ноги вперед. Бедняжка. Да ведь это голубь! Наш собственный окольцованный спутник! Адский гул беснующихся волн и хлопающего паруса спугнул его, он решил поискать себе другое убежище, не нашел, вернулся, увидел безлюдный мостик и, боясь одиночества в своей корзине на крыше, спустился к спящему вахтенному. До самого рассвета голубь сидел на вахте рядом с нами, и всю ночь ревущий океан беспрепятственно вторгался на палубу, бил в задний угол каюты и, обогнув ее, скатывался через борт впереди и сзади, так что на подветренный борт доходили только маленькие ручейки, они встречались у наших ног и тоже вливались в море.
Удивительное судно. Одно плохо: корпус его становился герметичным, как у обычной лодки, и вода не поспевала уходить через щели в днище.
На другой день ад продолжался. Смертельно усталые, мы бродили по колено в бурлящей воде, переносили кувшины с наветренной стороны, выбрасывали за борт разбитые амфоры, крепили расшатавшийся груз, натягивали ванты потуже, чинили парусину и ломали голову над тем, как снова сделать ладью управляемой. Она настолько отяжелела от воды и так сильно кренилась к ветру, что полная победа океана была вопросом времени, ведь дерево и папирус скрепляли только тонкие веревки, которые в любую минуту могли лопнуть от такой нагрузки. Толщина веревки, державшей папирус спиральными витками, составляла 14 миллиметров; каюту, мачту и мостик крепила к палубе сплетенная втрое, словно коса, 8-миллиметровая веревка. Индейцы отказались применить толстый трос. Не будь все суставы гибкими и упругими, океан разнес бы нас в клочья так же легко, как он ломает бревна и сгибает сталь.
В первый день шторма волны ничего не могли сделать с плавучей копной, она играючи уходила от всех ударов. Тогда океан пустил в ход другой прием. Он навалился на палубу всем своим весом и давил вниз. Наша осадка начала расти с угрожающей быстротой; во-первых, в длинном углублении между двумя главными связками залегли бесполезным грузом тонны булькающей морской воды, во-вторых, верхняя половина связок, которая до сих пор оставалась сухой и легкой, теперь тоже стала намокать. Скоро весь папирус сплошь пропитается водой и совсем отяжелеет. Каждому было очевидно, что мы тонем. Но никто не выказывал страха, все были полны решимости справиться с этой проблемой. У каждого были свои предложения, они обсуждались, потом единогласно отвергались. Мадани, который не ходил на «Ра I», отвел меня в сторонку и осторожно спросил, угрожает ли нам опасность. Услышав, что пока опасности нет, он снова расплылся в улыбке. Кей, стряхивая морскую воду со своей блестящей черной шевелюры, широко осклабился: он никогда в жизни не представлял себе, что бывают такие волны.
Благодаря плавучему якорю корма во всяком случае развернулась под острым углом к волнам. Убери его – и нас опять повернет так, что мы будем принимать волну всем бортом. Но зато плавучий якорь сковал нас по рукам и ногам, мы почти не трогались с места. Стоим посреди Атлантического океана и тонем, в 1900 морских милях от старта и 1300 милях от финиша.
Двое суток все наши действия сводились к борьбе за свою жизнь и спасение груза. Починить весло оказалось невозможно по ряду причин. По-прежнему нас штурмовали шести-, семиметровые волны, к тому же попадались и десятиметровые исполины. Сидя в каюте, я разрезал обложку одного блокнота и сделал из картона модель, изображающую лопасть, обе части сломанного веретена и мостик, показал две деревянные уключины, удерживающие установленное наискось весло вверху и внизу. Получалось, что, если прикрепить к лопасти верхний, более длинный обломок веретена, рукоятка дотянется до мостика. Мы так и сделали, придумав сообща хитрое устройство, которое позволяло рулевому, стоя в правой части мостика, крутить правое весло рукой, а левое весло поворачивать в одну сторону ногой при помощи веревки, в другую – рукой с помощью длинной бамбуковой палки. Чистая акробатика, причем дело осложнялось тем, что вахтенный должен был еще маневрировать шкотами паруса, закрепленными за перила мостика, потому что рулевые весла не всегда могли справиться с ладьей, так глубоко она осела. И когда «Ра II» не слушалась весел, а ветер и волны грозили развернуть нас боком, всю надежду мы возлагали на парус.
Новое устройство было готово к испытанию вечером второго дня. К этому времени лодка погрузилась так сильно, что страшно смотреть. Всем было очевидно, что нам предстоит основательно потрудиться, чтобы одолеть вторую половину пути. Как только легло на место увечное весло, дела сразу пошли немного лучше. Нам удалось привести корму к волне, после чего мы выбрали плавучий якорь и пошли на запад под зарифленным парусом. На другой день мы отважились поставить полный грот. И снова огромный парус словно приподнял лодку из воды, и мы пошли со скоростью почти три узла, что составляло больше 100 километров в сутки. Правда, палуба была чуть не вровень с водой. По-прежнему через корму переваливали волны, да и на носу, если мы пробовали сесть к столу, как прежде, на скамейках, нас регулярно окатывало водой, и приходилось всем жаться на нижних перекладинах мачты. Сидим и едим, точно птицы на ветке.
– Надо как-то защититься от больших волн, чтобы вода успевала стекать с палубы, а не то мы потонем, – сказал Юрий.
И он принялся натягивать кусок парусины вдоль правого борта от вант вперед, закрепляя его вверху и внизу толстой бечевкой. Остальные рассмеялись.
– Брось, Юрий. Первая же волна разорвет твою тряпку.
Но Юрий твердо настроился довести дело до конца. Очередная волна, захлестнув корму, покатилась вдоль правой стенки вперед, слегка прогнула парусиновую ширму Юрия и ушла за борт. На носовую палубу просочилось лишь несколько струек, все остальное отразила парусина. Юрий торжествующе сел к столу и взялся за вилку. После того, как и вторая, и третья волна отступили перед ширмой, мы, смотря большими глазами на это чудо, спустились со своими тарелками с перекладин и расселись вокруг стола. Вот так Юрий, вот так волшебник, обыкновенной тряпкой остановил океан. Конечно, папирусный хвост принимал главный удар на себя, он рассекал волну надвое, так что парусиновому экрану оставалось только отражать катившие вдоль борта фланги могучего вала.
– Еще парусины!
Мы убрали кусок парусины, которым была накрыта передняя стенка каюты, и сразу изнутри сквозь щели в плетенке стало видно стол, двойную мачту и океан. Потом мы распороли запасной грот. Юрий развесил все лоскуты, и мы очутились как бы за огромным бордово-оранжево-зелено-желтым занавесом. Волны незлобиво подталкивали его, и он колыхался на вантах, словно белье на ветру, пропуская минимальное количество воды.
– Хиппи! Цыгане! – расхохотались Карло и Жорж, спустив на воду трехместный надувной плот, чтобы поснимать нас со стороны.
Над пестрой ширмой торчали наши головы, мы следили за двумя смельчаками, которые то и дело исчезали за гребнями высоких волн.
– Назад! – крикнул я. – Ну-ка, живей переходите на приличную посудину, пока вашу скорлупку не опрокинуло.
Мы и раньше надували наш плот и выходили на съемку, но то было в штиль или при легком волнении, а теперь настолько свыклись с волнами и соленым ветром, что кое-кто начал забывать про осторожность.
Дни и недели бежали взапуски с волнами. За год с небольшим шесть членов экипажа провели вместе в общей сложности почти четыре месяца на папирусных связках. После катастрофы пришлось ограничить потребление воды – пол-литра в день на человека, не считая девяти литров в день на камбуз для общих нужд. Одни кувшины разбились, в другие попала морская вода. И ведь мы сами во время злополучного штиля опорожнили за борт большинство бурдюков, но об этом сейчас лучше было не вспоминать. Да, поспешили, черт возьми.
У Карло соленая вода разъела кожу в паху, и Юрий прописал ему два раза в день мыться пресной водой. Бедняга Карло ухитрялся обходиться одной чашкой. Утка, голубь и обезьяна вместе выпивали в день столько, сколько один человек; Жорж яростно возражал против того, чтобы ни в чем не повинных животных сажали на паек, как людей. Сантьяго тоже был не в блестящей форме, ему перед плаванием делали операцию – камни в почке – и велели избегать соленого, орехов, сушеных овощей, яиц и прочих блюд, преобладавших в нашем меню. Он здорово устал, однако безропотно выполнял свою работу, правда, в свободную минуту предпочитал полежать в каюте, в самой глубине, под наблюдением Юрия.
Однажды вечером он вышел из каюты хмурый и сел за стол рядом с нами. Посмотрел на Карло, на Жоржа и сказал:
– Я слышал сквозь стену гнусные обвинения!
Карло обозлился.
– Брось изображать профессора.
– Повкалывал бы лучше с наше, – подхватил Жорж. – А то ведь если и вызовешься подменить уставшего рулевого, так не раньше, чем за десять минут до смены.
И посыпались обвинения. В первом плавании трудяга Карло и беспечный Жорж не очень-то ладили, теперь же они стали закадычными друзьями и вот почему-то оба взъелись на нашего тихого профессора антропологии. Мол, он лежит в углу и психоанализирует других, которые работают. И это его дурацкая идея, чтобы мы опять взяли провиант и воду в кувшинах, вместо консервов и легких канистр с водой. Мы уже доказали, еще на «Ра I», что можно прожить без современной пищи, за каким чертом доказывать это второй раз. И уж если настоял на своем, уговорил нас снова взять больше ста тяжелых кувшинов, то мог бы хоть, как квартирмейстер, получше их привязать, чтобы они не побились, и не пришлось бы нам теперь отмерять воду.
– Кувшины не тяжелее канистр, и если на то пошло – кто вылил в море всю воду из бурдюков?
Разгорелась жаркая словесная перепалка, злые бранные слова давали выход накопившемуся раздражению и отбивали всем нам аппетит. Сидя на перекладине мачты, Сантьяго оборонялся, как мог, но в конце концов сник под сыпавшимися на него со всех сторон ударами.
– Карло, – сказал я. – Ты профессиональный альпинист, у тебя большой экспедиционный опыт. Как ты можешь требовать, чтобы профессор, преподаватель университета, не хуже тебя разбирался в узлах и выполнял тяжелую работу. Ты все равно что безгрешный священник, который требует от других, чтобы они все делали, как он.
Кажется, я не мог придумать худшего оскорбления. Карло медленно встал, весь побагровел и схватился рукой за голову.
– Я – священник?
На секунду он онемел и только глотал воздух. Потом повернулся от меня к Сантьяго и вдруг протянул ему мозолистую ладонь.
– Ладно, ребята, что было – забудем!
Все обменялись рукопожатиями через стол. Норман сбегал за губными гармониками для себя и Кея, Мадани принес свой марокканский барабан, и, когда я через два часа побрел в каюту, чтобы вздремнуть, на носу еще звучала разудалая музыка и песни всех частей света.
Прошлогоднее плавание на «Ра I» превратилось в чистый дрейф уже с первого дня, когда у нас сломались оба рулевых весла. Эксперимент был прекращен недалеко от крайнего в вест-индской цепочке острова Барбадос. На этот раз лодка не утратила своих мореходных качеств, и мы решили идти на тот самый остров, к которому природа собиралась привести нас годом раньше. Поэтому расстояние до финиша мы измеряли числом миль, отделяющих нас от Барбадоса. И с точки зрения попутного ветра и течения это был самый подходящий курс. Правда, рулевым доставалось тяжко, погрузневшая от воды ладья так и норовила развернуться боком.
Отстоишь ночную вахту, и до того измотан, что пальцы не разогнуть. А если лодка все-таки разворачивалась, так что парус обстенивало и волны врывались на борт, Юрина парусина не выдерживала, и тогда на голову злосчастного рулевого сыпалась брань семи голых мореплавателей, которым приходилось, обвязавшись страховочной веревкой, выскакивать во тьму и по пояс в воде тянуть и дергать парус, шкоты, весла, спасать груз. Кое-кому стало невмоготу в одиночку нести ответственность ночной вахты, и мы удвоили число вахтенных, продлив ночное дежурство до трех часов.
Надо что-то придумать, чтобы не маяться так с этим громоздким рулевым устройством.
– Эх, если бы можно было подать вперед мачту, – начал я фантазировать однажды ночью, когда мы с Норманом вместе несли вахту на мостике. – Если парус вынести на самый нос, лодка будет сама собой управлять.
– А что, это мы можем, – радостно сказал Норман. И прямо с утра мы приступили к сложнейшей операции. Нам предстояло наклонить тяжеленную двуногую мачту вперед – тогда и парус переместится к носу.
Норман стесал наискось топором опорную плоскость обоих колен. Затем мы осторожно развязали все двенадцать вант, которые крепили мачту к бортам ладьи. Теперь можно было наклонять 300-килограммовую махину, высотой десять метров. Мы подтянули к носу макушку мачты, а с ней и рею, и, когда опять закрепили ванты, парус, наполнившись ветром, изогнулся дугой впереди высокого форштевня. Рулить сразу стало легче.
С отличной скоростью «Ра II» продолжала идти на запад. И как только подводная часть папируса уравновесила дополнительный груз в виде морской воды на палубе, мы перестали погружаться. Это было в начале шестой недели нашего плавания. Правда, осадка уже увеличилась настолько, что даже в тихую погоду палуба была почти вровень с водой, а папирус вдоль задней стенки каюты начал обрастать морскими уточками.
И каждый день Мадани вылавливал из моря комки мазута.
В один дождливый и шквалистый день парус зацепился за форштевень и перекосил его еще больше, к тому же лопнул шов нижней шкаторины. После днища ладьи парус был для нас всего важнее, и, посовещавшись, мы решили пожертвовать высоким форштевнем. Карло оседлал нос и, не жалея сил, принялся пилить наше гордое судно. На всякий случай мы схватили нос тросом, чтобы вся лодка не рассыпалась, когда вместе с форштевнем будут обрезаны обе веревки, которыми связан корпус. Но индейцы верно говорили: веревку так плотно зажало в витках вокруг малой связки в середине, что мы при всем желании не могли ее вытащить.
Когда верхушка форштевня поддалась пиле вандалов, мы увидели что-то похожее на разрезанную луковицу, настолько сильно были сплющены разбухшие стебли папируса. «Ра II» сразу обрела более современный, строгий вид, и теперь через щели в передней стенке из каюты было видно ниже паруса всю линию горизонта. Ковчег приоткрыл ставни, чтобылегче было высматривать землю.
Через несколько дней мы решили, что крюк ахтерштевня тоже надо спилить. Все равно он, после того как укоротили нос, только мешал держать курс, выступая в роли косого паруса, и к тому же нам надо было избавиться от лишнего веса. Правда, мы не без тревоги перенесли конец тетивы с завитка вниз, на куцый и плоский, как у курицы, хвост, который остался после операции. Но никакие хирургические вмешательства не могли повлиять на поразительную прочность этого суденышка.
Один за другим члены экипажа, обвязавшись страховочным концом, ныряли под лодку и радостно докладывали тем, кто ждал своей очереди, что днище «Ра II» цело и невредимо, связки такие же крепкие и тугие, как прежде, ни один стебель, ни один виток не сместился, единственное изменение – все облепили, словно черно-белые грибочки, моллюски с колышущейся желтой бахромой жабр.
Нашу маленькую радиостанцию мы на этот раз вынимали из ящика гораздо реже, чем в первом плавании. Ведь родные теперь уже не должны так сильно беспокоиться, и не надо их дергать без нужды, достаточно короткого «все в порядке». Но под конец второго месяца, идя с хорошей скоростью, мы уже продвинулись так далеко, что смогли сообщить приблизительно время и место финиша. Ивон тотчас уложила чемодан и вылетела с детьми на Барбадос. Вскоре после этого Норман связался с одним барбадосским радиолюбителем, и мы услышали ее голос. Она задала мне шесть сугубо специальных вопросов о морских организмах, сопровождающих папирусную лодку, а когда я удивился, объяснила, что вопросы составлены руководителем морской биологической экспедиции ООН, базирующейся на Барбадосе.
Мы рассказали про нашу верную подводную свиту, про корифен, которые гонялись за летучими рыбками, про тучи морских птиц из Южной Америки, которые кружили на горизонте на юге и на западе, где над голубым океаном серебристыми ракетами взмывали тунцы. На другой день барбадосский радиолюбитель передал, что нас собирается проведать одно из исследовательских судов ООН.
Двадцать пятого июня к нам на борт залетела коричневая стрекоза. Неужели суша так близко? Или ее подвезло какое-нибудь судно, которое прошло за горизонтом? После того как нас раза два чуть не протаранили у берегов Африки, мы почти не видели пароходов.
«Ра II» полным ходом приближалась к тому району, где мы после заключительных драматических дней прошлогоднего рейса покинули «Ра I». Ребята невольно поежились, когда вахтенный обратил наше внимание на акулу, злобно атаковавшую красный буй, который мы тащили на буксире за кормой на случай, если кто-нибудь упадет за борт. Именно здесь встретили нас акулы в прошлом году. Впрочем, одинокая странница скоро оставила буй в покое и ушла на север. Можно было подумать, что судно, не требующее подводного ремонта, акул не интересует.
Двадцать шестого июня море снова начало бесноваться, и волны гнались за нами, шипя белыми гребнями, как будто нас преследовали снегоочистители, вспарывающие плугом снежную пелену. Сверху нас поливали дождем низкие тучи. Мы смыли с себя соль и слизывали с рук пресную воду. Можно было собрать дождевую воду, но при таком ходе мы рассчитывали обойтись своими запасами.
Утка ковыляла под дождем по крыше и пила из лужиц, а Сафи рвалась в каюту. Правое весло заклинило в уключинах, мы боялись, что оно переломится, но Кей, стоя в воде, раскачал его.
На другой день исчез наш голубь. Последние дни он вел себя беспокойно, описывал все более широкие круги в воздухе над «Ра», но каждый раз возвращался на крышу к блюдечку с зерном. А 27 июня взлетел и уже не вернулся. Потоп пошел на убыль, и ковчег остался без голубя. Без него стало как-то пусто. Уж не почуял ли он землю? Ближайшей сушей была Французская Гвиана на юге. Пернатый путешественник улетел с двумя кольцами, на одном был испанский номер, на другом метка «Ра II».
Двадцать восьмого июня температура воды вдруг поднялась на два градуса, и с того дня мы больше не видели мазута. Может быть, нас подхватила другая ветвь течения? Странно, ведь когда мы годом раньше оставили «Ра I», нас со всех сторон окружали черные комки, а океан совершает непрерывный круговорот между материками.
Двадцать девятого июня мы увидели, что цепочка Сафи свисает в воду, а обезьяны нет. Тревога, аврал! А Сафи, чувствуя себя вольной птицей, сидела на вантах и с чрезвычайно довольным видом глядела на нас свысока. Ни кокосовый орех, ни мед не могли заменить ее вниз, тогда Юрий принес ей любимую резиновую лягушку, зеленое чудовище с огромными красными глазами. Миг – Сафи уже на палубе и схватила игрушку, а Юрий схватил ее. Почти одновременно раздался громкий крик в каюте. Норман установил прямую связь с радистом ооновского исследовательского судна «Каламар» – оно находилось где-то совсем рядом – и нас попросили ночью пускать сигнальные ракеты, чтобы можно было разыскать «Ра II» в беспокойном океане.
В ту ночь нам довелось пережить сильный испуг. 30 июня в 0.30 Норман поднял меня на вахту, я сел в спальном мешке и начал натягивать носки, так как на мостике было сыро и холодно. Вдруг снова послышался голос Нормана, и теперь в нем звучал ужас:
– Иди сюда, скорей! Смотри!
Я нырнул в дверь, сопровождаемый по пятам Сантьяго, вскарабкался на мостик, и через крышу каюты мы уставились в ту сторону, куда показывал Норман.
Чисто конец света. Над горизонтом с левого борта, на северо-западе восходил бледный диск, похожий на призрачную алюминиевую луну. Не отрываясь от воды, он медленно увеличивался в размерах. Правильно расширяющийся полукруг напоминал то ли очень плотную туманность, ярче Млечного пути, то ли шляпку от гриба, которая неотвратимо наступала на нас, все шире захватывая небо. Луна сияла в противоположной стороне, было безоблачно, сверкали звезды. Сперва я подумал, что это световое пятно на фоне влажного ночного воздуха от какого-нибудь мощного прожектора за горизонтом. А может, это атомный гриб, плод чудовищной оплошности людей? Или северное сияние? В конце концов я склонился к тому, что это светящийся дождь космических тел, вторгшихся в земную атмосферу. Тут диск, который уже занял около тридцати градусов черного небосвода, вдруг перестал расти, как-то незаметно растаял и пропал. Так мы и не поняли, что это было.
А затем мы сами устроили фейерверк – жгли красные фальшфейеры и пускали сигнальные ракеты, чтобы обозначить свою позицию «Каламару». Странная ночь, необычная атмосфера. Мы снова услышали по радио голос «Каламара», но там не заметили наших ракет, а когда показывался световой диск, на палубе никого не было.
Утром мы узнали от барбадосского радиолюбителя, что это же явление, но на северо-востоке, наблюдали с многих островов Вест-Индии. Может быть, это взорвалась и сгорела, войдя в атмосферу, какая-нибудь ракетная ступень с мыса Кеннеди? Мы не узнали ответа. Но «уфоисты», охотящиеся за доказательствами существования летающих тарелочек, смешали этот феномен с двумя другими, которые мы наблюдали две ночи подряд несколько раньше, когда на горизонте на северо-западе появлялся оранжевый огонек. В первую ночь это была просто короткая вспышка, а во вторую ночь мы видели каплевидное световое пятно, которое под острым углом нырнуло в море. Мы тотчас оповестили радиолюбителей на континенте, ведь это могли быть сигналы бедствия, но «СОС» никто не передавал, так что скорее всего это сигналили военные суда на маневрах, может быть, всплывшая подводная лодка обозначала свою позицию.
Мы шли на всех парусах прямо на запад, а «Каламар» кружил, разыскивая нас. Ракеты приходилось беречь, но мы непрерывно вели наблюдение с мачты. И вот опять взошло солнце, проходит час за часом, и Норман, хлопоча то с секстантом, то с таблицами, то с аварийной радиостанцией, раз за разом докладывает, что «Каламар» совсем рядом... на севере... а теперь на юге... но высокие волны не давали нам возможности обнаружить его. Мы пообедали. Поужинали. И потеряли надежду, что нас найдут. Еще немного, и тропическое солнце уйдет за горизонт 6 часов вечера по местному времени, а на наших часах уже 9, потому что мы только один раз переводили стрелки после старта. И тут впередсмотрящие на обоих судах одновременно произнесли долгожданные слова. С «Каламара» нам передали, что видят парус, а мы разглядели на горизонте за кормой чуть заметное серое пятнышко. Уже смеркалось, когда нас догнал маленький гордый корабль. Вот она, великая минута.
Быстроходный траулер подошел вплотную и приветствовал нас, приспустив развевающийся на мачте голубой флаг ООН. Норман поспешил к двойной мачте и ответил нашим ооновским флагом, от которого осталось две трети, остальное унес шторм. Радость переполняла нас. Взобравшись на мостик, на каюту, на мачту, мы махали руками, кричали, пронзительно дудели в охотничий рог. Команда «Каламара» – черные, коричневые, белые – выстроилась вдоль борта и кричала и махала нам в ответ. На мостике стоял капитан – китаец. А его сосед крикнул в мегафон по-шведски:
– Добро пожаловать на эту сторону океана!
Увидев китайца на мостике, Кей не смог сдержать своих чувств, забрался ко мне на крышу и протянул руку для рукопожатия:
– Спасибо, что взяли меня.
Во всем этом было что-то нереальное. Надо же случиться так, чтобы на этой стороне нас первым встретило ооновское судно! До сих пор я вообще не видел судов под флагом ООН, не считая нашей «Ра».
Тьма поглотила океан, ярко освещенный траулер описал несколько кругов, потом застопорил машину и лег в дрейф на ночь. И вот уже его огни остались где-то позади, мы опять наедине с волнами и нашим тусклым керосиновым фонарем. Уютно, да одиноко.
А затем стихии решили напомнить нам, что плавание еще не окончено. Неожиданно с севера налетел сильный шквал и развернул парус поперек, застигнув вахтенных врасплох. Давление ветра на парус было настолько сильным, что «Ра» накренилась на левый борт и палуба погрузилась в воду. Как-то непривычно было, выскочив из каюты на подветренный борт, сразу же очутиться в воде выше колена, причем это была не просто волна, которая пришла и ушла, – сам океан вторгся к нам и явно не собирался уходить. Впервые за все мои плавания я почувствовал, что опора под моими ногами идет ко дну.
Шум, крики, мелькание карманных фонариков. Мадани по пояс в воде без страховочной веревки. Ширма Юрия с подветренной стороны разорвана в клочья. Но вот ветер вернулся на более привычный для нас румб, подул с востока на запад, и восемь искушенных мореплавателей на папирусе сумели наконец развернуть парус, как положено. «Ра II» спокойно выпрямилась, вода скатилась за борт, и палуба всплыла на поверхность. Правда, три кувшина из тех, что были привязаны с подветренной, защищенной стороны, разбились, и я порезал босые ноги о черепки, пришлось Юрию перевязывать меня. К тому же левый борт опутали блестящие жгучие нити двух «португальских военных корабликов», и Жорж, отправившись по нужде, обжегся так, что понадобилось лечение аммиаком.
Настало утро, но «Каламар» не сразу нас догнал. Никто на траулере не думал, что примитивная лодка из папируса может развить такой ход. Несмотря на все осложнения, мы прошли за сутки 75 морских миль, то есть 140 километров.
С «Каламара» на «Ра» передали почту, мазь для Карло, чудесные барбадосские фрукты и добрую порцию мороженого, которое превратилось в ванильный соус, пока его переправляли к нам на резиновой лодчонке. Двое суток «Каламар» сопровождал нас, потом прибавил ходу и ушел вперед, везя на Барбадос наши приветы.
Мы снова вошли в тот район, где рождаются атлантические ураганы. Начало июля, погода ненадежная. Куда ни глянешь, всюду темные ливневые завесы, и чуть не каждый день порывистые ветры, доходящие до штормовых шквалов, напускали их на нас. Только поспевай отдавать плавучий якорь и спасать парус. Но в целом ветер и течение благоприятствовали нам, и в последние дни мы достигли самой высокой среднесуточной скорости за все плавание, проходя до 81 мили, то есть до 151 километра. То и дело нам попадались суда, плавающие между Северной и Южной Америкой.
Восьмого июля до Барбадоса оставалось всего 200 морских миль, и островные власти выслали навстречу быстроходное судно «Калпеппер», чтобы передать нам свое «добро пожаловать» в эту маленькую независимую часть Британского содружества. В качестве пассажиров на «Калпеппере» находились Ивон и моя старшая дочь Аннет, и встреча должна была состояться ночью, ведь наши координаты были известны.
Но миновала ночь, миновал день, а «Калпеппер» никак не мог нас отыскать среди волн. Погода была далеко не идеальная, и мы услышали, как с судна передают на берег, что волна нешуточная и супруга плотоводца страдает морской болезнью, но храбро настаивает на продолжении поиска. И поиск продолжался. Еще ночь. Еще день. Заканчивались вторые сутки, дело шло к вечеру, до острова оставалось миль 100, и мы уже решили, что дойдем до берега раньше «Калпеппера», когда он вдруг появился на горизонте, правда, не с той стороны, откуда мы его ждали, а позади нас. Широкий, плоский, остойчивый, типично мужской корабль поравнялся с нами, и мы увидели вцепившихся в поручни двух белых женщин, окруженных приветствующей нас чернокожей командой. Если женщины явно старались опознать каждого из косматых загорелых бородачей, неистово махавших им руками с каюты «Ра», то внимание команды «Калпеппера» сосредоточилось на Мадани, которого они приняли за моряка с Барбадоса. И сухопутный краб из Марракеша не ударил лицом в грязь, он забросил удочку, наживив крючок соленой колбасой, и вытащил одну за другой пять пампано да еще какую-то серебристо-зеленую рыбу. Солнце заходило, однако аквалангист Жорж отправился вплавь на «Калпеппер», чтобы совершить вполне позволительный обмен, и получил за свежую рыбу, египетские лепешки и никогда не теряющее своей прелести марокканское селло не столь уж необходимые, но такие желанные апельсины. Он уже приготовился прыгать с кормы в волны, чтобы плыть обратно на «Ра II» по серебристой тропке, которую прочертил на воде прожектор «Калпеппера», когда один из членов команды остановил его и спросил, неужели люди на «Ра» совсем не боятся акул?
– Нет, – бестрепетно ответил Жорж, однако тут же взял свои слова обратно, когда моряк спокойно показал рукой на здоровенную хищницу, которая медленно выплыла из-под судна на световую дорожку.
Наш надувной плот столько терся о кувшины на палубе, что мы не решались спускать его на воду, и пришлось Жоржу ночевать на «Калпеппере», а утром его переправили к нам на металлической лодочке без весел, которую потом подтянули тросом обратно.
Весь следующий день «Калпеппер» шел за нами слева. 12 июля к нам с запада потянулись такие большие стаи морских птиц, что стало очевидно – суша где-то сразу за горизонтом. Было воскресенье, мы с Норманом стояли на мостике – нам досталась вахта с пяти до восьми утра – и предвкушали смену. Скоро поднимутся Кей и Карло и достанут из известковой кашицы последние яйца, чтобы экипаж мог отметить этот день доброй яичницей. А вообще-то у нас было еще вдоволь провианта, больше всего – уложенных в рундуки египетских лепешек, висящих под бамбуковым навесом соленых колбас и окороков, а также кувшинов с селло, этой смесью из муки, миндаля и меда, в которой есть все, что необходимо страннику в пустыне. Мы ни разу не жаловались на голод, и все чувствовали себя превосходно. Но что это? Я схватил Нормана за руку.
– Чувствуешь? – Я втянул носом соленый морской воздух. – Невероятно, я отчетливо слышу запах свежего сена!
Мы продолжали принюхиваться. Пятьдесят семь дней в море... Сантьяго, Карло и остальные присоединились к нам, но только мы, некурящие, явственно ощущали запах. Постой, даже навозом потянуло, чтоб мне провалиться! Типичный деревенский запах. В кромешном мраке мы ничего не видели, но и волны уже вели себя иначе, их ритм изменился, словно им что-то преграждало путь. Мы повернули рулевые весла, приводясь к дующему справа ветру, и старались держать возможно более северный курс. Несмотря на глубокую осадку, наша ладья удивительно хорошо шла бейдевинд.
Все утро Норман, Карло и Сантьяго по очереди лазили на мачту, и в 12.15 мы услышали неистовое «ура»! Норман увидел землю. Сафи визжала, утка бегала по каюте, хлопая крыльями. Весь экипаж, словно мухи, облепил перекладины двуногой мачты, не боясь опрокинуть «Ра II», которая стала остойчивее после того, как большая часть папируса погрузилась в воду. Загудела сирена «Калпеппера». Да, вот она, земля – низкий, плоский берег на северо-западном горизонте. Накануне мы чересчур далеко отклонились на юг. Сделали поправку на течение, которое перед самым островом уходит к северу, и перестарались. Пришлось поворачивать весла и парус в другую сторону, чтобы нас не пронесло мимо Барбадоса. Правда, дальше сплошной цепочкой тянутся другие острова, но на Барбадосе нас ждали родные и друзья. «Ра II» слушалась руля, словно килевое судно. Возможно, продольная ложбина между двумя основными связками играла роль негативного киля. Мы шли почти в полветра, и конец от красного спасательного буя, который мы тащили на буксире, вытянулся совершенно прямо, подтверждая, что нас не сносит, мы идем туда, куда показывает нос, прямо к низкому берегу впереди.
Рассаживаясь вокруг стола, мы знали, что это будет наш последний обед на борту «Ра II». Во второй половине дня в небе послышался гул мотора. Чей-то частный самолет кружил над нами, приветственно качая крыльями. Вслед за ним с острова прилетел самолет побольше, двухмоторный, с премьер-министром Барбадоса на борту. И вот уже четыре летчика кружат над мачтой «Ра», а один из них спикировал так низко, что воздушная волна чуть не обстенила наш парус. Земля поднималась все выше из воды, замелькали солнечные блики в окнах. Уже видно дома, еще и еще. Из окутывающей берег мглы вышли суда, большие и малые, в огромном количестве. Лихо прыгая по гребням, примчался быстроходный катер, в котором сидели жена Нормана, Мери-Энн, и мои младшие дочери – Мариан и Беттина. Суда всевозможных типов. Лица – удивленные, радостные, искаженные морской болезнью. Кое-кто, давясь от смеха, допытывался, неужели мы и вправду пришли из Марокко на «этой штуке». Ведь со стороны было в общем-то видно только плетеную каюту и величественный египетский парус, да еще впереди и сзади торчали из воды куцые пучки папируса. Лоскутная ширма Юрия отнюдь не делала нашу лодку похожей на океанский крейсер.
Мы взяли курс на Бриджтаун – столицу Барбадоса. На финишной прямой «Ра II» эскортировало больше полусотни судов. Кругом сновали парусные яхты, глиссеры, рыбацкие шхуны, всякие увеселительные яхты, один катамаран, один тримаран, полицейский катер, зеленый парусник голливудского вида, оформленный под пиратское судно и битком набитый туристами, не отставал и наш старый знакомый, «Калпеппер», и при виде всего этого бедлама миролюбивый Карло вдруг затосковал по океанскому уединению. Зато Жорж чувствовал себя, как рыба в воде, он зажег наш последний красный фальшфейер и встал с ним на каюте в позе статуи Свободы.
Так закончились плавания на «Ра». У входа в бриджтаунскую гавань нам подали с «Калпеппера» буксирный конец, и мы в последний раз спустили выцветший парус с солнечным диском и свернули его.
В гавани было как в муравейнике. Все улицы битком набиты людьми. Наши часы показывали без пяти семь, но нам пришлось переводить их на барбадосское время, ибо день еще далеко не кончился, как-никак мы прошли 3270 морских миль, или больше 6100 километров от берегов Африки.
Перед тем как пришвартоваться к пристани, восемь членов экипажа улучили минуту и обменялись рукопожатиями. Все мы понимали, что только мирное сотрудничество помогло нам благополучно пересечь океан.
Последний взгляд на покоренную стихию. Океан, с виду такой же безбрежный, как в дни Колумба, как в пору величия финикийцев и ольмеков. Долго ли еще будут в нем резвиться рыбы и киты? Научатся ли люди, пока не поздно, зарывать свой мусор – свой боевой топор, которым они замахнулись на природу? Научатся ли завтрашние поколения снова ценить океан и землю, которые инки называли Мама-Коча и Мама-Альпа – «Мать-Океан» и «Мать-Земля»? А не научатся, так не спасут нас ни мирное сожительство, ни тем более потасовки на борту нашей общей маленькой лодки.
Мы спрыгнули босиком на берег.
Течение продолжало свой путь без нас. Пятьдесят семь дней. 5700 лет. Изменился ли человек? Природа не изменилась. А человек неотделим от природы.
Что такое? Не может быть. Я просыпаюсь в тревоге. Хватаюсь за постель. Она качается. Качка, тряска, плеск воды. Ночь... Может, мне это снится? Разве плавание «Ра» не кончилось? Может, все это был дурной сон – затонувшая корма, срубленная мачта? Или я сейчас сплю и вижу в кошмаре, что мы еще не покинули потрепанную ладью? На минуту я совсем запутался, силясь отделить сон от яви. Но ведь плавание «Ра» позади. Я поклялся себе, что больше никогда не стану затевать ничего подобного. И вот опять. Та же плетеная каюта. Тот же широкий лаз в пустынный мир ветра и рвущихся к ночному небу буйных черно-белых волн. Впереди тот же огромный египетский парус расправил свои широкие плечи на двойной мачте, той самой, которую мы срубили, сзади изящной дугой изогнулся вверх стройный папирусный ахтерштевень, тот самый, который у нас на глазах сник и погрузился в бурлящее море. Все тело разбито усталостью. Руки ноют. Я сел.
Норман, настоящий живой Норман влез в каюту и навел фонарик сперва на меня, потом на торчащую из спального мешка возле меня косматую голову с рыжей бородой:
– Тур и Карло, на вахту, подъем.
Я взял свой фонарик и посветил кругом. Вот и остальные ребята лежат впритирку, еще теснее прежнего. Норман как раз пытался втиснуться на свое место в углу напротив, и все повернулись, как по команде. Сантьяго, Юрий, Жорж, Карло... Но что это за незнакомая голова, жесткие черные волосы, азиатское лицо? Да ведь это Кей. Кей Охара из Японии. Как он очутился на «Ра»?
Ну конечно. Я откинулся на спину и стал натягивать штаны. Плетеный потолок такой низкий, что не встанешь в рост, только-только сидеть можно. Ниже, чем на «Ра I». Вот именно. Теперь все ясно. Это же «Ра II». Я начал все сызнова. Мы опять у берегов Африки, даже мыс Юби не прошли. И не Абдулла ждет смены в темноте на мостике, а другой темнокожий африканец, я еще не успел его узнать как следует, чистокровный бербер по имени Мадани Аит Уханни.
– Подвинься, Карло, ты занял половину моего матраса. А теперь сидишь на моем рукаве.
На мостике – собачий холод, а вообще-то спокойно. Сдернув капюшон, Мадани показал мне, насколько можно отворачивать рулевым веслом от берега, не опасаясь, что ветер с моря обстенит огромный парус. Карло занял пост на крыше каюты и высматривал судовые и береговые огни. Ситуация повторялась: пока мы не отойдем от коварных берегов Сахары и не пересечем маршрут пароходов, следующих нескончаемой чередой вокруг Африки, надо остерегаться опасности со всех сторон.
Но ведь все это мы уже один раз проделали. Так сказать, повторение пройденного, хотя и без полной надежды на успех. Один раз мыс Юби пропустил нас живьем, и вот мы снова дрейфуем в этих водах, и ветер с моря грозит нам все испортить. Почему мы теперь не стартовали южнее мыса Юби? Почему понадобилось снаряжать «Ра II»? Почему я начинаю толстый дневник с первой страницы?
Да, почему?
– Мы должны справиться на этот раз, – пробормотал Карло. – Должны одолеть последние мили до Барбадоса, которые не прошли в том году.
Может быть, это он и другие ребята уговорили меня снова пустить в ход машину? Потому что не хватило каких-то миль, чтобы удовлетворить скептиков? Или виновато любопытство? Желание проверить, а не сумеем ли мы пересечь океан на более прочной папирусной лодке, ведь все-таки есть уже опыт, сделана первая, пробная попытка построить и провести по морю ладью, одни лишь очертания которой были известны по тысячелетним фрескам? Пожалуй, сыграло роль и то, и другое. Меньше года прошло между спуском на воду «Ра I» и «Ра II», а сколько событий произошло за это время. Я познакомился с другими камышовыми лодками. Они сохранились до наших дней там, где на пути из внутреннего Средиземноморья в Атлантику оставили след представители древних культур.
В богатом археологическими памятниками районе обширных Ористанских болот на западе Сардинии мы с Карло Маури ходили вместе с рыбаками на больших камышовых лодках и били рыбу острогой, а на высотах кругом четко выделялись контуры пятитысячелетних нурагьи. Древнейшие из этих великолепных башен археологи связывают с влиянием, которое дошло сюда из внутреннего Средиземноморья почти за три тысячи лет до нашей эры. Но и потом на Сардинии тысячи лет сооружали такие постройки.
Рыбаки сводили нас в наиболее сохранившуюся башню – исполинский цилиндр из поросших мхом огромных блоков, устоявших против всех войн и землетрясений. Стоило мне войти внутрь через низкую дверь и включить карманный фонарик, и у меня возникло чувство, что я здесь уже бывал. Эта замысловатая архитектоника, высокие потолки – ложный свод из тяжелых плит над двойным кольцом узких коридоров, соединенных между собой низкими ходами, которые ведут в центр, к спиральной лестнице, поднимающейся наверх, на смотровую площадку, – все это я уже видел.
Поразительно! Ведь точно по этому принципу майя задолго до прибытия испанцев соорудили свою астрономическую обсерваторию, знаменитую караколе в Чичен-Ице на полуострове Юкатан. Такая же башня стоит рядом с майяской пирамидой, на стенах которой был изображен бой между светлокожими мореплавателями и темнокожими людьми на берегу. Может быть, стоит поискать недостающее звено? Может быть, неведомые наставники майя, ольмеки, тоже так строили?
Поднявшись на смотровую площадку, я увидел ту же картину, какая открывалась глазам сардинских строителей тысячи лет назад: белые гребни прибоя в заливе, а на берегу – золотистые лодки, расставленные для сушки на средиземноморском солнце. Средиземное море – родина древнейших морских экспедиций человека, родина далеких плаваний. И Геркулесовы Столпы – вечно открытые ворота во внешний мир... Эти воды помогли распространению культуры. Мы знаем, что она распространилась по морю из того угла, где встречаются Малая Азия и Египет, на остров Крит. С Крита в Грецию. Из Греции в Италию. Из родины финикийских мореплавателей в Ликсус и другие колонии за Гибралтаром, за тысячи лет до нашей эры.
Лодки из папируса и камыша – древнейшие суда, какими пользовались жители области, где зародилась средиземноморская культура. Лодки, подобные изображенным в искусстве древней Ниневии, до недавнего времени применялись греческими рыбаками на острове Корфу. Их вязали не из папируса, а из стеблей гигантского фенхеля. А назывались они папирелла, хотя ни растения, ни даже слова «папирус» теперь на Корфу не знают. И такие же лодки, правда из другого материала, мы застали у итальянских рыбаков на Сардинии.
Забытые цивилизации... Забытые суда... Египет, Месопотамия, Корфу, Сардиния, Марокко. Да, и Марокко тоже. Как только я увидел, что древние камышовые лодки Сардинии живы и в наше время, мои мысли тотчас обратились к Марокко. Во время моего первого визита тамошний деятель очень уж категорически заявил, что жители поречья знают только деревянные и пластмассовые лодки. Поэтому, приехав в Сафи строить «Ра II», я обратился к моему доброму другу – паше. Он предоставил нам машину и переводчика. В порту Лараш, лежащем в устье Лукуса, мы разговорились с двумя старыми рыбаками, занятыми починкой сети.
Камышовые лодки? Может быть, мы подразумеваем мадиа? Как же, как же! Старый бербер согласился быть нашим проводником, и мы тотчас, что называется, пошли по следу. Два дня мы пытались пробиться на машине через редкий пробковый лес в деревню йолотов, укрывшуюся в глухом уголке побережья. В конце концов мы дошли до нее пешком. Живописные хижины из сучьев, аистовые гнезда на камышовых крышах, козы. Дети и старики: одни семьи – сплошь голубоглазые блондины, другие – негроиды. Ни одного араба. Таким было смешанное коренное население Марокко. По чести, следовало бы определить его как «неопознанное». На деле же светловолосых и черноволосых удобства ради смешали в одно и сунули, как говорится, в один мешок с надписью «берберы».
Маленькое солнечное королевство отгородилось от моря и реки, от скудных пастбищ и скрюченных стволов пробкового дерева мощными заборами из кактуса. Нас провели внутрь. Мадиа? Как же, как же. Все люди старшего поколения, согбенные старцы и беззубые старухи, помнили и шафат, и мадиа, оба вида лодок, которыми пользовались вокруг устья реки Лукус еще несколько десятилетий назад. Два старика тут же изготовили каждый по модели – шафат с обрезанной прямо кормой (на таких лодках переправляли груз через реку) и мадиа, нос и хвост крючком, как в Древнем Египте. Мадиа и с морским прибоем справлялись, размер – какой тебе угодно, и камыш, из которого делали лодки, – кхаб – месяцами сохранял плавучесть. Старики связали небольшую лодку с загнутым вверх носом и обрезанным хвостом, и пять человек вышли на ней в залив, чтобы я мог убедиться в ее поразительной грузоподъемности.
В устье Лукуса, как и на Сардинии, над водами, где уцелели камышовые лодки, возвышаются могучие руины мегалитических сооружений. Ликсус... Откровенно говоря, если бы не охота за камышовыми лодками, я бы ничего не знал о Ликсусе. Древний город так же мало известен моим коллегам-археологам, как и рядовым марокканцам. Специалисты по Египту или Шумеру, тем более по древней Мексике, мало что знают об атлантическом побережье Африки и вовсе не слыхали о памятниках на реке Лукус. У горстки знатоков Марокко пока что хватило времени и средств только на то, чтобы заложить несколько разведочных шурфов и обнажить огромные камни, из которых сложены древнейшие стены Ликсуса. Я забрел сюда, потому что холм с развалинами возвышается над рекой у самой дороги, ведущей из Лараша к пробковому лесу, в котором йолоты вяжут лодки из камыша. От леса до Ликсуса считанные километры, и как раз на одном из рукавов Лукуса, огибающем холм с могучими руинами, камышовые лодки широко употреблялись еще в нынешнем столетии. У подножия холма стояли римские склады, напоминая, что некогда Ликсус был важнейшим атлантическим портом для мореплавателей из Средиземноморья.
Ликсус. Поразительная картина. Впереди – Атлантический океан, сзади – африканский материк, сплошная суша, вплоть до египетского и финикийского приморья, а там и Месопотамия рядом. Оттуда, из далекой Малой Азии через Средиземное море, через Гибралтар, вдоль западного побережья Африки на юг, с женщинами и детьми, с астрономами и зодчими, с гончарами и ткачами, пришли в незапамятные времена колонисты, которых здесь застали римляне, выйдя через тот же Гибралтар. Что говорить, историческая земля.
Здесь, на берегу Атлантики, раскинулся город, такой древний, что римляне называли его Вечным, связывая его с именем Геракла – сына их верховных богов Геры и Зевса, героя греческой и римской мифологии. Самые древние стены, теперь совсем или частично погребенные под мусором, оставленным арабами, берберами, римлянами и финикийцами, настолько внушительны, что могут разжечь любое воображение. На вершину холма подняли огромное количество исполинских плит разной формы и величины, и все они тщательно обтесаны и пригнаны друг к другу, словно в гигантской мозаике, так что все швы прямоугольные, даже если у камня десять или двенадцать граней. Это была та самая специфическая, неповторимая техника, которая уже стала для меня как бы условным знаком, выбитым в камне там, и только там, где некогда были в ходу камышовые лодки, – от острова Пасхи, Перу и Мексики до более древних великих цивилизаций внутреннего Средиземноморья. Ольмеки и доинкские племена владели этой техникой так же безупречно, как древние египтяне и финикийцы, а вот викинги и китайцы, бедуины и индейцы прерий растерялись бы не меньше, чем группа современных ученых, если бы их подвели к скале и предложили соорудить стену по этому принципу, будь они даже вооружены стальным инструментом и знакомы с готовой кладкой.
Ходишь среди опрокинутых и наполовину погребенных мегалитических блоков Солнечного града, видишь знакомую хитроумнейшую своеобразную технику и чувствуешь, как Америка и внутреннее Средиземноморье словно сближаются друг с другом. Ликсус стал как бы связующим звеном и наполовину сократил разделяющий их путь. За много столетий до нашей эры сюда добрались выходцы с дальних берегов Средиземного моря. С добротным снаряжением, отлично подготовленные, на безопасном расстоянии от грозных скал Африки ходили колонисты и торговцы до этого порта и дальше мимо опасного мыса Юби в те далекие времена, когда на противоположной стороне Атлантики появились бородатые ольмеки и начали расчищать площадки в девственном лесу. В ту самую пору, когда средиземноморские каменотесы выходили на запад через Гибралтар, неведомые ольмеки развивали каменотесное искусство и насаждали цивилизацию среди бродячих индейских родов. В устье реки сохранилась классическая камышовая лодка (хотя кругом сколько угодно леса), а невдалеке тогда, как и теперь, проходило мощное океанское течение, то самое, во власти которого мы оказались во второй раз за год.
Я повернул тяжелое рулевое весло еще немного, чтобы у нас был максимум шансов обойти утесы вокруг мыса Юби. Кто нам скажет, сколько судов точно так же сражались с морем в древнейшую пору Ликсуса, стараясь миновать коварные отмели там, где берег Африки поворачивал на юг, к самым дальним колониям финикийцев, лежавшим за мысом Бахадор?
– Во всяком случае на этот-то раз весла выдержат, – усмехнулся я, обращаясь к Карло, и погладил мощный брус левого рулевого весла.
Правое весло было закреплено наглухо толстым тросом.
В прошлый раз тонкие веретена сломались при первой же встрече с океанской волной, и все плавание «Ра I» было, по сути деда, чистым дрейфом.
Папирусный корпус на этот раз тоже был несравненно прочнее. Папирус опять пришлось заготавливать в верховьях Нила, слишком мало его растет в Марокко, где строилась «Ра II».
Добраться до Бола у озера Чад, чтобы привезти оттуда Умара и Муссу, было невозможно. В пустыне опять стало неспокойно. К тому же техника вязки жителей африканских дебрей не оправдала себя в долгом океанском плавании. Через два месяца мы начали терять папирус из связок правого борта, потому что кое-как приделанный ахтерштевень вскоре обвис, и под ударами волн бамбуковая каюта ерзала и пилила веревки, пока не перетерла их, после чего найтовы начали распускаться, словно вязание.
И я решил испытать других лодочных мастеров, которые по сей день вяжут крепкие лодки на древний лад, с загнутым вверх ахтерштевнем такой же высоты, как нос. Таковы камышовые лодки индейцев аймара и кечуа в Боливии и Перу. Кстати, они еще в одном напоминают суда древней Ниневии и Египта. Веревки сплошным кольцом охватывают палубу и днище, в профиль лодка кажется состоящей из одной сплошной связки, тогда как чадские лодки, не имеющие высокого ахтерштевня, набраны из многих связок, соединенных между собой петлями из коротких концов.
Удивительно, что индейцы Южной Америки пользуются приемами, которые гораздо больше отвечают древней технике в странах Средиземноморья, чем способы вязки лодок, сохранившихся в сердце Африки. Может быть, дело в том, что у будума на берегах Чада не было тесной связи с древнейшими цивилизациями. Не то что у индейцев аймара и кечуа на берегах озера Титикака. Предки аймара участвовали в постройке пирамиды Акапана и других мегалитических сооружений Тиауанако – важнейшего доинкского культового центра Америки, возникшего на берегу Титикаки. Это они перевозили тяжеленные плиты на камышовых лодках через озеро. Это они рассказали испанцам, что руководили их строительством белые бородатые люди и что именно исчезнувшие потом творцы древней культуры первыми ходили на лодках такого типа. Самостоятельно работать по камню аймара не научились. Зато они по сей день точно воспроизводят камышовые лодки для рыболовного промысла на озере.
Все участники экспедиции «Ра I» готовы были продолжать эксперимент, и Сантьяго снова оставил свою работу в университете Мехико, чтобы отправиться на Титикаку за лодочными мастерами. Итальянца Марио Буши я негласно попросил отправить своих эфиопских помощников на озеро Тана и еще раз заготовить там двенадцать тонн папируса. Осоку из Эфиопии и строителей из Боливии надо было незаметно доставить в Марокко и работы вести в полной тайне, чтобы я мог без помех написать главы о «Ра I» для книги, которая должна была покрыть растущие расходы на мой эксперимент. Под маркой «бамбук» 12 тонн эфиопского папируса были сгружены в порту Сафи и исчезли. Четверо чистокровных индейцев аймара и боливийский переводчик сошли с самолета в аэропорту Касабланки вместе с Сантьяго и исчезли. Парусина из Египта, готовая плетеная каюта из Италии, древесина для мачт и весел, всевозможные веревки и тросы неприметно прибывали с разных концов в Марокко. И исчезали.
Шестого мая кусок высокой стены, окружающей Сафийский городской питомник, рухнул на землю, и между клумбами и пальмами зарокотал могучий бульдозер, за которым следовала легкая ладья из цветочных стеблей, словно выросшая сама среди пышной зелени.
Так родилась на свет «Ра II». Медленно и чинно она вышла из пролома в стене, как будто огромная бумажная птица вылупилась из яйца. И с величавой степенностью покатила на колесах по тесным городским улочкам, забитым зрителями – арабами и берберами в кафтанах, халатах, под чадрой. Важно выступали полицейские, бежали вприпрыжку босоногие мальчуганы, на деревьях, столбах, в люльке красной технической машины торчали озабоченные садовники и электромонтеры, следя за тем, чтобы ветви и провода не потрепали и не воспламенили сухие папирусные закорючки на носу и на корме нарядной золотистой ладьи, и местное начальство облегченно вздохнуло, когда диковинная конструкция перевалила через железную дорогу и остановилась среди сверкающих свежей краской рыбацких шхун, которые ждали спуска на воду и выхода на весенний промысел сардин.
– Нарекаю тебя «Ра II», – сказала Айша, супруга паши Тайеба Амары, во второй раз за один год брызгая козьим молоком на сухой папирус перед тем, как лодка заскользила вниз.
– Ур-а-а! – грянула толпа на пристани, и по людскому морю прокатилась волна аплодисментов, когда необычное суденышко легло на воду и закружилось, будто и впрямь игрушечный кораблик из бумаги. Многие зрители не сомневались, что оно опрокинется или во всяком случае даст сильный крен, ведь работа-то была кустарная. Мы, кому предстояло плыть на ладье, с великим облегчением смотрели, как ровно она лежит на воде. Команда буксирного судна стояла недвижимо, не веря своим глазам. А в толпе продолжалось ликование.
Но что это? Стой! Помогите! Ай-яй-яй! Паника в толпе, смятение на буксире! Неожиданно с гор налетел сильный шквал, он подхватил бумажный кораблик и погнал его со страшной скоростью от буксирного судна прямо на каменный мол четырехметровой высоты. Звучали вопли и стоны, команды на французском и арабском языках, кто-то закрыл лицо руками, газетчики попрыгали в воду, благо мелко, кто фотографировать, кто спасать лодку, и новокрещенная ладья, совершив полный оборот, со всего маху боднула стенку загнутым вверх ахтерштевнем. Лихая закорючка из папируса приняла удар на себя и сжалась, как пружина. Мне словно вонзили кинжал в сердце. Корма! Которую мы на этот раз так старались сделать крепкой и неуязвимой. Лодка прыгала на волнах. А ведь там каменистое дно. Поди удержи ее, когда такие шквалы. Эксперимент явно кончился, не успев начаться. А впрочем? Кривой ахтерштевень сработал, как стальная пружина, и лодка резиновым мячом отскочила от стенки. Раз. Другой. Деревянная ладья разбилась бы и пошла ко дну. А «Ра» хоть бы что. Только серая ссадина на золотистой коже нескольких стеблей. А ребята на буксире уже поймали конец. И ничего не надо ремонтировать. Дергаясь на ветру влево и вправо, словно бумажный змей на взлете, «Ра II» весело и бодро пошла на буксире к причалу, где нам предстояло устанавливать на ней двойную мачту.
С содроганием вспоминал я, стоя на руле, этот спуск на воду. И в то же время говорил себе, что, если нас выбросит на притаившиеся в ночной мгле Камни и рифы, есть надежда спастись раньше, чем наша копна сена пойдет ко дну. Лодка вышла такая тугая и крепкая, что совсем не прогибалась на волне. «Ра I» извивалась, как угорь. «Ра II» – жесткая, как бейсбольный мяч. Мы все единодушно восхищались гениальной конструкцией индейцев. Безупречные обводы и тонкое решение технических задач как-то не вязались с простым бытом аймара. Похоже, что ни эрудиты, ни профаны, видевшие камышовые лодки, не задумывались о тонкостях древнеиндейской техники, между тем наши опыты показали, что это единственный способ связать лодку так, как показано на рельефах древних средиземноморских культур. При любом другом способе конструкция постепенно расшатывается, а это для веревок гибель.
Четверо молчаливых индейцев – Деметрио, Хосе, Хуан и Паулино – вместе с таким же немногословным боливийским переводчиком, сотрудником Ла-Пасского музея, сеньором Себальосом, прекрасно организовали строительство «Ра II». Им помогало несколько марокканцев, и однако на строительной площадке было так тихо, что я то и дело откладывал в сторону рукопись и выглядывал из палатки. Работа под пальмами кипела, и члены бригады обходились жестами да редкими возгласами на языках аймара, испанском и арабском.
Сначала индейцы сделали из отдельных стеблей папируса две огромных сигары, уложенных в тонкую папирусную циновку, которую сплели так, что концы стеблей были обращены внутрь и сплющены. До того, как их начали стягивать веревками, десятиметровые цилиндры были такие толстые, что без подставки до верху не дотянешься. В проходе между ними сделали в ту же длину третью, гораздо более тонкую сигару, к которой они должны были крепиться. Эта операция проходила так. Длинными – в несколько сот метров – веревками связали тонкое папирусное веретено с толстыми, сперва с одним, потом с другим, спиральной вязкой так, что веревки не соприкасались. Когда индейцы все вместе стали натягивать обе веревки, толстые сигары, все ближе подтягиваясь к тонкой, в конце концов сомкнулись, и она совсем скрылась, образовав как бы незримую сердцевину.
Получился нерасчленимый, словно литой, корпус без узлов и перекрещивающихся веревок, оставалось только удлинить веретена с обоих концов, чтобы нос и корма изящно загнулись вверх. Затем добавили по бокам еще по толстой папирусной колбасе – для перехвата волн и увеличения ширины лодки. После этого мы сами установили десять поперечных брусьев под легкую плетеную каюту, стояки для мостика и две пяты для тяжелой двойной мачты.
И вот готова «Ра II» – 12 метров в длину, 5 в ширину, 2 в толщину. Каюта – длина 4 метра, ширина 2,8 метра; в обтяжку на восемь человек, лежащих по четыре в ряд, ногами друг к другу. «Ра II» оказалась на три метра короче «Ра I», да и в разрезе круглее и тоньше. Меня тревожило, что чуть ли не треть папируса осталась в излишке. Но ни уговоры, ни посулы не могли заставить наших аймарских друзей добавить в конструкцию хотя бы один стебель, поработать над лодкой еще день. Они исчерпали свои возможности и рвались домой, к своим женам на озере Титикака.
– Счастливого плавания и добро пожаловать на остров Сурики, – приветливо сказал Деметрио, сняв вязаную шапочку, когда их творение исчезло через пролом в стене.
– Остров Сурики?
– Ну если не на наш именно островок, то во всяком случае на озеро Титикака.
Аймара явно не очень разбирались в географии. Им было невдомек, что они связали «Ра II» на другой стороне Атлантики и что их родное озеро лежит на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря. Но вязать камышовые лодки они умели, ничего не скажешь; ни один инженер, ни один конструктор, ни один археолог нашего современного мира не смог бы с ними потягаться.
– Твердая, словно из дерева вырезана, – сказал Карло.
Только что мимо нас, совсем рядом, пронесся сверкающий огнями пароход, и мы облегченно вздохнули: пронесло.
– Твердая, как деревянный чурбан, но мы все глубже погружаемся, – добавил он.
– Все образуется, просто у нас много груза по отношению к подводной части папируса.
– Норман говорит, что надо было весь папирус обмазать битумом, как в Библии написано.
– Зачем, ведь воду впитывают только обрезанные концы. А мы на этот раз обмакнули большинство стеблей на два сантиметра в битум.
Но, по чести говоря, я и сам уже склонялся к тому, что, пожалуй, лучше было всю лодку обмазать густым слоем битума. Тогда мы не погрузились бы ни на один сантиметр. Может быть, древние египтяне конопатили папирус под верхней оплеткой, поэтому на фресках лодки не черные, а желтые и зеленые.
После плавания «Ра I» несколько священников прислали мне письма, подчеркивая, что, по библии, Ноев ковчег был проконопачен битумом. И что мать Моисея обмазала битумом папирусный ковчег, в который поместила сына и который дочь фараона потом нашла в зарослях папируса на берегу Нила. Наверное, тут есть доля истины. Битум несложно добыть, он был обиходным товаром в Древнем Египте и Малой Азии. Правда, на «Ра I» мы убедились, что папирус и без битума держится на воде, пока веревки целы.
Веревки. На «Ра I» они у нас были много толще, к тому же Мусса и Умар связали сотни отдельных коротких концов: одни перетрутся, другие держат. Вязка индейцев, на первый взгляд, казалась нелепой. От носа до кормы идет по спирали одна длинная веревка. Длинная и тонкая. Они наотрез отказались применить веревку толще 14 миллиметров. Дескать, тонкую ровнее натянешь, а если она и лопнет, вязка все равно не распустится, мокрый папирус плотно зажмет ее.
Можно ли положиться на них? А на кого же еще тут положиться? Все члены экипажа понимали, что речь идет о новом эксперименте. Мы могли еще раз испытать чадский способ, внеся те поправки, которые нам подсказала практика, тогда не было бы опять этой неизвестности. Злополучная тетива, соединяющая кормовой завиток с палубой, на месте, и груз сосредоточен на левом борту, в остальном же новая «Ра» была для нас сплошным ребусом. Больше всего мы боялись, как бы тонкая веревка, на которой все держалось, не порвалась, когда нас начнут трепать неистовые волны. К тому же в отличие от «Ра I», которая лежала на воде, как матрас, «Ра II» так сильно качало, что нельзя ни стоять, ни сидеть, не цепляясь за что-нибудь.
В первый же день пришлось натянуть бортовые леера, а то упадешь – и сразу в воду. Пока осадка была небольшой, мы неслись по гребням так, что только брызги летели, в первые сутки прошли 95 морских миль, то есть 177 километров. Мы еле-еле управлялись с огромным парусом. Один раз ветер вырвал шкоты у нас из рук, потом и вовсе их растрепал, и парус длиной 8 метров, шириной 7 метров вверху и 5 внизу, обвис на рее, будто громадный флаг, причем бился и хлопал так, что, казалось, сейчас вся ладья развалится.
Уже в первую ночь мы промчались мимо островка у Могадора, где древние финикийцы добывали пурпур, да так близко, что отчетливо видели все огни в окнах на материке.
На второй день буйные шквалы у берегов Сахары вынудили нас убрать парус, хотя мы и рисковали при этом сломать стройный высокий форштевень. На третий день ветер угомонился. Установился полный штиль, парус совсем перестал работать, и лодка беспомощно дрейфовала зигзагами. Густой туман поглотил берег, и мы, не жалея сил, вертели и крутили тяжеленные рулевые весла и дергали шкоты грузного паруса, ведь стоило потянуть ветерку с моря, и через час-другой нас могло выбросить на прибрежные скалы. Правда, иногда, больше ночью, слабый бриз относил нас подальше от берега.
Но в общем держался штиль. На четвертый день море было как зеркало.
– Мы тонем, – один за другим докладывали ребята.
На тихой воде это сразу бросалось в глаза. Лодка погружалась минимум на десять сантиметров в сутки. Это что-то новое. Ничего подобного не было на «Ра I». Может быть, спиральная вязка индейцев недостаточно крепко сдавила папирус?
Сантьяго взял блокнот и ручку и провел анонимный опрос членов экипажа: пересечем мы Атлантику, или нам не дойти живыми? Двое верили, что пересечем, шестеро считали, что, дело кончится плохо. Не знаю, кто был второй оптимист. Может быть, Норман, он все время твердил, что главное – благополучно миновать мыс Юби, а дальше можно опять предоставить лодке идти по собственному разумению, по Америке не промахнется. А может, Карло, страдающий неизлечимой любовью к «Ра I»; «Ра II», считал он, слишком уж напоминает настоящий парусник.
Мы погружались с пугающей быстротой, и если бы не течение, наверное, совсем не двигались бы с места. Уже на четвертый день Жорж подошел ко мне с непривычно серьезным лицом и сказал, что, по мнению квартирмейстера Сантьяго и шеф-кока Карло, у нас чересчур много провианта и воды, все лишнее надо выбросить за борт. С этими словами он взялся за бурдюк и стал развязывать его, чтобы опорожнить.
– Эй, ты что, это же питьевая вода!
– Лучше ограничить потребление воды, чем затонуть, не доходя Канарских островов. На этот раз мы должны добраться до цели!
– Вали груз за борт, вот потеха будет, – попробовал пошутить Сантьяго, только голос его звучал как-то вяло.
– Долой все продукты, которые надо долго варить, – почти весело предложил Карло. – А то примусы на этот раз совсем дрянные. Один распаялся, другой не хочет гореть как следует.
Из каюты выглянул хмурый Юрий, из-за него на меня смотрели тревожно вопрошающие глаза молчаливого Мадани. Кей стоял на мостике с непроницаемым видом, точно фарфоровая фигурка, ничем не выдавая своих чувств. Норман определял наши координаты.
– Мы погружаемся, – раздельно произнес Юрий. – А в прошлый раз мы уже убедились, что вода взятого не отдает. Надо выбросить все, что можно, сейчас же.
Норман молча слушал с озабоченным видом. Чувствовалось, еще немного, и дойдет до взрыва. Безветрие, папирус тонет. Но ведь в прошлый раз ничего подобного не было. Как бы на этот раз не оказались правы эксперты-домоседы, которые твердили, что мы продержимся на воде от силы две недели. А мы-то нарочно простояли десять дней у плавучей пристани в гавани Сафи, чтобы папирус вобрал побольше воды и этот балласт прибавил остойчивости нашему легкому суденышку с огромным парусом. Сегодня как раз истекли две недели. И папирус уже наполовину ушел под воду.
– Давайте выбросим эти лодки из папируса, которые лежат на носу, – предложил Норман. – Спасаться мы на них все равно не будем, а для съемок у нас есть трехместный надувной плот.
Мы едва успели привязать бутылку с письмом к первой лодке, прежде чем нетерпеливые руки столкнули ее за борт. Вторая, поменьше, отправилась следом так скоро, что к ней уже ничего не удалось привязать. Счастливого пути. Они лежали на воде, словно воздушные шары, и их сразу понесло боком к берегу. Думали ли мы, что нашу бутылочную почту найдут через несколько дней на пустынном берегу Сахары. «Ра II» с ее глубокой осадкой шла с течением параллельно суше.
Шлепнулся в воду мешок с картофелем: картошка долго варится. За ним последовали два кувшина с рисом. Мука. Кукуруза. Два мешка неведомо с чем. Корзина из дранок. Лучше голодать, чем тонуть. Отправилась за борт большая часть припасенного для кур зерна. А также большой деревянный брус и доски – материал для ремонта. Еще кувшины. На лице Мадани было написано отчаяние. Кей глядел на парус, оскалив зубы. Море приняло бухту каната. Точильный камень. Молот. Железное копье Жоржа, чтобы сшивать лодку. Поплыли книги и журналы.
Обложки от книг. Каждый грамм важен.
С одной стороны, я был за. С другой стороны, решительно против. Впереди тысячи километров, мы только что начали рейс, при нашей скорости нам нужен провиант не на один месяц, и не только провиант. Но они правы. Мы погружаемся. Почему? Сколько это продлится? Я попробовал внушить сначала себе самому, потом остальным, что лодка перестанет тонуть, как только осадка придет в соответствие с горами груза, который мы второпях нагромоздили на палубе в последний день перед стартом, 17 мая. Сегодня 20 мая. Папирус все глубже уходит в воду.
Юрий решительно принялся разрушать палубу из досок, которые мы привязали к папирусу перед мачтой. Такая славная была палуба. Вчера Сантьяго и Жорж превратили ее в эстраду, исполнили комические пляски и диалоги, и над ровной гладью океана звучал наш громкий смех. Я уговорил Юрия оставить несколько досок, чтобы можно было ходить, не боясь провалиться в желоб между двумя толстыми сигарами из папируса, когда нас снова начнет качать на океанской волне.
Тем временем кто-то, зайдя за каюту, бросил в море наш чудесный египетский чай каркаде – чай, что он весит-то? И керамическая печка с древесным углем отправилась туда же. Туалетная бумага, пакетики с приправами. Все меньше груза.
У меня сжалось горло. Кто-то безрадостно смеялся. Кто-то виновато и огорченно смотрел на меня. Ладно, пусть покуролесят в меру, – хуже, если кому-то будет отравлять душу недобрая мысль о том, что мы не все меры приняли, оттого-де и лодка тонет. Самое опасное – когда у человека душа не на месте.
Гляди, и до кур очередь дошла. Двое ребят вооружились ножом и топором, чтобы обрубить найтовы и отправить за борт курятник целиком. Все равно, мол, без примуса курицу не сваришь. Пришла пора остановить этот погром.
С курами мы расстались, но одну утку Жорж отстоял, и ей было позволено разгуливать по палубе, к великому недовольству Сафи, которой то и дело доставался щипок в зад, как от Симбада I в прошлом году. Обезьянка подросла на несколько дюймов, но осталась все такой же беспечной проказницей, какой была, когда нам подарили ее как талисман перед первым плаванием. Из опустошенного курятника я сделал обеденный столик. Кое-кто был готов и его, и скамейки выбросить в море, дескать, можно держать миски и кружки в руках, но тут решительно восстали два члена экипажа, считавшие, что добрая трапеза – один из главных пунктов распорядка дня.
– И вообще, если мы будем жить по-свински, это подорвет мораль всего экипажа, – заключил опытный военный моряк Норман.
Страсти улеглись. Атмосферу на борту словно разрядил громоотвод, да и места прибавилось, наконец-то можно было по-человечески ходить по палубе, а не карабкаться через вещи. Вот только ветра все нет и нет.
Назавтра – опять штиль, и на другой, и на третий день то же самое. Мы замерли на месте. Погружаться вроде бы перестали, но и плыть никуда не плывем.
– По статистике в этом районе один процент штилей в мае месяце, – сказал Норман, показывая на морскую карту. – Нам за неделю досталось сто процентов.
Попробовали галанить тяжеленными рулевыми веслами – без толку. Но пока опасность миновала. Можно было купаться и наслаждаться жизнью. Канарские острова справа и Африка слева кутались во мглу, но над нами жарило солнце. А вода была такая свежая и прохладная. Вместе с Норманом на привязи плавала утка. Сафи, повиснув на ногах, пыталась дотянуться до водного зеркала.
Да, вода прелесть. Но что такое, черт возьми, – опять эти комки мазута. Ну да, ведь Мадани с первого дня вылавливает сачком образцы. На этот раз мы решили вести систематическое наблюдение, не пропуская ни одного дня. В прошлом году мы замечали грязь только тогда, когда ее было столько, что это бросалось в глаза. Тем не менее доклад с пробами, переданный норвежской делегации в ООН, привлек такое внимание, что был полный смысл провести более тщательное исследование, ведь на «Ра II» до воды было в прямом смысле слова рукой подать. Море с утра до вечера служило нам умывальником, биде, ванной, стаканом для полоскания рта. Хорошо еще, что комки здесь плавали не слишком густо.
Мы ныряли под папирус. Видимость превосходная. Бездна рыбы. Полосатые лоцманы и пятнистые пампано то сновали туда и обратно в тени«Ра», то сбивались в кучу под самым днищем. Папирус – тугой, лоснящийся. Днище новой «Ра» еще сильнее напоминало брюхо кита. Гляди-ка, какой здоровенный групер, не меньше полуметра, и толстяк. Видно, Канарские острова недалеко, такие тяжеловесы обычно держатся вблизи суши. Групер подошел к нам и обнюхал маску Жоржа. А к моей руке маленьким полосатым цеппелином скользнула рыба-лоцман сантиметров на двадцать. Сантьяго прав; рыба только на поверхности плавает. А в своей родной стихии она порхает, как птица. Два диковинных создания, смахивающих на чулки, извиваясь, прошли мимо моего носа. Потом что-то круглое вроде медузы. Мы слишком хорошо помнили «португальские военные кораблики» и остерегались всех незнакомых беспозвоночных.
– Акула, здоровенная акула!
Точно, вдали появилась акула. И впрямь крупная, судя по расстоянию между рассекающими водную гладь спинным и хвостовым плавниками. Но «Ра» ее не заинтересовала, и она проследовала дальше, перерезав нам курс.
Убедившись, как великолепно выглядит подводная часть «Ра II», все воспрянули духом. И корма крепкая. И никакого намека на крен в наветренную сторону. Ни один стебель не отделился. Юрий и Жорж считали даже, что в носовой части осадка чуть уменьшилась; может быть, тропическое солнце выпарило влагу, которую папирус впитал во время качки в первый день. Еще вчера они говорили, что лучше не собираться на баке больше двух-трех человек за раз, не перегружать форштевень, теперь же были не против того, чтобы мы сколотили из уцелевшего материала скамейки и устроили на баке уютную столовую.
Целую неделю плелись мы так зигзагами на юго-запад при тихом ветре то с востока, то с запада, который был не в силах оторвать рею и парус от мачты. Океан, медленно перемещаясь, увлекал нас за собой. Океан не стоял на месте. На глаз незаметно, ведь ладья шла с ним вместе тем же ходом. Наконец и воздух к нам присоединился, сперва как бы нехотя, но у нас появилась надежда, что «Ра» скоро начнет слушаться руля. Прыгая в воду, чтобы искупаться или позабавиться с ручными рыбами, мы обвязывали себя вокруг пояса длинной веревкой: если ветер вдруг прибавит лодке ходу, нас потянет за ней, и мы не отстанем.
В последний день штиля, когда Норман, Сантьяго и Симбад плескались в воде каждый на своем страховочном конце, я тоже нырнул, проплыл под лодкой и лег на спину позагорать на морщинистой поверхности моря. Чистый курорт. Я повернулся на живот. Чудно, как поглядишь на плывущую утку снизу. Я перевел взгляд на идущее рядом со мной диковинное суденышко. Прямо Ноев ковчег. Солома и желтый бамбук. Обезьяна на вантах, голубь на крыше, из каюты торчат голые пятки. Как это все необычно. Парус чуть округлился. От рулевых весел побежала назад легкая рябь. Странно, почему страховочный конец не тянет? Неужели он такой уж длинный? Страховочный конец! Где он? Нету. Пропал. Я и не заметил, как выскользнул из петли. Лежу сам по себе в Атлантическом океане и загораю! «Ра» медленно удалялась, как бы не ушла от меня! Спокойно, «Ра» совсем рядом, правда, я не такой спринтер, как Жорж или Норман, но этот кусок как-нибудь одолею. Одолел. Зацепился пальцами за облегающие скользкий папирус тонкие веревки, подтянулся и влез на борт. Удивительно надежно чувствуешь себя на этих прочных папирусных связках. Никому ничего не сказал, но на всякий случай расстелил на корме слева мешок из сети, который мы изобрели, чтобы и на ходу можно было искупаться за бортом. Кто его знает, не разъест ли мыло папирус, если мы станем мыться на палубе, ведь у нас нет дощатого настила, который можно драить, как на обычных судах, так и останется мыло на стеблях.
Наконец ветер нагрузил парус. Принимая справа северо-восточный пассат, мы до отказа повернули рулевые весла и помчались вперед; земли нигде не было видно. 26 мая Норман, вооруженный секстантом, бумагой и карандашом, спустился с крыши и облегченно вздохнул. По всем данным, мы прошли мыс Юби. Ура! Позади остались береговые скалы – самый опасный противник «Ра». Снова впереди простерся открытый вольный океан, но на этот раз «Ра» держит хвост крючком и толстые, как телеграфный столб, рулевые весла целы и невредимы. На старте все смеялись, глядя на эти здоровенные бревна, дескать, можно было обойтись чем-нибудь потоньше и полегче, ведь папирус сто раз лопнет, прежде чем переломится такая махина.
Никогда нам не было так хорошо на папирусе, как в эти дни. Идя между незримыми берегами, мы обзавелись пестрой коллекцией пернатых, которые обессилено опускались на ладью с неба. Птицы одна за другой приземлялись на рее, на крыше, на рукоятке весла, на папирусных закорючках впереди и сзади. Шутка Карло о том, что мы идем на плавучем гнезде, стала реальностью. Тут были старые знакомые – синицы, ласточки, воробьи домовые и полевые, была одна южанка покрупнее, красавица с изумительным сине-зеленым оперением. Почтовый голубь с кольцом на ноге тихо описал над лодкой несколько кругов, совершил промежуточную посадку на мачте, потом опустился на мостик, где под сенью голубого флага ООН стоял вахтенный. «Голубь мира», – подумали мы все. Уж очень хорошо он сочетался с ооновским флагом. На медном кольце мы прочли: «27773-684-Эспана».
«Ра» превратилась в плавучий зверинец. Под водой нас сопровождала немая верная свита юрких рыб, на палубе и на снастях сидели яркие щебечущие птицы, пили воду из чашек и клевали зерно, предназначавшееся для кур. Но по мере того, как мы начали удаляться от Канарских островов, отдохнувшие гости один за другим расставались с нами. Лишь королева красоты продолжала чахнуть, пока не скончалась. Она была насекомоядная, а у нас для нее даже мухи не нашлось. Зато голубю корм Симбада так пришелся по вкусу, что он располнел, стал совсем ручным и явно настроился идти с нами до Америки.
С рождением ветра «Ра II» как будто еще немного всплыла; казалось, наш огромный парус тянет вверх носовую палубу. Свежий ветер подействовал на ладью, как живая вода, и она принялась наверстывать упущенное.
В открытом океане мы шли со скоростью 60, 70, 80 миль, то есть 110, 130, 150 километров в сутки.
Мало-помалу быт наш вошел в ровную колею. У всех было хорошее настроение, звучали песни и смех. Ничто не требует ремонта. Легкие рулевые вахты. Вкусная пища в глиняных кувшинах. Никаких ограничений, ешь вволю. Четыре превосходных кока. Любой фараон был бы счастлив отведать пряных египетских блюд Жоржа; ни одна гейша не могла бы превзойти в кулинарном искусстве Кея. Пикантный рецепт Мадани – солонина по-берберски, с луком и оливковым маслом, и наконец потрясающая способность Карло придумать что-нибудь вкусненькое, когда не находилось других добровольцев, – недаром нам казалось, что мы бороздим океан, как говорится, с билетом первого папирусного класса.
Когда от паруса на лодку ложилась вечерняя тень, семь веселых загорелых бородачей занимали места за обеденным столом, а восьмой стоял на мостике и крутил толстое весло направляя лодку вслед за заходящим солнцем. Компас указывал на запад. Последние лучи солнца павлиньим хвостом распластывались над горизонтом перед головой нашего золотистого бумажного лебедя, настойчиво следующего по стопам бессмертного Ра былых и нынешних дней. На смену солнцу на траверзе справа появлялись в небе Большая Медведица и Полярная звезда. Старые добрые друзья. Частица нашего маленького мира. Все, как в прошлом году.
Свежий ночной ветер. Пора надевать брюки и свитер. Темный силуэт на фоне тропического неба, словно монах из средневековья, – это Мадани в толстом марокканском халате с капюшоном отбивает поклоны на крыше каюты, молясь аллаху. Трудно представить себе более кроткого и добродушного спутника. Он пошел с нами представителем темнокожей Африки вместо Абдуллы. Правда, не такой черный, но настоящий бербер, из самых темных. Абдулла – единственный член экипажа «Ра I», который, к сожалению, вышел из игры, и решилось это за три дня до старта. Он целый год провел как бы в добровольной эмиграции, ведь у него на родине продолжались распри между его единоверцами-мусульманами на севере и христианскими властями, поддержанными иностранным легионом. Душу Абдуллы раздирала тревога: одна жена тут, другая там, и не дает география наладить семейную жизнь. В одной руке – фотография трех славных ребятишек в Чаде, в другой – телеграмма о том, что любимая жена в Каире только что родила дочь. Кто распутает все эти узлы, если Абдулла опять уйдет в море на папирусе? Счастливо, Абдулла, нам всем будет недоставать тебя.
Не успел он, что называется, выйти за дверь, как из-за стойки администратора нашего отеля с мягкой улыбкой вышел Мадани Аит Уханни. А можно ему пойти с нами? Ему только что предложили выгодную должность в крупной химической фирме в Сафи, к которой перешла гостиница. Его умыкнули из гостиницы семеро постояльцев, семь мореплавателей, которым нужен был африканец взамен Абдуллы.
Мы знали Мадани три дня. Кея никто из нас не видел раньше. Один мой шведский друг отправился в Токио налаживать обмен телевизионными программами. Я попросил его подыскать японского кинооператора, да чтобы нрав был добродушный и здоровье крепкое. И вот в отеле в Сафи появился Кей Охара весь обвешанный кинокамерами жизнерадостный крепыш, великий любитель музыки и дзю-до. Морской опыт? Катался разок на катере в Токийской бухте. И снимал на озере Титикака индейцев на камышовых лодках.
– Ну а ты, Мадани? – озабоченно спросил Норман.
– Ходил один раз на рыбалку, когда только-только переехал в Сафи из Марракеша, но меня укачало за молом, и я сразу вернулся.
– Опять одни сухопутные крабы. – Норман поглядел на меня с легким отчаянием.
– Зато они не уложат груз на папирусной лодке так, как моряки на обыкновенном паруснике, – ответил я. – Лучше иметь дело с людьми, которые сознают свое невежество. Возьми человека, который прыгает с лыжного трамплина, из него трудно сделать хорошего парашютиста, гибкости не хватает.
Оба дебютанта жутко страдали от морской болезни первые два дня, когда буйные волны бросали изящную папирусную лодку, как пустую бутылку. Наконец Аллах и Будда как будто услышали их молитвы, и вопреки всем прогнозам и статистикам установился штиль. А когда снова подул ветер, представители Японии и Марокко уже успели прижиться.
Как и на «Ра I», мы делили поровну все радости и невзгоды, бледнолицые загорали и становились смуглыми, смуглые делались еще смуглее, и никого не интересовали родословные, метрики, членские билеты, паспорта. На носу тесновато, на корме еще теснее, и всего метровый проход по бокам просвечивающей каюты. В каюте так низко, что в рост не встанешь, и так тесно, что ночью надо осторожно поворачиваться, не то угодишь соседу коленкой в живот или локтем по голове. Мы досконально знали, как кто бранится, храпит, ест, острит, правда, мачта и мостик так скрипели и ныли, что в темноте не всегда разберешь, кто повинен в том или ином диковинном звуке.
Мы жили словно в общежитии – никаких тайн, круглые сутки друг у друга под боком и на виду.
Если обычно американцу и русскому редко выпадает случай поближе познакомиться, то на «Ра» двое из них основательно изучили друг друга. Если бы арабы и евреи были естественными врагами, один из членов экипажа исчез бы за бортом. Если бы всевышний допускал только одну веру, у нас на борту разразилась бы религиозная война. Мы представляли вавилонскую смесь речений – восемь языков, но наяву обычно говорили по-английски, по-итальянски и по-французски. В свободные минуты – чаще всего после ужина – мы дискутировали, рассказывали анекдоты и пели хором. Два-три человека пристраивались на нижних перекладинах мачты, остальные сидели вокруг стола, ведь в каюте всегда кто-нибудь спал. Мы обсуждали политику с открытым забралом. Восток и Запад говорили начистоту, и никто не держал наготове заряженный пистолет. Гарпун, топор, рыболовные крючки – вот и все наше оружие. А они применялись для общего блага, ведь мы сидели в одной лодке. Как и большинство людей на земле, мы вместе размышляли о палестинской проблеме, племенных раздорах в Африке, вмешательстве американцев в политическую жизнь Азии, о помощи русских Чехословакии. Никто не раздражался, никто не обижался, никто не повышал голос.
Мы обсуждали религию, и никто не испытывал священного гнева. Копт и католик, протестант и мусульманин, атеист и буддист, вольнодумец и крещеный еврей – для большего разнообразия просто не было места на нашем маленьком ковчеге, где роль Ноя играла обезьяна, а мы, так сказать, олицетворяли зверей. И однако мы обходились без религиозных распрей.
Случалось нам крепко поспорить из-за зубной щетки, чья она, и тогда на разных языках звучали яростные возгласы и брань. В глубине души все люди схожи, какие бы расстояния нас не разделяли. Легко обнаружить, что отличает тебя от меня, еще легче определить общий знаменатель человечества. Мы жили так скученно на борту нашего папирусного ковчега, что хочешь, не хочешь воспринимали один другого как ломти одной ковриги. Мы вместе радовались, вместе досадовали и во всем выручали друг друга, ведь тем самым каждый выручал сам себя. Один рулит, чтобы другой мог спать, стряпает, чтобы остальные могли есть, чинить парус и выбирать шкоты, чтобы все мы быстрее дошли до цели. Каждый был заинтересован в полном благополучии остальных, чтобы у нас хватило сил сообща отражать все угрозы извне.
Шли дни и ночи. Шли недели. Прошел месяц.
– Так и заскучать недолго, – весело пожаловался Карло, берясь за удочку. – Дерево не ломается, веревки не рвутся, совсем нечего чинить, не то что на «Ра I».
Он сел на носу, свесил ноги за борт и наживил крючок летучей рыбкой. Они частенько залетали на палубу. Под лодкой вместе с лоцманами ходили вкусные пампано, и клевали они почти безотказно. Но самая верная и желанная добыча плотоводца – корифена, она же золотая макрель, на этот раз редко нас навещала, а тунцы только весело резвились поодаль, их никакая приманка не соблазняла. Жорж, купаясь, однажды попал в целый косяк серебристых сигар – бонит. Вблизи Африки нас удостоили коротким визитом киты – возможно, та же семья, что в прошлом году. Огромный скат, величиной с мостик «Ра», в могучем прыжке взлетел над волнами и с оглушительным звуком шлепнулся обратно в море, точно блин. Как и в прошлый раз, вокруг лодки носились вперед и назад лихие крепыши – дельфины; лениво извиваясь, проплыл за кормой какой-то сонный жирный угорь длиной с человека и толщиной с бревнышко. А однажды вечером из-под днища «Ра» показался розовый кальмар и, перехватываясь двенадцатью руками, пополз по папирусу к рулевому веслу, потом собрал все свои щупальца в гроздь над головой, включил реактивную тягу и исчез в пучине.
Словом, кое-какая живность в океане еще осталась, хотя мы насчитывали куда больше комков мазута, чем рыб. За первый месяц набралось всего три дня, когда Мадани не видел черных горошин, но в эти дни море слишком бушевало, чтобы можно было наблюдать как следует. 16 июня, через месяц после старта, нас окружала такая грязь, что неприятно умываться. На поверхности воды сплошная пелена больших и маленьких комков величиной от горошины или рисового зернышка до картофелины. Хуже этого было только в водах между Марокко и Канарскими островами; правда, там мы шли с течением в штиль, когда все плавающее на поверхности выделяется особенно четко. 21 мая я записал в дневнике: «Загрязнение ужасающее. Мадани вылавливает темные комки со сливу величиной, обросшие морскими уточками. На некоторых поселились крабики и многоногие рачки. Под вечер гладкое море кругом было сплошь покрыто коричневыми и черными комками асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина».
В этом же районе мы видели несколько кишечнополостных, смахивающих не то на чулок, не то на длинный оранжево-зеленый воздушный шар, а тысячи их сородичей – плоские, опавшие, словно их прокололи булавкой, – плавали мертвые среди мазута. Двое суток шли мы по этой мерзости, которая плыла одним курсом с нами, только медленнее, в сторону Америки.
Потом были случаи, когда разбушевавшиеся волны забрасывали к нам на борт комья с кулак величиной; вода уходила через папирус, как сквозь китовый ус, а грязь оставалась лежать на палубе. Мазут не единственный дар океану от современного человека. Редкий день мы не обнаруживали рядом с нашей «Ра» либо какой-нибудь пластиковый сосуд, либо канистру, либо бутылку, были и менее долговечные изделия – дощечки, пробки и прочий мусор.
Мы прошли 1725 морских миль, и до суши прямо по курсу оставалось 1525 миль, когда «Ра II» вторично очутилась в полосе сплошной грязи. На другой день подул сильный ветер. А еще через день, 18 июня, океан выдал самые большие волны, какие мы видели за оба плавания. Дул крепкий ветер с штормовыми порывами, но параллельные гряды, вздымавшиеся к небу вокруг «Ра», были выше, чем можно ожидать даже при таком ветре. Возможно, на северо-востоке, откуда они шли, разыгрался жестокий шторм.
Поначалу это было только интересно, потом кое-кто из нас встревожился в глубине души, но тревога сменилась удивлением и растущим чувством облегчения, когда мы увидели, как гладко все идет. В конечном счете все вылилось в беспредельное восхищение нашей скорлупкой, которая так ловко переваливала через водяные горы. Стоя на мостике, весь внимание, я непрерывно работал левым рулевым веслом, чтобы принимать волну с кормы. Правое весло было наглухо закреплено и играло роль киля. Я только дивился, как здорово у нас получается. В открытом море курчавые гряды волн ведут себя совсем иначе, чем прибой на мелководье. Вот нас настигает сзади могучий вал, он подкатывается под изогнутый серпом ахтерштевень и поднимает лодку высоко вверх, мы балансируем на самом гребне, тут он обрушивается и бросает нас вперед, и вместе с водой и ветром мы лихо несемся прямо в глубокую сине-зеленую ложбину. Вот когда надо следить, чтобы ладья не развернулась боком.
– Шесть метров. Восемь метров.
Восторг и жуть звучали в голосах ребят, когда они определяли высоту очередной волны.
– Десять метров – выше мачты поднялась!
Десять метров. Мадани изводит морская болезнь. Со всех сторон зловещие тучи и дождевые завесы. Все идет, как положено, все хорошо. Поразительно, как легко «Ра II» перемахивает через беснующиеся волны. Разве что какая-нибудь струйка попадет на палубу, но это ерунда. К счастью, валы катили стройными рядами и с хорошим интервалом, в самый раз по длине и обводам «Ра», строго выдерживая равнение и курс, шеренга за шеренгой. Назад лучше не оглядываться. Кажется, что вдогонку за ладьей несется стеклянная стена, она хочет нас накрыть, а мы спасаемся бегством. Остальные ребята один за другим забрались в каюту. Там ничего не видно, кроме потолка, только слышен оглушительный рев рассвирепевшего океана. Лишь альпинист Карло продолжал сидеть, свесив ноги, на высоком форштевне, как на седле. Его любимое место.
Снова нас взметнуло вверх, ух ты, выше прежнего... И опять покатились вперед, вниз. И вот уже блестящий гребень в белых полосах вырос впереди, обогнал нас и помчался дальше.
– Опять выше мачты! – восторженно крикнул рыжебородый Карло, обнажая белые зубы.
А через несколько минут он отцепил от форштевня свой страховочный конец и побрел, борясь с качкой, в каюту к товарищам. Позже он нам рассказал, что пошли уже не ложбины, а форменные ущелья, и когда «Ра», перевалив через гребень, скатывалась вниз, казалось, что мы сейчас ухнем в бездонную мокрую могилу. Лучше не глядеть.
Кажется, мне скоро сменяться? Я не смел даже на секунду оторвать взгляд от компаса, чтобы лодка не развернулась боком к волнам, но чувствовал, что дело уже идет к четырем. В эту минуту сзади послышалось шипение высоченного гребня. Теперь – держать весло изо всех сил, чтобы лопасть не повернулась. Чудовищный вал взялся за ахтерштевень и начал его поднимать... выше... выше... глядеть на компас, держать курс, лодка должна лежать точно поперек волны, но когда же это кончится, сколько еще этот шипящий исполин будет нас поднимать, когда он уйдет вперед? Наконец бурлящий гребень пошел вдоль бортов... кажется, пронесет... кипящие сугробы пены... Лодка качнулась, сейчас мы пулей ринемся вниз и вперед, словно на оснащенной парусом доске для серфинга... И тут случилось то, чего я больше всего боялся. Что-то грохнуло, раздался жуткий треск ломающегося дерева. Весло дернулось, вся лодка рванулась, и «Ра II», потеряв управление, покатилась левым бортом вперед в ложбину.
Меня словно ударили дубинкой по голове. Секунду я цеплялся за безвестность, потом заставил себя повернуть голову и посмотреть в глаза горькой истине. Рулевое весло! Могучее веретено переломилось пополам, и широкая лопасть болталась за кормой на страховочном конце. Я успел лишь мельком ее разглядеть, как с правого борта на нас обрушились каскады воды, ведь ахтерштевень уже не прикрывал нас.
– Все наверх! Левое рулевое весло сломано! Отдать плавучий якорь, Юрий!
Вся ладья и мостик вместе с ней круто накренились под тяжестью воды, и я скатился боком к закрепленному наглухо правому веслу, чтобы отвязать его. Рев штурмующих каюту волн и громоподобные хлопки обстененного паруса, который стегал мачту, сказали ребятам больше, чем крики с мостика, и вся семерка, без особых слов готовая к бою, высыпала на палубу с обвязанными вокруг пояса страховочными концами.
– Который из якорей?
– Большой.
Я раскрепил правое весло, но твердые уключины вверху и внизу перекосились и не давали его повернуть. На нас обрушился новый вал, за ним еще один. Волны и ветер тянули каждый в свою сторону, и мачта угрожающе трещала.
– Убрать главный парус!
Чтобы ускорить наш ход, Норман недавно поднял на бамбуковой жерди маленький топсель, жердь уже сломалась, и обмякший топсель хлестал по гроту.
– Убрать большой парус, пока не лопнул!
Норман принял на себя командование на носу, сам влез на мачту и обрезал фал топселя. Затем пять человек ухватились за толстый гордень, и семиметровая рея отделилась от верхушки мачты. Но вместо того чтобы идти вниз, тяжелое бревно, увлекаемое огромным парусом, рванулось вперед и вверх, и ребята в десять рук повисли на фале, чтобы грот не уподобился распростертому над волнами воздушному змею. Лодку снова накрыл ревущий каскад.
– Отдать плавучий якорь, черт возьми!
– Волны запутали веревки!
– Отдайте малый якорь пока, не то нас расколошматит вдребезги!
Опять нас накрыло волной. И еще раз, сильнее прежнего. Наше счастье, что лодку развернуло к волне правым бортом, а не левым, где вход в каюту; всю правую стену мы накрыли снаружи брезентом, и море теперь таранило его.
– Малый отдан, – раздался торжествующий голос Карло.
Но малый плавучий якорь слишком слабо тормозил и не мог оттянуть назад корму отяжелевшей ладьи. Юрий и Карло, стоя по пояс в воде, – а время от времени их накрывало с головой, – лихорадочно распутывали запутанный волнами конец от большого парусинового мешка.
– Проверить страховочные концы, всем как следует страховаться!
Наконец заклиненное рулевое весло повернулось на несколько дюймов. Еще немного, еще. А толку чуть. Штормовые порывы били нижней шкаториной грота по верхушке высокого форштевня. Бешеные боксерские удары слева, справа, вот парус зацепился за тонкий крюк, весь форштевень перекосился влево. Голоса тонули в грохоте волн и реве ветра, так что все советы и предложения переводились и передавались по цепочке с мостика на нос и обратно.
– Да спустите вы парус, пока лодку не разорвало в клочья! – кричал я.
Наконец грот рывками пошел вниз.
– Стой! Скорей поднимите парус, пока его волной не подхватило! – закричал Норман.
– Упустим его за борт, потом ни за что не вытащим! – поддержал его Жорж.
Что верно, то верно. Внизу египетский парус был равен ширине палубы – пяти метрам, зато верхняя шкаторина и тяжелая рея достигали в ширину семи метров, и при таком волнении и ветре парус неизбежно будет пойман волнами с двух сторон.
Решение напрашивалось само собой. Мы стали помаленьку спускать парус, но до палубы он не доходил, пять человек, надежно застраховавшись, стояли плечом к плечу и скатывали его на руках. А ведь им еще надо было устоять на ногах в борьбе с ветром, качкой и беснующимися каскадами воды. Колотя и дергая румпель правого весла, я заставлял его дюйм за дюймом поворачиваться, но на курсе это никак не отражалось. Мало-помалу ребята свернули парус на одну треть и закрепили рулон вшитыми в парусину завязками. Теперь надо было спасать лопасть левого весла, которая по-прежнему бешено скакала на привязи, то и дело обрушиваясь всей тяжестью на ахтерштевень. Страховочный конец, удерживающий лопасть, как это показано на египетских фресках, помог нам извлечь ее из воды. Веретено переломилось как раз у нижней уключины. Шестнадцатисантиметровое бревно, настоящий телеграфный столб из крепчайшей сосны, без единого сучка. Мы считали его несокрушимым, а оно переломилось, как спичка. Весь папирус был цел и невредим, ни один стебель не сломался и не отстал. Папирусная связка спружинила лучше, чем бревно, сила Голиафа еще раз проиграла ловкости Давида. Эта осечка показала нам, что мы укрепили рулевое весло вверху и внизу слишком толстой веревкой. Будь веревка потоньше, она лопнула бы первой, сыграв роль предохранителя.
Тяжеленную лопасть, облепленную морскими уточками, вытащил на борт Жорж. Он сорвал с нее подушку из обрезков папируса, которую Норман укрепил на лопасти для лучшей обтекаемости в месте соединения с веретеном, бросил искореженные стебли в воду и стал с интересом наблюдать, что будет. Они утонули. Он никому об этом не сказал и до сих пор не подозревает, что с мостика за его экспериментом следил еще один человек, который опешил не меньше него, и ощутил под ложечкой неприятное сосание. Что случилось с этим папирусом? Может быть, из него выдавило весь воздух? Юрий и Карло стояли спиной к Жоржу, возясь с концом от большого плавучего якоря. Вот и большой пошел за борт, а малый вернулся на палубу, корма начала медленно разворачиваться назад. Но не до конца. Лодка шла с небольшим перекосом, и огромные волны захлестывали нас справа сзади, совсем как это было на «Ра I».
Шторм продолжал бушевать. Выло без десяти девять, надвигалась ночь, когда ребятам удалось частично свернуть парус и осталась ровно половина оранжевого солнечного символа – так выглядел бы закат, если бы тучи его не закрыли. Кстати, не будь туч, мы бы увидели заходящее солнце не прямо по курсу, а немного левее перекошенного форштевня, ведь мы дрейфовали почти боком.
Худо. Совсем худо. Запасных бревен достаточной длины для весла нет. Все лучшие материалы мы выбросили за борт у Канарских островов. Если простоим здесь достаточно долго на плавучем якоре, может быть, бревна нас догонят. Черный юмор. Положение безнадежное. Решения не видно. Спокойной ночи, ребята. Утро вечера мудренее. Стоять на руле незачем: одно весло заклинено, от второго осталось веретено без лопасти. Пусть волны врываются на палубу и скатываются за борт, они не хлынут через дверь в каюту, плавучий якорь будет рулить за нас. А чтобы нас не утопило какое-нибудь судно, поделим ночь на двухчасовые вахты.
В эту ночь было невозможно уснуть. Мы словно опять очутились на «Ра I» и заново переживали те дни, когда море начало брать верх над нами. Многотонные массы воды разбивались о задний правый угол каюты, кругом все бурлило, кипело, булькало, клокотало, будто целая река перекатывалась под плетеным полом, в широкой ложбине между двумя связками папируса, на которых мы шли через океан. Вода металась вперед и назад, лихорадочно отыскивая щели в папирусе, чтобы через них вырваться на волю, но набухшие стебли сомкнулись так плотно, что вода не успевала уйти, как новые каскады врывались на палубу и наполняли ванну до краев.
Я глаз не сомкнул, пока не подошла моя вахта, зато стоило мне сесть на бамбуковую скамеечку у двери и закрепить страховочный конец, как я в ту же секунду уснул. Вдруг что-то меня разбудило, я открыл глаза и увидел летучую мышь, нет, сову, которая металась в воздухе вокруг «Ра», потом устремилась между вантами прямо ко мне, как будто задумала напасть на меня. Но эта ночная гостья скверно летала, она зацепила крылом ванту и упала на скамейку рядом со мной, не успев выставить ноги вперед. Бедняжка. Да ведь это голубь! Наш собственный окольцованный спутник! Адский гул беснующихся волн и хлопающего паруса спугнул его, он решил поискать себе другое убежище, не нашел, вернулся, увидел безлюдный мостик и, боясь одиночества в своей корзине на крыше, спустился к спящему вахтенному. До самого рассвета голубь сидел на вахте рядом с нами, и всю ночь ревущий океан беспрепятственно вторгался на палубу, бил в задний угол каюты и, обогнув ее, скатывался через борт впереди и сзади, так что на подветренный борт доходили только маленькие ручейки, они встречались у наших ног и тоже вливались в море.
Удивительное судно. Одно плохо: корпус его становился герметичным, как у обычной лодки, и вода не поспевала уходить через щели в днище.
На другой день ад продолжался. Смертельно усталые, мы бродили по колено в бурлящей воде, переносили кувшины с наветренной стороны, выбрасывали за борт разбитые амфоры, крепили расшатавшийся груз, натягивали ванты потуже, чинили парусину и ломали голову над тем, как снова сделать ладью управляемой. Она настолько отяжелела от воды и так сильно кренилась к ветру, что полная победа океана была вопросом времени, ведь дерево и папирус скрепляли только тонкие веревки, которые в любую минуту могли лопнуть от такой нагрузки. Толщина веревки, державшей папирус спиральными витками, составляла 14 миллиметров; каюту, мачту и мостик крепила к палубе сплетенная втрое, словно коса, 8-миллиметровая веревка. Индейцы отказались применить толстый трос. Не будь все суставы гибкими и упругими, океан разнес бы нас в клочья так же легко, как он ломает бревна и сгибает сталь.
В первый день шторма волны ничего не могли сделать с плавучей копной, она играючи уходила от всех ударов. Тогда океан пустил в ход другой прием. Он навалился на палубу всем своим весом и давил вниз. Наша осадка начала расти с угрожающей быстротой; во-первых, в длинном углублении между двумя главными связками залегли бесполезным грузом тонны булькающей морской воды, во-вторых, верхняя половина связок, которая до сих пор оставалась сухой и легкой, теперь тоже стала намокать. Скоро весь папирус сплошь пропитается водой и совсем отяжелеет. Каждому было очевидно, что мы тонем. Но никто не выказывал страха, все были полны решимости справиться с этой проблемой. У каждого были свои предложения, они обсуждались, потом единогласно отвергались. Мадани, который не ходил на «Ра I», отвел меня в сторонку и осторожно спросил, угрожает ли нам опасность. Услышав, что пока опасности нет, он снова расплылся в улыбке. Кей, стряхивая морскую воду со своей блестящей черной шевелюры, широко осклабился: он никогда в жизни не представлял себе, что бывают такие волны.
Благодаря плавучему якорю корма во всяком случае развернулась под острым углом к волнам. Убери его – и нас опять повернет так, что мы будем принимать волну всем бортом. Но зато плавучий якорь сковал нас по рукам и ногам, мы почти не трогались с места. Стоим посреди Атлантического океана и тонем, в 1900 морских милях от старта и 1300 милях от финиша.
Двое суток все наши действия сводились к борьбе за свою жизнь и спасение груза. Починить весло оказалось невозможно по ряду причин. По-прежнему нас штурмовали шести-, семиметровые волны, к тому же попадались и десятиметровые исполины. Сидя в каюте, я разрезал обложку одного блокнота и сделал из картона модель, изображающую лопасть, обе части сломанного веретена и мостик, показал две деревянные уключины, удерживающие установленное наискось весло вверху и внизу. Получалось, что, если прикрепить к лопасти верхний, более длинный обломок веретена, рукоятка дотянется до мостика. Мы так и сделали, придумав сообща хитрое устройство, которое позволяло рулевому, стоя в правой части мостика, крутить правое весло рукой, а левое весло поворачивать в одну сторону ногой при помощи веревки, в другую – рукой с помощью длинной бамбуковой палки. Чистая акробатика, причем дело осложнялось тем, что вахтенный должен был еще маневрировать шкотами паруса, закрепленными за перила мостика, потому что рулевые весла не всегда могли справиться с ладьей, так глубоко она осела. И когда «Ра II» не слушалась весел, а ветер и волны грозили развернуть нас боком, всю надежду мы возлагали на парус.
Новое устройство было готово к испытанию вечером второго дня. К этому времени лодка погрузилась так сильно, что страшно смотреть. Всем было очевидно, что нам предстоит основательно потрудиться, чтобы одолеть вторую половину пути. Как только легло на место увечное весло, дела сразу пошли немного лучше. Нам удалось привести корму к волне, после чего мы выбрали плавучий якорь и пошли на запад под зарифленным парусом. На другой день мы отважились поставить полный грот. И снова огромный парус словно приподнял лодку из воды, и мы пошли со скоростью почти три узла, что составляло больше 100 километров в сутки. Правда, палуба была чуть не вровень с водой. По-прежнему через корму переваливали волны, да и на носу, если мы пробовали сесть к столу, как прежде, на скамейках, нас регулярно окатывало водой, и приходилось всем жаться на нижних перекладинах мачты. Сидим и едим, точно птицы на ветке.
– Надо как-то защититься от больших волн, чтобы вода успевала стекать с палубы, а не то мы потонем, – сказал Юрий.
И он принялся натягивать кусок парусины вдоль правого борта от вант вперед, закрепляя его вверху и внизу толстой бечевкой. Остальные рассмеялись.
– Брось, Юрий. Первая же волна разорвет твою тряпку.
Но Юрий твердо настроился довести дело до конца. Очередная волна, захлестнув корму, покатилась вдоль правой стенки вперед, слегка прогнула парусиновую ширму Юрия и ушла за борт. На носовую палубу просочилось лишь несколько струек, все остальное отразила парусина. Юрий торжествующе сел к столу и взялся за вилку. После того, как и вторая, и третья волна отступили перед ширмой, мы, смотря большими глазами на это чудо, спустились со своими тарелками с перекладин и расселись вокруг стола. Вот так Юрий, вот так волшебник, обыкновенной тряпкой остановил океан. Конечно, папирусный хвост принимал главный удар на себя, он рассекал волну надвое, так что парусиновому экрану оставалось только отражать катившие вдоль борта фланги могучего вала.
– Еще парусины!
Мы убрали кусок парусины, которым была накрыта передняя стенка каюты, и сразу изнутри сквозь щели в плетенке стало видно стол, двойную мачту и океан. Потом мы распороли запасной грот. Юрий развесил все лоскуты, и мы очутились как бы за огромным бордово-оранжево-зелено-желтым занавесом. Волны незлобиво подталкивали его, и он колыхался на вантах, словно белье на ветру, пропуская минимальное количество воды.
– Хиппи! Цыгане! – расхохотались Карло и Жорж, спустив на воду трехместный надувной плот, чтобы поснимать нас со стороны.
Над пестрой ширмой торчали наши головы, мы следили за двумя смельчаками, которые то и дело исчезали за гребнями высоких волн.
– Назад! – крикнул я. – Ну-ка, живей переходите на приличную посудину, пока вашу скорлупку не опрокинуло.
Мы и раньше надували наш плот и выходили на съемку, но то было в штиль или при легком волнении, а теперь настолько свыклись с волнами и соленым ветром, что кое-кто начал забывать про осторожность.
Дни и недели бежали взапуски с волнами. За год с небольшим шесть членов экипажа провели вместе в общей сложности почти четыре месяца на папирусных связках. После катастрофы пришлось ограничить потребление воды – пол-литра в день на человека, не считая девяти литров в день на камбуз для общих нужд. Одни кувшины разбились, в другие попала морская вода. И ведь мы сами во время злополучного штиля опорожнили за борт большинство бурдюков, но об этом сейчас лучше было не вспоминать. Да, поспешили, черт возьми.
У Карло соленая вода разъела кожу в паху, и Юрий прописал ему два раза в день мыться пресной водой. Бедняга Карло ухитрялся обходиться одной чашкой. Утка, голубь и обезьяна вместе выпивали в день столько, сколько один человек; Жорж яростно возражал против того, чтобы ни в чем не повинных животных сажали на паек, как людей. Сантьяго тоже был не в блестящей форме, ему перед плаванием делали операцию – камни в почке – и велели избегать соленого, орехов, сушеных овощей, яиц и прочих блюд, преобладавших в нашем меню. Он здорово устал, однако безропотно выполнял свою работу, правда, в свободную минуту предпочитал полежать в каюте, в самой глубине, под наблюдением Юрия.
Однажды вечером он вышел из каюты хмурый и сел за стол рядом с нами. Посмотрел на Карло, на Жоржа и сказал:
– Я слышал сквозь стену гнусные обвинения!
Карло обозлился.
– Брось изображать профессора.
– Повкалывал бы лучше с наше, – подхватил Жорж. – А то ведь если и вызовешься подменить уставшего рулевого, так не раньше, чем за десять минут до смены.
И посыпались обвинения. В первом плавании трудяга Карло и беспечный Жорж не очень-то ладили, теперь же они стали закадычными друзьями и вот почему-то оба взъелись на нашего тихого профессора антропологии. Мол, он лежит в углу и психоанализирует других, которые работают. И это его дурацкая идея, чтобы мы опять взяли провиант и воду в кувшинах, вместо консервов и легких канистр с водой. Мы уже доказали, еще на «Ра I», что можно прожить без современной пищи, за каким чертом доказывать это второй раз. И уж если настоял на своем, уговорил нас снова взять больше ста тяжелых кувшинов, то мог бы хоть, как квартирмейстер, получше их привязать, чтобы они не побились, и не пришлось бы нам теперь отмерять воду.
– Кувшины не тяжелее канистр, и если на то пошло – кто вылил в море всю воду из бурдюков?
Разгорелась жаркая словесная перепалка, злые бранные слова давали выход накопившемуся раздражению и отбивали всем нам аппетит. Сидя на перекладине мачты, Сантьяго оборонялся, как мог, но в конце концов сник под сыпавшимися на него со всех сторон ударами.
– Карло, – сказал я. – Ты профессиональный альпинист, у тебя большой экспедиционный опыт. Как ты можешь требовать, чтобы профессор, преподаватель университета, не хуже тебя разбирался в узлах и выполнял тяжелую работу. Ты все равно что безгрешный священник, который требует от других, чтобы они все делали, как он.
Кажется, я не мог придумать худшего оскорбления. Карло медленно встал, весь побагровел и схватился рукой за голову.
– Я – священник?
На секунду он онемел и только глотал воздух. Потом повернулся от меня к Сантьяго и вдруг протянул ему мозолистую ладонь.
– Ладно, ребята, что было – забудем!
Все обменялись рукопожатиями через стол. Норман сбегал за губными гармониками для себя и Кея, Мадани принес свой марокканский барабан, и, когда я через два часа побрел в каюту, чтобы вздремнуть, на носу еще звучала разудалая музыка и песни всех частей света.
Прошлогоднее плавание на «Ра I» превратилось в чистый дрейф уже с первого дня, когда у нас сломались оба рулевых весла. Эксперимент был прекращен недалеко от крайнего в вест-индской цепочке острова Барбадос. На этот раз лодка не утратила своих мореходных качеств, и мы решили идти на тот самый остров, к которому природа собиралась привести нас годом раньше. Поэтому расстояние до финиша мы измеряли числом миль, отделяющих нас от Барбадоса. И с точки зрения попутного ветра и течения это был самый подходящий курс. Правда, рулевым доставалось тяжко, погрузневшая от воды ладья так и норовила развернуться боком.
Отстоишь ночную вахту, и до того измотан, что пальцы не разогнуть. А если лодка все-таки разворачивалась, так что парус обстенивало и волны врывались на борт, Юрина парусина не выдерживала, и тогда на голову злосчастного рулевого сыпалась брань семи голых мореплавателей, которым приходилось, обвязавшись страховочной веревкой, выскакивать во тьму и по пояс в воде тянуть и дергать парус, шкоты, весла, спасать груз. Кое-кому стало невмоготу в одиночку нести ответственность ночной вахты, и мы удвоили число вахтенных, продлив ночное дежурство до трех часов.
Надо что-то придумать, чтобы не маяться так с этим громоздким рулевым устройством.
– Эх, если бы можно было подать вперед мачту, – начал я фантазировать однажды ночью, когда мы с Норманом вместе несли вахту на мостике. – Если парус вынести на самый нос, лодка будет сама собой управлять.
– А что, это мы можем, – радостно сказал Норман. И прямо с утра мы приступили к сложнейшей операции. Нам предстояло наклонить тяжеленную двуногую мачту вперед – тогда и парус переместится к носу.
Норман стесал наискось топором опорную плоскость обоих колен. Затем мы осторожно развязали все двенадцать вант, которые крепили мачту к бортам ладьи. Теперь можно было наклонять 300-килограммовую махину, высотой десять метров. Мы подтянули к носу макушку мачты, а с ней и рею, и, когда опять закрепили ванты, парус, наполнившись ветром, изогнулся дугой впереди высокого форштевня. Рулить сразу стало легче.
С отличной скоростью «Ра II» продолжала идти на запад. И как только подводная часть папируса уравновесила дополнительный груз в виде морской воды на палубе, мы перестали погружаться. Это было в начале шестой недели нашего плавания. Правда, осадка уже увеличилась настолько, что даже в тихую погоду палуба была почти вровень с водой, а папирус вдоль задней стенки каюты начал обрастать морскими уточками.
И каждый день Мадани вылавливал из моря комки мазута.
В один дождливый и шквалистый день парус зацепился за форштевень и перекосил его еще больше, к тому же лопнул шов нижней шкаторины. После днища ладьи парус был для нас всего важнее, и, посовещавшись, мы решили пожертвовать высоким форштевнем. Карло оседлал нос и, не жалея сил, принялся пилить наше гордое судно. На всякий случай мы схватили нос тросом, чтобы вся лодка не рассыпалась, когда вместе с форштевнем будут обрезаны обе веревки, которыми связан корпус. Но индейцы верно говорили: веревку так плотно зажало в витках вокруг малой связки в середине, что мы при всем желании не могли ее вытащить.
Когда верхушка форштевня поддалась пиле вандалов, мы увидели что-то похожее на разрезанную луковицу, настолько сильно были сплющены разбухшие стебли папируса. «Ра II» сразу обрела более современный, строгий вид, и теперь через щели в передней стенке из каюты было видно ниже паруса всю линию горизонта. Ковчег приоткрыл ставни, чтобылегче было высматривать землю.
Через несколько дней мы решили, что крюк ахтерштевня тоже надо спилить. Все равно он, после того как укоротили нос, только мешал держать курс, выступая в роли косого паруса, и к тому же нам надо было избавиться от лишнего веса. Правда, мы не без тревоги перенесли конец тетивы с завитка вниз, на куцый и плоский, как у курицы, хвост, который остался после операции. Но никакие хирургические вмешательства не могли повлиять на поразительную прочность этого суденышка.
Один за другим члены экипажа, обвязавшись страховочным концом, ныряли под лодку и радостно докладывали тем, кто ждал своей очереди, что днище «Ра II» цело и невредимо, связки такие же крепкие и тугие, как прежде, ни один стебель, ни один виток не сместился, единственное изменение – все облепили, словно черно-белые грибочки, моллюски с колышущейся желтой бахромой жабр.
Нашу маленькую радиостанцию мы на этот раз вынимали из ящика гораздо реже, чем в первом плавании. Ведь родные теперь уже не должны так сильно беспокоиться, и не надо их дергать без нужды, достаточно короткого «все в порядке». Но под конец второго месяца, идя с хорошей скоростью, мы уже продвинулись так далеко, что смогли сообщить приблизительно время и место финиша. Ивон тотчас уложила чемодан и вылетела с детьми на Барбадос. Вскоре после этого Норман связался с одним барбадосским радиолюбителем, и мы услышали ее голос. Она задала мне шесть сугубо специальных вопросов о морских организмах, сопровождающих папирусную лодку, а когда я удивился, объяснила, что вопросы составлены руководителем морской биологической экспедиции ООН, базирующейся на Барбадосе.
Мы рассказали про нашу верную подводную свиту, про корифен, которые гонялись за летучими рыбками, про тучи морских птиц из Южной Америки, которые кружили на горизонте на юге и на западе, где над голубым океаном серебристыми ракетами взмывали тунцы. На другой день барбадосский радиолюбитель передал, что нас собирается проведать одно из исследовательских судов ООН.
Двадцать пятого июня к нам на борт залетела коричневая стрекоза. Неужели суша так близко? Или ее подвезло какое-нибудь судно, которое прошло за горизонтом? После того как нас раза два чуть не протаранили у берегов Африки, мы почти не видели пароходов.
«Ра II» полным ходом приближалась к тому району, где мы после заключительных драматических дней прошлогоднего рейса покинули «Ра I». Ребята невольно поежились, когда вахтенный обратил наше внимание на акулу, злобно атаковавшую красный буй, который мы тащили на буксире за кормой на случай, если кто-нибудь упадет за борт. Именно здесь встретили нас акулы в прошлом году. Впрочем, одинокая странница скоро оставила буй в покое и ушла на север. Можно было подумать, что судно, не требующее подводного ремонта, акул не интересует.
Двадцать шестого июня море снова начало бесноваться, и волны гнались за нами, шипя белыми гребнями, как будто нас преследовали снегоочистители, вспарывающие плугом снежную пелену. Сверху нас поливали дождем низкие тучи. Мы смыли с себя соль и слизывали с рук пресную воду. Можно было собрать дождевую воду, но при таком ходе мы рассчитывали обойтись своими запасами.
Утка ковыляла под дождем по крыше и пила из лужиц, а Сафи рвалась в каюту. Правое весло заклинило в уключинах, мы боялись, что оно переломится, но Кей, стоя в воде, раскачал его.
На другой день исчез наш голубь. Последние дни он вел себя беспокойно, описывал все более широкие круги в воздухе над «Ра», но каждый раз возвращался на крышу к блюдечку с зерном. А 27 июня взлетел и уже не вернулся. Потоп пошел на убыль, и ковчег остался без голубя. Без него стало как-то пусто. Уж не почуял ли он землю? Ближайшей сушей была Французская Гвиана на юге. Пернатый путешественник улетел с двумя кольцами, на одном был испанский номер, на другом метка «Ра II».
Двадцать восьмого июня температура воды вдруг поднялась на два градуса, и с того дня мы больше не видели мазута. Может быть, нас подхватила другая ветвь течения? Странно, ведь когда мы годом раньше оставили «Ра I», нас со всех сторон окружали черные комки, а океан совершает непрерывный круговорот между материками.
Двадцать девятого июня мы увидели, что цепочка Сафи свисает в воду, а обезьяны нет. Тревога, аврал! А Сафи, чувствуя себя вольной птицей, сидела на вантах и с чрезвычайно довольным видом глядела на нас свысока. Ни кокосовый орех, ни мед не могли заменить ее вниз, тогда Юрий принес ей любимую резиновую лягушку, зеленое чудовище с огромными красными глазами. Миг – Сафи уже на палубе и схватила игрушку, а Юрий схватил ее. Почти одновременно раздался громкий крик в каюте. Норман установил прямую связь с радистом ооновского исследовательского судна «Каламар» – оно находилось где-то совсем рядом – и нас попросили ночью пускать сигнальные ракеты, чтобы можно было разыскать «Ра II» в беспокойном океане.
В ту ночь нам довелось пережить сильный испуг. 30 июня в 0.30 Норман поднял меня на вахту, я сел в спальном мешке и начал натягивать носки, так как на мостике было сыро и холодно. Вдруг снова послышался голос Нормана, и теперь в нем звучал ужас:
– Иди сюда, скорей! Смотри!
Я нырнул в дверь, сопровождаемый по пятам Сантьяго, вскарабкался на мостик, и через крышу каюты мы уставились в ту сторону, куда показывал Норман.
Чисто конец света. Над горизонтом с левого борта, на северо-западе восходил бледный диск, похожий на призрачную алюминиевую луну. Не отрываясь от воды, он медленно увеличивался в размерах. Правильно расширяющийся полукруг напоминал то ли очень плотную туманность, ярче Млечного пути, то ли шляпку от гриба, которая неотвратимо наступала на нас, все шире захватывая небо. Луна сияла в противоположной стороне, было безоблачно, сверкали звезды. Сперва я подумал, что это световое пятно на фоне влажного ночного воздуха от какого-нибудь мощного прожектора за горизонтом. А может, это атомный гриб, плод чудовищной оплошности людей? Или северное сияние? В конце концов я склонился к тому, что это светящийся дождь космических тел, вторгшихся в земную атмосферу. Тут диск, который уже занял около тридцати градусов черного небосвода, вдруг перестал расти, как-то незаметно растаял и пропал. Так мы и не поняли, что это было.
А затем мы сами устроили фейерверк – жгли красные фальшфейеры и пускали сигнальные ракеты, чтобы обозначить свою позицию «Каламару». Странная ночь, необычная атмосфера. Мы снова услышали по радио голос «Каламара», но там не заметили наших ракет, а когда показывался световой диск, на палубе никого не было.
Утром мы узнали от барбадосского радиолюбителя, что это же явление, но на северо-востоке, наблюдали с многих островов Вест-Индии. Может быть, это взорвалась и сгорела, войдя в атмосферу, какая-нибудь ракетная ступень с мыса Кеннеди? Мы не узнали ответа. Но «уфоисты», охотящиеся за доказательствами существования летающих тарелочек, смешали этот феномен с двумя другими, которые мы наблюдали две ночи подряд несколько раньше, когда на горизонте на северо-западе появлялся оранжевый огонек. В первую ночь это была просто короткая вспышка, а во вторую ночь мы видели каплевидное световое пятно, которое под острым углом нырнуло в море. Мы тотчас оповестили радиолюбителей на континенте, ведь это могли быть сигналы бедствия, но «СОС» никто не передавал, так что скорее всего это сигналили военные суда на маневрах, может быть, всплывшая подводная лодка обозначала свою позицию.
Мы шли на всех парусах прямо на запад, а «Каламар» кружил, разыскивая нас. Ракеты приходилось беречь, но мы непрерывно вели наблюдение с мачты. И вот опять взошло солнце, проходит час за часом, и Норман, хлопоча то с секстантом, то с таблицами, то с аварийной радиостанцией, раз за разом докладывает, что «Каламар» совсем рядом... на севере... а теперь на юге... но высокие волны не давали нам возможности обнаружить его. Мы пообедали. Поужинали. И потеряли надежду, что нас найдут. Еще немного, и тропическое солнце уйдет за горизонт 6 часов вечера по местному времени, а на наших часах уже 9, потому что мы только один раз переводили стрелки после старта. И тут впередсмотрящие на обоих судах одновременно произнесли долгожданные слова. С «Каламара» нам передали, что видят парус, а мы разглядели на горизонте за кормой чуть заметное серое пятнышко. Уже смеркалось, когда нас догнал маленький гордый корабль. Вот она, великая минута.
Быстроходный траулер подошел вплотную и приветствовал нас, приспустив развевающийся на мачте голубой флаг ООН. Норман поспешил к двойной мачте и ответил нашим ооновским флагом, от которого осталось две трети, остальное унес шторм. Радость переполняла нас. Взобравшись на мостик, на каюту, на мачту, мы махали руками, кричали, пронзительно дудели в охотничий рог. Команда «Каламара» – черные, коричневые, белые – выстроилась вдоль борта и кричала и махала нам в ответ. На мостике стоял капитан – китаец. А его сосед крикнул в мегафон по-шведски:
– Добро пожаловать на эту сторону океана!
Увидев китайца на мостике, Кей не смог сдержать своих чувств, забрался ко мне на крышу и протянул руку для рукопожатия:
– Спасибо, что взяли меня.
Во всем этом было что-то нереальное. Надо же случиться так, чтобы на этой стороне нас первым встретило ооновское судно! До сих пор я вообще не видел судов под флагом ООН, не считая нашей «Ра».
Тьма поглотила океан, ярко освещенный траулер описал несколько кругов, потом застопорил машину и лег в дрейф на ночь. И вот уже его огни остались где-то позади, мы опять наедине с волнами и нашим тусклым керосиновым фонарем. Уютно, да одиноко.
А затем стихии решили напомнить нам, что плавание еще не окончено. Неожиданно с севера налетел сильный шквал и развернул парус поперек, застигнув вахтенных врасплох. Давление ветра на парус было настолько сильным, что «Ра» накренилась на левый борт и палуба погрузилась в воду. Как-то непривычно было, выскочив из каюты на подветренный борт, сразу же очутиться в воде выше колена, причем это была не просто волна, которая пришла и ушла, – сам океан вторгся к нам и явно не собирался уходить. Впервые за все мои плавания я почувствовал, что опора под моими ногами идет ко дну.
Шум, крики, мелькание карманных фонариков. Мадани по пояс в воде без страховочной веревки. Ширма Юрия с подветренной стороны разорвана в клочья. Но вот ветер вернулся на более привычный для нас румб, подул с востока на запад, и восемь искушенных мореплавателей на папирусе сумели наконец развернуть парус, как положено. «Ра II» спокойно выпрямилась, вода скатилась за борт, и палуба всплыла на поверхность. Правда, три кувшина из тех, что были привязаны с подветренной, защищенной стороны, разбились, и я порезал босые ноги о черепки, пришлось Юрию перевязывать меня. К тому же левый борт опутали блестящие жгучие нити двух «португальских военных корабликов», и Жорж, отправившись по нужде, обжегся так, что понадобилось лечение аммиаком.
Настало утро, но «Каламар» не сразу нас догнал. Никто на траулере не думал, что примитивная лодка из папируса может развить такой ход. Несмотря на все осложнения, мы прошли за сутки 75 морских миль, то есть 140 километров.
С «Каламара» на «Ра» передали почту, мазь для Карло, чудесные барбадосские фрукты и добрую порцию мороженого, которое превратилось в ванильный соус, пока его переправляли к нам на резиновой лодчонке. Двое суток «Каламар» сопровождал нас, потом прибавил ходу и ушел вперед, везя на Барбадос наши приветы.
Мы снова вошли в тот район, где рождаются атлантические ураганы. Начало июля, погода ненадежная. Куда ни глянешь, всюду темные ливневые завесы, и чуть не каждый день порывистые ветры, доходящие до штормовых шквалов, напускали их на нас. Только поспевай отдавать плавучий якорь и спасать парус. Но в целом ветер и течение благоприятствовали нам, и в последние дни мы достигли самой высокой среднесуточной скорости за все плавание, проходя до 81 мили, то есть до 151 километра. То и дело нам попадались суда, плавающие между Северной и Южной Америкой.
Восьмого июля до Барбадоса оставалось всего 200 морских миль, и островные власти выслали навстречу быстроходное судно «Калпеппер», чтобы передать нам свое «добро пожаловать» в эту маленькую независимую часть Британского содружества. В качестве пассажиров на «Калпеппере» находились Ивон и моя старшая дочь Аннет, и встреча должна была состояться ночью, ведь наши координаты были известны.
Но миновала ночь, миновал день, а «Калпеппер» никак не мог нас отыскать среди волн. Погода была далеко не идеальная, и мы услышали, как с судна передают на берег, что волна нешуточная и супруга плотоводца страдает морской болезнью, но храбро настаивает на продолжении поиска. И поиск продолжался. Еще ночь. Еще день. Заканчивались вторые сутки, дело шло к вечеру, до острова оставалось миль 100, и мы уже решили, что дойдем до берега раньше «Калпеппера», когда он вдруг появился на горизонте, правда, не с той стороны, откуда мы его ждали, а позади нас. Широкий, плоский, остойчивый, типично мужской корабль поравнялся с нами, и мы увидели вцепившихся в поручни двух белых женщин, окруженных приветствующей нас чернокожей командой. Если женщины явно старались опознать каждого из косматых загорелых бородачей, неистово махавших им руками с каюты «Ра», то внимание команды «Калпеппера» сосредоточилось на Мадани, которого они приняли за моряка с Барбадоса. И сухопутный краб из Марракеша не ударил лицом в грязь, он забросил удочку, наживив крючок соленой колбасой, и вытащил одну за другой пять пампано да еще какую-то серебристо-зеленую рыбу. Солнце заходило, однако аквалангист Жорж отправился вплавь на «Калпеппер», чтобы совершить вполне позволительный обмен, и получил за свежую рыбу, египетские лепешки и никогда не теряющее своей прелести марокканское селло не столь уж необходимые, но такие желанные апельсины. Он уже приготовился прыгать с кормы в волны, чтобы плыть обратно на «Ра II» по серебристой тропке, которую прочертил на воде прожектор «Калпеппера», когда один из членов команды остановил его и спросил, неужели люди на «Ра» совсем не боятся акул?
– Нет, – бестрепетно ответил Жорж, однако тут же взял свои слова обратно, когда моряк спокойно показал рукой на здоровенную хищницу, которая медленно выплыла из-под судна на световую дорожку.
Наш надувной плот столько терся о кувшины на палубе, что мы не решались спускать его на воду, и пришлось Жоржу ночевать на «Калпеппере», а утром его переправили к нам на металлической лодочке без весел, которую потом подтянули тросом обратно.
Весь следующий день «Калпеппер» шел за нами слева. 12 июля к нам с запада потянулись такие большие стаи морских птиц, что стало очевидно – суша где-то сразу за горизонтом. Было воскресенье, мы с Норманом стояли на мостике – нам досталась вахта с пяти до восьми утра – и предвкушали смену. Скоро поднимутся Кей и Карло и достанут из известковой кашицы последние яйца, чтобы экипаж мог отметить этот день доброй яичницей. А вообще-то у нас было еще вдоволь провианта, больше всего – уложенных в рундуки египетских лепешек, висящих под бамбуковым навесом соленых колбас и окороков, а также кувшинов с селло, этой смесью из муки, миндаля и меда, в которой есть все, что необходимо страннику в пустыне. Мы ни разу не жаловались на голод, и все чувствовали себя превосходно. Но что это? Я схватил Нормана за руку.
– Чувствуешь? – Я втянул носом соленый морской воздух. – Невероятно, я отчетливо слышу запах свежего сена!
Мы продолжали принюхиваться. Пятьдесят семь дней в море... Сантьяго, Карло и остальные присоединились к нам, но только мы, некурящие, явственно ощущали запах. Постой, даже навозом потянуло, чтоб мне провалиться! Типичный деревенский запах. В кромешном мраке мы ничего не видели, но и волны уже вели себя иначе, их ритм изменился, словно им что-то преграждало путь. Мы повернули рулевые весла, приводясь к дующему справа ветру, и старались держать возможно более северный курс. Несмотря на глубокую осадку, наша ладья удивительно хорошо шла бейдевинд.
Все утро Норман, Карло и Сантьяго по очереди лазили на мачту, и в 12.15 мы услышали неистовое «ура»! Норман увидел землю. Сафи визжала, утка бегала по каюте, хлопая крыльями. Весь экипаж, словно мухи, облепил перекладины двуногой мачты, не боясь опрокинуть «Ра II», которая стала остойчивее после того, как большая часть папируса погрузилась в воду. Загудела сирена «Калпеппера». Да, вот она, земля – низкий, плоский берег на северо-западном горизонте. Накануне мы чересчур далеко отклонились на юг. Сделали поправку на течение, которое перед самым островом уходит к северу, и перестарались. Пришлось поворачивать весла и парус в другую сторону, чтобы нас не пронесло мимо Барбадоса. Правда, дальше сплошной цепочкой тянутся другие острова, но на Барбадосе нас ждали родные и друзья. «Ра II» слушалась руля, словно килевое судно. Возможно, продольная ложбина между двумя основными связками играла роль негативного киля. Мы шли почти в полветра, и конец от красного спасательного буя, который мы тащили на буксире, вытянулся совершенно прямо, подтверждая, что нас не сносит, мы идем туда, куда показывает нос, прямо к низкому берегу впереди.
Рассаживаясь вокруг стола, мы знали, что это будет наш последний обед на борту «Ра II». Во второй половине дня в небе послышался гул мотора. Чей-то частный самолет кружил над нами, приветственно качая крыльями. Вслед за ним с острова прилетел самолет побольше, двухмоторный, с премьер-министром Барбадоса на борту. И вот уже четыре летчика кружат над мачтой «Ра», а один из них спикировал так низко, что воздушная волна чуть не обстенила наш парус. Земля поднималась все выше из воды, замелькали солнечные блики в окнах. Уже видно дома, еще и еще. Из окутывающей берег мглы вышли суда, большие и малые, в огромном количестве. Лихо прыгая по гребням, примчался быстроходный катер, в котором сидели жена Нормана, Мери-Энн, и мои младшие дочери – Мариан и Беттина. Суда всевозможных типов. Лица – удивленные, радостные, искаженные морской болезнью. Кое-кто, давясь от смеха, допытывался, неужели мы и вправду пришли из Марокко на «этой штуке». Ведь со стороны было в общем-то видно только плетеную каюту и величественный египетский парус, да еще впереди и сзади торчали из воды куцые пучки папируса. Лоскутная ширма Юрия отнюдь не делала нашу лодку похожей на океанский крейсер.
Мы взяли курс на Бриджтаун – столицу Барбадоса. На финишной прямой «Ра II» эскортировало больше полусотни судов. Кругом сновали парусные яхты, глиссеры, рыбацкие шхуны, всякие увеселительные яхты, один катамаран, один тримаран, полицейский катер, зеленый парусник голливудского вида, оформленный под пиратское судно и битком набитый туристами, не отставал и наш старый знакомый, «Калпеппер», и при виде всего этого бедлама миролюбивый Карло вдруг затосковал по океанскому уединению. Зато Жорж чувствовал себя, как рыба в воде, он зажег наш последний красный фальшфейер и встал с ним на каюте в позе статуи Свободы.
Так закончились плавания на «Ра». У входа в бриджтаунскую гавань нам подали с «Калпеппера» буксирный конец, и мы в последний раз спустили выцветший парус с солнечным диском и свернули его.
В гавани было как в муравейнике. Все улицы битком набиты людьми. Наши часы показывали без пяти семь, но нам пришлось переводить их на барбадосское время, ибо день еще далеко не кончился, как-никак мы прошли 3270 морских миль, или больше 6100 километров от берегов Африки.
Перед тем как пришвартоваться к пристани, восемь членов экипажа улучили минуту и обменялись рукопожатиями. Все мы понимали, что только мирное сотрудничество помогло нам благополучно пересечь океан.
Последний взгляд на покоренную стихию. Океан, с виду такой же безбрежный, как в дни Колумба, как в пору величия финикийцев и ольмеков. Долго ли еще будут в нем резвиться рыбы и киты? Научатся ли люди, пока не поздно, зарывать свой мусор – свой боевой топор, которым они замахнулись на природу? Научатся ли завтрашние поколения снова ценить океан и землю, которые инки называли Мама-Коча и Мама-Альпа – «Мать-Океан» и «Мать-Земля»? А не научатся, так не спасут нас ни мирное сожительство, ни тем более потасовки на борту нашей общей маленькой лодки.
Мы спрыгнули босиком на берег.
Течение продолжало свой путь без нас. Пятьдесят семь дней. 5700 лет. Изменился ли человек? Природа не изменилась. А человек неотделим от природы.